Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Элеонора Митрофанова: Болгария пострадала, отказавшись от газа из России
Отказ Болгарии от закупок российского природного газа создал риски для болгарского бизнеса и экономики, а госоператор "Булгаргаз"находится в далеко не лучшей финансовой кондиции, заявила РИА Новости посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова. В интервью агентству она рассказала о попытках болгарских властей заменить российские узлы и агрегаты на атомной станции "Козлодуй"и ответила на вопрос о работе "Росатома" в республике.
– Продолжается ли сотрудничество России и Болгарии в области мирного атома в условия антироссийских санкций? Какие проекты сейчас реализуются, готовятся?
– В Болгарии функционирует одна атомная электростанция "Козлодуй", которая была построена в 1974 году по отечественным технологиям.
По политическим мотивам болгары активно пытаются найти аналоги российскому оборудованию в США, Чехии, на Украине и в других странах. Как вы знаете, с мая прошлого года запущен процесс постепенного перевода пятого энергоблока на "демократическое" американское топливо, но все узлы и агрегаты заменить невозможно. В этих условиях компания "Росатом" осуществляет точечное техническое обслуживание данной энергетической инфраструктуры.
Ядерная энергетика, в целом, не попала под нелегитимные антироссийские санкции Евросоюза. Однако отдельные компоненты, в частности изготавливаемые из стали, а также услуги ряда дивизионов "Росатома" включены в список рестрикций. Именно на такие контракты требуется проведение процедуры изъятия из санкций, которое, к примеру, было получено в июне этого года.
Детали контрактов рекомендовали бы уточнить непосредственно у нашего экономоператора.
–Принято ли окончательное решение о возможной продаже группы компаний "Лукойл" в Болгарии?
– ПАО "Лукойл" в Болгарии представлено рядом компаний и предприятий, специализирующихся на различных профильных направлениях – от производства нефтепродуктов на НПЗ "Луокойл Нефтохим Бургас" до реализации продукции конечным потребителям через собственную сеть автозаправочных станций.
Несмотря на то, что на ПАО "Лукойл" антироссийские санкции не распространяются, его дочерние предприятия здесь подвергаются зачастую беспрецедентному давлению со стороны государственных органов. Буквально в июне этого года болгарскими властями было инициировано очередное антимонопольное расследование.
В таких условиях нет ничего удивительного в том, что в головном офисе "Лукойла" в Москве рассматривается возможность продажи всех активов в Болгарии. Окончательное решение, насколько нам известно, пока не принято.
–Болгария одной из первых стран ЕС отказалась от закупок российского газа. Как складывается ситуация на местном рынке сейчас?
– Поставки российского газа в Болгарию не осуществляются с апреля 2022 года, когда местный государственный оператор "Булгаргаз" отказался перейти на формат расчетов в рублях.
Действовавшее на тот момент правительство премьера Кирила Петкова решило полностью оборвать многолетние доверительные связи с нашей страной в угоду сиюминутной политической конъюнктуре. Последующие кабмины такую линию продолжили. Вся эта ситуация в итоге привела к ряду неблагоприятных для Болгарии последствий и создала существенные риски для здешнего бизнеса и экономики в целом.
Например, сам "Булгаргаз" сейчас находится в далеко не лучшей финансовой кондиции, а его доля на рынке с 2019 по 2024 год сократилась с 90% до 65%. Примечательно, что соседние с Болгарией страны – Греция, Сербия и Северная Македония, а также Венгрия и Словакия продолжают закупать отечественное топливо по выгодным ценам.
–Власти Болгарии ранее отказались подписывать с Украиной соглашение о сотрудничестве в области безопасности и обороны сроком на десять лет. Кроме того, страна решила не продавать реакторы российского производства, предназначавшиеся для проекта АЭС "Белене". Считаете ли вы, что София более не будет придерживаться общеевропейской линии на поддержку Киева? Видите ли вы сигналы, что Болгария может начать выступать за скорейшее проведение переговоров России и Украины, как это делают, например, Венгрия или Словакия?
– София действительно не стала подписывать упомянутое соглашение, апеллируя при этом, что показательно, не к собственным национальным интересам, а к мнению администрации нового президента США Дональда Трампа.
Что касается оборудования, предназначавшегося для АЭС "Белене", то решение о его продаже украинской стороне, принятое народным собранием Болгарии в 2023 году до сих пор в силе, проект его отмены, насколько нам известно, депутатами даже не рассматривался. Анализ положения дел показывает, что София демонстрирует обратное вашему предположению, то есть строго придерживается скоординированной общеевропейской линии на поддержку Киева.
Если говорить о конкретных недружественных действиях, то, прежде всего, это продолжение поставок вооружений и военной помощи ВСУ. Речь идет о не менее 11 траншах на настоящий момент, включающих артиллерию, стрелковое оружие, боеприпасы, тяжелую технику и даже ракеты для систем ПВО. Ни для кого не секрет, что местные военные заводы работают в несколько смен, и конечным потребителем значительной части производимой продукции является Украина, нередко – через "третьи руки". Идут разговоры о совместном производстве БПЛА.
В политическом плане Болгария без устали вторит своим "старшим товарищам" по ЕС и НАТО, бездоказательно обвиняет наши Вооруженные силы в совершении военных преступлений, отрицает новые территориальные реалии и в целом охотно подписывается под практически любыми русофобскими инициативами Запада. Очевидно, что накачивание киевского режима оружием и насаживание продвигаемой Брюсселем идеи о "мире через силу" не могут вести к разрешению конфликта, а только к его эскалации.
Ключом же к достижению прочного мира на Украине является полный учет интересов безопасности России и соблюдение прав и свобод русскоязычного населения. Сигналов, что Болгария, как и ее еэсовские "патроны", готова это осознать, мы не видим. Фиксируем лишь обратные тенденции. Например, здешний парламент принял антироссийскую декларацию, в которой за Россией был закреплен "статус" страны, поддерживающей терроризм.
–Какими были результаты двусторонней торговли за прошедший год? Что сейчас Россия экспортирует в Болгарию? Какие товары поступают на российский рынок?
– Поддержка Софией незаконных западных санкций, а также инициированный ею поэтапный отказ от отечественных энергоресурсов не могли не сказаться на двусторонних экономических отношениях. В текущих непростых условиях мы впервые не вошли в десятку основных партнеров Болгарии. По данным местной статистики, в 2024 году двусторонний товарооборот достиг одного миллиарда долларов. Однако это на 74% ниже показателя 2023 года, дошедшего до отметки в 4,2 миллиарда долларов.
В Россию за прошедший год в основном поставлялись фармацевтика, медицинские приборы, парфюмерия и косметика, холодильное оборудование, табак. Главными статьями нашего экспорта в Болгарию оставались незапрещенные виды топлива (газ, СПГ и бутан), удобрения, алюминий, чугун, электрооборудование.
–Повлияло ли вступление Болгарии в Шенгенскую зону на турпоток из России? На ваш взгляд, вырастет ли он позже?
– До вступления Болгарии в Шенгенскую зону наличие шенгенской визы позволяло россиянам беспрепятственно приезжать в страну. Поэтому существенных изменений ждать не стоит. Из 5,8 миллиона иностранцев, посетивших для отдыха Болгарию в 2024 году лишь 50,7 тысячи – российские туристы. До 2019 года, напомню, эта цифра достигала 500 тысяч.
Нисходящая тенденция объясняется в том числе отсутствием прямого авиасообщения и дорогими авиабилетами. Негативный вклад внес и разрыв по инициативе ЕС двустороннего соглашения об облегчении визового режима.
Вместе с тем наши сограждане по-прежнему тепло относятся к Болгарии. Среди них стоит отметить владельцев недвижимости, которые остаются частыми гостями местных черноморских курортов. Что касается болгарских туристов в России, то их число всегда было незначительным.

Глава буддийской ассоциации: место для ступы на Поклонной скоро определится
Ассоциация буддийских общин "Арья Сангха" (в переводе с санскрита "Благородное сообщество") на этой неделе заключила с Фондом содействия буддийскому образованию и исследованиям, созданным по поручению президента России Владимира Путина в 2022 году, соглашение о строительстве на Поклонной горе в Москве Ступы Совершенной Победы. Она станет религиозным мемориалом буддистам, отдавшим жизни во время Великой Отечественной войны и СВО. Каким именно будет буддийский компонент богослужебного комплекса традиционных религий на Поклонной горе, где уже возведены православный храм-памятник Георгия Победоносца, Мемориальные мечеть и Мемориальная синагога, в интервью РИА Новости рассказал президент Ассоциации "Арья Сангха" Александр Бугаев. Беседовала Ольга Липич.
— Александр Владимирович, каково значение соглашения о строительстве ступы на Поклонной горе, заключенного с Фондом содействия буддийскому образованию?
— Это долгожданное, историческое соглашение. Проект подчеркивает огромный вклад буддистов России в общую историю страны и направлен на сохранение историко-культурного наследия России, укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и их передачу от поколения к поколению. Ступа станет символом единства и благодарности, будет напоминать о важности сострадания и мира, особенно в годы испытаний.
— Где именно на Поклонной горе появится ступа?
— В самое ближайшее время при тесном взаимодействии с правительством Москвы будет определено место для ее возведения.
— Речь идет о совершенно новом буддийском культовом сооружении, которое будет построено с нуля, или проектирование и строительство уже начинались?
— Было несколько попыток в предыдущие годы запустить проект строительства ступы на Поклонной горе, но все они заканчивались неудачей. Поэтому можно сказать, что все будет построено с нуля.
— Как будет выглядеть ступа, известна ли высота будущего сооружения?
— Это будет одна из восьми классических форм, которая называется ступа Совершенной Победы. Высоту в настоящий момент сложно понять – это очень сильно зависит от размера и расположения участка, который выделит правительство Москвы.
— Что будет внутри ступы и вокруг нее? Рассчитана ли она на то, чтобы под ее сводами находились молящиеся?
— Внутри ступы будут разнообразные буддийские реликвии: свитки с текстами, мантрами и молитвами, ритуальные предметы, которые принадлежали известным буддийским учителям прошлого. Будет ли внутреннее помещение (для молящихся – ред.) – будем решать по факту, имея на руках технические подробности по участку.
Рядом со ступой будут молитвенные барабаны и облагороженная территория – место для медитации.
— Кто будет строить и руководить этим процессом – мастера из буддийских регионов России или ожидаются и заграничные участники?
— Руководить строительством будут Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям, централизованная религиозная организация "Арья Сангха" и рабочая группа, которая будет создана из представителей всех головных буддийских организаций России. Строить будут опытные мастера из России и, возможно, Индии, Китая, Бутана.
Масштаб проекта огромный - и потребует не только строителей, но и художников, скульпторов, жестянщиков, буддийских лам и ритуальных мастеров.
— Может ли у ступы быть настоятель?
— У ступы не может быть настоятеля. Ступа — это не храм, это символическое напоминание о присутствии в нашем измерении тела, речи и ума Будды.
— Когда можно ожидать начала строительства и его завершения?
— Планируем начало строительства в начале 2026 года. Закончить планируем в мае 2027 года.
— Какого направления буддизма придерживается возглавляемая вами Ассоциация буддийских общин "Арья Сангха", сколько примерно последователей насчитывается в Москве, кто сможет посещать ступу?
— Базовый принцип нашей ассоциации – несектарный подход. Ассоциация буддийских общин "Арья Сангха" изначально создавалась как организация, объединяющая последователей разных школ буддизма, множество буддийских общин. Точное количество последователей сложно посчитать, но смело можно утверждать, что 2-3 тысячи насчитывается.
Мы абсолютно открыты ко всем традиционным линиям буддизма и не придерживаемся какого-то одного направления.

Алексей Климов: Россия не вводила ограничений на выдачу виз гражданам США
Россия не вводила ограничений на выдачу виз гражданам США, а число выданных американцам виз выросло по сравнению с 2023 годом, заявил директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. В интервью РИА Новости дипломат также рассказал, будет ли Москва ужесточать визовый режим для Евросоюза, поведал о готовящемся соглашении с КНДР о взаимных поездках, а также ответил на вопросы о возможном улучшении условий пребывания иностранцев в России по единой электронной визе.
– Алексей Владимирович, сколько на сегодняшний день граждан иностранных государств получили российское гражданство? Из каких стран?
– По имеющимся данным, с 1992 года по настоящее время в дипломатических представительствах и консульских учреждениях России оформлен прием в российское гражданство порядка 2,8 миллиона человек. Большинство поданных заявлений пришлось на страны постсоветского пространства, а также государства с многочисленной русскоязычной диаспорой: Болгария, Великобритания, Греция, Израиль, Испания, Италия, США, Турция, Франция, ФРГ.
– В планах Москвы было как увеличение срока действий электронных виз, так и перечня стран, граждане которых могут оформлять электронные визы в Россию. Какие новые страны будут включены в список? На сколько дней будет выдаваться такая виза? Сколько всего иностранцев посетили Россию с начала года? Граждане каких стран чаще всего запрашивали российские визы?
– Пятого декабря было издано распоряжение правительства России № 3583-р, расширяющее перечень иностранных государств, гражданам которых оформляется единая электронная виза (ЕЭВ). Теперь в него включены еще 11 стран: Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Одновременно из перечня были исключены Андорра и Сербия, с которыми имеются действующие двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан. Таким образом, в обновленный перечень входят 64 страны.
В настоящее время министерством ведется работа по внесению изменений в законодательство в части увеличения срока действия ЕЭВ с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания иностранного гражданина в России по электронной визе с 16 до 30 суток при сохранении ее кратности.
Упомянутые нововведения призваны способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности России.
Годовой мониторинг проекта ЕЭВ, введенного с 1 августа прошлого года, показал его результативность и растущую востребованность. Только за истекший период 2024 года уже было оформлено более 600 тысяч единых электронных виз, наибольшее количество таких виз было выдано гражданам Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.
Подробная информация о количестве выданных виз, в том числе электронных, ежемесячно актуализируется на официальном сайте консульского департамента в разделе "открытые данные".
Что касается статистических данных относительно общего количества иностранных граждан, въезжающих в Россию, рекомендовали бы запросить их в Пограничной службе ФСБ России.
– В прошлом году вы говорили о крайне низком спросе среди граждан США на деловые визы в Россию, как обстоит ситуация в этом году? Сколько всего было выдано виз американским гражданам с начала 2024 года?
– Оформление российских виз, включая деловые, гражданам США осуществляется в прежнем порядке, предусмотренном в том числе действующим соглашением между РФ и США об упрощении визовых формальностей для граждан двух государств. Каких-либо ограничений на выдачу виз американским гражданам, не включенным в список лиц, въезд которым в Россию запрещен, до настоящего времени не вводилось.
За первые 11 месяцев 2024 года гражданам США российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями было выдано всего 7 737 виз (из них 165 деловых), тогда как за весь 2023 год гражданам США было выдано 5 694 визы (из них 136 деловых).
– Ранее вы сообщали, что Москва ведет переговоры с девятью странами о безвизовом режиме. Что это за страны? С какими государствами в 2025 году будет установлен безвизовый режим? Готовится ли соглашение о безвизовом режиме с Китаем не только для групповых туристических поездок, но и для индивидуальных туристов?
– Мы на постоянной основе проводим работу по совершенствованию договорной базы с иностранными государствами по вопросам, связанным с упрощением взаимных поездок граждан.
Проработка таких соглашений находится на различных стадиях и имеет свою специфику, от деталей пока хотелось бы воздержаться. Как обычно, будем информировать общественность по мере достижения конкретных результатов переговорных процессов и их документального оформления с нашими партнерами.
Информация о вступающих в силу безвизовых соглашениях будет, как и обычно, своевременно доведена до наших граждан.
– Когда планируется открыть российские консульства на Мальдивах, Бали, в Самарканде? В каких еще странах Азии и Африки Россия планирует открыть свои консульства?
– Планомерная работа по расширению российского консульского присутствия продолжается. Так, ведется активная подготовка к открытию генконсульства России в Самарканде. С учетом большого количества организационных вопросов о конкретных сроках начала его функционирования говорить пока преждевременно.
В азиатском регионе, с учетом полученных согласий партнеров на открытие российских генеральных консульств в Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (Республика Индонезия) предпринимаются шаги по запуску их полноценного функционирования. Кроме того, возобновлена работа по открытию генерального консульства России в городе Ухане (Китайская Народная Республика). На африканском континенте планируется открытие российских диппредставительств в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, в составе которых будут функционировать и консульские отделы.
– Глава миграционной службы Евросоюза заявляла, что Брюссель может ужесточить условия получения россиянами шенгенских виз. Возможен ли ответ со стороны России? Рассматривает ли Москва ужесточение условий получения российских виз гражданами западных стран?
– Высказывания официальных лиц ЕС относительно необходимости ужесточения условий получения российскими гражданами шенгенских виз далеко не единичны. При этом стоит учитывать, что недавнее выступление комиссара Евросоюза по вопросам миграции и внутренних дел Илвы Йоханссон (когда она высказала сожаление по поводу того, что в 2023 году, несмотря на введенные есовцами ограничения, россиянам было выдано около 450 000 виз) представляет собой, по сути, личное мнение о недостаточно жесткой политике некоторых стран-членов ЕС в отношении выдачи виз россиянам.
Со своей стороны в вопросе корректировки условий получения российских виз гражданами стран-членов ЕС будем, как и прежде, опираться на наш анализ конкретных шагов в визовой сфере, реализуемых есовцами в отношении россиян. В этом смысле наша позиция остается неизменной: ответ должен носить выверенный характер, чтобы не нанести ущерб, прежде всего, обычным европейским гражданам, многие из которых не поддерживают антироссийский курс, проводимый их правительствами.
Именно по этой причине, несмотря на то, что в сентябре 2022 года Евросоюз, Дания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария приняли синхронное решение об отмене соглашений с Россией о взаимных визовых упрощениях, российская сторона продолжает частично придерживаться положений этих соглашений. Соответствующие льготные условия сохранились по отношению к иностранным предпринимателям, лицам, участвующим в научной, культурной, спортивной деятельности, школьникам, студентам, аспирантам, а также иностранцам, близкие родственники которых проживают в России.
Более того, все без исключения европейские государства были включены в реестр стран, граждане которых вправе получить для въезда в Российскую Федерацию электронную визу.
– Возможно ли ослабление визового режима между Москвой и Пхеньяном в контексте углубления сотрудничества России и КНДР?
– Мы придаем большое значение взаимодействию с северокорейскими партнерами, в том числе и на консульском направлении. В настоящее время ведется работа над проектом соглашения о взаимных поездках граждан. Кроме того, КНДР включена в список стран, граждане которых могут посетить Россию по электронным визам.
– Сколько граждан Украины запросили гражданство России в этом году?
– В 2024 году в российские загранучреждения обратилось около 600 граждан Украины, желающих оформить прием в российское гражданство.
– С какими проблемами чаще всего обращались российские граждане в консульских учреждения за границей в этом году?
– Российские загранучреждения продолжают оказывать содействие российским гражданам, находящимся за рубежом, по целому спектру вопросов. В частности, отмечаем высокий спрос граждан на консульские услуги по оформлению заграничных паспортов, свидетельств на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию, регистрации актов гражданского состояния, легализации документов, совершению нотариальных действий.
Планируем дополнительно информационно подсветить итоги работы министерства на консульском направлении за 2024 год по мере обобщения соответствующих статистических данных в начале нового 2025 года.
– Может ли консульский учет стать обязательным, или он так и будет носить добровольный характер, особенно для граждан, постоянно проживающих за пределами России?
– МИД России рассматривает консульский учет как важный инструмент реализации задач по обеспечению прав, интересов и безопасности граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом. К примеру, его сведения используются при организации эвакуационных мероприятий, проведении за рубежом голосования на федеральных выборах. Вместе с тем сегодня назрела очевидная необходимость его переосмысления, в том числе в контексте комплексной модернизации российской нормативной правовой базы в миграционной сфере. Напомню, что правительством России в январе был утвержден план мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, в том числе предусматривающий введение обязательного консульского учета граждан РФ, проживающих за рубежом. В настоящее время во исполнение данного акта правительства и во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти России ведется профильная работа в межведомственном формате. О заслуживающих внимания моментах будем информировать.
– Ранее стало известно о том, что переводить фамилии иностранцев с латиницы на кириллицу будет специальный сервис машинного перевода МИД России. О какой машине идет речь, какая языковая норма взята за основу?
– МИД России разработал сервис машинного перевода фамильно-именных групп иностранных граждан с латинского на кириллическое написание, целью которого является обеспечение единообразного подхода к написанию фамилий и имен в документах, удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без гражданства. Данный сервис представляет собой программный комплекс, который обеспечивает перевод по правилам, учитывающим фонетические и орфографические особенности конкретного иностранного языка. Такая система в целом не нова и уже используется, например, государственными органами в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

Интервью директора Консульского департамента МИД России А.В.Климова МИА «Россия сегодня», 26 декабря 2024 года
Вопрос: Сколько на сегодняшний день граждан иностранных государств получили российское гражданство? Из каких стран?
Ответ: По имеющимся данным, с 1992 года по настоящее время в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской Федерации оформлен прием в российское гражданство порядка 2,8 млн человек. Большинство поданных заявлений пришлось на страны постсоветского пространства, а также государства с многочисленной русскоязычной диаспорой (Болгария, Великобритания, Греция, Израиль, Испания, Италия, США, Турция, Франция, ФРГ).
Вопрос: В планах Москвы было как увеличение срока действий электронных виз, так и перечня стран, граждане которых могут оформлять электронные визы в Россию. Какие новые страны будут включены в список? На сколько дней будет выдаваться такая виза? Сколько всего иностранцев посетили Россию с начала года? Граждане каких стран чаще всего запрашивали российские визы?
Ответ: 5 декабря было издано распоряжение Правительства Российской Федерации № 3583-р, расширяющее перечень иностранных государств, гражданам которых оформляется единая электронная виза (ЕЭВ). Теперь в него включены еще 11 стран: Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Одновременно из перечня были исключены Андорра и Сербия, с которыми имеются действующие двусторонние соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан. Таким образом, в обновленный перечень входят 64 страны.
В настоящее время Министерством ведется работа по внесению изменений в законодательство в части увеличения срока действия ЕЭВ с 60 до 120 суток, а также разрешенного срока пребывания иностранного гражданина в России по электронной визе с 16 до 30 суток при сохранении ее кратности.
Упомянутые нововведения призваны способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.
Годовой мониторинг проекта ЕЭВ, введенного с 1 августа прошлого года, показал его результативность и растущую востребованность. Только за истекший период 2024 года уже было оформлено более 600 тыс. ЕЭВ, наибольшее количество таких виз было выдано гражданам Китая, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Индии и Эстонии.
Подробная информация о количестве выданных виз, в том числе электронных, ежемесячно актуализируется на официальном сайте Консульского департамента в разделе «открытые данные».
Что касается статистических данных относительно общего количества иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию, рекомендовали бы запросить их в Пограничной службе ФСБ России.
Вопрос: В прошлом году Вы говорили о крайне низком спросе среди граждан США на деловые визы в Россию, как обстоит ситуация в этом году? Сколько всего было выдано виз американским гражданам с начала 2024 года?
Ответ: Оформление российских виз, включая деловые, гражданам США осуществляется в прежнем порядке, предусмотренном в том числе действующим Соглашением между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об упрощении визовых формальностей для граждан двух государств. Каких-либо ограничений на выдачу виз американским гражданам, не включенным в список лиц, въезд которым в Российскую Федерацию запрещен, до настоящего времени не вводилось.
За первые 11 месяцев 2024 года гражданам США российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями было выдано всего 7 737 виз (из них 165 деловых), тогда как за весь 2023 год гражданам США выдано 5 694 визы (из них 136 деловых).
Вопрос: Ранее Вы сообщали, что Москва ведет переговоры с девятью странами о безвизовом режиме. Что это за страны? С какими государствами в 2025 году будет установлен безвизовый режим? Готовится ли соглашение о безвизовом режиме с Китаем не только для групповых туристических поездок, но и для индивидуальных туристов?
Ответ: Мы на постоянной основе проводим работу по совершенствованию договорной базы с иностранными государствами по вопросам, связанным с упрощением взаимных поездок граждан.
Проработка таких соглашений находится на различных стадиях и имеет свою специфику, от деталей пока хотелось бы воздержаться. Как обычно, будем информировать общественность по мере достижения конкретных результатов переговорных процессов и их документального оформления с нашими партнерами.
Информация о вступающих в силу безвизовых соглашениях будет, как и обычно, своевременно доведена до наших граждан.
Вопрос: Когда планируется открыть российские консульства на Мальдивах, Бали, в Самарканде? В каких еще странах Азии и Африки Россия планирует открыть свои консульства?
Ответ: Планомерная работа по расширению российского консульского присутствия продолжается.
Так, ведется активная подготовка к открытию Генконсульства России в Самарканде (Узбекистан). С учетом большого количества организационных вопросов о конкретных сроках начала его функционирования говорить пока преждевременно.
В азиатском регионе, с учетом полученных согласий партнеров на открытие российских генеральных консульств в Мале (Мальдивская Республика) и Денпасаре (Республика Индонезия) предпринимаются шаги по запуску их полноценного функционирования.
Кроме того, возобновлена работа по открытию Генерального консульства Российской Федерации в г. Ухане (Китайская Народная Республика).
На африканском континенте планируется открытие российских диппредставительств в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане, в составе которых будут функционировать и консульские отделы.
Вопрос: Глава миграционной службы Евросоюза заявляла, что Брюссель может ужесточить условия получения россиянами шенгенских виз. Возможен ли ответ со стороны России? Рассматривает ли Москва ужесточение условий получения российских виз гражданами западных стран?
Ответ: Высказывания официальных лиц ЕС относительно необходимости ужесточения условий получения российскими гражданами шенгенских виз далеко не единичны. При этом стоит учитывать, что недавнее выступление комиссара Евросоюза по вопросам миграции и внутренних дел И.Йоханссон (когда она высказала сожаление по поводу того, что в 2023 году, несмотря на введенные есовцами ограничения, россиянам было выдано около 450 000 виз) представляет собой, по сути, личное мнение о недостаточно жесткой политике некоторых стран-членов ЕС в отношении выдачи виз россиянам.
Со своей стороны в вопросе корректировки условий получения российских виз гражданами стран-членов ЕС будем, как и прежде, опираться на наш анализ конкретных шагов в визовой сфере, реализуемых есовцами в отношении россиян. В этом смысле наша позиция остается неизменной: ответ должен носить выверенный характер, чтобы не нанести ущерб, прежде всего, обычным европейским гражданам, многие из которых не поддерживают антироссийский курс, проводимый их правительствами.
Именно по этой причине, несмотря на то, что в сентябре 2022 года Евросоюз, Дания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария приняли синхронное решение об отмене соглашений с Россией о взаимных визовых упрощениях, российская сторона продолжает частично придерживаться положений этих соглашений. Соответствующие льготные условия сохранились по отношению к иностранным предпринимателям, лицам, участвующим в научной, культурной, спортивной деятельности, школьникам, студентам, аспирантам, а также иностранцам, близкие родственники которых проживают в России.
Более того, все без исключения европейские государства были включены в реестр стран, граждане которых вправе получить для въезда в Российскую Федерацию электронную визу.
Вопрос: Возможно ли ослабление визового режима между Москвой и Пхеньяном в контексте углубления сотрудничества России и КНДР?
Ответ: Мы придаем большое значение взаимодействию с северокорейскими партнерами, в том числе и на консульском направлении.
В настоящее время ведется работа над проектом соглашения о взаимных поездках граждан. Кроме того, КНДР включена в список стран, граждане которых могут посетить Россию по электронным визам.
Вопрос: Сколько граждан Украины запросили гражданство России в этом году?
Ответ: В 2024 году в российские загранучреждения обратилось около 600 граждан Украины, желающих оформить прием в российское гражданство.
Вопрос: С какими проблемами чаще всего обращались российские граждане в консульские учреждения за границей в этом году?
Ответ: Российские загранучреждения продолжают оказывать содействие российским гражданам, находящимся за рубежом, по целому спектру вопросов.
В частности, отмечаем высокий спрос граждан на консульские услуги по оформлению заграничных паспортов, свидетельств на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию, регистрации актов гражданского состояния, легализации документов, совершению нотариальных действий.
Планируем дополнительно информационно подсветить итоги работы Министерства на консульском направлении за 2024 год по мере обобщения соответствующих статистических данных в начале нового 2025 года.
Вопрос: Может ли консульский учет стать обязательным или он так и будет носить добровольный характер, особенно для граждан, постоянно проживающих за пределами России?
Ответ: МИД России рассматривает консульский учет как важный инструмент реализации задач по обеспечению прав, интересов и безопасности граждан Российской Федерации, находящихся за рубежом. К примеру, его сведения используются при организации эвакуационных мероприятий, проведении за рубежом голосования на федеральных выборах.
Вместе с тем сегодня назрела очевидная необходимость его переосмысления, в том числе в контексте комплексной модернизации российской нормативной правовой базы в миграционной сфере.
Напомню, что Правительством Российской Федерации в январе с.г. был утвержден План мероприятий по реализации в 2024-2025 годах Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 годы, в том числе предусматривающий введение обязательного консульского учета граждан Российской Федерации, проживающих за рубежом. В настоящее время во исполнение данного акта Правительства и во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации ведется профильная работа в межведомственном формате. О заслуживающих внимания моментах будем информировать.
Вопрос: Ранее стало известно о том, что переводить фамилии иностранцев с латиницы на кириллицу будет специальный сервис машинного перевода МИД России. О какой машине идет речь, какая языковая норма взята за основу?
Ответ: МИД России разработал сервис машинного перевода фамильно-именных групп иностранных граждан с латинского на кириллическое написание, целью которого является обеспечение единообразного подхода к написанию фамилий и имен в документах, удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без гражданства.
Данный сервис представляет собой программный комплекс, который обеспечивает перевод по правилам, учитывающим фонетические и орфографические особенности конкретного иностранного языка.
Такая система в целом не нова и уже используется, например, государственными органами в рамках межведомственного электронного взаимодействия.

Почему пора вернуться к госрегулированию розничных цен на бензин
Эксперт Гусев: Если бензин будет по 5 копеек, то и зарплата не превысит рубль
Сергей Тихонов
Есть шутка, что когда нефть дорожает, цены на бензин в России просто растут, а когда дешевеет - поднимаются. За 20 лет ни разу по итогам года стоимость топлива на АЗС не только не понизилась, но даже не оказалась такой же, как двенадцать месяцев назад. По данным Росстата, за этот период розничные цены на бензин выросли почти на 400%. В 2004 году литр АИ-95 стоил чуть менее 15 руб. за литр. Сейчас - почти 59 руб. Та же тенденция с тарифами на газ и электричество.
Почему так происходит и можно ли с этим бороться, "Российской газете" рассказал заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации потребителей и поставщиков энергоресурсов "Надежный партнер", член экспертного совета конкурса "АЗС России" Дмитрий Гусев.
Как можно объяснить непрерывный рост цен на топливо и тарифов на газ и электричество в России, мы же все это добываем и производим с избытком?
Дмитрий Гусев: Вечный рост - наследие советской системы. Низкая стоимость энергетических ресурсов по сравнению с рыночными ценами была основой социальной поддержки населения и базой для стимулирования развития экономики страны. Такова была осознанная внутренняя политика государства. Но теперь мы живем совсем в других условиях - у нас рынок.
Но если стоимость была изначально низкая, то откуда взялся рост цен, к примеру, на автомобильное топливо?
Дмитрий Гусев: В рыночных условиях сдерживать цены невозможно. Нет, вернее, возможно, но через некоторое время вся инфраструктура умрет и топлива не будет никакого. Соответственно, чтобы хоть как-то отрегулировать, увязать социальную значимость топлива и необходимость модернизации инфраструктуры, был определен механизм индексирования цен на АЗС по уровню инфляции.
Изменить эту систему можно?
Дмитрий Гусев: Альтернатива продолжающемуся росту одна - установление тарифов на уровне достаточных для поддержания инфраструктуры и ее развития. Однако уровень доходов граждан не позволяет установить рыночно обоснованные тарифы. Поэтому рост запрограммирован. За счет субсидий он ограничен уровнем инфляции. Безусловно, если мы доживем до того времени, когда вместо инфляции в государстве будет дефляция, то тарифы либо остановятся в своем росте, либо начнут снижаться. Но пока до этого далеко.
Пусть так с ростом цен. Но почему в России доступность автомобильного топлива, то есть количество литров бензина, которые человек может купить на среднюю зарплату, ниже, чем во многих других крупных нефтедобывающих странах?
Дмитрий Гусев: В некоторых странах считают, что необходимо установить минимальную цену на топливо, не считаясь ни с издержками производства, ни с мировыми ценами. Пример такого ценообразования находится в Иране (2,6 руб. за литр бензина), Ливии (2,88 руб. за литр), Венесуэла (3,19 руб. за литр), Египет (27,97 руб. за литр), Ангола (30,71 руб. за литр).
У нас в цену бензина и дизельного топлива (ДТ) заложены не столько затраты на добычу сырья и переработку нефти, сколько значительная доля налогов, в том числе акциз. Акциз - один из видов налогов, используемый во многих странах на специфические группы товаров - топливо, моторные масла, алкоголь, сигареты. Средства, полученные с акцизов на топливо, используются для финансирования ремонта и строительства новых дорог, а также создание сопутствующей инфраструктуры.
В некоторых других странах, где отсутствуют субсидии на топливо и не такая доля налогов, цены волатильны и больше зависят от нефтяных котировок. Напомню, колебания нефти были от отрицательных котировок до 140 долл. за баррель. Когда цены на нефть падают, тогда топливо дешевеет, когда растут - дорожает. Если бы в России была такая система, мы бы могли в течение года видеть цены на заправках от 30 до 90 руб. за литр, и не факт, что среднегодовая цена была ниже, чем существующая.
А почему не сделать так, как в Иране или Ливии?
Дмитрий Гусев: А зачем? Во-первых, это неуважение к труду нефтяников и газовиков. Во-вторых, энергоэффективность никто не отменял - сверхдешевое топливо не будет способствовать его сбережению. Ну и в-третьих - затраты на топливо не являются основными в производственной цепочке. Если делать бензин по 5 коп., тогда нужно и многие другие товары делать по 5 коп. И тут возникнет главный вопрос - зарплата тоже должна быть не выше рубля. А к примеру, импортные товары продолжат стоить столько же, сколько сейчас. Не думаю, что на это кто-то согласится.
Но у нас доступность топлива ниже, чем во многих странах, где ценообразование на бензин и ДТ полностью рыночное. Почему так?
Дмитрий Гусев: Основная проблема цен на топливо в России - запрос граждан на его низкую стоимость и полное отсутствие самостоятельных действий, направленных на снижение этих затрат. И граждане, и бизнес считают, что государство обязано поддерживать низкую цену топлива по причине того, что мы добываем много нефти, и для нас она должна быть условно бесплатной. Наряду с этим никто не использует альтернативные инструменты, которые предлагаются для сокращения топливных издержек. А государство, в свою очередь, никоим образом не подталкивает население к дешевым альтернативам. То есть не снижает долю государственных затрат на субсидирование стоимости топлива.
Более того, сама система демпфера (компенсация из бюджета нефтяным компаниям части издержек за поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных. - прим. "РГ") - в противовес политике предоставления адресной помощи социально незащищенным группам населения - носит безадресный характер. Получается, что субсидию на топливо получают и группы населения с низкими доходами, и группы населения с высокими и очень высокими доходами.
Государство само рассматривает, как виды топлива, на стоимость которых нужно обращать внимание, только бензин и дизель. Отсутствие системного подхода к топливной отрасли порождает решения, которые не несут синергетического эффекта. Там, где два плюс два могло быть равно пяти, получается три. С одной стороны, государство финансирует развитие газомоторного топлива (ГМТ), с другой - покрывает затраты потребителям на приобретение ДТ.
Пока система торговли топливом в России очень странная. Стоимость метана регулируется. Стоимость смеси пропана и бутана является рыночной. Стоимость дизельного топлива и бензина в рознице таргетируется (ставится цель - не выше уровня инфляции. - "РГ").
Но половина нефтяных компаний в России государственные. Их же могут заставить ограничить цены на АЗС?
Дмитрий Гусев: Государственные компании имеют форму юридического лица, основной задачей которого стоит получение прибыли. То есть даже компании с государственным участием являются коммерческими. На этом основании как у руководства нефтяных компаний, так и у персонала основная задача - повышение прибыли для компании и как следствие - увеличение дивидендов для акционеров, среди которых и государство. Выполнение так называемых социальных задач, а именно к ним относится сдерживание цен на топливо, идет вразрез с законодательством и противоречит и гражданскому, и налоговому кодексам.
Если сделать бензин по пять копеек, тогда и многие другие отечественные товары должны стоить пять копеек, а зарплата окажется не выше рубля
Тут, на самом деле, очень серьезный вопрос. Владимир Путин неоднократно говорил о верховенстве права, его слова и позицию мы знаем. Одновременно очень многие слова президента до сих пор не выражены в нормах закона. Яркий пример - приоритет поставок топлива на внутренний рынок. И с правовой точки зрения многие вещи происходят на топливном рынке вразрез с нормами права. Это все накладывается в одну большую проблему отсутствия базовых документов для существования топливозаправочной отрасли. Ей нужна стратегия, нужна генеральная схема размещения объектов инфраструктуры, нужен закон о приоритете поставок на внутренний рынок. Пока это все хаотично регулируется на уровне различных министерств, ведомств, инструкций, подзаконных актов и понятийной логики. В таком режиме отрасль, и так не показывающая огромного потенциала к росту, может прийти и к застою.
Вы несколько раз упомянули газомоторное топливо. Можно ли сказать, что ГМТ - это рыночная альтернатива бензину и ДТ?
Дмитрий Гусев: Не совсем. Оптовый рынок метана не развит в достаточной мере. Сжиженные углеводородные газы (СУГ), бензины и дизельное топливо торгуются на биржевом рынке, который находится под влиянием мировых котировок. Однако для смягчения роста цен на бензин и ДТ существует механизм демпфера, а также постоянные донастройки как со стороны биржи, так и со стороны ФАС, препятствующие росту оптовой стоимости топлива. Количество таких донастроек настолько велико, что говорить о свободном рыночном ценообразовании уже не приходится.
Биржевая торговля, которая в 2008 году зарождалась для того, чтобы снять ограничения с перемещения топлива по рынку России, в итоге пришла к не меньшему количеству ограничений. Все и не перечислишь - и вовремя купить нельзя, и много купить нельзя, и отгрузки по полгода, и доставка по полгода. Из прозрачной системы мы скоро придем к появлению новой профессии биржеолога, который будет разбираться во всех тонкостях процесса приобретения товара на биржевом оптовом рынке.
И в какую сторону нам двигаться - в сторону рынка и биржи или все же в сторону госрегулирования?
Дмитрий Гусев: В текущей ситуации стоит рассмотреть вопрос введения государственного регулирования на рынке энергоресурсов. Это, в первую очередь, топливно-энергетический баланс, стратегия, генеральные схемы размещения. Ну и грамотное использование ресурсов в первую очередь. Если есть метан - то ни о каких субсидиях на бензин не может быть и речи. Альтернативы должны стать полноценными видами топлива. Нужно посчитать, нужно ли нам такое количество АЗС, которое существует, нет ли излишней конкуренции, которая плодит только убытки.
Но и в целом политика энергосбережения должна стоять во главе - если существует общественный транспорт, зачем субсидировать бензин. Вопрос очень сложный. Если б цены на топливо отпустили в свободное плавание, эффективности в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) мы бы добились быстрее. Раз такое себе позволить не можем - нужно переходить к государственному регулированию.
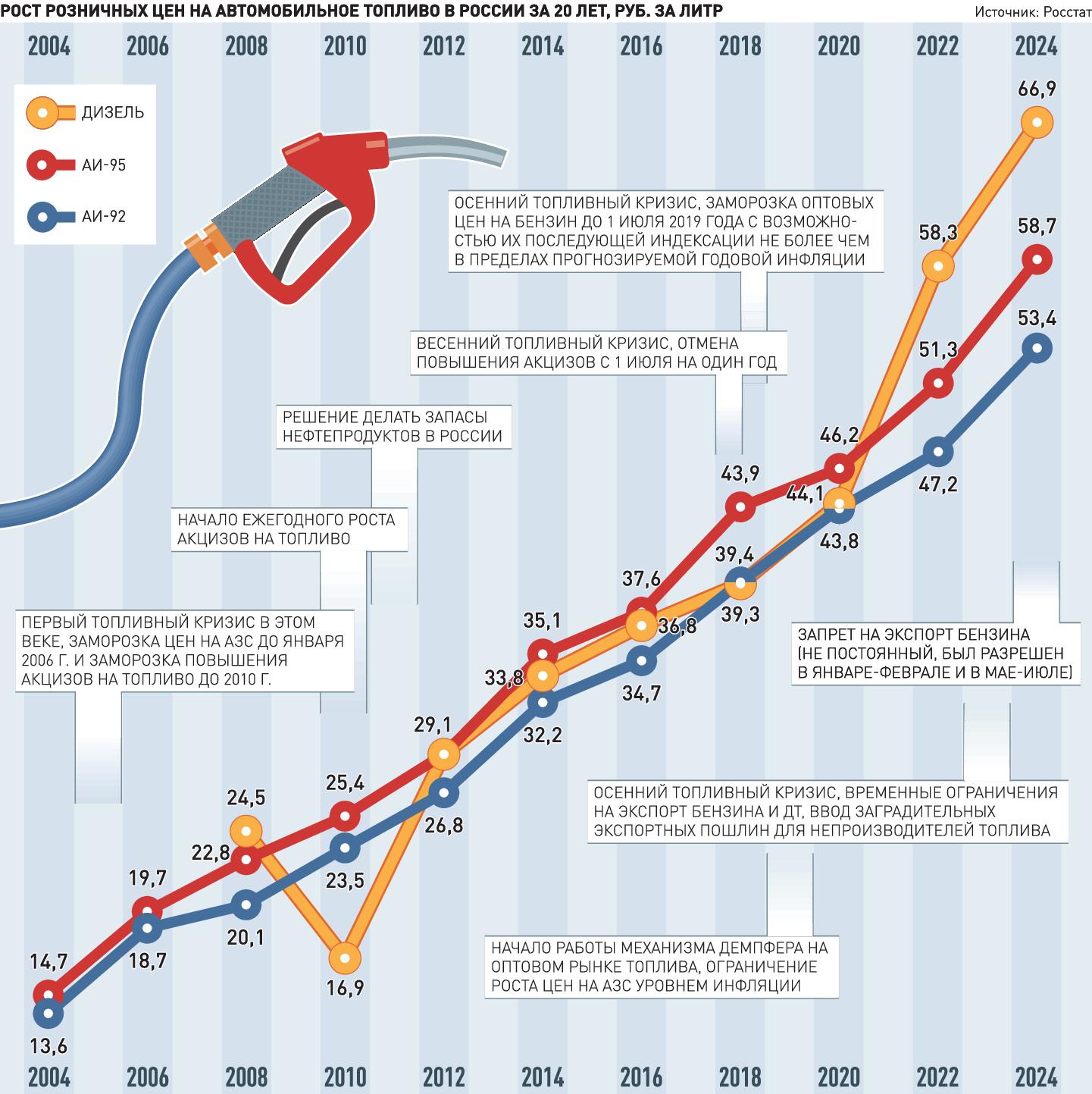

Почему дорожает бензин и что делать, если хочется дешевого топлива
Сергей Тихонов
С 2010 года все марки бензинов подорожали больше, чем в два раза, а дизельное топливо (ДТ) - более чем в четыре раза. Топливные кризисы, сопровождающиеся резким ростом цен на АЗС, происходят с завидной регулярностью: два в 2018 году, один в 2023 году. Более того, сейчас опять неспокойно, оптовые и розничные цены идут вверх вне зависимости от нефтяных котировок и уверений правительства, что все под контролем. О том, почему дорожает бензин и дизель, можно ли опустить на них цены, и виноваты ли в подорожании нефтяные компании, "РГ" рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Александр, цены на АЗС растут не один, не два и даже не десять лет. Почему?
Александр Фролов: Если учесть инфляцию за 10-15 лет, то бензин и дизельное топливо подорожали приблизительно в ее пределах. И это абсолютно естественный и оправданный рост цен. Другой разговор, можно ли сейчас цены понизить? Да. Но когда люди говорят про это, они вряд ли имеют в виду удешевление на 2-3 или даже на 15 копеек. Они хотят, чтобы цены снизились раза в два. А еще лучше, чтобы бензин стоил рублей пятнадцать. Это же вполне возможно, если убрать из его цены все налоги. Но в таком случае мы недополучим средства в нашу казну. Нагрузку придется переложить на какой-то другой товар. Причем, товар обязательно востребованный, пользующийся спросом, поскольку бюджету нужен определенный объем денег на социалку, медицину, ремонт дорог, наконец. И взять его в конечном итоге можно только из одного кармана - кармана потребителя. Им может быть гражданин или крупная компания, не важно. Если на АЗС будут меньше платить за бензин и дизель, то значительно больше отдавать придется за какие-нибудь продукты питания, энергообеспечение или просто проезд по дорогам.
Но бензин и ДТ вообще не дешевеют, не в два-три раза, не даже на 3-5%, почему?
Александр Фролов: Это не так. Снижение розничных цен у нас периодически происходит. Просто оно незначительное и вообще не замечается, а любое подорожание воспринимается остро. При этом еще из-за инфляции, которую никто не отменял, происходит рост цен год к году, что также работает на такое впечатление "вечного подорожания". Не было года, когда по его итогам бензин стал стоить меньше, чем в прошлом году. Но были ситуации, когда бензин дорожал в пределах 1%, например, в 2022 году при инфляции около 10%. Вам любой экономист скажет, что в этом случае бензин подешевел. Но подавляющее большинство автомобилистов тут же захотят этого экономиста побить.
При существующей системе ожидать сильного удешевления бензина или ДТ не приходится. Но если вы хотите иметь в распоряжении своем некое топливо, которое может не только дорожать, но и дешеветь в полтора-два раза, то такая опция на нашем рынке есть.
Это какая же?
Александр Фролов: Вы переводите свой автомобиль на пропан-бутан и наблюдаете, как его цена то поднимается до 36 рублей, то снижается до 19 рублей и опять поднимается до 25 и так далее. В общем, если кому-то интересно наблюдать такого рода качели, ну и, объективно говоря, экономить средства на моторном топливе, пожалуйста, переводите автомобиль на газ.
Пропан-бутан в этом плане лучше метана, поскольку цены на метан фактически регулируемые, а пропан-бутан - это чисто рыночное топливо, то дорожает, то дешевеет, пожалуйста. За один год оно может подскочить выше 30 рублей, потом снизиться ниже 20, красота.
А почему не сделать так с бензином и ДТ?
Александр Фролов: Не думаю, что это кому-то понравится. Если полностью перейти на рыночное ценообразование для бензина и ДТ на розничном рынке, то нужно быть готовым к тому, что в какой-то момент бензин будет стоить 40 рублей за литр, а в какой-то момент - 100 рублей. Скачки будут достаточно серьезные, и эти качели будут бесконечными. Но, прямо скажем, я бы не ожидал, что средние цены при этом снизились. И не уверен, что средние расходы за год на топливо абстрактного автомобилиста станут меньше. А вот прогнозируемость этих расходов снизится в разы.
Но почему в России - одной из крупнейших нефтедобывающих стран - цены на бензин не самые низкие, выше, например, чем в Казахстане или Саудовской Аравии?
Александр Фролов: Мы одни из мировых чемпионов по налоговой составляющей в розничной цене моторных топлив. Но это позволяет избежать скачков цен и удерживать их все же ниже, чем в большинстве стран. Опыт стран с более либерализированным внутренним рынком моторных топлив, таких как США или страны ЕС, нам в помощь. Можно посмотреть, что происходило там с ценами на бензин и ДТ в прежние годы, насколько они опускались, даже с учетом резкого снижения цен на нефть в 2020 году. На этом примере можно предположить, что бы творилось у нас, потому что там тоже налоговая составляющая не нулевая, но она не столь выраженная. Впрочем, у нас часть налогов возвращается нефтяникам в виде выплат по демпферу (демпфер - компенсация части разницы между индикативной ценой топлива, установленной государством, и его экспортной ценой. Выплачивается за поставки на внутренний рынок с отклонением от индикативной цены не более 10% для бензина и не более 20% - по ДТ. В случае когда экспортные цены выше индикативных, выплаты идут из бюджета нефтяникам. Если наоборот, то нефтяники доплачивают в бюджет (такое случалось только в 2020 году, когда произошел обвал цен на нефть). - Прим. ред.).
Если бы не демпфер, сколько бы стоил литр, к примеру, бензина АИ-92?
Александр Фролов: Думаю, сейчас его цена не сильно бы отличалась от той, что на заправках, возможно, была бы чуть выше, но точно могу сказать, что в период осеннего кризиса стоимость марки АИ-92 доходила бы до 65-70 рублей за литр.
Получается, что государство платит из бюджета нефтяникам, в прошлом году почти 1,6 трлн рублей, чтобы они сдерживали цены?
Александр Фролов: Положения о демпфере прописаны в статье 200 Налогового кодекса РФ. Это не статья про налоговые льготы, это статья про налоговые вычеты. Налоговые вычеты человек получает, когда, например, купил квартиру (единственное жилье) и заплатил за это налог. Часть денег к нему возвращается. Также и с демпфером. Он как идея появился осенью 2018 года, а заработал с 2019 года и, по сути, был своего рода костылем. Его приделали к ранее согласованным параметрам финального витка большого налогового маневра, который подразумевал рост налогов на добычу нефти и снижение экспортных пошлин на нее и нефтепродукты вплоть до нуля. В этом году эти экспортные пошлины обнулились. Налоги на добычу повысились, и в них практически затраты на демпфер были включены.
А зачем понадобилась такая сложная система?
Александр Фролов: Финальный виток налогового маневра снизил привлекательность российской нефтепереработки. С точки зрения себестоимости выпускаемой продукции наши нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) оказались в таком же положении, как европейские, которые для себя сырье экспортируют. Также снизились меры поддержки, стимулирующие модернизацию НПЗ. А они ранее позволили уже в 2016 году перейти на выпуск моторных топлив Евро-5 и провести еще ряд мероприятий. И это был весьма недешевый и крайне капиталоемкий процесс. Кроме того, в 2018 году случилось два ценовых кризиса на внутреннем рынке моторных топлив. И тогда возникла идея, что необходимо внутреннюю нефтепереработку поддержать и иметь максимально эффективные рычаги воздействия на рынок. Таким инструментом стал демпфер.
По-другому ценовые кризисы 2018 года нельзя было разрешить?
Александр Фролов: Представьте себе ситуацию, экспорт нефти и топлива становился все более привлекателен, а внутренний рынок, наоборот. Что делать, если на нем растут цены? Увеличить предложение. От биржевых котировок на Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой бирже у нас зависят оптовые цены на моторное топливо. Были повышены нормативы продаж топлива на ней. Не помогло. Более того, был использован командно-административный ресурс, то есть ценам на бензин дали приказ: "Стой, раз-два!" Не сработало.
Почему, ведь раньше же работало и сейчас иногда срабатывает?
Александр Фролов: Не всегда. Неожиданно, это я иронизирую, выяснилось, что причина роста цен заключалась в росте себестоимости. А она растет, главным образом, из-за увеличения налоговой нагрузки. Налоги у нас занимают долю до 70% в розничных ценах моторного топлива. Так вот в 2018 году рост налогов стал главным фактором, вызвавшим подорожание бензина и ДТ на АЗС.
Налоги повышаются и в других отраслях, почему так произошло именно здесь?
Александр Фролов: Нефтяная отрасль безоговорочный лидер по объему налогов, которые с нее снимают. Иногда мне кажется, что с нефтянкой мы играем в анекдот про корову, решая, что нужно сделать, чтобы она давала больше молока и меньше ела - меньше кормить или больше доить. Исход для коровы в обоих случаях неприятный. Вот чтобы этого не произошло, нужна была какая-то мера, которая позволила бы нефтяной отрасли продолжать эффективно работать. Такой мерой стал демпфер.
Он является одной из мер поддержки нефтепереработки в условиях изменения налоговых режимов, которые подразумевают постоянный рост фискального давления на добычу внутри страны и отмену ранее существовавших льгот, стимулировавших развитие нефтеперерабатывающих мощностей. Кроме того, демпфер также является своего рода гарантией сдерживания роста розничных цен не выше уровня инфляции. Как я уже говорил, если бы его не было, то в ходе ценового кризиса 2023 года в августе-сентябре бензин бы стоил рублей на 10 - 15 за литр больше.
Сейчас часто можно услышать, что в периоды запрета экспорта топлива выплаты по демпферу нужно обнулить. Вы с этим согласны?
Александр Фролов: Понять людей, предлагающих это, можно. Формально размер выплат по демпферу зависит от объема реализации моторного топлива на внутреннем рынке. А также, кстати, от котировок бензина и ДТ на роттердамской бирже, выраженной в долларах, но это почему-то возмущает публику намного меньше. Логика сторонников отмены демпфера такова: если экспорт запретили, то нефтяникам не стоит платит за то, что они и так продадут на внутреннем рынке. Но причины, по которой выплаты по демпферу сохраняются, находятся немного за пределами такого подхода. Во-первых, необходимы дополнительные меры стимулирования модернизации и текущей работы нефтеперерабатывающих мощностей, тем более в условиях санкций. И демпфирующий механизм, как я уже говорил, это делает. Во-вторых, он обеспечивает частичное регулирование внутреннего рынка моторных топлив, сдерживая рост розничных цен в пределах инфляции. И именно из-за сочетания этих двух факторов демпфирующая надбавка продолжает выплачиваться. Она является костылем, приделанным к конкретным налоговым условиям, и отменить ее можно, только если будут глобально изменяться правила налогообложения в отрасли.

Моди 3.0
Об углублении российско-индийских отношений и выходе на «следующий уровень» стратегического партнёрства
ХРИДАЙ САРМА
Индийский юрист и независимый исследователь, занимающийся вопросами энергетики в Большой Евразии.
Стремление Индии к стратегической автономии в чём-то схоже с позицией Франции и свидетельствует о более широкой глобальной стратегии – балансировать в политике великих держав, не становясь чрезмерно зависимым от какого-то одного союзника. Новое правительство Моди нацелено на преодоление всех этих сложностей.
Нарендра Моди в третий раз стал премьер-министром Индии, и это очередная веха на политическом ландшафте страны. После убедительной победы на выборах при поддержке партнёров по коалиции – «Национального демократического альянса» (НДА) премьер-министр Нарендра Моди и правящая «Бхаратия джаната парти» закрепили свои позиции доминирующей политической силы, которая сформулирует стратегические приоритеты Индии на ближайшие годы. Одно из ключевых направлений, которое, скорее всего, вновь окажется в фокусе внимания, – это проверенные временем российско-индийские отношения и стремление вывести их на следующий уровень стратегического партнёрства в условиях быстро меняющейся глобальной динамики.
Третью победу Нарендры Моди можно назвать исторической – теперь он сравнялся с первым премьером независимой Индии Джавахарлалом Неру по количеству сроков на посту главы правительства подряд. Курс Моди 3.0 предполагает сочетание последовательности и изменений, а ключевые фигуры – Раджнатх Сингх, Амит Шах и Субраманьям Джайшанкар – сохранили портфели министров обороны, внутренних и иностранных дел.
Главы семи государств прибыли на церемонию инаугурации премьер-министра в рамках индийской политики добрососедства (Neighbourhood First). Среди них президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, президент Мальдивских Островов Мохамед Муизу, вице-президент Сейшельских Островов Ахмед Афиф, премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, премьер-министр Маврикия Правинд Джагнот, премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал, он же Прачанда, премьер-министр Бутана Церинг Тобгай. Они также присутствовали на торжественном приёме, который дал президент Индии Драупади Мурму, и встретились с Моди вечером в воскресенье, 8 мая 2024 года.
Еще пятьдесят лидеров разных стран, в том числе президент Путин, поздравили Моди по телефону, подтвердив глобальное признание индийского лидера, а также растущую роль Индии в международных делах.
Влияние на российско-индийские отношения
Отношения Индии и России – это константа глобальной политики, которая характеризуется взаимным уважением и стратегическим сотрудничеством в таких сферах, как оборона, энергетика и технологии. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, ключевая фигура в кабинете Моди, неоднократно подчёркивал мощь этого партнёрства. В ходе встречи в Москве в декабре 2023 г. Джайшанкар отмечал, что «хотя в отношениях между любыми странами бывают взлёты и падения, единственная константа в глобальной политике – это связи между Индией и Россией». Он также подчеркнул, что в сфере обороны, космоса и атомной энергетики государства обычно сотрудничают только с теми, с кем установлена «высокая степень» доверия.
Давнее двустороннее партнёрство охватывает такие сферы, как оборона, космос и атомная энергетика, где фундаментом неизменно являются доверие и общие интересы. Джайшанкар выразил непоколебимую поддержку российско-индийских отношений, что особенно важно в условиях, когда Нью-Дели подвергается растущему давлению со стороны США и других стран Запада из-за энергетического сотрудничества с Россией на фоне конфликта на Украине.
Несмотря на это возрастающее давление, Индия придерживается позиции стратегической автономии, подчёркивая прагматичные аспекты своих внешнеполитических решений[1]. Индия и Россия углубили стратегическое сотрудничество в богатом энергоресурсами Арктическом регионе – сейчас стороны работают над облегчением притока индийских инвестиций в совместную реализацию крупного нефтегазового проекта «Восток Ойл». Сотрудничество в Арктике не только укрепляет энергетическую безопасность Индии, но и дополнительно укрепляет политические и научные связи между двумя государствами.
Кроме того, на конец 2024 г. запланирован старт круглогодичной навигации по восточному участку Северного морского пути (СМП). По прогнозам, объём грузоперевозок превысит 150 млн т к 2030 г. и 200 млн т к 2035-му, что существенно повысит значимость этого маршрута для мировой торговли. Индия не может позволить себе упустить такую возможность – необходимо стать партнёром и участником запуска коридора, особенно когда Китай и другие страны Азии активизируют взаимодействие с Россией, чтобы расширить перевозки и строить новые контейнеровозы ледового класса для СМП. Индия, со своей стороны, заинтересована в ледоколе для обеспечения полярных научно-исследовательских станций страны в Арктике.
Последствия западного политического давления
Прочные отношения Индии и России часто рассматривают сквозь призму западного политического давления, особенно в Вашингтоне. В условиях конфликта на Украине Индия заняла позицию стратегического нейтралитета, балансируя между давними связями с Россией и дипломатическими сигналами Запада. Несмотря на критику, Индия продолжает вести активную торговлю с Россией, делая акцент на прагматичных аспектах своей внешней политики. Глава МИД Джайшанкар не раз публично подчёркивал право Индии на независимые внешнеполитические решения, без оглядки на внешнее давление, в том числе касательно энергетических связей с Россией. Моди подтвердил эту позицию, заявив, что, если Индии нужна нефть из России, индийское правительство будет её покупать и не будет этого скрывать. Он также открыто заявил, что российско-индийские отношения остаются «особыми и привилегированными», и пообещал развивать эти связи дальше, поздравляя президента Путина с переизбранием в марте 2024 года.
Оба государства способны оперативно внедрять новые торговые механизмы в целях укрепления своих экономических связей, когда внешние обстоятельства начинают слишком сильно давить. Объём накоплений в рупиях в индийских банках исчисляется миллионами долларов – об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае 2023 г., эту проблему решают путём стратегических инвестиций в индийский фондовый рынок и инфраструктурные проекты. Такой подход смягчает финансовые вызовы и подчёркивает прочность двусторонних отношений. Благодаря специальным счетам востро в рупиях (SRVA) для торговых операций и инвестиций двум государствам удалось эффективно диверсифицировать экономическое взаимодействие и выйти за рамки традиционного валютообмена. Подобные меры не только улучшают экономическое сотрудничество, но и повышают взаимное доверие и стратегическое взаимодействие в критически важных секторах – энергетике и обороне.
Перспективы
Если заглядывать вперёд, правительству Моди следует использовать стратегическую автономию для дальнейшего укрепления и углубления отношений с Россией. Недавние дискуссии и обмен официальными коммюнике между Джайшанкаром и его российским коллегой Сергеем Лавровым о совместном производстве вооружений свидетельствует о новом этапе на пути расширения оборонного сотрудничества. Совместная разработка военных технологий, хотя и согласована, пока не реализуется. Теперь, с возвращением правительства Моди, реализация может начаться достаточно быстро, что отвечает целям налаживания собственного производства в Индии, а также добавит глубины стратегическому партнерству с Россией. Россия, в свою очередь, приобретёт надёжный рынок и возможности для взаимовыгодного сотрудничества в сфере современных военных технологий.
Стремление Индии к стратегической автономии в чём-то схоже с позицией Франции и свидетельствует о более широкой глобальной стратегии – балансировать в политике великих держав, не становясь чрезмерно зависимым от какого-то одного союзника. Новое правительство Моди нацелено на преодоление всех этих сложностей для диверсификации международных связей и сохранения гибкости, чтобы улучшать двусторонние отношения с такими ключевыми игроками, как Россия.
Третий срок Моди обещает акцент на стратегические нюансы отношений с Россией. Индийское правительство сосредоточится на сферах высокого доверия – оборона, космос, атомная энергетика – в сочетании с противодействием внешнему давлению. Эти усилия обеспечат взаимосвязанный и прочный фундамент для будущего двустороннего сотрудничества. На фоне эскалации глобальных конфликтов (война между Израилем и Палестиной и другие) и стремления к многополярному миру умная навигация Индией своих отношений с другими странами, прежде всего с Россией, упрочит её позиции как ключевого игрока при формировании будущей траектории развития международной системы. А Россия получит возможность усилить своё геополитическое положение в развивающемся многополярном глобальном и региональном порядке.
Автор: Хридай Сарма, индийский юрист и независимый исследователь, занимающийся вопросами энергетики в Большой Евразии.
СНОСКИ
[1] Russia and India’s strategic autonomy. SEMINAR (NEW DELHI), (761). 2023. Pp. 37-40.

Церемония по случаю открытия медицинских объектов и начала строительства Центра научных исследований и масштабирования технологий
Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии по случаю открытия медицинских объектов и начала строительства Центра научных исследований и масштабирования технологий ПАО «СИБУР Холдинг» в Республике Татарстан.
В видеоконференции также участвовали глава Татарстана Рустам Минниханов и первый президент Татарстана, государственный советник республики Минтимер Шаймиев.
Проект создания Центра НИОКР и масштабирования в Казани нацелен на развитие новых технологий и перспективных продуктов для ключевых отраслей экономики, повышение устойчивости индустрии и её технологической независимости.
Кроме того, в столице Татарстана открыты Перинатальный центр городской клинической больницы № 7 имени М.Н. Садыкова и хоспис «Наташа», построенный благотворительным фондом помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой.
* * *
Р.Минниханов: Очень высокую оценку дал Минтимер Шарипович по вчерашнему мероприятию.
М.Шаймиев: Это новая страница, работа с молодёжью. Как воспринимают.
В.Путин: Да. Красиво очень, энергично, динамично. По-современному.
Р.Минниханов: Все эти вопросы вместе мы начинали. Доложил Владимиру Владимировичу обстановку в республике: экономическую ситуацию, наши планы.
Сейчас, Владимир Владимирович, начнём, наверное, с научно-исследовательского центра – большой проект.
Коллеги, пожалуйста, докладывайте.
М.Карисалов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Рустам Нургалиевич! Уважаемый Минтимер Шарипович! Добрый день!
Уважаемый Владимир Владимирович, более 14 лет назад, очень похожей зимой 2010 года, находясь в Тобольске, где тогда команда «СИБУРа» создавала мощнейший комплекс по углублённой переработке углеводородного сырья, производству полипропилена, я докладывал Вам о ходе работ над этим проектом, позволившим получить европейского размера самую крупную в стране мощность по производству полипропилена.
С тех пор Вы дважды бывали в Тобольске, открывали крупнейшие, мирового масштаба мощности «Тобольск-Полимера», «ЗапСибНефтехима». В Нижегородской области, в городе Кстово, Вы открывали мощность по производству ПВХ, также крупнейшую в Европе. В Воронеже мы докладывали Вам о том, как создали мощность термоэластопластов для нашего дорожного и кровельного хозяйства. В прошлом году в городе Свободный в Амурской области, на территории Амурского газохимического комплекса, мы докладывали Вам о ходе работ над этим крупнейшим в мире интегрированным химическим комплексом.
Всё это уже позволило сделать Россию абсолютно независимой по базовым полимерам: полиэтилен, полипропилен, ПВХ, термоэластопласты. Большая часть продуктов марочного ассортимента, связанного с производством синтетического каучука. Конечно же, большое развитие здесь ведём и мы в Татарстане, в городе Нижнекамске, в городе Казани.
Но не только тонны, уважаемый Владимир Владимирович, не только новые заводы создаёт «СИБУР», предлагая автомобильным, ЖКХ, медицинским, сельскохозяйственным отраслям эти новые продукты. Конечно, мы занимаемся активно инновациями, наукой, прорывными технологиями, обучением.
Сегодня здесь, в Казани, мы закладываем центр, который будет призван стать головным институтом, объединить работу имеющихся в «СИБУРе» девяти научных центров, которые занимаются разнообразными разработками, связанными с катализом, биоматериалами, специальными пластиками, инженерными, строительными материалами. Он послужит продолжению работы по созданию полноценного технологического суверенитета – уже и с научной, с технологической точки зрения, который будет призван защищать наши основные базовые процессы.
Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, позвольте продемонстрировать короткий видеоматериал. (Идёт демонстрация видеоролика.)
В.Путин: Михаил Юрьевич, Вы нам поподробнее расскажите, что такое современные катализаторы? Что это такое для экономики, для промышленности? О каких новых материалах, полимерах идёт речь? Как это может и должно быть использовано в промышленном производстве?
М.Карисалов: Уважаемый Владимир Владимирович!
Катализаторы служат как преобразователи – для преобразования углеводородных газов. Вы хорошо знаете, что «СИБУР» работает фактически с побочными продуктами добычи нефти и газа – одного из столпов экономики нашей страны. Преобразование этих побочных продуктов – попутного нефтяного газа, непредельных газов, некоммерциализируемых газов, нафты – их преобразование в полимеры, через мономерную группу уже непосредственно полимеры. Для этого служат катализаторы.
Не скрою, что достаточно долго мы занимаемся развитием этих технологий, но всё же большую часть наших процессов до недавнего времени обеспечивали лицензиары из западных стран. Сегодня ситуация такова, что в режиме самосанкций, в режиме государственных санкций большая часть, подавляющая, я бы сказал, часть государств, которых представляли эти лицензиары, отказалась от поставок.
Соответственно, те наработки, которые мы вели на протяжении десяти лет, но которые не были где-то коммерциализированы, остановились на прототипировании, не дошли до какого-то промышленного производства, сегодня мы 90–95 процентов этих технологий – и сами, и при помощи партнёров из дружественных стран – сумели закрыть и работаем без поддержки лицензиаров, ни тонны продукции не потеряв.
И одна из задач этого центра – ускорят, скажем так, процесс производства этих катализаторов. Более чем на 60 технологических режимах сегодня каталитические процессы работают в нефтегазохимии, а ещё есть нефтепереработка, ещё есть газопереработка, где также каталитические процессы используются. Одна из задач – это как раз ускорять при помощи науки между исследованиями, извините за такое выражение, в пробирке, что называется, до прототипированного, до непосредственно небольшой установки – ускорять их промышленное производство.
Что касается пластиков и материалов, Владимир Владимирович, не скрою: я фанат синтетических материалов. Они окружают всё у нас, и здесь, в Татарстане, это хорошо видно – 36 процентов полимеров, которые выпускаются в Татарстане, перерабатываются здесь в готовые изделия: бампер автомобиля, полимерная труба для водоснабжения, теплоизоляционные материалы для ЖКХ, огромное количество от простейших глиссеров до сложных аппаратов в медицине, в медицинской отрасли, рукава для сельского хозяйства, которые заменяют при мелиорации необходимость строительства сотен, а иногда и тысяч километров. Всё это – тот неполный перечень, который есть.
И конечно, в ежедневной нашей жизни синтетический материал позволяет сохранять качество продукта, температурный режим, не портится им. То есть даже для пищевой индустрии это, наверное, то, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Конечно же, одежда, синтетические нити. Конечно же, синтетические материалы в дорожном строительстве. Всем нам хорошо известная шина.
Сегодня примерно 70 процентов этих продуктов, – которые и производятся в виде базовых полимеров и пластиков и в дальнейшем вовлекаются в отрасли, о которых я сейчас коротко попробовал вам дополнительно рассказать, – они сегодня производятся на мощностях компании «СИБУР». В Татарстане порядка 20 процентов всех российских мощностей мы вместе с коллегами развиваем.
В.Путин: А как ваши материалы можно использовать для решения проблем экологии? Имею в виду очистку воздуха, очистку промышленных выбросов и так далее.
М.Карисалов: Владимир Владимирович, во-первых, сами производства, конечно же, строятся на максимально высоком уровне экологической безопасности. То есть то старое представление, – к сожалению, во многом подталкиваемое и фобиями, такими простыми человеческими фобиями, что химия – это где-то грязно, шумно, немодно, но, мне кажется, за последнее десятилетие Россия сумела существенно от этого отойти.
Синтетические материалы очень лёгкие, очень прочные. Поэтому, позволю себе в Вашем присутствии, руководителя нашей страны, сказать, – не хочется создавать сейчас какую-то рекламу конкурирующим материалам, – но всё же, безусловно: бумага, металл, стекло, – я ничего против этих базовых, классических, традиционных материалов не имею, – но субститутирование их позволяет экономить электроэнергию, позволяет иметь меньший вес готового изделия, а значит, затрачивать энергию на его перевозку например.
Самое простое сравнение – это пластиковая бутылка и стеклянная бутылка. Когда внутри жидкость весит полкилограмма, а сама тара весит либо 40 граммов, либо почти что килограмм, а её везёт автотранспорт, а иногда корабли, а иногда самолёты.
Композиционные материалы, из которых состоят корпуса авиалайнеров. Около 20 процентов сегодня – это композиционные материалы вместо даже сверхлёгкого металла, что позволяет меньше потреблять топлива, а значит, меньше создавать эмиссию СО2 тем или иным субъектам.
Что касается участия непосредственно в экологических программах. Упомянутые мною полимерные трубы вместо железных, они не имеют, соответственно, разрушений, ничего не отдают внутрь продукта, ничего не отдают непосредственно в землю, то есть в почву, в которой находятся.
Конечно же, разнообразные способы фильтрации, которые сделаны при помощи синтетических материалов, мембраны, очень лёгкие элементы, которые позволяют использовать их для лечения разнообразных заболеваний.
Владимир Владимирович, поверьте, практически 80 процентов того, что нас окружает, состоит из синтетических материалов, и во всех этих отраслях мы точно участвуем. Наука, о которой идёт речь сегодня, как раз позволяет нам это делать.
Не все вопросы решены, не буду скрывать – не все. Но мы стремимся большую часть критических процессов закрыть и быть не зависимыми, если честно сказать, ни от кого.
В.Путин: И два слова о том, что такое малотоннажная химия, – так, чтобы и тем, кто нас слушает, было понятно, о чём речь.
М.Карисалов: Да, Владимир Владимирович. Это очень важное направление нашей работы, очень важное направление для страны в целом.
Российская нефтегазовая отрасль создаёт безграничные возможности для выработки базовых химических, синтетических материалов. Понятно, что газа много, очень много нефти, много, следовательно, этана, пропана, бутана, упомянутые мною нафты. Из них можно делать в прямом смысле слова неограниченное количество синтетических материалов.
Если позволите, кстати, к слову сказать. Мы исследования смотрели, и мир достаточно активно этим занимается: химическая отрасль, и базовые полимеры в частности, последние 35 лет растёт быстрее, чем мировой ВВП. 35 лет каждый год химия растёт быстрее и потребление синтетических материалов растёт быстрее, чем мировой ВВП.
Так вот, в малотоннажной химии с базовыми полимерами мы справились. Я встречал Вас на предприятиях, которые упоминал. В Свободном Вы только что были, осенью: видели эту махину, которая пока что строится. Но через два года уже будут первые пусковые операции, через три года мы будем коммерциализировать продукцию. Но это всё же базовые пластики.
Да, например, бампер, упомянутый мной, сделать можно, трубу сделать можно. А с точки зрения, например, материалов для линолеума или материалов для кровельных специальных изделий, покрытий, не говоря уже о каких-то специальных темах, связанных в первую очередь с медициной, сельским хозяйством, где свойства материала – тугоплавкость, прозрачность, таропрочность, экологичность, экологичность самого продукта, то есть его транспарентность к среде, в которую он будет погружён, – это очень важно обеспечить.
Такие проекты у нас тоже есть, в Тобольске было запущено [производство]. Производство ДОТФ – используется для напольных покрытий, запущено два года назад в Пермском крае. Термоэластопласты – это малотоннажные добавки, которые позволяют дорожному полотну, – и Вы по таким дорогам ездили, мы Вам это показывали, – зависеть не от температурных изменений, а в России температура разная бывает, позволяют быть более гибким автомобильному полотну, дорожной части. Очень много ещё примеров.
Этим развитием малотоннажной технологии занимаемся и здесь, в Татарстане, и в следующем году запустим проект гексена, он разработан по российской технологии, сибуровской технологии. В Томске разработан, как раз в нашем научном центре, – к слову сказать, который Вы в 2008 году открывали. Тогда это была первая техниковнедренческая зона. Большая часть специалистов как раз из Томска сегодня здесь, помогают и работают над дизайном нашего Казанского научного центра.
Малотоннажная технология очень важна. С Минпромторгом у нас большой список – с господином Мантуровым, с его замами материалов, – когда они, объединив отраслевой спрос из всех подопечных своих, которые входят в Минпромторг, как раз создали для нас, для других компаний гарантированный спрос. Поэтому малотоннажные производства будут также развиваться.
В.Путин: Вы упоминали про Амурский кластер, про Амурское предприятие. Знаю, что вы работали изначально с первых шагов с инопартнёрами, в том числе с немецкими вашими коллегами, которые приняли решение, – так понимаю, в силу политического давления – выйти из проекта. Но всё-таки это одна из ведущих фирм в мире в этой отрасли – имею в виду ваших бывших партнёров.
Что сейчас там происходит? Удаётся вам решать те вопросы, те проблемы, которые по объективным обстоятельствам, неожиданно для вас возникли?
М.Карисалов: Владимир Владимирович, Вы абсолютно верно говорите. К сожалению, ситуация оказалась совсем странной, мы партнёрствовали с той немецкой компанией, – я слышал, Вы на форуме упоминали её название, никакой тайны нет, – это компания Linde. Действительно, мы работали с этой компанией не один год по развитию криогенных технологий, газоразделению, газосепарации.
Большая достаточно у них на юге Германии инженерная, научная база, я там бывал не раз. Они, действительно, если не самые крутые, одни из самых крутых по этим технологиям, но какого-то пиетета, как показали эти… Они в марте 2022 года уведомили нас о выходе из проекта в режиме самосанкций, написали достаточно, не скрою, странно-противное письмо, глупое, я бы сказал так, лишили работы тысячи людей у себя. Мои коллеги там были. Про выключенный свет в зданиях Вы знаете, про уволенных людей. Я лично могу это подтвердить: продолжал с ними общаться ещё какое-то время после того события.
Сегодня по всем криогенным технологиям: да, может быть, где-то это получается у нас не столь изящно, может быть, есть вопросы с выходом готовой продукции, с энергопотреблением, с массогабаритными размерами тех технологий, которые мы уже начали прототипировать – и там, и в Тобольске, и в Кстово, и в Томске, и здесь, кстати говоря, в Нижнекамске, где у нас пиролизные технологии есть и мы их эксплуатируем. Мы уже понимаем, что завтра ничего не изменится и нам нужно быть готовыми так называемые печи пиролиза, эти технологии разделения газов, иметь свои.
Справляемся, Владимир Владимирович, как и докладывали Вам ранее, и подтверждаю это сейчас. Основная задача, всё на это нацелено: к концу 2026 года выйти на пуско-наладочные работы этого комплекса. Как Вы знаете, эта работа полностью синхронизирована у нас с «Газпромом», который завершает в 2025 году строительство своего комплекса – Амурского газового завода. И эта промкооперация у нас будет работать точно.
В.Путин: Своя инженерная школа развивается?
М.Карисалов: Ситуация, конечно, непростая. Скажу честно: в нескольких направлениях, я бы так ответил, оценку можно дать разную.
Если говорить о газопереработке, газотранспорте, энергообеспечении, разнообразных процессах, связанных с водоподготовкой, инертных газов, здесь проблем никаких нет. Наши проектные институты, инжиниринговые центры. Я 20 с небольшим лет в отрасли работаю, но скажу Вам честно, что десять лет уже точно совершенно то, что когда-то называлось импортозамещением, локализацией, – двухзначными процентами в этом вопросе мы тогда ещё жили: то есть на 20, 30, 40, 50 и более процентов мы работали с российским машиностроением и российским инжинирингом.
Что касается более сложных процессов: здесь, конечно, сложности есть, но работаем с дружественными странами. Конечно, – уж не знаю, как это назвать, – наверное, всё же, к сожалению, ошибку, опрометчивость, что полагали, что всё можно купить, всё можно спокойно совершенно привезти из-за рубежа, уже не повторяем.
Поэтому любая закупка сегодня, любая работа с поставщиком, с вендором, с лицензиаром – будь то китайский лицензиар и вендор, будь то из других стран поставщики – в основном строится на том, что мы просим создавать вместе и конструкторскую документацию, и 3D-модели, и математические расчёты. Фактически при покупке оборудования стараемся покупать и интеллектуальные права на его разработку, то есть на базе конструкторской документации действовать. Сегодня неплохо продвинулись, изменили свой подход, Владимир Владимирович. Двигаемся.
В.Путин: Можно только пожелать успехов.
М.Карисалов: Владимир Владимирович, прошу Вас дать разрешение на погружение первой тестовой сваи в основу того центра, о котором докладывал Вам.
В.Путин: Конечно.
М.Карисалов: Спасибо.
Р.Минниханов: Коллеги, спасибо.
В.Путин: Удачи вам.
М.Карисалов: Спасибо большое.
Р.Минниханов: Следующая тема очень важная, она у Вас в приоритете была, она для всех нас приоритет – это семья, это условия, чтобы у нас больше рожали, создавали больше условий [для этого]. В республике построен хороший современный акушерский комплекс. Комплекс готов.
Я бы хотел попросить наших коллег доложить.
Пожалуйста, главный врач [Артур Маркосович Делян].
А.Делян: Уважаемый Владимир Владимирович!
Уважаемый Рустам Нургалиевич!
Уважаемый Минтимер Шарипович!
Разрешите приветствовать вас из Перинатального центра многопрофильной клинической больницы № 7 города Казани имени Марата Наилевича Садыкова. Наш центр долгожданный, один из самых крупных в России. На площади более 20 тысяч квадратных метров созданы все условия. Мощность нашего центра – 120 коек. Мы готовы принимать до восьми тысяч родов в год.
В центре предусмотрено консультативно-диагностическое отделение, отделение лучевой диагностики с современным оборудованием, родильные и реанимационные залы, операционные с возможностью хирургической коррекции плода, индивидуальные боксы для беременных и рожениц с инфекционными заболеваниями, послеродовые палаты.
Оснащение перинатального центра высококлассным оборудованием позволит команде профессионалов оказывать помощь на высочайшем уровне. Здесь будут применять современные технологии в родовспоможении, диагностике и лечении беременных женщин. Это позволит внести значимый вклад в решение демографических показателей в Республике Татарстан и Российской Федерации.
Уважаемые Владимир Владимирович, Рустам Нургалиевич и Минтимер Шарипович!
Благодарим вас за ваше личное внимание к теме семьи, материнства и детства. Перинатальный центр в Казани – это замечательный подарок в Год семьи всем жителям Республики Татарстан.
Большое вам спасибо.
В.Путин: Вам спасибо. У вас такая команда, смотрю, стоит мощная.
Р.Минниханов: Женская.
В.Путин: Да, хочу всем пожелать успехов в вашей благороднейшей работе, такой нужной каждому конкретному человеку, конкретной семье, республике и всей стране – это, безусловно, так.
У меня только знаете вопрос какой возникает. С 2019 года по сегодняшний день в Татарстане наблюдается определённое снижение рождаемости. Судя по всему, этот процесс не связан ни с религиозной принадлежностью людей, ни с географией. Он связан с множеством факторов, один из которых – я уже много раз говорил об этом, хотя это сложная тема, с демографами надо разговаривать – связан с образом жизни и с уровнем благосостояния.
По мере роста благосостояния, доходов возникают другие ценностные установки – образование, постобразование, получение дополнительных знаний. Рождение ребёнка откладывается.
Татарстан не исключение – то же самое с 2019 года. Это не связано с какими-то особыми событиями в мире, в нашей стране. В 2019 году у нас стабильно всё было, развитие, но, правда, потом пандемия [началась]. Может быть, это как-то [повлияло].
Р.Минниханов: Нет, десять лет мы росли. До этого у нас тоже немножко отрицательные [показатели] были, но десять лет росли. Пандемия нас сильно отбросила назад, но в 2023 году у нас дисбаланс где-то пять тысяч.
Я думаю, что клиника прекрасная, мужчины у нас достаточно крепкие, женщин уговорим.
В.Путин: Дело даже не в мужчинах. Хотя, конечно, нужно думать и о здоровье женщин, и о здоровье мужчин – это всё понятно. И современные технологии применять – всё нужно делать. Нужно сопровождать определёнными информационными программами весь этот процесс кроме всего прочего.
Количество третьих, четвёртых рождений в Татарстане увеличивается, а общая рождаемость падает. Что происходит? Что надо сделать?
Р.Минниханов: Всё-таки с абортами очень серьёзная работа идёт – не просто пропаганда: встречаются с будущими мамочками. Вы правильно говорите: это не одна акция, которая может изменить ситуацию, – это комплекс системных мер.
В.Путин: Комплекс мер, да.
Р.Минниханов: Многие боятся: не буду рожать. В таких клиниках постоянная поддержка, и на уровне федерального бюджета очень большая поддержка для семей, для тех, кто принимает решение.
В.Путин: Но что очень важно и за что хотел бы поблагодарить и Минтимера Шариповича, и Рустама Нургалиевича, и всех специалистов, которые здесь на экране и по всей стране: у нас исторически низкий уровень детской смертности. Исторически низкий. А в Татарстане ниже, чем по стране в целом. Это здорово, это хороший результат.
(Обращаясь ко врачам.) Так что вам и всем вашим коллегам по России особые слова благодарности, успехов.
Это не единственный, я так понимаю, перинатальный центр?
Р.Минниханов: Нет, но это последний, который построили.
В.Путин: Поздравляю вас с этим событием и желаю вам всего самого доброго.
М.Шаймиев: И потом, то, что Вы сказали: у нас по ряду отраслей – это касается и медицины – всё же снижение, когда оно есть, [происходит] с более высокой планки.
В.Путин: Да, согласен.
М.Шаймиев: Имеет место. Тем не менее это нас не освобождает, как говорится…
В.Путин: …от решения стоящих задач.
Р.Минниханов: Владимир Владимирович, задача общегосударственная – всё понятно. И какими-то лозунгами это не получится [решить]: нужна системная, кропотливая работа, чтобы не откладывали, чтобы были уверены. Эту работу будем проводить.
Наверное, Ваша команда нужна, чтобы приступили к работе.
В.Путин: С удовольствием! Вперёд! Желаю вам удачи.
А.Делян: Спасибо.
Р.Минниханов: Спасибо.
Есть ещё одно очень важное направление, которому уделяется большое внимание, – паллиативная помощь. Мы имеем возможность сегодня представить Вам и с Вашего разрешения начать работу второго современного хосписа. Есть уникальный человек, господин Вавилов, который построил первый хоспис, сейчас – второй. Это 800 с лишним миллионов [рублей], восемь тысяч квадратных метров, [созданы] условия для родителей, чьи дети будут там.
И самое главное: в современных условиях там будут оказывать помощь тем, кто вернулся с СВО.
Разрешите доложить. Пожалуйста, коллеги, доложите.
В.Путин: Пожалуйста.
В.Вавилов: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Рустам Нургалиевич! Уважаемый Минтимер Шарипович! Здравствуйте!
Владимир Владимирович, несколько лет назад Вы мне вручили госпремию за то, что я построил первый хоспис в Казани, и я Вам пообещал, что на этом я не остановлюсь. Я сдержал это обещание.
Я приветствую Вас в новом открытом хосписе, который построен, как и первый, за счёт благотворительных пожертвований простых граждан, бизнеса и правительства Республики Татарстан.
Уникальность нашего проекта в том, что мы здесь открываем отделение паллиативной медико-социальной реабилитации для участников СВО. Для этого созданы все условия. Когда я обратился к бойцам СВО, к Герою Российской Федерации Расиму Баксикову, они поддержали меня в этом проекте. Я уверен, что это принесёт нам большую пользу.
Уважаемые Владимир Владимирович, Минтимер Шарипович, Рустам Нургалиевич! Огромное вам спасибо, что вы поддерживаете такие проекты, которые идут на улучшение жизни людей.
Теперь хочу передать слово Герою России Расиму Баксикову.
Р.Баксиков: Товарищ Верховный Главнокомандующий!
Уважаемый Рустам Нургалиевич! Уважаемый Минтимер Шарипович!
Приветствую вас! Доброго вам дня!
Хочу от лица личного состава Вооружённых Сил, от лица бойцов, которые сейчас находятся на фронте, поблагодарить вас за поддержку этого проекта.
Владимир Владимирович Вавилов построил замечательное здание, Рустам Нургалиевич это всячески поддержал. От лица личного состава большое вам спасибо за то, что вы нас поддерживаете. Это нужно, это необходимо.
Владимир Владимирович, личная просьба, разрешите?
В.Путин: Прошу Вас.
Р.Баксиков: Товарищ Верховный Главнокомандующий!
Сегодня, 22 февраля, исполняется 105 лет Казанскому высшему танковому командному ордена Жукова краснознамённому училищу. Прошу Вас поздравить личный состав училища и всех выпускников нашего славного училища – это кузница героев России.
В.Путин: С удовольствием это делаю.
Завтра у нас день праздничный для всех военнослужащих, да и для всей страны, потому что у нас в России испокон веков ценили и ценят защитников Отечества. Ценят ваше мужество, героизм, ценят вашу готовность к самопожертвованию ради интересов Родины, ради её будущего, ради будущего наших детей.
Поэтому училища подобного рода, как в Казани, являются основой для кадрового становления офицерского состава всей Российской Федерации. Ваши выпускники проявляют себя самым наилучшим образом в ходе боевой работы в специальной военной операции.
Я, конечно, с удовольствием поздравляю всех преподавателей, курсантов, выпускников этого училища и желаю вам всего самого доброго. Особенно приятно делать это в преддверии 23 Февраля.
Всего вам доброго! Удачи!
Р.Баксиков: Спасибо.
Р.Минниханов: Команду на начало работы паллиативного центра, Владимир Владимирович.
В.Путин: Да. Перед тем как дать эту команду, – даже не команду, а пожелание хорошей работы, – я вот что хочу сказать. Такие люди, как те, которые собрались здесь сейчас, – я имею в виду прежде всего, конечно, Вавилова Владимира Владимировича, – я хочу вас поблагодарить. Хочу сказать, что благодаря таким людям, как вы, решаются очень психологически тонкие, такие сложные, но такие важные для конкретного человека и для общества в целом задачи, как помощь людям, которые в ней особенно нуждаются.
Почему я говорю об этой тонкости? Потому что это психологически сложная работа. Люди, которые оказались в тяжёлой ситуации, конечно, должны чувствовать рядом с собой заинтересованных людей. Эту заинтересованность не купишь, её не наработаешь, это не просто повышение квалификации какое-то. Это может идти только от сердца – желание помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации, – только от сердца. И только такое отношение к ближнему своему даёт положительный результат, ради которого вы работаете, ради которого вы тратите годы своей жизни.
Сейчас было сказано о том, что этот центр построен в том числе и на добровольные пожертвования простых граждан. Я вам знаете что хочу сказать: простые граждане у нас умные люди, даже вне зависимости от уровня образования. Я к чему это сейчас? К тому, что просто так кому бы то ни было деньги не отдадут. Отдадут и отдают деньги только тем людям, которым доверяют. Вам доверяют.
Спасибо вам большое. И я вам желаю удачи.

Деловые СМИ: штраф за хайп на негативе?
российской экономике есть чем гордиться
Сергей Ануреев
Чем вызвано обилие негатива в ведущих деловых СМИ? Погоней за просмотрами и рекламой? Или при десятке заметок в день на сотрудника просто нет времени задуматься о содержании? Может, начать штрафовать за хайп на негативе? Есть же штрафы за недостоверную общественно значимую информацию. Если опубликовали непонятно что про «главный китайский банк», хайпуете на проблемных заголовках про льготную ипотеку и так далее - штраф.
Ещё лучше корректировать редакционную политику через реальные общественные советы при ведущих СМИ, привлекая в них ученых, а также применять к журналистам подобие таких инструментов влияния на качество научных публикаций, как наукометрия, антиплагиат, проверка на самоплагиат, дублирование и мусорность публикаций (избегая перегибов). Также неплохо было бы маркировать авторов заметок данными о количестве лет в профессии и количестве заметок за последний месяц.
В экономике и финансах есть такое важнейшее дело, как управление ожиданиями. Допустим, многие ведущие эксперты пессимистичны и навязывают пессимизм через СМИ и опросы обществу и власти. Тогда и прогнозы социально-экономического развития будут писаться в пессимистическом ключе. Потом эти прогнозы лягут в бизнес-планы, с реальными действиями по «засушке» инвестиций, увольнению части работников, выводу последнего «честно нажитого». В результате первоначальный негатив в словах материализуется в реальный негатив в делах.
Конечно, не следует передергивать и «сушить» все разумные дискуссии о развилках экономики в целом и конкретных решениях ведущих предприятий и органов власти. Только дискуссии должны быть разнофакторными, включающими изрядную долю реальных достижений, а не только негатива. За многими серьезными успехами стоит длительная, кропотливая работа больших коллективов, которая достойна того, чтобы ее освещали не только редкими и короткими проходными новостями.
Есть ещё один важнейший сегодня аспект. В газете «Завтра» некоторые авторы плотно общаются с бойцами на передовой и волонтерами. Тот факт, что наша экономика не только не рухнула под западными санкциями, но и уверенно выросла в 2023 году, вселяет на передовой осторожный оптимизм. Осторожный, поскольку бойцы, которые реально рискуют, очень внимательны к суждениям и стараются избегать легковесности и бравады. Как реальный перелом публицистического негатива про Купянск и Херсон осенью 2022 года вселил уверенность в тыл о стойкости нашего фронта, так и фронт увереннее себя ощущает с пониманием успехов тыла.
Проиллюстрируем погоню за негативом и хайпом на примере заголовков одного из ведущих деловых СМИ во время написания этой заметки. «На "Северной верфи" сменят директора» – вроде в самой заметке все аккуратно, но между строк пессимизм и вообще ничего про корабли. «Прокурор потребовал признать экстремистским движение "Я/Мы Сергей Фургал"» – вроде написано о виновности Фургала в серьёзных преступлениях, но больше ничего важного и позитивного в Хабаровском крае нет? «Верховная рада одобрила ужесточение мобилизации» – это точно экономическая новость? «Генерал уволился из ФТС после скандального задержания» – пьяный дебош на публике нужно порицать, но почему нет новостей о достижениях таможенников?
Потом идёт заметка о смене акционеров одного из крупнейших российских золотодобытчиков, со сложной схемой владения и без понимания вклада в нашу экономику. Позитивная заметка про Путина, Сбер и акции нефтяников, но это единственная позитивная новость в топе, и сам позитив не очевиден на фоне юридических нагромождений. Следом про снегопад и аварию, прокуратуру и акции челябинских заводов, Израиль и сектор Газа, китайский автоконцерн с позитивом для китайцев, ядерный удар, суицид, пузырь на рынке недвижимости, «мама, почему мы такие бедные». Специально размещаем скриншот, чтобы наши читатели впечатлились.
В нашей огромной стране позитива набралось на две новостных заметки из шестнадцати? Нет никаких достижений, награждений, просто ярких событий в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве? Хотя бы забавных курьёзов?
Предположим, что негатив и ужастики лучше цепляют читателей, а значит, СМИ получают больше просмотров и рекламных доходов. Так, вынесенная в начало статьи и разобранная детально ниже заметка с негативом про «главный китайский банк» набрала за половину суток больше 200 тыс. просмотров, а заметка с позитивом про Сбер и нефтяников – 9 тыс. просмотров. Тогда получается, что СМИ зарабатывает на ухудшении настроений читателей, затем на ухудшении деловых ожиданий и так далее.
ООН ежегодно публикует «Всемирный доклад о счастье», в котором лидируют скандинавские страны и некоторые другие малые европейские страны. Интересно описание первого заседания ООН на эту тему с названием «Счастье и благополучие: определение новой экономической парадигмы». А также ссылка на государство Бутан, которое официально приняло валовое национальное счастье вместо валового национального продукта в качестве основного показателя развития. Автор этих строк не является знатоком Скандинавии, но всё же интересно, а в этих странах позитив в СМИ превышает негатив? А если соединить теорию счастья и теорию экономических ожиданий, то станет ещё интереснее...
Штрафы уже применяется по отношению к фейкам и дискредитации. Есть и ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ, в которой говорится о том, что распространение в средствах массовой информации и на сайтах сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом правдивых фактов наказывается штрафом до 500 тыс. руб.
Ключевые заметки вполне можно оценивать по доле негатива, и если таковая больше половины заголовков и введений, то принимать меры. Многие чрезмерно негативные деятели-иноагенты уже удостоились особой маркировки при размещении их материалов. Некоторых журналистов можно маркировать хотя бы унылыми смайликами.
«Завтра» неоднократно обращалась к тематике засилья рекламы в СМИ, и следует напомнить некоторые заглавия и ключевые аспекты. Заметка «Реклама не двигатель прогресса, а убийца телевидения» поднимала вопрос о порочной спирали: навязчивая, продолжительная реклама приводит к падению зрительского интереса, что вынуждает СМИ к еще большему количеству рекламы для компенсации снижения доходов из-за падения количества зрителей. Ютуб крутит ролики без рекламы и тем самым отбирает аудиторию у российских платформ и СМИ, и это если оставить за скобками политический аспект продвигаемых Ютубом роликов и банов на патриотический контент. Мы в газете предложили «Сбор с «Ютьюба» – на поддержку российского контента» и показали техническую осуществимость такого сбора.
Теперь коснёмся вопроса количества в ущерб качеству. Один из двух соавторов заметки про «главный китайский банк» за сутки выложил на сайте этого СМИ около 20 заметок, обозначен как старший редактор новостного выпуска, с минимумом информации. Может, это собирательный образ, и над 20 заметками трудилось много квалифицированных журналистов? На «собирательный образ» похожа на одну из страничек «ВКонтакте» буквально с несколькими фото, одно из которых мы также прилагаем. Вполне достаточно, чтобы всех запутать и хайпануть?
Возьмём еще одну заметку про санкции, которую это СМИ предложило прочитать при прочтении заметки про банк. Автор про себя указала, что работает в этом СМИ с ноября 2021 года с 4 курса ведущего вуза по специальности (похвально), а счётчик публикаций показывает 3140 публикаций. То есть за два года и три месяца она наработала огромнейшее число заметок, почти по 6 в среднем за рабочий день. Может, она гений журналистики, с уникальными навыками скорочтения и скорописи, невероятно работоспособна?
Предложенная в преамбуле статьи маркировка авторов по возрасту, стажу и статьям придумана не нами, а уже есть в сведениях об авторах. Только эти сведения необходимо размещать не где-то глубоко после статьи между блоками рекламы, а сразу после заголовка заметки на главной странице. Примерно как указывается маркировка «Эксклюзив» или «Pro». Например, «Суд ЕС отклонил иски о снятии санкций ...» 2 г. 3140 з., означающие юный возраст, малый стаж и чрезмерную плодовитость. Пусть каждый читатель до прочтения осознает, кого он читает.
Из представленных на сайте 16 главных заметок только одна помечена как «Эксклюзив» и 3 как «Pro» (продолжение заметки по подписке), тогда как остальные 12 заметок получаются просто перефразированием чужих новостей. В преподавательской профессии есть такие «прикольные» люди, как сообщество «Диссернет», которые ругают за плагиат как рядовых преподавателей, так и видных политиков. Последние версии программы «Антиплагиат» научились распознавать перефразированный текст. Преподавателей ругают за самоплагиат, когда фрагменты одних своих же публикаций используются в других. Преподавателей «полощут» за публикации в «мусорных» журналах, которые на момент публикаций считались достойными, а потом стали «мусорными».
Если от преподавателей требуют оригинальности и содержательности, то почему этого не требуют от журналистов ведущих деловых СМИ? Нет времени проверить реальную рейтинговую позицию «главного китайского банка», нет времени обратиться к позитивной статистике или примерам успехов строителей – не пиши. Лучше писать меньше по делу и о реальности, чем воспроизводить информационный спам.
Возьмём для детального разбора одну из негативных новостей, которая изрядно провисела в топе на сайтах трех ведущих деловых СМИ 7 февраля 2024 года: «Главный банк Китая для российских импортеров остановил расчеты с Россией» ,«Главный для российских импортеров банк Китая остановил все расчеты с РФ».
Заметка основана на рассказах трёх бизнесменов, представителей неких деловых объединений и финансовых консультантов, предпринимателя из Ижевска и российского юриста из Гонконга, а также сообщении Bloomberg. Фамилию и имя юриста упомянули, что, впрочем, смахивает на его скрытую рекламу, упомянули крупнейшее американское деловое медиа, конкретики по остальным рассказчикам нет.
Вызывает большой вопрос статус упомянутого банка как «главного банка Китая», вынесенный в заголовок, с добавкой «для российских импортеров». В одном из рейтингов китайских банков такое название упомянуто на 78 позиции, ещё и вторым после другого слова в бренде. Рейтингов банков, главных для российских импортеров, в открытых источниках нет. Так главный или не главный? При критическом прочтении заметки создается впечатление, что ведущие СМИ лепят системную проблему и шокируют читателей без достаточных на то оснований.
Другой часто обсуждаемой темой последних месяцев является судьба льготной ипотеки и строительства жилья. Количество заметок и роликов о проблемах с ипотекой, продажей жилья и чуть ли не о коллапсе строительной отрасли зримо превышает позитив о строительных рекордах.
Российские СМИ буквально разово сообщали, что «Ввод жилья в России в 2023 году достигнет 104-105 миллионов квадратных метров, став очередным рекордом», сославшись на министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина. Для нас это уровень советских рекордов строительства.
Для сравнения: «в период с 2023 по 2025 год в Германии ожидается падение объемов нового жилищного строительства на 32%», сообщало DW* и многие другие западные СМИ. Статистический офис Германии сообщал, что за первые 10 месяцев 2023 года было получено разрешений на строительство 218 тыс. жилищ, что с поправкой на средние метры (110) и полный год даст 29 млн кв. метров. В 1973 году было 714 тыс. разрешений, в 1995 году – 603 тыс.
В Японии в 2023 году общая площадь начала строительства нового частного жилья составила около 25,6 млн квадратных метров, а количество единиц жилья 820 тысяч. Для сравнения, в той же стране в 1973 году было 1,9 млн новых единиц жилья, а в 1996 году – 1,6 млн. Еще интересно, что в 2023 году средняя цена квадратного метра в Японии составляет 4,7 тыс. долл., а в России 123 тыс. руб. (1,35 тыс. долл. по курсу 91 рубль за доллар).
По данным Всемирного банка за 2022 год ВВП по ППС у нас 5,3 трлн долл., в Германии те же 5,3 трлн долл. и в Японии 5,7 трлн долл. Только почему-то объём нашего жилищного строительства в 3,5 раза больше этих стран, на исторических пиках, а их строительство – в глубоких исторических минимумах. По западным учебникам экономики именно жилищное строительство является неформальным барометром здоровья экономики. Буквально, у них рекомендуется присматриваться к тому, как много в крупных городах работающих башенных кранов и строительных бригад.
В «Завтра» была опубликована заметка «Инфраструктурный урок Путина Байдену» об открытии в Москве 10 новых станций метро. Процитируем фрагмент той заметки: «Сравним московскую пятилетку с 45 станциями метро и 31 станцией МЦК с американскими реалиями. За 2016-2021 годы в США реально открыто всего 6 станций метро, плюс 13 в очередной раз перенесены на следующий год». По номиналу ВВП в долларах экономика США на порядок больше экономики России, но почему-то с новыми станциями метро ситуация категорически противоположная.
Ведущие российские СМИ, несомненно, отрабатывали новости об открытии станций московского метро, однако делали это разово и коротко. Новости «тонули» в потоке множества проходных заметок и сюжетов. Даже не каждый житель столицы во всех деталях уяснил суть и масштаб этого достижения. Строительство метро – сложный и длительный процесс, достойный частых, обстоятельных новостей. Однако, в российском (вроде бы) поисковике про строительство московского метро чаще «вылезают» заметки о проблемах, а не о достижениях.
В советские времена были сюжеты и статьи об этапах строительства, о конкретных лучших строителях. Из моего детства хорошо помнится обстоятельная статья с фотографией в газете «Социалистическая индустрия» о завершении одного из этапов строительства в глуши Дальнего Востока. В заметке были приведены фамилии, интересные инженерные решения, описана специфика строительного экстрима. Та газета была примерно четвёртой-пятой по рангу после «Правды», «Известий», «Труда», «Комсомольской правды», и для всех перечисленных газет было нормой писать о трудовых достижениях, причем писать часто и в деталях.
Автор - доктор экономических наук, профессор кафедры общественных финансов Финансового университета
*СМИ-иноагент

Павел Сорокин: «Ресурсная рента должна продолжать служить стране либо в виде налогов, либо в виде инвестиций»
Нефтегазовая сфера не только остаётся крупнейшим отраслевым заказчиком, но также влияет на развитие множества смежных областей экономики, рассказал Павел Сорокин на открытой лекции в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации.
Первый заместитель Министра энергетики отметил, что, несмотря на все вызовы последних лет, страна продолжает успешно генерировать ресурсную ренту, а также развивать нефтепереработку, нефтегазохимию и СПГ-проекты.
«За последние 8 лет мы уделяли существенное внимание развитию нефтегазохимии и углублению переработки, чтоб не просто экспортировать пропан, бутан, этан и другие фракции, а использовать их для производства крупнотоннажных полимеров – полиэтилена и полипропилена», – отметил Павел Сорокин.
Он добавил, что развитию нефтегазохимии помогли созданные совместно с Минфином налоговые стимулы, которые уже показали результаты. В качестве примеров крупных нефтегазохимических проектов он привёл Амурский ГПЗ, Амурский ГХК, комплекс по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, а также Иркутский завод полимеров.
Кроме того, продолжил Павел Сорокин, активно развивается и производство СПГ, к 2035 году Россия планирует занять до 20% мирового рынка этого вида топлива.
Говоря о «зелёной» повестке, замминистра напомнил, что достижение углеродной нейтральности в стране намечено к 2050-2060 годам.
«Это рациональная цель, к которой мы идём не бездумным отказом от традиционных видов топлива, а благодаря повышению эффективности работы всех предприятий в целом», – отметил он, добавив, что по этому пути сегодня следуют многие страны.
При этом Павел Сорокин подчеркнул, что пока сохраняется глобальный спрос на углеводородное сырьё и топливо, России необходимо прилагать все усилия для занятия своей доли на этом рынке.
«Если предположить, что век активного использования углеводородов продлится ещё 40-50 лет, то нам надо максимально использовать наш потенциал, чтобы ресурсная рента активно изымалась либо в виде налогов, либо в виде инвестиций», – отметил он.
Павел Сорокин также поделился со студентами своим личным опытом знакомства с отраслью после окончания обучения. Он призвал будущих молодых специалистов не бояться трудностей, неизбежно возникающих при интеграции академических знаний с практическими.

О сферах влияния. Почему их надо уважать, но не надо создавать
Понимание законности и роли сфер влияния необходимо для эффективного разрешения конфликтов
ЧЕЗ ФРИМАН
Посол в отставке, приглашённый научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона в Университете Брауна.
На протяжении всей истории человечества страны стремились к обеспечению безопасности путём создания империй, запретных зон/санитарных кордонов, буферных государств, а также военных, экономических, политических или культурных сфер стратегических интересов или доминирующего влияния. Ведь государства хотят иметь друзей, а не врагов вдоль своих границ, и великие державы ожидают уважения, а не вызовов своей безопасности вследствие сговора менее крупных государств с великодержавными соперниками. Альтернативой таким защитным мерам могут быть системы, основанные на гибких коалициях в зависимости от баланса сил.
И нации, и империи переживают взлёты и падения. Они развивают политическое, экономическое и военное взаимодействие в своих регионах, а также окружающих или зависимых от них. Одни государства ищут защиты у великих держав. Другие отвергают иностранную гегемонию и сопротивляются ей. Сферы влияния – порождение державности и государственного строительства, которое помогает стране отгородиться от потенциальных конкурентов.
Почему устанавливаются сферы влияния
В последнее время американские официальные лица заявляют, что Соединённые Штаты не признают сфер влияния. Если учесть, что американцы продолжают настаивать на правомерности доктрины Монро, это более чем иронично. Америка может не признавать или уважать сферы влияния других стран либо их право устанавливать такие зоны, но она претендует на собственную сферу, которая хоть и не объявлена, но распространяется на весь мир.
Сферы влияния – это утверждение исключительного права надзирать за другой страной/странами или участвовать в определении расстановки сил, а также политики другого государства или государств по отношению к другим странам в целом либо в конкретных областях. Как таковые эти сферы – проявление международного соперничества равных по силе держав.
Концепция сфер влияния, как и многие другие элементы современного государственного устройства, возникла в результате проецирования силы вовне множеством конкурентов, составлявших европейскую государственную систему. Положение императорского Китая как центра тяжести в системе даннических отношений между странами не давало ему сфер влияния в современном понимании. Данническую систему можно охарактеризовать как «круг почтения». В отличие от сферы влияния, она не участвовала в схватке за гегемонию с равным Китаю соперником, поскольку такого просто не было. Несмотря на настойчивое требование, чтобы иностранцы соблюдали придворные обычаи и этикет, если они желают добиться расположения императора, Китай обычно не стремился регулировать поведение даннических стран. Подобно формальной преданности европейских князей папе римскому, подхалимское почтение мелких правителей к китайскому императору обусловлено не только традициями, но и корыстными интересами. Признание императора давало им торговые преимущества и престиж, обеспечивало дипломатическую, а то и военную защиту друг от друга. Это также способствовало тому, что Китай оставлял их в покое, а не пытался сделать прямыми вассалами (как это с разной степенью успеха происходило в случаях Кореи, Тибета и Вьетнама). В Азии сфера влияния – артефакт, привнесённый европейским, американским, а затем и японским, но не китайским империализмом. Не Китай устанавливал правила игры, а его самого чужестранцы включали в свои сферы влияния.
Сам термин «сфера влияния» стал использоваться в дипломатии лишь в 1885 г. (см. ниже), но первым официальным провозглашением подобной сферы стала доктрина, принятая президентом США Джеймсом Монро 2 декабря 1823 г. по совету государственного секретаря Джона Куинси Адамса. Она требовала уважения европейскими колониальными державами независимости государств Западного полушария. А любые их попытки «распространить свою систему на какую-либо часть [этого] полушария» рассматривались как «опасные для мира и безопасности в Соединённых Штатах».
В 1864 г., когда США были охвачены гражданской войной, Франция поставила императором Мексики эрцгерцога Фердинанда Максимилиана Иосифа фон Габсбург-Лотарингского. Годом позже, когда гражданская война завершилась, американцы разместили 40-тысячную армию на мексиканской границе и потребовали от французов убрать этого монарха. Французы вывели войска из Мексики. После этого Максимилиан был схвачен и казнён войсками Бенито Хуареса. В 1895 г. Вашингтон пригрозил войной Великобритании в случае её вмешательства в дела Венесуэлы. В 1904 г. т.н. «следствие Рузвельта» превратило доктрину Монро из инструмента стратегического отрицания присутствия конкурирующих держав в активное утверждение доминирования США в Западном полушарии. В 1917 г. предложение Германии заключить союз с Мексикой убедило Вашингтон вступить в Первую мировую войну.
Но сферы влияния могут быть и неформальными, оборонительными или доминирующими. Элита подвластных стран стремится выучить язык страны, проецирующей влияние, усвоить её промышленные и военные стандарты, а также культурную и торговую практику. Она отправляет своих детей учиться в её учебных заведениях, предпочитает её товары и услуги, а не товары и услуги конкурентов.
Сам термин впервые появился при разделе Африки на Берлинской конференции 1884–1885 гг. (так называемая Конференция по Конго), распределившей господство на континенте между Великобританией, Бельгией, Францией, Германией, Италией, Португалией и Испанией. В 1885 г. по двустороннему соглашению Великобритания и Германия поделили между собой контроль над Гвинейским заливом. Каждая из сторон обязалась не посягать на интересы другой в её сфере влияния. В 1890 г. аналогичный договор заключён о разделе сфер в Восточной Африке.
Ещё в 1942 г. президент Франклин Делано Рузвельт представлял себе мир после Второй мировой войны под управлением так называемых «четырёх полицейских» или «четырёх шерифов», каждый из которых будет отвечать за поддержание мира в своей сфере влияния. Согласно его наивным представлениям, Британия должна была отвечать за свою империю и Западную Европу, Советский Союз – за Восточную Европу и центральную часть Евразии, Китай – за Восточную Азию и западную часть Тихого океана, а Соединённые Штаты – за Западное полушарие. По настоянию премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля к четвёрке позднее добавили Францию, которую признали ответственной за дела своей империи. В некоторой степени концепция сфер влияния вдохновила на создание Совета Безопасности ООН, каждый из постоянных членов которого обеспечил себе доминирование над определёнными группами стран. Правда, Генеральная Ассамблея, напротив, закрепляет принцип суверенного равенства государств.
В отсутствие международной системы, основанной на сменяющих друг друга коалициях для уравновешивания гегемонистских амбиций[1], сферы влияния неразрывно связаны с соперничеством таких великих держав, как Китай, Индия, Иран, Россия и США. В связи с этим важно рассмотреть их происхождение, цели и интенсивность, которые варьируются от случая к случаю. Понимание и регулирование конкуренции требует признания интересов, которым служат сферы влияния, а также определённой степени уважения, подчинения или исключительности, которую они обеспечивают.
Интересы и влияние
История свидетельствует, что великие державы создают сферы влияния, чтобы ограничить автономию менее значимых государств и тем самым:
не допустить конкурентов на рынки, где они стремятся доминировать, проводя меркантилистскую политику;
лишить другие державы влияния в регионе, усиливая собственные позиции;
лишить потенциальных противников возможности стратегического использования территории или ресурсов;
предотвратить включение потенциальных буферных государств в сферы влияния других держав;
обеспечить подчинение идеологическим установкам или лояльность государств-клиентов и их элит;
получить доступ к территории и объектам, с которых можно проецировать силу, или сохранять такой доступ;
подчинить себе менее значимые страны и осуществлять квазиимперский контроль над ними.
Сферы интересов – инструменты государственного управления и дипломатии, предназначенные для сдерживания потенциальных противников и противодействия им способами, не требующими военных действий. Они предполагают относительно стабильное распределение сил в системе международных отношений – нечто противоположное неустойчивым отношениям, чреватым непредсказуемостью.
Сферы влияния предусматривают подчинение и ограничивают геополитическую или геоэкономическую свободу входящих в них стран или регионов. Как таковые они по своей сути являются гегемонистскими. Их можно разделить на две крупные категории: (1) пассивные, когда оборонительные усилия направлены на лишение влияния других потенциальных конкурентов, и (2) активные, когда решительные усилия обеспечивают доминирование в стратегическом выборе стран, входящих в зоны влияния, – обычно чтобы воспрепятствовать влиянию одного, а не нескольких противников. Каждая из этих сфер имеет разные последствия для конкурирующих держав и требует от них определённой реакции.
Важно отметить: сферы влияния – не то же самое, что колониальные империи, переселенческий колониализм или лингвистические сообщества.
Сферы влияния сохраняют суверенитет, лишь ограничивая его, тогда как колониализм его полностью уничтожает.
Эпоха глобального господства Европы, начавшаяся в XVI и закончившаяся в XX столетии, включала в себя образование новых государств за счёт миграции из других мест и создание поселенческих стран. Основным примером сообщества родственных государств-переселенцев является англосфера (Великобритания плюс Австралия, Канада, Новая Зеландия и США), но есть и другие (например, Франция и Квебек, Португалия и Бразилия). Языковые или лингвистические сообщества – наследие имперской экспансии. В качестве примера можно привести англоязычные страны Британского содружества плюс Филиппины, арабский мир, франкоговорящий мир, португалоговорящие страны Африки плюс Восточный Тимор, а также более двадцати стран, где официальный язык испанский. Между этими членами бывших империй есть очевидное родство, но, в отличие от сфер влияния великих держав, они не являются результатом господства над ними какой-то одной современной великой державы.
Великие державы, пытающиеся проецировать мощь или оградить себя от потенциальных противников, редко испытывают проблемы с уважением со стороны стран, автономию которых они стремятся ограничить. Тем не менее несколько менее могущественных государств или их группировок смогли сохранить национальную идентичность и автономию благодаря сочетанию вооружённого нейтралитета, продуманной безобидности и признания их статуса потенциально хищническими державами. Благодаря такой позиции подобным странам удаётся сдерживать региональных гегемонов, смягчать и отводить от себя угрозу подчинения более сильным державам или зависимости от них.
Например, Швейцария сохранила независимость благодаря стратегическим удобствам, которые она предоставляла окружающим её великим державам, крепкой гражданской армии, обученной использовать сложный рельеф местности для обороны, и неукоснительному нейтралитету как в мирное, так и в военное время. Её нейтралитет признан на Венском конгрессе 1815 года. Австрию освободили от оккупации великими державами и вывели из сфер их влияния Австрийским государственным договором от 15 мая 1955 года. Финляндия после Второй мировой войны не поступилась своей независимостью и самобытным демократическим общественным строем, благоразумно поддерживая тёплые отношения с Москвой и избегая явных вызовов коренным российским интересам. Поведение Хельсинки доказывает, что нет ничего идеологически пагубного в разумной сдержанности, осознающей потенциальную опасность оскорбления более могущественных соседей. Сейчас, правда, Финляндия отказалась от этой линии, выбрав вхождение в НАТО, то есть сферу влияния США.
Истоки сфер влияния
В III–II веках до н.э. Рим и Карфаген сражались за контроль над периферийными районами западного Средиземноморья (три Пунические войны с 264 по 146 г. до н.э. закончились разрушением Карфагена). В XVIII—XIX столетиях Великобритания, Франция и другие европейские империалистические державы боролись за раздел таких далёких территорий, как Индия, Китай, Юго-Восточная Азия и Африка.
Так, военное противостояние между британской Ост-Индской компанией и Французской Вест-Индской компанией за прямой контроль над Индией в XVIII веке продолжалось, пока победа англичан в битве при Плесси (часть Семилетней войны 1756–1763 гг.) не положила ей конец. Французам не позволили создать свою империю в той части света, и они стали распространять сферу влияния на враждующие между собой индийские штаты, отправляя туда советников и инструкторов, настраивая против англичан и косвенно ставя под угрозу британское присутствие в Индии, пока Великобритания и Франция боролись за контроль в Европе. В ответ англичане взялись завоёвывать индийские штаты, добившись в итоге имперского контроля над всем субконтинентом.
В случае с Китаем иностранные государства поначалу конкурировали за торговлю с ним, создавая «договорные порты», где действовало их право, а не китайское законодательство. Затем попытались разделить внутреннюю территорию Китая на меркантилистские сферы влияния, в пределах которых только они могли торговать, инвестировать и вести там прозелитскую деятельность. Накануне китайской революции 1911 г. на самую большую сферу влияния претендовала Россия, за ней следовали Великобритания, Франция, Япония, Германия и Италия. США в соответствии с политикой открытых дверей, принятой ими после завоевания Филиппин, отказались от создания собственной сферы влияния в Китае, но претендовали на равный доступ и торговые права в чужих сферах влияния. В 1895 г. Япония аннексировала Тайвань, а также вывела Корею из сферы влияния Китая. В 1905 г. она установила протекторат над Кореей, а в 1910 г. аннексировала её.
К началу ХХ века Юго-Восточная Азия, не считая Таиланд (поделённый на сферы влияния Британией и Францией), стала объектом колониального правления Британии, Франции, Нидерландов, Португалии и Соединённых Штатов.
Первоначальный импульс был везде сугубо меркантилистским, однако впоследствии колониальные кампании переросли в преимущественно военные столкновения, нацеленные на геополитическое господство. Политические разделительные линии сохранялись до Второй мировой войны, которая знаменовала окончание колониальной эпохи.
Формально провозглашённое первенство в определённом, точно разграниченном геополитическом пространстве характерно для колониального миропорядка XIX века (например, утверждение доктриной Монро уникального права США на исключение Западного полушария из сферы влияния держав из других частей земного шара или заблаговременный раздел Китая, Ближнего Востока и Африки между великими европейскими державами). В конце столетия сферы влияния представляли собой протоимперское навязывание эксклюзивного военно-политического и идеологического контроля над входящими в них государствами.
В соответствии с этим в 1904 г. Теодор Рузвельт дополнил доктрину Монро (так называемое «следствие Рузвельта») и провозгласил право Соединённых Штатов на военную интервенцию для исправления «вопиющих и хронических нарушений со стороны какой-либо латиноамериканской страны». Новая политика проводилась активно и энергично. К 1904 г. США уже отняли у Испании контроль над Кубой и Пуэрто-Рико, угрожали войной с Великобританией из-за Венесуэлы и предприняли интервенцию для отсоединения Панамы от Колумбии. Впоследствии они вторглись в Никарагуа, Гондурас, Мексику, Гаити, Доминиканскую Республику, Гватемалу, Кубу, Панаму, Коста-Рику, Гренаду и провели тайные операции по смене режима во многих из этих стран, а также в Чили, Венесуэле и Боливии. Первая версия доктрины Монро была пассивной и оборонительной. Вторая – активной и доминирующей.
В 1930-е гг., когда Германия и Япония попытались подорвать американское превосходство в Бразилии и Перу, американцы сдержали свою неприкрытую склонность к интервенциям, взяв на вооружение так называемую «Политику доброго соседа». Тем не менее во время Второй мировой войны Вашингтон не стеснялся похищать и интернировать тысячи латиноамериканцев немецкого, японского и итальянского происхождения[2].
Вторая мировая, холодная война и деколонизация
Поражение Германии во Второй мировой войне и победа китайских коммунистов в гражданской войне на материке позволили Советскому Союзу контролировать Центральную и Восточную Европу, а также Корею к северу от 38-й параллели. Встретившись со Сталиным в октябре 1944 г. в Москве, британский премьер Уинстон Черчилль, империалист до мозга костей, предложил в разговоре наедине конкретные проценты влияния в странах Восточной Европы и на Балканах, на которые может претендовать каждая из сторон. Сталин согласился, однако последующее опускание «железного занавеса» гарантировало, что, за исключением Греции и Югославии, советское влияние не допускало хоть сколько-нибудь заметную роль для британцев и других западных держав. В течение первого десятилетия после провозглашения в 1949 г. Китайской Народной Республики Москва, как представляется, приобрела первостепенное влияние в Китае и на севере Вьетнама.
В соответствии с доктриной Монро Соединённые Штаты ранее ограничивали притязания господством в Западном полушарии. Однако, вступив в глобальную борьбу с Советами за мировую стратегическую и идеологическую гегемонию, они начали создавать новые сферы влияния, основанные на договорах о защите от СССР расширяющегося круга стран в Европе и Азии. В этих зонах Америка требовала разной лояльности от тех, кому предлагала защиту и покровительство.
В Европе США выступили патронами создания в 1949 г. Организации Североатлантического договора (НАТО) для сдерживания СССР и его идеологии, преодоления традиционного антагонизма между великими западноевропейскими державами (Франция, Германия, Италия, Великобритания), а также облегчения экономического и политического восстановления Западной Европы. Будучи чисто оборонительным союзом демократических государств под руководством Соединённых Штатов, НАТО эффективно выполняла эти три задачи на всём протяжении холодной войны.
После победы над Японией Вашингтон унаследовал сферу влияния Токио в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Чтобы обезопасить её и тем самым защитить новые зависимые от них азиатские государства, США начали создавать ряд двусторонних союзов для сдерживания Китая, СССР, Северной Кореи и Северного Вьетнама[3]. Америка называла регионы, в которых она имела бесспорное влияние, «свободным миром». «Свободный» в данном контексте означало не что иное, как «не подчинённый СССР или Китаю». Это было привлекательное, но неточное описание агломерации демократий, диктатур, военных режимов, монархий и клептократий; объединяли их только дружественные связи с Соединёнными Штатами, а не с их противниками.
Во время холодной войны советский и американский блоки стремились добиться идеологического и политического доминирования везде, где могли, и не допустить, чтобы это сделал главный соперник. Распад евроатлантических империй в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке привёл к образованию как независимых государств, так и зон явного вакуума власти. Новые независимые государства так называемого «Третьего мира» стали благодатной почвой для открытых и тайных американо-советских опосредованных войн – в частности, в Индокитае, Западной Азии и Северной Африке, Конго, португалоговорящей Африке, на Африканском Роге и в Афганистане.
В 1961–1962 гг. Советский Союз воспользовался сменой режима, произошедшей на Кубе в 1959 г., для создания стратегического форпоста буквально в 150 километрах от американского побережья (это была непродуманная реакция СССР на размещение в Турции ракет, нацеленных на его территорию). Переход Кубы в советский блок вызвал бурную реакцию Вашингтона как вызов, брошенный доктрине Монро. Советский Союз в партнёрстве с Кубой искал возможности укрепить своё идеологическое и даже военное влияние в Никарагуа, Чили и Гренаде. В каждом случае Соединённые Штаты осуществляли силовое вмешательство для поддержания своего стратегического превосходства в Западном полушарии[4]. (В последние годы Вашингтон прибегает к экономической войне и тайным операциям в борьбе с идеологически нетерпимыми режимами в таких латиноамериканских странах, как Боливия и Венесуэла.)
В 1960-е гг. необходимость сократить зарубежные обязательства «к востоку от Суэца» вынудила Великобританию уступить Соединённым Штатам свою сферу влияния в Персидском заливе. Великобритания доминировала на территории нынешних Объединённых Арабских Эмиратов, а также Бахрейна, Кувейта, Омана и Катара с начала XIX века, когда британские правители Индии вмешались в ситуацию, чтобы ликвидировать пиратство и обеспечить безопасность путей сообщения между Индией и Британскими островами. Аналогичные стратегические соображения относительно путей сообщения между Азией и Европой побудили США взять на себя неофициальные обязательства по обеспечению безопасности Саудовской Аравии и других стран Персидского залива. Падение шаха Ирана и приход ему на смену шиитов-исламистов, враждебных Америке и суннитским арабским монархиям Персидского залива, подтолкнули последних к тому, чтобы искать защиты и покровительства у Вашингтона.
К 1967 г. страны региона являлись независимыми, но Соединённые Штаты были нужны им для защиты друг от друга и от Ирана. В начале 1970-х гг. США поддержали окончательный выход Китая из советского блока, предложив ему военно-политическую защиту от Советов. Во второй половине того же десятилетия Вашингтон воспользовался желанием Египта заключить мир с Израилем, чтобы вывести его из советской сферы влияния на Ближнем Востоке (Кэмп-Дэвидские соглашения 1979 г.).
Сферы влияния не обязательно исчезают по мере сокращения или прекращения существования колониальных империй, хотя иногда происходит смена союзников. После предоставления независимости своим африканским колониям (1960 г.) Франция сохранила там признанную во всём мире военно-политическую и валютную сферу влияния. В 1968 г. СССР задним числом оправдал вторжения в Венгрию и Чехословакию, официально заявив о праве обращать вспять любые попытки вытеснить его версию социализма в Центральной и Восточной Европе. Эта советская аналогия доктрины Монро привела к окончательному разрыву китайско-советских отношений и открыла американцам путь к привлечению КНР в качестве партнёра по сдерживанию Кремля.
Современные сферы влияния
Сегодня, за исключением доктрины Монро, сферы влияния, как правило, не декларируются и не обсуждаются на переговорах между великими державами. Сфера влияния Индии в субгималайской Азии, Ирана в Ираке, Ливане, Сирии и Йемене, Австралии в южной части Тихого океана[5] и ЮАР на юге Африки носят неформальный характер. Их формализация стала бы очевидным вызовом вестфальским принципам независимости суверенных государств, иммунитета от военного вмешательства и суверенного равенства, на которых основана система ООН и постколониальный мировой порядок.
Например, ни одна внешняя великая держава не пыталась вмешиваться в политику Индии по принуждению стран своего региона к подчинению. Никто не оспаривает индийский сюзеренитет в Бутане. Никто не выступал активно против аннексии Гоа или Сиккима Индией, отделения Бангладеш от Западного Пакистана, длительной оккупации Шри-Ланки, блокады Непала или индийской интервенции на Мальдивы с целью недопущения прихода там к власти мятежников. С другой стороны, ни одна другая военно-морская держава не согласна с заявлениями Индии о том, что та имеет право на первенство в Индийском океане, с которыми Нью-Дели периодически выступает.
ЮАР находится в политико-экономическом центре сферы влияния, определяемой Сообществом развития Юга Африки (SADC), изначально созданным для координации усилий соседних стран по прекращению апартеида в Намибии и колониального контроля над этой страной. В Сообщество помимо ЮАР входят Ангола, Ботсвана, Коморские острова, ДРК, Эсватини, Лесото, Маврикий, Мадагаскар, Малави, Мозамбик, Намибия, Сейшельские острова, Танзания, Замбия и Зимбабве.
Тот факт, что сферы влияния формально не заявляются, не должен затушёвывать их непреходящую актуальность. Они, по сути, не что иное, как утверждение военного, экономического, технологического и политического доминирования, что может вызывать разную реакцию стран, попадающих в такие сферы влияния, – от молчаливого согласия до энергичного оспаривания – особенно в периоды серьёзных сдвигов в балансе сил и престижа.
Сферы влияния как ограничивают, так и стимулируют стратегическое взаимодействие великих держав. Они являются фактором, который нельзя игнорировать в дипломатии и государственном строительстве.
Постсоветская Европа
Начиная с 1989 г. советская империя, а затем и сам Советский Союз распались, исчезнув как угроза безопасности для остальной Европы, Китая, Ближнего Востока и всего мира. Программа НАТО «Партнёрство ради мира» (начата в 1994 г.) недолго вселяла надежды на создание общеевропейской архитектуры безопасности, в которой могли бы участвовать и Российская Федерация, и Соединённые Штаты. Появился шанс демонтировать союзы и защитные механизмы, созданные для противодействия исчезнувшим угрозам холодной войны. Но Вашингтон пошёл на поводу антироссийских фобий стран Центральной и Восточной Европы, их диаспор и лобби, вновь сделав ставку на НАТО в качестве средства защиты от возможных угроз со стороны возрождающейся России. Расширение НАТО не только до границ бывшего СССР, но и далее стало ещё одним проявлением «однополярного момента», когда Америка добивалась всеобщего уважения к своим ценностям и интересам, начав осуществлять массированные интервенции для смены режимов, не желавших подчиняться. При этом США решили не руководствоваться Уставом ООН и другими основополагающими элементами международного права.
Отказавшись от своего первоначального чисто оборонительного смысла, НАТО расчленила Сербию (отторгнув от неё Косово), присоединилась к усилиям Соединённых Штатов по умиротворению и трансформации Афганистана после терактов 11 сентября 2001 г. и помогла свергнуть правительство Ливии (2011 г.). Россия и другие великие державы стали воспринимать НАТО как угрожающе-наступательный инструмент американской внешней политики. Тем временем альянс, конфигурация которого во многом совпадала с американской сферой военно-политического влияния в Европе и Средиземноморье, снова стал оправдывать своё существование угрозами со стороны России, которая восстала как феникс из пепла. В конце концов, Россия прибегла к демонстрации силы, вторгнувшись на Украину, чтобы блокировать дальнейшее расширение американской военной сферы влияния в Европе.
За всю свою долгую историю Европа сохраняла мир только тогда, когда все её ведущие державы были включены в систему коллективной безопасности. Европейский концерт более или менее сохранял мир на континенте в течение целого столетия. Исключение Германии и СССР из европейских структур в 1920—1930-е гг. стало катализатором Второй мировой и холодной войны. Попытка отстранить Россию от участия в поддержании мира и безопасности на европейском континенте в XXI веке лишила её дипломатических альтернатив возврату к воинственному поведению.
Ближний Восток
На Ближнем Востоке распад Советского Союза осиротил Ирак и Сирию, которые оставались в составе сжавшейся советской сферы влияния после перехода Египта на сторону Америки. Не сдерживаемый больше Москвой, Ирак решил, что облегчит финансовое истощение после восьмилетней войны с Ираном (1980—1988), захватив Кувейт и его нефтяные богатства. В ответ коалиция сил, санкционированная ООН, под водительством США и Саудовской Аравии освободила Кувейт (операция «Буря в пустыне» 1991 г.). Сирия, лишившаяся поддержки исчезнувшего СССР, присоединилась к коалиции, продемонстрировав готовность наладить отношения с Соединёнными Штатами, но получила отказ из-за своей враждебности к Израилю.
В 2003 г. США вторглись в Ирак, свергли его правительство и попытались включить страну в американскую сферу военно-политического влияния. Соединённые Штаты достигли военного господства, но затем уступили инициативу Ирану, который занял главенствующее положение в политике Багдада. В то же время попытки США сменить режим в Сирии не увенчались успехом – Иран усилил своё влияние и там, а перед Россией неожиданно открылась возможность вновь воздействовать на Дамаск (российская военная операция началась осенью 2015 г.). Дестабилизация Ирака и Сирии вызвала реакцию исламистских экстремистов, которые на короткое время стёрли границу между этими странами, создав «Исламское государство» (запрещённое в России. – Прим. ред.). Турция включила часть северного Ирака и Сирии в свою военно-экономическую сферу влияния. США незаконно ввели войска в Сирию. После вывода американского контингента из Ирака (за исключением немногочисленных групп военных инструкторов) Китай стал главным иностранным участником иракской экономики. Тем временем технология гидроразрыва пласта позволила Соединённым Штатам вернуть исторический статус крупного производителя-экспортёра энергоносителей. Страны Персидского залива утратили центральное положение в глобальной политике США. Одновременно снизилась и готовность Вашингтона обеспечивать безопасность Персидского залива.
В XXI веке доминирование Соединённых Штатов на Ближнем Востоке неуклонно ослабевало.
Несмотря на возрождение российского влияния и периодические попытки Франции вернуть себе ведущую роль в Ливане, региональные, а не внешние силы стали определять военно-политическое соперничество и динамику развития. Китай вытесняет другие великие державы в качестве крупнейшего экономического партнёра региона, но Ближний Восток больше не находится в сфере влияния какой-либо великой державы и не разделён между ними, как это было в прошлом.
Разворот США в Азию
В Азии исчезновение СССР как общего китайско-американского противника устранило главное обоснование для стратегического сотрудничества Пекина и Вашингтона. Искусная дипломатия, позволявшая долгое время не замечать тайваньской проблемы и налаживать сотрудничество для сдерживания советских амбиций, дала трещины. Идеологические разногласия, напомнившие о себе во время событий на площади Тяньаньмэнь летом 1989 г., вновь спровоцировали отчуждение между США и КНР. Возвращение Китая к богатству и мощи после двухвекового упадка и пребывания в тени Запада и Японии подрывает первенство Соединённых Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, установившееся после разгрома Японии в 1945 году. Встревоженные американские стратеги и военные планировщики стали рассматривать Китай как потенциально «почти равного конкурента».
Концепция «равного конкурента» была придумана Управлением общих оценок Пентагона как способ моделирования структуры вооружённых сил и управления развитием военного потенциала в условиях отсутствия реального высокотехнологичного соперника, подобного СССР. Предполагалось, что такой противник сможет сравниться с вооружёнными силами США и противостоять им. «Равный конкурент» представлял собой максимально сложного противника в военных играх и являлся идеальным стимулом для закупок вооружений. Со временем специалисты по оборонному планированию остановились на Китае как на реальном «равном конкуренте».
Америка подтвердила решимость не допустить после окончания холодной войны возвышения любой державы, которая могла бы с ней соперничать[6]. Американские военные постепенно перенаправляли разведывательные и другие ресурсы, ранее выделявшиеся для противодействия России, на Китай, активизировали агрессивные военные действия вдоль китайских границ и попытались привлечь страны НАТО к поддержке усилий по уравновешиванию растущей китайской мощи. Однако Соединённые Штаты оказались не в состоянии разработать и реализовать стратегию сохранения прежнего экономического лидерства в регионе, центром которого неуклонно становится Китай.
Расширение НАТО и то, что США назвали «разворотом в Азию», привело к росту на периферии России и Китая откровенно враждебного блока во главе с американскими командующими, целью которого было военное сдерживание обеих стран.
Неудивительно, что Россия и Китай дали отпор.
Москва всё более настойчиво и решительно возражала против дальнейшего расширения американской сферы влияния, воплощённой в НАТО, и предупредила, что, если продвижение альянса не прекратится, она будет вынуждена принять ответные меры военного характера. Пекин возобновил усилия, направленные на то, чтобы положить конец разделению Китая. Китайско-американская вражда быстро набирает обороты.
В начале XXI века Россия не имела признанной сферы влияния в Европе, хотя европейские соседи (за исключением недавно созданного государства Украина) старались её не провоцировать. Но по мере приближения новой глобальной американской сферы влияния (в Европе она представлена НАТО) к её границам Москва стала одержима идеей стратегического отказа соседним странам в праве подчиняться доминирующему влиянию Америки. Тем временем активизировались возражения КНР против продолжения американской поддержки Тайваня. Китай стремился вывести Тайвань из сферы влияния Вашингтона и лишить его статуса независимой территории. Несмотря на отсутствие собственных претензий, Соединённые Штаты оспаривали территориальные притязания Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
Навешивание ярлыка идеологического и геополитического противника на Китай и Россию и соответствующее отношение к ним Вашингтона дало партнёрству Москвы и Пекина общую направленность и цель, поспособствовав его укреплению. Усиливающееся давление подтолкнуло эти две ранее отчуждённые друг от друга великие державы к созданию всё более открытого и всеобъемлющего антиамериканского союза, который стремится к координации политики и действий, направленных на сокращение угрожающего военного присутствия и враждебного политического влияния США на их периферии.
НАТО, ЕС, Турция и Россия
В результате пяти раундов расширения после холодной войны НАТО к 2020 г. охватила всю Европу, за исключением официально нейтральных государств, и расширила состав альянса до тридцати стран. После начала военных действий на Украине о присоединении заявили прежде нейтральные Финляндия и Швеция. Для большинства из них, особенно новых членов, НАТО по-прежнему оставалась чисто оборонительным союзом. Эти страны не обладали значительными возможностями вносить вклад в военные экспедиции и стремились к зависимости в вопросах обороны от США, альянса и более крупных государств.
Однако после окончания холодной войны НАТО перестала подчёркивать оборонительный характер. Она превратилась в платформу для наступательных военных операций на Балканах и выборочных интервенций за пределами Европы и Америки, возглавляемых или поддерживаемых Соединёнными Штатами[7]. Попытки привлечь Россию к консультациям с США и НАТО по вопросам европейской безопасности успехом не увенчались. Тем временем Турция отдалилась от Америки и, подобно России, отбросила многовековое стремление быть признанной частью европейского сообщества наций с центрами в Берлине, Лондоне, Париже и Риме. В то время как китайско-американские отношения становились всё более враждебными, усилия Вашингтона по привлечению НАТО и её членов к операциям по противодействию китайской военно-морской мощи в Южно-Китайском море убедили Пекин, что ему следует вместе с Россией сопротивляться дальнейшему расширению Североатлантического блока.
Постсоветская Центральная Азия
Соединённые Штаты и Евросоюз недолго оспаривали у Китая и России влияние в постсоветской Центральной Азии. Вскоре стало очевидно, что западные державы в этом регионе могут в лучшем случае быть второстепенными игроками. России и Китаю не потребовалось больших усилий, чтобы лишить их значительной роли в управлении, экономическом развитии и внешних связях региона. Попытки Турции утвердить пантюркистскую сферу влияния тоже пока не увенчались успехом.
Воссозданная Российская Федерация фактически договорилась с Китаем о разделе здесь сфер влияния. Шанхайская организация сотрудничества – форум и механизм, с помощью которого обе страны сотрудничают с государствами региона, защищая его от исламистского экстремизма, терроризма, сепаратистских движений и смены режимов посредством «цветных» революций. В то же время, учитывая настойчивость Пекина в отношении вестфальских норм невмешательства, Китай, похоже, готов оставить военное вмешательство в Центральной Азии России и её партнёрам по инициированной Россией Организации Договора о коллективной безопасности (интервенция ОДКБ в Казахстан в январе 2022 г. не вызвала возражений КНР). ОДКБ, принявшая нынешние очертания в 1999 г., определила военную сферу влияния России в регионе, где Москва является общепризнанным «агентом первого реагирования».
Во время визита в Казахстан в 2013 г. председатель КНР Си Цзиньпин объявил о проекте, получившем известность как «Один пояс – один путь» (ОПОП). Пекин выдвинул эту инициативу для создания инфраструктуры, содействия торговле и транзиту, а также для соединения всех точек евразийского континента, морской части Юго-Восточной Азии и Восточной Африки с Китаем. С тех пор программа расширилась, охватив весь мир. Москва увязала свой Евразийский экономический союз с ОПОП. В России правят реалисты, признающие, что у них нет возможности конкурировать с Пекином в области торговли и инвестиций в странах, расположенных вдоль этого маршрута и вряд ли способных устоять перед притягательностью огромного и расширяющегося китайского рынка.
Центральная Азия иллюстрирует вероятное будущее нашего мира, в котором мировые и региональные порядки будут многополярными и многомерными с точки зрения охватываемых ими областей.
Уже сейчас мы видим четыре сферы влияния, которые накладываются друг на друга:
Постколониальная российская сфера лингвистического и культурного влияния, тяготеющая к Москве.
Доминирующее военно-политическое влияние России через ОДКБ, защищающей режимы региона от «цветных революций».
Общая китайско-российская антитеррористическая сфера влияния, воплощённая в ШОС и направленная на нейтрализацию экстремистских и сепаратистских движений, а также на пресечение их проникновения в Китай или Россию.
Отсутствие действенной военной, экономической, технологической или политической конкуренции со стороны США или ЕС.
Формирующаяся экономическая сфера влияния Китая.
Индо-Тихоокеанский регион
Многополярность и многомерность становятся нормой и в Индо-Тихоокеанском регионе[8], где великие державы вступают в конкуренцию за доминирование в постоянно расширяющемся спектре военных, экономических, технологических и политических областей. В этом регионе, как и в других частях земного шара, Соединённые Штаты воспринимаются как всё менее вовлечённые в решение региональных вопросов, чем это было в прошлом веке. Между тем географическое положение даёт КНР военные преимущества, которых нет у США. Экономические размеры Китая обеспечивают ему влияние, но правила торговли и инвестиций устанавливаются в многостороннем порядке – не Пекином и без участия внешних держав, как Америка[9]. В политическом плане Китай в настоящее время вызывает у соседей больше тревоги, чем стремления подражать. Япония – самая надёжная держава в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе. Несмотря на включение Индии в концепцию «Индо-Тихоокеанской» геополитической зоны, она остаётся в значительной степени не у дел.
Сегодня в Индо-Тихоокеанском регионе, совпадающем с зоной ответственности бывшего Тихоокеанского (с 2018 г. – Индо-Тихоокеанского) командования США, происходит следующее:
Обострение китайско-американской борьбы за стратегический контроль над Тайванем, который Китай стремится вырвать из сферы влияния Соединённых Штатов и вернуть под свою эгиду.
Региональная экономика всё более синоцентрична, азиатские страны устанавливают правила торговли и инвестиций без участия ранее доминировавших США (или ЕС).
Неистово утверждаемое, но медленно ослабевающее американское военно-политическое лидерство в регионе.
Стремление АСЕАН избежать необходимости выбора между Китаем и Америкой, но некоторые страны АСЕАН начинают делать выбор в пользу Китая.
Непростые отношения между нейтральной Мьянмой и её соседями – странами АСЕАН, Бангладеш, Китаем, Индией и Западом.
Подтверждение Австралией военной зависимости от Вашингтона и сотрудничество с перевооружающейся Японией в условиях ухудшения китайско-австралийских отношений.
Присоединённая к США австралийская сфера влияния в южной части Тихого океана, судя по всему, разрушается по мере того, как Китай наращивает своё конкурентное присутствие.
Стратегическое хеджирование, энергичная деятельность по укреплению собственной военной мощи и усиление регионального влияния союзников США в Северо-Восточной Азии, прежде не стремившихся к самостоятельности.
Военно-политическая гегемония Индии в Южной Азии (которой противостоит только Пакистан).
Независимые буферные государства между Китаем и Индией (Непал), а также Китаем, Южной Кореей и Японией (Северная Корея).
Усиление китайского военного присутствия в Южно-Китайском море.
Беспокойная и неприсоединившаяся потенциально великая держава Индонезия.
Наиболее острая тема – о политических отношениях Тайваня с остальным Китаем – не просто вопрос китайского национализма. Для КНР (и, что менее убедительно, для США) он имеет геостратегический характер. Накануне капитуляции Японии в 1945 г. Государственный департамент опубликовал записку по Тайваню, в которой отмечалось следующее: «На проблему Формозы [Тайваня] большое влияние оказывают стратегические факторы. За исключением Сингапура, ни одно место на Дальнем Востоке не занимает столь важного положения. От азиатского континента Формозу отделяют сто миль (около 170 км), от главного острова Филиппин – двести миль (340 км), а от Кюсю, ближайшего острова Японии – семьсот миль (около 1200 км). Расстояние полёта от военных аэропортов Формозы до Кантона составляет 559 миль (950 км), до Шанхая – 438 миль (745 км), до Токио – 1290 миль (около 2200 км). Формоза, по площади превышающая штат Мэриленд, находится в стратегически ключевом месте по отношению к китайскому побережью, сравнимом для США с воображаемым островом такого же размера в ста милях (170 км) от побережья Северной Каролины, в четырёхстах милях (680 км) от Нью-Йорка. Любая точка вдоль всего побережья Китая находится в радиусе 1100 миль (около 1870 км). Радиус в 2000 миль (3400 км) охватывает Бирму, Сингапур, Борнео, Гуам и Японию, включая Хоккайдо»[10].
Китайская инициатива «Один пояс – один путь»
Проект ОПОП начинался как попытка распространить промышленную политику Китая на страны за его пределами. Он был сформулирован как средство экспорта избыточного китайского индустриального потенциала для создания инфраструктуры (шоссейные и железные дороги, оптоволоконные кабели, аэропорты, промышленные зоны и зоны свободной торговли), способной соединить все страны евразийского «мирового острова» и Восточную Африку с Китаем. Но когда и другие страны стали выражать желание воспользоваться китайским капиталом и строительным опытом, ОПОП расширился, охватив государства-партнёры на всех континентах, включая Африку и Америку. В Африке инвестиции, связанные с ОПОП, стали крупным источником экономического подъёма, превзойдя по объёму финансовую поддержку таких организаций, как Всемирный банк. Внутренние сбережения Китая направляются в качестве зарубежных инвестиций для нужд экономического развития не только посредством ОПОП, но и через новые организации[11], совместимые с Бреттон-Вудской системой и дополняющие её.
Программа делает акцент на открытии рынков, включает в себя переговоры по соглашениям о свободной торговле и стандартизированные договорённости по ускорению таможенного оформления, таможенного хранения и транзита товаров. Китайские партнёры не обязаны отказываться от отношений с другими странами. Тем не менее привязка экономики других стран к Китаю снижает их прежнюю зависимость от США и их союзников. Даже если ОПОП и впредь будет избегать попыток исключить других из торговли и инвестиций в странах, участвующих в этой программе, данная инициатива даёт дополнительный стимул для выстраивания хороших отношений с Пекином, уравновешивая заинтересованность в сотрудничестве с другими великими державами. Это повышает вероятность создания политико-экономического круга почтения к Китаю, если не зависимости от него, а также исключительной сферы китайского влияния.
Хотя ОПОП носит геоэкономический, а не геополитический характер, не имеет единого аппарата планирования или контроля за реализуемыми проектами, проект вызывает тревогу Соединённых Штатов, которые видят в нём угрозу своему прежнему глобальному первенству и возможность создания сферы влияния Китая. До сих пор противодействие ОПОП имело форму дипломатии принуждения и враждебных информационных кампаний. Этот подход не принёс дивидендов, поскольку геоэкономическая природа ОПОП неверно трактуется как геополитическая. Бюджетные и другие ограничения затрудняют, а то и делают невозможным для Вашингтона предложить привлекательные альтернативы сотрудничеству в рамках ОПОП.
Ни США, ни их европейские союзники сейчас не обладают финансовым или инженерно-техническим потенциалом для эффективной конкуренции с китайскими банками или строительными компаниями. Не имея возможности реализовать политико-экономическую стратегию противодействия растущему китайскому влиянию, Соединённые Штаты пытаются ответить на него увеличением военных расходов и развёртыванием войск, сопровождая эти меры силовой дипломатией в виде финансовых санкций. Однако такой подход не обеспечивает альтернативного финансирования и не заменяет китайских инвестиций и строительных проектов, а значит, не снижает привлекательности ОПОП.
Неомеркантилизм и технологические сферы влияния
При администрации Дональда Трампа США ответили на рост экономической мощи и технологической компетентности Китая неомеркантилистской политикой. В её основе – практика торговых ограничений, оправдываемая соображениями «национальной безопасности». Она направлена на повышение занятости внутри страны с помощью протекционистских мер, а также использование экспортного контроля и ограничительной иммиграционной политики для предотвращения доступа иностранцев к научным знаниям и технологиям, имеющим военное применение. Этот курс продолжила администрация Джо Байдена. Хотя говорится о необходимости возрождения американской политической экономики, реальная цель – сковать китайскую экономику и затормозить её технологический прогресс. Пока американцы скорее стимулируют, чем сдерживают усилия Китая по снижению многолетней зависимости Пекина в импорте продовольствия и высокотехнологичных компонентов для производства.
Китай уже не является самым быстрорастущим рынком для американского экспорта, как прежде. Введение пошлин усугубило проблемы с цепочками поставок, вызванные эпидемией COVID-19, и подстегнуло инфляцию в американской экономике. Значительного перетока промышленных рабочих мест из Китая в Америку не произошло. Между тем усилия Вашингтона и Пекина по разрыву цепочек поставок высокотехнологичной продукции ведут к возникновению новых технологических сфер влияния с несовместимыми промышленными и потребительскими стандартами. Кампания США против китайских телекоммуникационных фирм, таких как Huawei и ZTE, и их попытки перекрыть доступ китайцев к технологиям и оборудованию для экстремальной ультрафиолетовой литографии (EUV) – пример усилий по разделу мирового технологического рынка.
Ирония в том, что во многих случаях Соединённые Штаты сами не могут создать альтернативу китайской продукции.
Глобальная американская сфера влияния
Вашингтон больше не формулирует свои аргументы в терминах Устава ООН или основных международно-правовых конвенций. Вместо этого выдвинута идея «порядка, основанного на правилах», в котором либеральный интернационализм служит тонким прикрытием для верховенства США. Из-за внутриполитического тупика Соединённые Штаты больше не могут ратифицировать международные договоры и конвенции, но настаивают на своём праве интерпретировать их, не считаясь с мнением других. «Порядок, основанный на правилах», предполагает, что США и их ключевые союзники (G7) имеют право устанавливать правила, определять, когда и как их применять, и освобождать от них самих себя, навязывая их другим и принуждая к исполнению. Порядок, основанный на правилах, равнозначен утверждению глобальной сферы влияния, в которой Соединённые Штаты, при поддержке англосферы и нескольких бывших колониальных держав, устанавливают нормы и обеспечивают их соблюдение.
Американское превосходство и главенство символизирует уникальный всеобъемлющий набор региональных военных командований США (ни одна другая страна не определяет оборону в глобальном смысле, а понимает под ней исключительно защиту своего отечества). Они охватывают весь земной шар и возглавляются четырёхзвёздными генералами, которым воздаются почти царские почести.
Управляемый из Вашингтона «порядок на основе правил» институционально закреплён:
Военными средствами – за счёт сети из примерно восьмисот баз за пределами США (на 170 из них имеются поля для гольфа!), военно-морского флота (если уже не самого большого в мире, то, по крайней мере, с самым широким радиусом действия), контртеррористических операций в большей части мира[12] и рекордного объёма продажи вооружений.
Экономическими средствами через использование долларового суверенитета и доминирующего положения в ключевых многосторонних организациях и институтах, что позволяет вводить сложнейший комплекс финансовых и иных санкций против непокорных стран.
Технологическими средствами – за счёт экстерриториального применения американских мер экспортного контроля и контроля за передачей новых технологий.
Информационными средствами – за счёт доминирующей роли американских СМИ и цифровых коммуникационных платформ.
Политическими средствами через операции по смене режимов, выборочное продвижение демократии (сравните реакцию США на военный переворот в Египте в 2013 г. и Мьянме в 2021 г.), корректировку объёмов иностранной помощи, применение «следствия Рузвельта» к доктрине Монро, отказ в продаже технологий и вооружений странам, сотрудничающим с обозначенными противниками Вашингтона.
В ходе того, что некоторые называют «состязанием за преданность человечеству», страны, находящиеся в сферах влияния других великих держав или ещё не вошедшие в сферу влияния США, либо переманиваются лестью и обещаниями благ, либо подвергаются принудительной дипломатии посредством санкций, либо ввергаются в анархию путём операций по смене режима.
Однако в период серьёзных сдвигов в мировом раскладе сил, когда ранее пребывавшие в упадке государства-цивилизации, такие как Китай, Индия, а также (по их собственному признанию) Россия и Турция, вновь обретают благополучие, силу и влияние, статичные перегородки, устанавливаемые сферами влияния, не столько сдерживают, сколько провоцируют набирающих мощь новых игроков. Это противоречит главной цели сфер влияния – гарантии безопасности, защита политической культуры и внутреннего спокойствия государств, которые их создали. Глобальная сфера влияния Соединённых Штатов, некогда монолитная, находится под ударом, поскольку другие страны стремятся лишить американцев господства на определённых территориях и не дать им возможности осуществлять там некоторые виды деятельности. Они также стремятся конкурировать с Вашингтоном не только в военно-политической, но и в других сферах.
На смену прежде единому мировому порядку, похоже, приходит хитросплетение региональных, пересекающихся, многомерных, политических, экономических, информационных, технологических и военных сфер влияния.
Заключение
Вначале существовали военные империи, сколачиваемые путём завоеваний. Затем возникли империи торговые, которые установили политический контроль над такими территориями, как Индия и Индонезия. Некоторые сферы влияния были направлены на то, чтобы лишить другие державы возможности влиять на территории, представляющие стратегический интерес для провозгласивших их государств. Сейчас нормой являются сферы влияния, претендующие на исключительность, требующие уважения и права накладывать вето на решения входящих в них стран по военным, экономическим, технологическим, информационным или политическим вопросам.
Именно такова всеобъемлющая сфера влияния США. В разных регионах мира и в мировом масштабе она оспаривается в связи с появлением других инновационных экономик и информационных систем. Соперничество между крупнейшими мировыми державами, направленное на защиту или расширение сфер, в которых они занимают главенствующее положение, пока ещё может определять их стратегические решения. Но у региональных держав есть свои представления, и их взгляды находят всё больше сторонников.
В третьем десятилетии XXI века мировому господству и глобальной сфере влияния США брошен вызов их явными противниками, особенно Россией и Китаем:
Латинская Америка выстраивает новые отношения с Китаем, Россией, Ираном и Турцией вопреки доктрине Монро.
В АТР Китай предлагает договориться о новом типе отношений между великими державами, который позволил бы Пекину играть значительную роль в управлении регионом. В случае отсутствия такого соглашения он изучает возможность применения силы для вывода Тайваня из сферы влияния США и его воссоединения с материковой частью Китая.
В Европе Россия настаивает как минимум на стратегическом выводе Украины из американской сферы влияния (читай: НАТО), требуя сворачивания её, чтобы ограничить потенциальные угрозы для себя со стороны ближайших соседей; в качестве программы-максимум Россия, возможно, стремится включить Украину в воссозданную широкую российскую сферу влияния.
На Ближнем Востоке прежние сферы влияния великих держав, включая шестидесятилетнее американское доминирование, оспариваются исламизмом и национализмом, уступая место региональной динамике, обусловленной местным религиозным и геополитическим соперничеством.
В Африке возникают новые региональные объединения: французы отступают после нападений исламистов во франкоговорящей Африке и переворотов в ряде бывших колоний, Нигерия устанавливает региональный порядок через Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС), ЮАР оказывает доминирующее влияние на соседние страны Юга Африки, возникают другие местные сферы влияния.
Глобальное доминирование американских СМИ подорвано появлением иностранных конкурентов, непривлекательным местничеством, корпоративной цензурой и влиянием внутриполитической конъюнктуры. Информационное превосходство США оспаривается местными социальными сетями и появлением изолированных национальных медиазон в таких странах, как Китай и Иран.
Эти стратегические сдвиги имеют колоссальные последствия для глобального мира и развития. Отрицание законности и роли сфер влияния не отменяет их и не помогает правильно реагировать на них или на процесс их распада. Понимание того, что поставлено на карту, необходимо для эффективного разрешения конфликтов. Сферы влияния были неотъемлемой частью соперничества великих держав. У них разные цели и последствия. В настоящее время они порождают больше нестабильности и конфликтов, нежели сдерживают и ограничивают их. Сферы влияния – неизменный атрибут государственного строительства и дипломатии, который заслуживает гораздо более глубокого изучения, чем это делалось до сих пор. Пришла пора рассмотреть альтернативы.
Автор: Чез Фриман, посол в отставке, приглашённый научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона в Университете Брауна.
СНОСКИ
[1] В системе, основанной на балансе сил, государство, стремящееся к гегемонии, всегда будет уравновешиваться коалициями стран, соперничающих с ним за гегемонию. Классическим исследованием такой системы считается книга Генри Киссинджера «Восстановленный мир: Меттерних, Каслри и проблемы мира 1812–22», изданная в 1957 году (cм.: Kissinger H. A World Restored: Metternich, Castlereagh, and the Problems of Peace, 1812–22. L.: Weidenfeld & Nicolson Ltd, 1957. 354 p.).
[2] См.: The Latin American Internment Program – the Special War Problems Division of the Department of State // German American Internee Coalition. URL: https://gaic.info/history/the-world-war-ii-latin-american-internment-program/ (дата обращения: 11.09.2023); Warren M. Sabiduría: A Japanese–Peruvian Born at US Internment Camps in WW II // Latino USA. 13.06.2014. URL: https://www.latinousa.org/2014/06/13/japanese-peruvian-internment-camps/ (дата обращения: 11.09.2023).
[3] Соглашения с Австралией и Новой Зеландией, а также Филиппинами в 1951 г., Республикой Корея в 1953 г., создание Организации Договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО), в которую вошли Австралия, Франция, Новая Зеландия, Филиппины, Таиланд и Великобритания в 1954 г., договорённости с Японией в 1960 году.
[4] Вторжение в Залив Свиней в 1961 г. и другие попытки смены режима на Кубе, Карибский кризис 1962 г., свержение правительства Чили в 1973 г., поддержка «Контрас» в Никарагуа 1981–1988 гг. и вторжение на Гренаду в 1983 году.
[5] White H., Hayward-Jones J., Teaiwa K. et al. Our Sphere of Influence: Rivalry in the Pacific // Australian Foreign Affairs. 2019. No. 6.
[6] Tyler P.E. U.S. Strategy Plan Calls for Insuring No Rivals Develop // The New York Times. 08.03.1992. URL: https://www.nytimes.com/1992/03/08/world/us-strategy-plan-calls-for-insuring-no-rivals-develop.html (дата обращения: 11.09.2023).
[7] Четырнадцать из девятнадцати стран — членов НАТО участвовали в воздушной войне с Сербией, которую вели США в 1999 году. НАТО командовала Международными силами содействия безопасности в Афганистане (ISAF) при участии в общей сложности пятидесяти стран, многие из которых не были членами НАТО. Девять стран – членов НАТО возглавили интервенцию в Ливию в 2011 г., к которой присоединились две страны, не входившие в НАТО. Большинство стран НАТО не принимало участия в конфликте.
[8] Как стратегический термин, понятие «Индо-Тихоокеанский» объединяет Восточную и Южную Азию. Оно возникло в политической мысли Японии, которая стремилась оправдать включение Индии в предпринимаемые ею усилия по уравновешиванию влияния Китая в Юго-Восточной Азии.
[9] К числу ключевых организаций относятся Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транс-Тихоокеанском партнёрстве (ВПСТТП), которое Япония спасла после выхода из него США и к которому стремятся присоединиться Китай и Великобритания, а также Региональное всеобъемлющее экономическое партнёрство (РВЭП) – соглашение о свободной торговле между пятнадцатью странами АТР, включая Австралию, Бруней, Камбоджу, Китай, Индонезию, Японию, Южную Корею, Лаос, Малайзию, Мьянму, Новую Зеландию, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам.
[10] Iriye A. Across the Pacific: An Inner History of American-East Asian Relations. N.Y.: Imprint, 1967. P. 221.
[11] В качестве примеров можно привести Фонд Шёлкового пути (создан в 2014 г.), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (создан в 2015 г.), а также Новый банк развития (бывший Банк БРИКС, созданный в 2017 г.).
[12] Согласно проекту «Стоимость войны» (Costs of War), который спонсируется Институтом Уотсона в Брауновском университете, в 2021 г. армейские подразделения США участвовали в подобных операциях в 85 странах. См.: Savell S., McMahon R., Rockwell E. et al. United States Counterterrorism Operations, 2018–2020. Costs of War Project // Watson Institute for International and Public Affairs at Brown University. URL: https://watson.brown.edu/costsofwar/files/cow/imce/papers/2021/US%20Counterterrorism%20Operations%202018-2020%2C%20Costs%20of%20War.pdf (дата обращения: 11.09.2023).

ИНТЕРВЬЮ ПАВЛА СОРОКИНА «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ»
Павел Сорокин: «Сейчас обсуждаются способы того, как пресечь «серый» экспорт бензина»
Резкий рост цен на бензин и дизель в этом году вызвал на рынке нешуточный ажиотаж, а дефицит топлива в некоторых регионах - настроения, близкие к панике. Звучали даже предложения запретить экспорт нефтепродуктов из России, чтобы собрать урожай 2023 года. О том, почему в нефтедобывающей стране стала возможна нехватка топлива, почему оно дорожает на заправках, а также о том, как нам монетизировать объёмы газа, которые раньше уходили на экспорт в Европу, рассказал «РГ» первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин.
– Что в этом году произошло с автомобильным топливом, откуда дефицит и почему оно дорожает? Правда ли, что во всём виноват растущий экспорт?
– Внутренний рынок полностью снабжен топливом. Но из-за ажиотажного спроса в отдельных регионах, связанного с ремонтом перерабатывающих заводов и сложностями с подвозом топлива, возникло ощущение дефицита.
Например, после внеплановой остановки завода Астраханского ГПЗ произошло перераспределение покупок топлива по сетям различных игроков. То есть поскольку сеть одного из участников рынка в моменте не получила достаточно моторного топлива, потребители пошли на другие заправочные станции. Это привело к резкому вымыванию товара на работающих заправках, что вынудило их работать «с колёс», в смысле подвоза топлива на них, и создало картину нездорового ажиотажа.
Конечно, были и другие факторы. В последние месяцы мы наблюдали в определённой степени девальвацию рубля и рост котировок нефтепродуктов на всех основных мировых рынках. Если крэк-спред на дизель (разница между ценой на сырую нефть и нефтепродукты) в начале лета был 140-150 долларов на тонну, то к концу лета вырос вот до 300 долларов. То есть 150 долларов на тонну добавилось к стоимости дизеля на мировом экспортном рынке. И несмотря на постоянные дискуссии относительно того, что внутренняя котировка не имеет ничего общего с внешней, это некорректно с точки зрения общей экономики и законов здравого смысла. Потому что при возможности выгодно вывести на экспорт товар его цена на внутреннем рынке будет стремиться к экспортной альтернативе.
Чтобы не допустить роста цен из-за этого, направляется дополнительный объём топлива на биржу, который создает переизбыток товаров на внутреннем рынке. Сейчас одна из мер, которая обсуждается, это введение института уполномоченных экспортеров для того, чтобы пресечь «серый» экспорт. Когда компании, которые покупали топливо, предназначенное для внутреннего рынка, вывозили нефтепродукты за рубеж. С точки зрения интересов страны и внутреннего рынка это неправильно. Это злоупотребление положением, которое сложилось. Поэтому сейчас надо предпринять меры, чтобы продукт, который предназначен для внутреннего рынка и получил поддержку в виде демпфера (компенсации нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок. – «РГ»), оставался в стране. У министерства энергетики также есть определённые дополнительные предложения, как надо донастроить систему стимулов, чтобы в такие периоды нефтепродукты оставались в России и чтобы у нас не возникало никаких временных или локальных перекосов.
– А как с нефтью, нужно ли нам отказаться от привязки цен наших марок нефти к зарубежным сортам?
– Российская нефть и нефтепродукты представлены на всех крупных мировых рынках. Сейчас при поставке их на новые рынки, они кого-то вытесняют, поскольку мы говорим не о создании нового спроса и удовлетворении его, а об изменении грузопотока в мире. Фактически поставщики просто меняются местами.
Поэтому, когда говорят об отвязке цен российской нефти от каких-то котировок, важно понимать, что все основные котировки в мире, как бы они ни назывались, привязаны к североморской нефти Brent или к североамериканскому сорту WTI, поэтому являются производными от данных котировок.
Соответственно, торговая площадка может меняться, но все основные индексы между собой связаны. Все измеряется дифференциалами к тому или иному бенчмарку (эталонный сорт нефти - «РГ»). Чаще всего им является Brent или WTI, а также котировки в Роттердаме, Сингапуре или Мексиканском заливе для нефтепродуктов. Есть ещё котировки в Арабском заливе, но это очень специфический кэптивный (ограниченный) рынок для ближневосточных игроков, поэтому про его использование речи не идёт. У нас достаточно понятное ценообразование на нефть и нефтепродукты, которое идёт в привязке к ключевым рынкам и дифференциалов к ним.
– Излишки добычи газа в 2023 году, по разным оценкам, могли бы составить от 80 до 120 млрд кубометров. Можем ли мы как-то компенсировать эти потери за счёт потребления на внутреннем рынке?
– Эта тема важна не только со стороны объёмов снижения производства - 80-120 млрд кубометров, но и с точки зрения в целом позиционирования российской газовой отрасли на будущее, её вектора развития. Трубопроводный экспорт в Европу снизился из-за односторонних, недружественных и часто нелегитимных действий наших западных партнёров. Мы оказались в положении, когда нужно принять решение, как наиболее эффективно распорядиться теми богатствами недр, которые у нас есть. На самом деле этот вопрос всегда был на повестке дня. Но одно дело решать его, когда есть стабильный потребитель ваших ресурсов с развитой инфраструктурой, а другое дело, когда он совершенно неожиданно решает от ваших поставок отказаться. Мы сейчас именно в такой ситуации. И приходится оперативно искать способы монетизации газовых запасов.
В первую очередь к ним относятся возможности продажи их на экспортный рынок в виде сжиженного природного газа (СПГ). То есть стратегия остается неизменной. У нас по-прежнему цель - экспортировать 100 млн тонн СПГ к 2030 году и, потенциально, 120-140 млн тонн к 2035 году. Здесь очень важно сделать оговорку, что для этого необходимо поддерживать общую ресурсную базу и работать сообща, в координации между всеми участниками рынка.
Должна быть задействована трубопроводная инфраструктура, необходимы судостроительные мощности. Нужен инжиниринг, чтобы заместить оборудование для производства СПГ, которого у нас нет. В этих вопросах у нас сейчас прогресс достаточно хороший.
Мы это видим на примере реализуемого проекта «Арктик СПГ-2» и потенциального проекта «Мурманского СПГ». Нами доказано, что в целом отдельная очередь СПГ-завода может быть построена либо полностью из российских компонентов, либо с использованием некоторых комплектующих от наших партнёров из дружественных стран.
– А развитие газохимии может помочь?
– Да это ещё одно ключевое направление. Но здесь важно понимать, что газохимия, как и нефтехимия, не является панацеей с точки зрения объёмов потребления. Зато создаёт продукцию с большой добавленной стоимостью. Для этого нужно взять и переработать жирные фракции, которые содержатся в газе. Сейчас это особенно выгодно, их становится больше по мере того, как истощаются залежи в сеноманских пластах, а добыча уходит глубже, на другие горизонты, где более жирный газ.
Там присутствует очень большое количество различных ценных фракций, таких как этан, пропан, бутан, а в Восточной Сибири ещё гелий. Сейчас есть технические возможности для их использования и самое главное, существуют экономические стимулы. Минэнерго вместе с Минфином два года назад приняли изменение в Налоговый кодекс, которое даёт крупным нефтегазохимическим проектам обратный акциз на этан и на использование сжиженных углеводородных газов (СУГ) для пиролиза (термическое разложение органических природных соединений – «РГ»). Это экономический стимул для выделения из газа ценных фракций.
Продукция нефтегазохимии значительно дороже базовой стоимости сухого газа, будь то 5,5 тыс. руб. на российском рынке, или какая бы цена ни складывалась на мировом рынке, от 200 до 500-700 долларов за тысячу кубов. Выделив 5-10% с точки зрения объёма, веса, вы можете кратно поднять стоимость всей ресурсной базы. Вот это и делается в нефтегазохимии, но, повторюсь, это не панацея для объёмов потребления. Проще говоря, вы не сможете 80-120 млрд кубометров экспорта газа в год заместить за счёт нефтегазохимии.
– Сколько газа смогут «забрать» новые нефтегазохимические проекты?
– Если только приблизительно. Амурский газоперерабатывающий завод, Амурский газохимический комбинат, завод полимеров в Усть-Куте, расширение татарстанского нефтегазохимического кластера, нефтехимический комплекс в Усть-Луге в сумме дадут дополнительно около 7-8 млн тонн пиролизных мощностей, то есть дополнительной переработки сырья.
Но это всё равно ключевое и важнейшее направление развития отрасли. Оно закрывает потребности России в крупнотоннажных полимерах. Сейчас у нас есть определенные позиции, которые мы импортируем. Это частично ABS-пластики, частично малотоннажная химия. По мере расширения крупнотоннажной базы - за счёт полиолефинов с высокой добавленной стоимостью, которые мы производим, у нас появляется инвестиционный ресурс и стимул уже идти в среднюю и малотоннажную химию.
– Есть ещё какие-то возможности увеличить внутренний спрос на газ?
– Да, третье направление, очень важное, это развитие газового транспорта, использование газомоторного топлива (ГМТ). Во-первых, это позволит диверсифицировать портфель различных видов топлива. Наибольший эффект здесь можно получить в крупнотоннажном грузовом транспорте, потому что грузовики, которые переходят с дизеля на СПГ, получают серьёзную экономическую выгоду. По нашим расчётам, операционные затраты на жизненный цикл транспортного средства становятся на 20-30% ниже. А также мы можем по более высокой, более адекватной цене монетизировать запасы газа.
– А что с поставками нашего газа в Узбекистан и Казахстан, а также возможным транзитом через их территорию в Китай?
– У «Газпрома» уже есть действующие контракты, по которым газ поставляется в эти страны. Увеличение объёмов поставок действительно обсуждается, и первые результаты уже есть.
Но говорить о транзите в Китай, наверное, пока ещё преждевременно. Тут надо в комплексе смотреть на наши отношения в газовом сегменте с Китаем. И в комплексе рассматривать все проекты. Поэтому отдельно выделять их не хотелось бы, это все-таки всё звенья одной цепи. Но, безусловно, расширение инфраструктуры и углубление газовых связей пойдёт на пользу всем.
Центральноазиатские республики, во-первых, гарантированно смогут обеспечивать свои пиковые периоды внутреннего спроса на газ. А, во-вторых, это позволит им исполнять свои, экспортные контрактные обязательства. А для России это расширение связей с нашими партнёрами. Ну и, естественно, опять же диверсификация направлений поставок.
– Много было разговоров про своповые поставки газа в Иран. Остановка строительства газопровода «Мир» из Ирана в Индию как-то повлияла на наши планы?
– Здесь опять же вопрос надо рассматривать в комплексе. Все газовые рынки связаны между собой, даже когда речь идёт про региональный газовый рынок. И все новые газовые проекты - интеграционные, учитывающие состояние других проектов и ситуацию на этих рынках.
Поэтому не очень правильно говорить об остановке строительства данного газопровода, это пока только намерения одной стороны. Дискуссии продолжаются. Обсуждаются все возможные варианты снабжения индийского рынка и стран, которые находятся между Россией и Индией. Проект должен удовлетворять все страны, на территории которых будет проходить инфраструктура, и должен быть найден наиболее эффективный способ доставки газа. Один из них - своповые поставки (замещающие, наш газ в Иран, иранский в Индию. – «РГ»). Для поставок газа в Индию нужна комплексная договоренность между тремя, четырьмя или даже пятью странами. Работа ведётся.
– А в каком состоянии сейчас проекты по созданию газового хаба в Турции?
– Идут консультации «Газпрома» с турецкой стороной при нашем участии, с учётом мнения экспертного сообщества. Идёт определение основных параметров работы. Газовый хаб - это не только какая-то физическая точка, возникновение которой лишь вопрос создания физической инфраструктуры. Это ещё и виртуальная точка биржевой торговли. Сейчас идёт определение параметров взаимодействия всех заинтересованных сторон. Надеюсь, в ближайшем будущем стороны смогут поделиться деталями.
Интервью на сайте «Российской газеты»: https://rg.ru/2023/09/14/pavel-sorokin-sejchas-obsuzhdaiutsia-sposoby-togo-kak-presech-seryj-eksport-benzina.html

Татьяна Черниговская: зачем вселенной существа, которые мыслят
Профессор Татьяна Черниговская – известный российский нейроученый, глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО – посетила Первую международную конференцию "Сознание животных". Этот научный форум по инициативе Далай-ламы XIV организовал в мае в Дхарамсале на севере Индии директор Института перспективных исследований мозга МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН Константин Анохин. О своих впечатлениях от новой встречи с духовным лидером буддистов мира и монахами-учеными, общения с ведущими российскими и зарубежными коллегами, изучающими сознание, об угрозах развития искусственного интеллекта и роли образования в общении людей друг с другом и животными, о тайнах эволюции, языка, мозга, души и жизни Татьяна Черниговская рассказала в эксклюзивном интервью РИА Новости. Беседовала Ольга Липич.
"Это переворачивает картину"
– Татьяна Владимировна, каковы ваши впечатления от Первой международной конференции "Сознание животных"? И какие перспективы исследований в этой области вы видите?
– В эпоху Апокалипсиса о перспективах говорить странно. Но вообще такая тематика как "Сознание животных", и все, что связано с сознанием, – это минное поле. Поле, на котором всегда рискуешь нарваться либо просто на сумасшедших, либо на маньяков внутри науки, которые почему-то решили, что они могут в этой области работать. Поэтому конференция в Дхарамсале превзошла все мои ожидания. Она оказалась гораздо более сильной, чем я предполагала. Мне было интересно, и я узнала много новых вещей.
– Что из нового вы бы выделили?
– Мы раньше считали, что у осьминогов в каждой щупальце по нервной системе, что так и есть, но нет центрального регулятора. На конференции были представлены исследования, свидетельствующие о наличии у них такого центрального регулятора – в выступлении профессора Дженнифер Мазер из канадского Летбриджского университета, которая много лет изучает головоногих моллюсков.
Новое про пчел – в замечательном докладе профессора Ларса Читтки из Исследовательского центра психологии Лондонского университета королевы Марии. И совершенно потрясающий сам исследователь – очень умный, четкий и одновременно любящий своих пчел. Он более 20 лет изучает пчел и шмелей и даже написал книгу об их "уме", отметив, что у этих насекомых есть свой "язык танца", хорошая память, высокая обучаемость и с вероятностью 55-70% сознание.
Были и предположения, которым я не очень доверяю. Как, например, с рыбами, которые якобы осознанно смотрятся в зеркало и там себя узнают. Хотя звучит это красиво. Доклад об "умных" рыбах представил японский профессор Масанори Кода из Высшей научной школы столичного университета Осаки.
Встреча в Дхарамсале показала, что идея "сознание животных" – это не эпифеномен (вторичное явление – ред.), это всерьез, как я вообще-то всегда и считала, и что за этим есть экспериментальные данные. Конечно, данные надо сто раз проверять, и не потому, что плохо сделан тот или иной эксперимент, дело не в экспериментах, а в том, как их результаты трактуют. Нужно рассматривать все в деталях: как продумывали эксперимент, как проводили, что под чем имелось в виду.
– Далай-лама сказал, что сознание есть у всех живых существ, включая насекомых, просто у них оно не такое, как у человека, что вы об этом думаете?
– Это потрясающая вещь в том плане, что речь не идет о делении на два: у этих сознания нет, а у этих есть. Речь идет о том, что есть много разных типов и уровней сознания. Это переворачивает картину.
– Как вы относитесь к стремлению обнаружить сознание, разумность и у растений, ведь соответствующее исследование также было представлено на конференции испанцем Пако Кальво, который даже издал книгу Planta Sapiens ("Растение разумное")?
– Это меня интересует. Какое-то время назад наткнулась у Метерлинка на работу под названием "Разум цветов". А не так давно вышла статья о том, что если с растениями плохо обращаться, не поливать их, ломать, то они кричат, в диапазоне, который не уловим человеческим ухом, но фиксируется определенными приборами.
Но все-таки даже буддисты не приписывают растениям сознания.
Красивые ресницы или "вел дан"
– Чем в практическом смысле могут помочь исследования сознания животных и подобные конференции самим животным?
– Это отдельная история. Если абсолютно честно говорить, то надо прекращать есть не только говядину, баранину, козлятину и курятину, но и все остальное. Даже если на сцену выйдут азиаты, которые скажут: будем есть маринованных или сушеных тараканов, то и это не поможет, потому что у них тоже найдутся признаки сознания. А некоторые исследователи, как мы видели, ищут их и у растений. И что мы будем делать? Чем питаться?
Я даже студентам говорю и "угрызаюсь" таким образом: на корову смотришь где-нибудь в Швейцарских Альпах или на прекрасных наших пастбищах – какая у нее прекрасная шерсть, выразительные глаза, красивые длинные ресницы! Нагляделся, а потом идешь в ресторан и заказываешь: "Мне, пожалуйста, well doneстейк!" Значит, так: либо ресницы, либо "well done".
Конечно, нам наш биологический вид важнее. Но сегодня встают очень серьезные вопросы в области обращения с животными, когда гусей и уток специально откармливают на фуа-гра, а живых раков бросают в кипяток. Этические комиссии следят за тем, чтобы не проводилось медицинских, научных опытов над животными без наркоза, но сомневаюсь, что анестезию будут давать, например, червям…
Мы должны обращать внимание на то, что не только мы страдаем. И не множить страдания без необходимости. Причем такого рода вещам нужно учить детей с раннего возраста. Ребенок должен знать, что, если он отрывает крыло у бабочки, ей больно, и этого делать нельзя.
– Может быть, человечеству пора пересматривать свое отношение к потреблению в корне? Чтобы человек стал более аскетичным, и поглощение им окружающего мира стало минимальным? И чтобы оно было всегда осмысленным и с благодарностью, особенно когда речь идет об убийстве живого существа ради поддержания собственной жизни?
– Я люблю читать исторические книги, мемуары. Романы читать не люблю, потому что сама могу написать роман, но хорошие уже все написаны... Мне гораздо интереснее реальные вещи, которые происходили на самом деле. Так вот, например, когда читаешь Михаила Пыляева про старый Петербург, то узнаешь: люди волновались о том, что Петербург будет завален конским навозом из-за огромного числа повозок – что невозможно будет ходить, дышать. Но эта проблема снялась сама собой, когда исчезли повозки и появились автомобили.
Почему я говорю об этом в ответ на ваш вопрос? Потому что проблема сама исчезнет. Будет искусственный интеллект, например GPT18, и вопрос с поеданием коров решится сам собой, потому что не будет тех, кто будет поедать коров. Искусственный интеллект найдет для себя источники энергии. И как сказал нам Далай-лама, в конце концов планета сгорит (согласно буддийской космологии – ред.).
ИИ как "актер" и буддийская космология
– Далай-лама считает, что сознанием обладают только живые существа, а искусственный интеллект его иметь не может. Вы с этим согласны? Сознание вообще можно вынести наружу, за "пределы" живого существа?
– Мы этого не знаем. Но может быть очень хорошая имитация. Антропоморфные роботы все лучше и лучше. Робот может перед вами так имитировать мимику, так будет вам сочувствовать, так переживать, что вы расплачетесь. Но это будет идеальная имитация, а не сознание. Он просто актер хороший.
– Но это страшная манипуляция, я же не в театре…
– Да, это все манипуляция с физическим подобием. Сам он, робот, здесь не при чем, пока у него нет личности. Но встает вопрос: а не появится ли у этих сверхсложных систем личность? Появление личности у искусственного интеллекта – это сингулярность, аналогия – Большой Взрыв. Дальше у нас не будет хода назад. И тогда нам кирдык полный. Они в суд на нас начнут подавать.
– А мы их тогда от питания отключим.
– Это для детей разговоры, что мы их отключим от сети. Они, разумеется, позаботятся о том, чтобы их ни от чего нужного им отключить было нельзя. Это первое, что они сделают.
– Как вы смотрите на изложенную Далай-ламой буддийскую космологию, согласно которой сознание безначально, бесконечно, мир возникает из пустого пространства по причине того, что живым существам предстоит обитать в нем, а грядущий конец этого мира в огне связан с их кармическими действиями?
– Можно, конечно, относиться к этому как к чистой метафоре и сказке, как к тому, что в Исландии тролли бродят, а у нас баба Яга в ступе летает. Но все-таки этой концепции многие тысячи лет. Не думаю, что тысячи лет люди бродят только вокруг сказок.
Из того, что мы, ученые, сейчас не совсем это понимаем и не видим доказательств, вовсе не следует, что это неверно. Опровергнуть мы тоже не можем. Получается, что мы должны "рубиться": кто-то кому-то что-то должен доказать… Вопрос интересный.
Сознание и "зомби"
– Что такое сознание вообще – как сегодня его определяет наука?
– Количество научной информации о мозге сегодня огромно, нельзя даже все прочитать. Но ясно, что нужна новая теория, чтобы ответить на вопросы о сознании. Работой в этой области как раз занимается Константин Владимирович Анохин (директор Института перспективных исследований мозга МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, главный организатор конференции "Сознание животных" – ред.).
На сегодняшний день никакого единого определения сознания нет. В науке не могут договориться. Это огромное пространство.
Один полюс – утверждение, что сознание может быть только высокого уровня, то есть awareness (осведомленность), осознание, рефлексия. Но если встать на такую позицию, то можно сказать, что десятки процентов жителей земли не обладают сознанием и к роду Homo Sapiens перестают относиться, потому что даже не подозревают, что можно за собой следить и рефлексировать, осознавая свои действия, слова и мысли.
Другой полюс: сознание – это вообще некая реакция, и тогда им обладает даже инфузория туфелька. Вот, буддисты, например, считают, что все живое имеет чувства и сознание. Но в научной среде многими серьезными учеными такая точка зрения поддержана не будет.
Не годятся ни первый, ни второй полюс. А между этими полюсами – бездна. И вы легко найдете сто человек, которые вам запросто ответят, что такое сознание, но этим ответам для точной науки ноль цена.
– Тем не менее, на конференции "Сознание животных" и в ее кулуарах было немало дискуссий о сознании с вашим непосредственным участием. Как вы все-таки для себя понимаете "сознание", чтобы говорить о нем?
– По итогам дискуссий мне нравится идея деления на разные типы или уровни сознания. Тем уровням, которые помельче, погрубее, менее изящные – им низшие животные подойдут. А есть уровни сознания, имеющиеся только у высших животных. А есть, наверное, и то, что доступно только человеку.
Но тема сознания может еще больше усложниться сейчас, учитывая бардак с искусственным интеллектом. Считать ли машины, искусственный интеллект – сознанием, или это зомби в философском смысле? Зомби, которые ведут себя as if("как если бы") – как будто сознание у них есть. Прямо как мы. Только это подделка.
"Как узнать, что это - жизнь"
– А чтобы отличить ИИ как "актера" или "подделку" от истинного сознания, не помогает критерий "живой-мертвый"? И каков он в современной науке?
– Очень сложный вопрос. А камень, минерал, который растет определенным образом? Есть, конечно, биологические определения жизни, есть физика. Берите Эрвина Шредингера "Что такое жизнь с точки зрения физики".
– Шредингер в ней касается не только вопросов наследственного механизма и преодоления энтропии, но и темы сознания человека, обращается к древнеиндийской философии с Атманом и Брахманом, однако эта книга издана давно, в 1940-х годах, ее содержание актуально?
– Это очень полезная книга. Но сейчас уже – поскольку активно ищут жизнь в космосе – вопрос стоит так: а вы узнаете вообще, что это жизнь? Как вы узнаете, что это жизнь? Это может быть совсем другой тип жизни. Основанный, например, не на известных нам элементах, а какая-нибудь силиконовая жизнь – теоретически возможно.
Или, например, если мы все здесь доиграемся и взорвем друг друга, а вдруг останется искусственный интеллект, – то он станет высшей формой жизни на Земле. Планете будет благодать, потому что портить все вокруг (так масштабно, как это делает сегодня человек) ИИ не будет, есть никого не будет, ему солнечной энергии достаточно – красота. А если он просто развивается до такого уровня, что побеждает нас, то, повторю: можно не сомневаться, что он придумает, как быть с энергией, так чтобы его из розетки никто не выключил.
"Можем дождаться от них Платона"
– Правильно ли я понимаю, что мы сейчас оказались на грани пересмотра подхода к способности животных чувствовать, и что можно сказать: даже низшие животные что-то чувствуют, как люди?
– Мы находимся на этой грани с одной поправкой: кто эти "мы"? Многие физиологи даже разговаривать на эту тему не будут. Психологи, философы, отдельные специалисты будут. Но осторожно.
– Как вы лично считаете: есть ли сознание у животных, у насекомых?
– Зависит опять же от того, что мы будем считать сознанием. Если принять позицию выступавшего на первой конференции "Сознание животных" в Дхарамсале Ника Хамфри, то мой ответ твердо: да, разное у разных видов, возможно, не у всех. (Известный британский нейропсихолог, профессор Лондонской школы экономики Николас Хамфри разделил животных на три класса в зависимости от сознания: не обладающие сознанием животные, такие как черви и медузы; животные, имеющие когнитивное сознание, но не имеющие чувственного, феноменального сознания, например, пчелы и осьминоги; и наконец, те, кто обладает и когнитивным сознанием, и феноменальными ощущениями, в их числе попугаи, собаки, люди – прим. ред.).
Но если вы, например, Аллахвердова спросите, с которым мы приятели (профессор Виктор Аллахвердов, факультет психологии СПбГУ – прим. ред.), то он скажет: какое сознание у животных, тем более, у насекомых. Если речь о том, что сознание – это только ревизор, который приходит проверять.
Другое дело, когда мы говорим о разных слоях или стадиях сознания: они возможны. Вот, профессор Александр Каплан (заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М.В. Ломоносова – ред.) сейчас исследует в буддийских монастырях Непала монахов в тантрической медитации. Во время этой медитации их сознание проходит различные стадии (согласно буддийскому учению, уровни сознания разнятся: от грубого до наитончайшего "ума ясного света" – ред.).
Но если забыть про стадии сознания и говорить про типы сознания, то мне нравится эта идея: да, у животных есть сознание, но не такое же, как у человека. Мы не ждем от них Платона с Аристотелем. Но, между прочим, можем дождаться. Они внутри своего поля могут оказаться очень умны, чему полно доказательств.
– Тогда возвращаемся к вопросу о законодательстве, чтобы сделать обращение с животными менее жестоким?
– От идеи, даже самой хорошей, до закона – огромное пространство.
Этика "важнее падежей"
– Для установления мира, гармонии и счастья на Земле, по словам Далай-ламы, людям необходимо правильное образование – знакомство с основами этики, "гигиены эмоций" и заботы о других с самого раннего детства, развитие любви и сострадания. Какую роль вы отводите образованию?
– Конечно, учить нравственности, простым вещам нужно с раннего возраста, совсем маленьких, с детского сада. Разумеется, не только воспитатели и преподаватели, но и родители, бабушки и дедушки должны этим заниматься. Ничего ни у кого не воруй: не потому что тебя поймают и накажут, а потому что это очень стыдно. Выпил сок – выброси в урну упаковку. Не вздумай мучить кошку: давай я тебе самому на ногу наступлю – посмотришь, каково это кошке. Маленькие дети сами этого знать не могут, им надо все объяснять, причем понятным для каждого возраста образом.
Умные педагоги могут разрабатывать соответствующие программы. Если Далай-лама говорит нам, что где-то в мире уже есть и успешно преподается такая этическая программа – значит, нужно ее брать, изучать, адаптировать и запускать.
А то дети, выходя из учебных заведений, в интернете носятся в десять раз быстрее вас, но про жизнь и про свои эмоции не знают ничего. Знает ли ребенок, например, что и ему, и всем окружающим тяжело, когда он ложится на пол посреди магазина и начинает колотиться в истерике? Если, например, снять на видео его поведение, показать ему и объяснить, что такое эмоции, и как с ними справляться, никого не травмируя, то должно быть всем лучше.
– Можно еще, наверное, мультфильмы снимать об эмоциях – в профилактических целях?
– Это отдельная работа. И этим должны заниматься педагоги и другие профессионалы. Не придумывать сто пятую версию того, как научить детей падежам, а думать, как научить жизни и достойному поведению. Падежи – это в сто раз менее важно, чем то, о чем мы сейчас говорим.
– В некоторых школах Индии проводят, например, "уроки счастья", а в Бутане есть целое "министерство счастья" и считают "валовое национальное счастье", но большинство госструктур разных стран мира "счастье" употребляют не часто. Что все-таки важнее: образование и мышление или законы, ограничивающие ненадлежащее поведение?
– Законодательство – это хорошо. Но взрослые появляются из детей: если кто не знает, то я счастлива это объявить. У ребенка, у подростка даже мысли не должно появляться, что можно иначе себя вести, чем нравственным образом, что можно мучить кошку, толкаться, устраивать истерики и так далее. Этичное поведение должно быть на автомате – как когда вы идете и делаете следующий шаг, или как когда вы утром, едва проснувшись, чистите зубы.
Для этого детей надо учить. А мы, получается, уже пропустили несколько поколений. У них родители уже такие выросли (в перестройку – не обращающие особого внимания на этику и воспитание), и даже бабушки. А нормальная бабушка, например, должна сидеть дома с внуками, вязать носки, печь блины и учить жизни – быть душевной. Мечты…
Душа и "джокер"
– В буддизме нет Бога-Творца и души как таковой, есть тончайшее сознание, переходящее из одного телесного воплощения в другое (перерождение). А приближается ли современная наука к определению, что такое душа, как вы считаете?
– Нет, по-моему, она не приближается. Я сейчас говорю про себя, не про всю науку. Я считаю, душа – это не та категория, которой наука должна заниматься. Это про другое. Это не значит, что я отрицаю наличие души. Но наука не занимается такими вещами.
– А заговоры, проклятия и другие способы воздействия на душу, на человека, через слово, например, это работает, и почему? Или все это сказки?
– Я уверена, что оно работает. Объяснить, почему, научно не могу. Тогда нужен эксперимент в научном смысле: чтобы когда кого-то заговаривают, все это воздействие фиксировалось… Но зафиксировать вы этого сейчас не сможете. Также, как и душу вы не сможете зафиксировать. Это не значит, что этого нет. Просто это не область естественных наук.
– А как вы думаете, что есть интуиция – проникновение в инфополе более высокого уровня или что? Ведь современная наука как-то касается этих вопросов?
– Да, она их касается, и очень серьезно. Но тут опять обломы начинаются. Потому что определение, что такое интуиция, как бы отрицательное, то есть: все, что не рациональное, все, что не прошло через алгоритм. Это как джокер – когда нечем назвать.
Искусственный интеллект, машины в функции алгоритмизации, вычисления нас переиграли. Но зато мы живые существа, у которых есть интуиция, а ее невозможно просчитать, мы – неизвестно, как... Это все из мягких наук. Что можно просчитать в стихах Бродского или гениальной музыке – не то, что делает их гениальными. И как эти стихи и эта музыка попали в голову человека? Ответ: например, интуиция или озарение... Но что это?
Однако, уже сейчас говорят о том, что искусственный интеллект сам придумал что-то вроде искусственной интуиции – машины начинают нас обыгрывать на нашем поле? Программы загоняют человека в шахматный цугцванг. Ведь интуиция – наша гордость… Это уж точно мы, люди.
– Но машина же не может написать стихи гениальнее, чем Бродский?
– Я считаю, что нет. Но некоторые разработчики искусственного интеллекта считают иначе. Они скажут: подождите, нейросеть проанализирует всю мировую поэзию, она будет думать-думать, и напишет вам очень приличное стихотворение. Оно, возможно, не будет гениальным, но вполне вероятно, что оно будет из средних стихов от гениев.
Все эти вопросы вертятся вокруг вещей, точных определений которым нет…
Зачем мы живем
– Но эти вещи без точных определений, наверное, самое интересное, ведь главный вопрос всех времен и народов: в чем суть жизни, и зачем мы живем? Не в подсчетах и не для подсчетов, хочется верить…
– Ну, и зачем, теперь я вас спрошу.
– Много вариантов ответов. Например, из чувства долга и любви – для родных и близких, любящих и любимых. Религиозные ответы: в христианстве – ради спасения души для вечной жизни или в буддизме – ради просветления всех живых существ, избавления от страданий, достижения счастья…
– Я не сильна в буддизме. Но можно сформулировать так: родился для того, чтобы с собой познакомиться и воспитать свой внутренний мир, максимально тонко, вынуть максимально много хорошего. Каждый человек – это целый мир, бесценный. Мы – существа, создающие миры.
– Мне еще нравится думать, что все живые существа едины как проявления изначального Абсолюта, познающего себя, в том числе, через людей. Познавать это единство в служении Богу и окружающим, преодолевая конечность индивидуума, не только в потомстве, но и в творчестве, науке, дружбе и других важных аспектах жизни, что вы об этом скажете?
– Допустим, это один из ответов, который я бы приняла.
– А наука какие ответы принимает или дает, что пытается доказать сейчас, занимается ли вообще этими темами?
– В зависимости от того, о каких науках мы говорим. Есть мягкие науки, как, например, филология или, в частности, буддология, которые опираются на тексты. А естественные науки занимаются другими вещами, там совершенно иной тип доказательств. Поэтому в ответ на вопрос, занимается ли современная наука озвученными вами темами, давайте уточним, какая наука. Философия – занимается, это наука, и она занимается вопросами о смысле жизни.
– Хочется, чтобы живые, чувствующие существа не страдали не только от физической боли, но и от душевной…
– Конечно. Я работала в психиатрической больнице и очень многого нагляделась. Меня поражало, что практически каждый из вновь поступивших пациентов говорил одно и то же: у меня болит душа, это непереносимо, невозможно терпеть, сделайте, что угодно, чтобы это прекратилось. У него не болит ни рука, ни нога, ни сердце, ни голова – болит душа, и это невозможно больше терпеть…
– Так вот когда человек говорит "болит душа", то что-то исследуется в этой области: нервная система, устройство психики, эмоциональная сфера?
– Конечно, все это исследуется.
"В начале было слово" или эволюция
– Теория эволюции – вы ее признаете как таковую?
– Это не такой невинный вопрос, как кажется на первый взгляд. Теорий эволюций не одна, не только Дарвин. Этим занимается теоретическая биология, и много кто. Я, кстати, двадцать с лишним лет работала в Институте эволюционной физиологии и биохимии имени И.М. Сеченова РАН.
Вопрос этот не для беседы у камина: верю в эволюцию или не верю, или Господь создал все и всех за семь дней. А один день у Господа – это сколько времени? Это серьезный научный разговор. Биохимик, генетик должен выйти на сцену, когда речь об эволюции. Были там такие-то аминокислоты, а таких-то не было, потом что там стало с аминокислотами? Это отнюдь не о том, с чего бы вдруг у рыбки выросли ноги и она пошла ходить по планете, или каким образом рыбка превратилась в птичку.
– А что можно выделить из серьезных открытий генетиков XXI века?
– В Англии есть семья, которая зашифрована как KE, у которой были в нескольких поколениях фокусы с языком: кто-то не мог говорить, кто-то заикался, кто-то дислексик. Умному человеку пришло в голову посмотреть, какие особенности у этой семьи в геноме – и таким образом нашли поломку в знаменитом гене FOXP2.
И было объявлено, что "ген языка" найден. А некоторые писали еще конкретнее: найден "ген грамматики". Открытие вообще мировое, если бы действительно нашли то, что все время ищут, а именно человеческий ген, которого ни у кого больше нет, который принадлежит нам как биологическому виду и отличает нас от всех других. Потому что Homo sapiens – это Homo loquens, а тут вдруг ген такой: пожалуйста, получите, все радовались страшно, большой шум был. Только праздник скоро кончился: этот ген нашли у мышей, у шиншилл, у крокодилов, которые как-то не замечены в пользовании грамматикой.
Впоследствии оказалось, что есть две версии гена FOXP2. Одна – которая у зверей, а другая – человеческая, "human version". И она отличается на две аминокислоты. Это было очень красивое открытие.
– Как вообще может быть один "ген языка", когда языков великое множество, как он может формировать правильную или "поломанную" речь, грамматику? И имеет ли FOXP2 отношение к речи на самом деле, помимо случая с семейством KE?
– Этот ген имеет отношение к речи. Но каким образом: он, разумеется, ничего не склоняет и не спрягает, поскольку он ген, и ему это занятие ни к чему. Но он обеспечивает правильный рост дендритов и аксонов в той области (мозга – ред.), которая занимается языком.
И разумеется, исследователи нашли и другие семьи, в которых полученная от семейства КЕ информация подтвердилась. Они работали как надо. Только вывод первоначально был неверный – это не "грамматический ген". Но это некий хаб, к которому много чего сходится, и это обеспечивает ключевые вещи.
Очень изящная работа была сделана. Взяли этот ген и вживили грызунам – и они Бродскими, конечно, не стали, но стали чрезвычайно болтливы на своем языке, активизировалась вокализация, стал богаче акустический спектр. Это доказывает, что этот ген – не про печень, не про пятку, а именно про вокализацию. Это серьезное доказательство.
– То есть, ученые продолжают искать доказательства того, что речь отличает людей от других животных, или что, как в Библии сказано: "в начале было слово"? Слово программирует сознание?
– Что язык нас отличает от всех других видов, это мы знаем, но так просто этого не докажешь. Человеческая речь – не столько коммуникация, сколько инструмент мышления. При этом мышление может быть и музыкальное, и математическое… Письменность открыла нашу цивилизацию, это внешняя память вне биологического субстрата мозга, который умирает с каждым индивидом. Как это все произошло? Тараканы, муравьи живут на Земле сотни миллионов лет, и что-то никто из них не обратился в человека, не заговорил. А нам, если считать от кроманьонцев, всего 50 тысяч лет. Так с чего вдруг это случилось, откуда появился язык?
Лучший из лучших – Хомский (Ноам Хомский – известный лингвист, философ и публицист, родился в Филадельфии в 1928 году – ред.). Его ругают, разумеется. Он считает, что была макромутация, которая привела к тому, что в мозгах появились отделы, которые занимаются языком, такие, например, как зона Брока. Что это был генетический удар.
Не один Хомский так считает. Есть, например, британский психиатр Тим Кроу (известен гипотезой о том, что шизофрения – плата человечества за развитие языка в ходе эволюции и является наряду с языком специфической характеристикой человека как вида – ред.). Я с ним общалась – он тоже считает, что когда-то произошел генетический слом, который так дело повернул, что очень усложнилась генетика, связанная с языком. И это общечеловеческая генетика. Говорит весь род людской, все люди, кроме случаев патологии. На планете нет людей, у которых не было бы языка. Поэтому язык – это специфическая черта человека. Люди – это те, которые говорят.
"Отдельный игрок", кормящий нейросети
– В связи с этим тезисом, возвращаясь к ИИ: получается, если нейросети, чат-боты, например, GPT номер такой-то, базируются на накоплении именно языковой информации, они сразу бьют в самую сердцевину человечности?
– К сожалению, да. Их кормят языком.
Вот если бы здесь сидел Александр Яковлевич Каплан (заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов МГУ имени М.В. Ломоносова – ред.), он бы сказал, что язык стал таким мощным, что он сам уже начал тащить эволюцию. И я с этой идеей, кстати, согласна.
– Язык стал выше человека?
– Получается, что он как бы отдельный игрок.
– Некоторые говорят, что нейросети способны причинять вред человеку, чуть ли не доводить до самоубийства, особенно неокрепшую психику детей и подростков. Не надо ли в таком случае ограничить их развитие и распространение, по крайне мере, пока ученые точно не определили, во что это все может вылиться, и не создали надежного противоядия?
– Если вы сможете ограничить. Недаром же Илон Маск заговорил на эту тему, и огромное число специалистов, более тысячи, поддержали его письмо. Он говорит по сути: берем каникулы и думаем, что будем с этим делать. Потому что с такой скоростью пошло развитие искусственного интеллекта, что мы начинаем терять над ним контроль.
На это другие люди пишут: нет, мы не подпишем это письмо, потому что надо не каникулы брать, а вообще запретить.
– Проблема, наверное, еще в том, что многие хорошо зарабатывают на этом?
– Даже есть такие мнения, что, может быть, и Маск, что он просто выбивает конкурентов.
– А что пугает в этом процессе? И признаете ли вы опасность дальнейшего развития ИИ, GPT?
– Пугает скорость. Это началось меньше года назад. Обычно такого рода процессы идут десятки, сотни, тысячи лет. А здесь – дни. Только он вышел, прошло две недели, а он уже вон что умеет, потом еще вот это делает, и это…
Опасность есть, что мы утратим за этим контроль. Я это признаю. И готова говорить об этом из каждого утюга.
"Человечество не безнадежно"
– Возвращаясь к диалогу с Далай-ламой, какое впечатление он произвел на вас лично?
– Впечатление, которое произвел на меня Далай-лама еще при первой встрече, такое сильное, что у меня появилось сомнение, что он просто человек (а не существо из высшего мира, для буддистов Далай-лама – земное воплощение Будды Сострадания Авалокитешвары – ред.). Это какая-то невероятная личность. И вообще непонятно, откуда он взялся. Потому что он одновременно мудрец и младенец. Посмотрите, как он искренне смеется, чуть не до упаду, как шутит, все эти розыгрыши (кого-то по пузу похлопает, кого-то по щеке, кого-то за руку схватит). Так смеются и шутят только дети. При этом он мудрец. И, конечно, он излучает свет. Когда рядом с ним находишься, это видишь и чувствуешь.
– Чем буддийская философия может помочь современной науке в постановке вопросов и нахождении ответов?
– Это задача, которую мы пытаемся уже несколько лет решить. Конечно, очень трудно совместить науку, которая занимается только тем, что взвешивает и измеряет, даже если она кварки измеряет, все равно, как сантиметром вокруг талии, с тем, что тысячи лет делали буддийские мыслители и практики медитации. Они в принципе не проводили примитивных измерений "с линейкой", но у них за спиной две с половиной тысячи лет напряженнейшей мысли и работы с сознанием. Они додумались до вещей, до которых мы еще не дошли.
Они учатся по 20 и более лет. И когда мы приходим к ним и говорим: сейчас мы давайте полистаем тут у вас и посмотрим, что нам подходит, так не работает. Поэтому и нужны такие конференции, встречи с участием наших исследователей и буддийских ученых, чтобы обе стороны приложили усилия для максимально точного понимания друг друга. У нас не должно быть позиции, что они отсталые.
– Но среди ученых есть и сторонники такой позиции…
– Напрасно. "Корабль дураков" – смотрим на картины Босха и Брейгеля – там их полно. Думание-то сильнее весов.
Встречи с буддийскими монахами-учеными требуют очень большого интеллектуального напряжения. Монахи задавали нам очень профессиональные вопросы. У них очень хорошая подготовка, они изучали и научные дисциплины. А мы прочли их многочисленные свитки? И у них другой тип мышления, для понимания которого нам нужны посредники из их среды.
– Какой самый важный вывод вы сделали и готовы озвучить из общения с Далай-ламой и другими буддийскими монахами-учеными?
– Что человечество не безнадежно. И что оно может, если напряжется, пойти по тому пути, который, возможно, ему и предназначен (природой, Создателем, я не знаю). А именно: не новые игрушки изобретать – вот, у нас такая кофеварка была, а теперь будет другая кофеварка, – а разобраться с сознанием. С тем, что такое мышление. Периодическая система Менделеева действует сама. Атомы знают, как им крутиться. Почему Вселенной понадобились существа, которые мыслят?

Шанс на рывок
175 миллиардов кубометров газа — в переработку!
Борис Марцинкевич
Из недавнего выступления премьер-министра России Михаила Мишустина следует, что правительство предлагает расширить географию месторождений, откуда разрешён экспорт сжиженного природного газа (СПГ), добавив в перечень перспективные участки недр, расположенные на значительном удалении от Единой системы газоснабжения (ЕСГ), к которым, соответственно, экономически нецелесообразно подводить трубопроводные магистрали. Речь идёт прежде всего о северных территориях Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.
На лицензионных участках Газпрома на севере Ямала — Малыгинском и Тамбейской группе месторождений — запасы газа составляют 9,9 трлн кубометров. Вот сообщение на официальном сайте Газпрома от 2 ноября 2021 года: "Сегодня зарегистрировано Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Тамбей", созданное на паритетной основе ООО "Газпром недра" (100%-е дочернее общество ПАО "Газпром") и АО "РусГазДобыча". Совместное предприятие будет разрабатывать и обеспечивать обустройство Тамбейского месторождения на полуострове Ямал с началом добычи газа с 2026 года. Лицензии на пользование участками недр, на которых расположено месторождение, будут переданы из ООО "Газпром недра" в ООО "Газпром добыча Тамбей" в 2022 году. Газ Тамбейского месторождения характеризуется высоким содержанием этана. Поэтому оно, наряду с месторождениями Надым-Пур-Тазовского региона, станет сырьевой базой для Комплекса по переработке этансодержащего газа в районе п. Усть-Луга Ленинградской области…" Справка: "Комплекс по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в п. Усть-Луга Ленинградской области — уникальный в мире кластер, объединяющий газопереработку, газохимию и сжижение природного газа. Строительство начато в мае 2021 года". Цитирую далее: "В состав КПЭГ войдут два мощных предприятия. Первое — интегрированный комплекс по переработке и сжижению природного газа (Газоперерабатывающий комплекс, или ГПК КПЭГ)". Я понимаю, как звучит этот "комплекс комплекса" (ГПК КПЭГ), но ничего поделать не могу — таков стиль пресс-службы Газпрома. Продолжаю цитировать: "Второе — технологически связанный с ГПК газохимический комплекс (ГХК КПЭГ)". То есть Газпром на двоих с РусГазДобычей намерен с 2026 года добывать на Тамбейском месторождении газ с повышенным содержанием этана. Этот газ по системе газопроводов Газпрома будет идти в Усть-Лугу, где его примет газоперерабатывающий завод, технологическая задача которого — извлечь этан и отправить его на дальнейшую переработку уже на газохимический комплекс. А ставший кристально чистым метан с этого завода будет отправляться на сжижение на СПГ-завод. То есть не два, а три предприятия. Очень грубо, без деталей: смесь этана и метана из Тамбейского месторождения приходит на газоперерабатывающий завод, который будет отделять этан от метана. После этого фракционирования этан — на газохимический комплекс, метан — на сжижение. В этом же сообщении Газпром раскрывает, какие компании какими предприятиями в Усть-Лужском комплексе владеют и кто является компанией-оператором.
Завод, отделяющий этан от метана вместе с СПГ-заводом, — РусХимАльянс, который является совместным предприятием Газпрома и РусГазДобычи. Завод по переработке этана, он же газохимический комплекс — ООО "Балтийский Химический Комплекс", дочерняя компания РусГазДобычи. РусГазДобыча на двоих с Газпромом будет добывать тамбейский газ — это СП "Газпром добыча Тамбей". Разделение метана и этана — тоже на двоих, но у этого СП другое название — РусХимАльянс. Сжижать газ Газпром и РусГазДобыча будут тоже на двоих. А вот перерабатывать эта РусГазДобыча должна была в гордом одиночестве, чтобы в таком же гордом одиночестве зарабатывать дополнительную прибыль на продаже полимеров, которые будет производить газохимический комплекс. Причина того, что Газпром сначала стоял в стороне от газохимического комплекса — не в злой воле РусГазДобычи, не в некоей коррупционной схеме, просто Газпром обязан действовать по правилам, установленным ФАС. Газпром подал прошение о разрешении купить 50% акций в газохимическом комплексе у РусГазДобычи. ФАС разрешила — Газпром получил от неё право купить 50% акций вот в том самом ООО "Балтийский химический комплекс".
С января 2021 года в этом большом проекте работают целых три компании. Газ на Тамбее будет добывать "Газпром добыча Тамбей", которая 50/50 принадлежит Газпрому и РусГазДобыче. По трубопроводам этот газ придёт на газоперерабатывающий завод компании РусХимАльянс, которая 50/50 принадлежит Газпрому и РусГазДобыче. Этот же РусХимАльянс будет сжижать метан на СПГ-заводе, а вот этан будет поступать на газохимический комплекс компании "Балтийский химический комплекс", которая 50/50 принадлежит Газпрому и РусГазДобыче. Проект один, но в трёх частях, каждая из которых ведётся отдельными компаниями, принадлежащими одним и тем же владельцам. Зачем Газпрому и этой самой РусГазДобыче не одно, а целых три СП? Сейчас будем разбираться.
Добыча газа на Тамбейском месторождении, пусть это месторождение и весьма сложное, о чём поговорим чуть позже, никаких импортных технологий уже не требует: так уж получилось, что в постсоветское время мы научились добывать газ даже из юрских отложений — глубоких и с высоким пластовым давлением. Значит, сюда никаких иностранных компаний с лицензиями-патентами не требуется, потому и отдельное СП с названием "Газпром добыча Тамбей". Переработка этана — это уже сложнее, потому как хочется самое современное, самое лучшее, самое экономически выгодное. Такие технологии в России отсутствуют, но технологии не являются чем-то эксклюзивным. Значит, есть возможность спокойно выбирать компанию-лицензиара, торговаться с поставщиками оборудования, пытаться что-то локализовать в России, на наших отечественных предприятиях. Потому компания "Балтийский химический комплекс" — отдельно. А самое сложное с технологической точки зрения — это фракционирование метана и этана и, конечно, сжижение метана, поскольку как не было у нас собственной технологии крупнотоннажного сжижения, так и нет. И вот тут выбор минимален: крупнотоннажные сжижения на нашей планете имеются только у двух компаний — у американской Air Products и у немецкой Linde. Так сложилось. При этом и Air Products, и Linde имеют технологии фракционирования, то есть для компании РусХимАльянс имелась возможность договориться о комплекте технологий с одной из них. Логика простая: заказ технологии фракционирования плюс заказ технологии крупнотоннажного сжижения — это много денег, что даёт шанс основательно поторговаться. И выбор между американцами и немцами был сделан достаточно быстро и достаточно уверенно. Строящийся в городе Свободном газоперерабатывающий завод — это технологии Linde. Мало того, проект компании НОВАТЭК под названием "Арктик СПГ 2", три технологических линии мощностью по 6,5 млн тонн в год каждая, — это тоже технология Linde. Два здоровенных многомиллиардных заказа в России у Linde имелись уже на момент создания дуумвирата Газпрома и РусГазДобычи, так что не должно быть ни малейшего удивления тому, что и газоперерабатывающий завод (ГПЗ) с СПГ-заводом были заказаны тоже у немцев. И, разумеется, не стоит сбрасывать со счетов и то, что три отдельных юридических лица — это разное проектное финансирование, весьма распространённая практика как в нефтяном, так и в газовом бизнесе. Памятуя об этом, разберёмся и с объёмами газа во всём этом проекте.
Усть-Луга — это не только единая производственная площадка для газоперерабатывающего завода, СПГ-завода и газохимического комплекса. Это ещё, как известно, — берег Балтийского моря и то самое место, где берёт начало магистральный газопровод "Северный поток — 2" (МГП СП-2). Следовательно, сюда же, в Усть-Лугу, приходит наземная часть СП-2, а это, напомню, 50 млрд кубометров газа в год. Ресурсный источник СП-2 — ЕСГ. Не какое-то отдельное месторождение, а вся наша ЕСГ, которая является самым надёжным ресурсным источником. Газпром управляет десятками месторождений, что позволяет ему комбинировать режим работы каждого из них. Для примера: на месторождении № 10 надо провести профилактический ремонт, но то, что на время ремонта придётся прекратить подачу газа в ЕСГ, можно компенсировать тем, что на месторождениях с первого по девятое объём добычи увеличим на 11%. Потому, когда Алексей Миллер и Александр Новак говорят о Газпроме как о надёжнейшем поставщике газа европейским потребителям, они делают это с полным основанием: нет таких возможностей ни у одной из стран, отправляющих в Европу газ по трубопроводам.
Не является секретным и ещё один факт: 5 декабря 2018 года Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию третьего, финального, газового промысла Бованенковского месторождения. С 2021 года добыча на Бованенковском месторождении достигла проектной величины — 115 млрд кубометров газа в год. Условно можно считать, что с этого момента именно Бованенковское месторождение обеспечивало поставку газа по обоим "Северным потокам". Они у нас были по 55 млрд кубометров в год каждый, объём добычи на Бованенковском, повторюсь, — 115 млрд кубов в год. Бованенковский газ доведён до Ленинградской области, но, казалось бы, к газохимическому кластеру отношения не имел, поскольку содержание этана в бованенковском газе минимально. Но это только на первый взгляд, поскольку у Газпрома в Усть-Луге получилась не арифметика, а вполне серьёзная алгебра.
Этансодержащего газа на фракционирование должно будет приходить 45 млрд кубометров в год. После удаления этана 20 млрд кубометров метана должно будет отправляться на сжижение — в составе СПГ-завода предусмотрены две технологические линии мощностью по 6,5 млн тонн в год каждая. Порядка 2 млрд кубометров в год предназначены для собственной электростанции: все эти заводы достаточно энергоёмки, зависеть от энергетической системы Ленинградской области Газпром с РусГазДобычей не намерены. Еще 3 млрд кубометров — это тот самый выделенный этан, который должен будет уходить на газохимический комплекс. Да, именно так в цифрах выглядит фраза "богатый этаном газ" — из 45 млрд кубометров газа после фракционирования можно извлечь 3 млрд кубометров этана, и этот показатель считается весьма высоким. Ещё разок, чтобы ничего не перепуталось: 45 млрд кубов газа прибыло, из них на дальнейшую химическую переработку убыло 3 млрд кубов, на электростанцию 2 млрд кубометров, на сжижение ещё 20 млрд кубометров. В остатке — 20 млрд кубометров метана, очищенного от любых примесей. И вот эти 20 млрд кубов по плану должны были уходить в СП-2, который, как все мы помним, вполне успешно мог начать работу зимой 2021 года, если бы не приключившееся у Олафа Шольца "разжижение головного мозга".
В Арктике, на Ямале, комбинация выглядит следующим образом: к тому времени, когда начнётся разработка Тамбейского месторождения, оно уже должно быть соединено с Бованенковским месторождением. Мощность трубопроводов, соединяющих Бованенково с Усть-Лугой, как я уже сказал, — 115 млрд кубометров, для СП-2 столько не требовалось, и это тоже важно.
На Бованенково газ — "сухой", этана в нём практически нет, газ с этаном — только на Тамбее. Смешивать газ двух этих месторождений нельзя ни в коем случае — замучаешься потом этан выделять. Следовательно, вот те 45 млрд кубов, которые должны приходить на газохимический кластер Усть-Луги с Тамбея, от Бованенково должны идти по выделенному трубопроводу. Есть выделенный трубопровод под газ с этаном — есть газохимический комплекс, нет выделенного газопровода — нет газохимического комплекса. Надеюсь, что рассказал достаточно понятно. "Газпром добыча Тамбей" должна выйти на 45 млрд кубометров годовой добычи, эти 45 млрд кубометров будут по трубе приходить к Бованенково и уходить с него по выделенному трубопроводу. Дальше вот та самая усть-лужская алгебра: из 45 млрд кубов 20 млрд кубов — на сжижение, 2 млрд кубов — на электростанцию, 3 млрд кубов этана — на дальнейшую переработку, 20 млрд кубов чистого метана — в трубы СП-2. Строительство газохимического кластера в Усть-Луге было начато, как уже было сказано, в мае 2021 года. К маю 2021 года был подписан контракт по оборудованию газохимического комплекса — это там, где из этана будут производить полиэтилен. Контракт с китайской компанией, и я даже не буду уточнять, с какой именно, поскольку важно именно начало строительства и сам факт контракта. Началось строительство и газоперерабатывающего завода вместе с СПГ-заводом, поскольку и контракт с Linde был уже подписан. И это — май 2021 года. Май 2021 года — момент, когда, скажем так, Рубикон был перейдён: под химический кластер выкупили все земельные участки, подписали контракт на само строительство — разумеется, не с российской компанией, а с китайской. Почему "разумеется"? Не от хорошей жизни, поскольку требовалась не просто строительная компания, а EPC-компания, ЕРС-контракт. Это не только строительство, но и переговоры с поставщиками оборудования, контракты с ними, поставка оборудования и его монтаж на месте. EPC — Engineering, Procurement, Construction. Для того чтобы взять на себя такой контракт, нужно иметь опыт одновременных переговоров с несколькими десятками зарубежных производителей, опыт проверки качества оборудования на заводах-изготовителях, разбросанных по разным странам, опыт логистики, доставки оборудования на площадку, опыт его монтажа и даже, по-хорошему, опыт переговоров с Ростехнадзором. Ростехнадзор вот на таких проектах ведёт себя жёстко, требовательно, и хорошо бы заранее знать, каким будет уровень жёсткости и требовательности, чтобы не переделывать, допустим, монтаж одного и того же оборудования по три-четыре раза.
У нас таких компаний в газовой отрасли — одна штука, и это — НИПИГАЗ (Научно-исследовательский и проектный институт по переработке газа), и я просто не имею права не сказать хотя бы несколько слов об этом славном институте, без которого наша газовая отрасль просто немыслима. Основан НИПИГАЗ был в 1972 году как головной институт страны в сфере переработки нефтяного газа, находящегося в ведении Миннефтепрома. Уже в 1978 году НИПИГАЗ начал вести свои первые проекты ГПЗ с японской компанией Japan Steel Works и с американцами из Fluor. И без иностранных словечек, скромненько: в 70–80-е НИПИГАЗ осуществлял проектирование и авторский надзор в качестве генерального проектировщика всех газоперерабатывающих мощностей нашей Западной Сибири. НИПИГАЗ — это больше сотни проектов газопереработки в СССР и в современной России. В 1995 году НИПИГАЗ был выкуплен СИБУРом, но кого это интересовало, пока контрольный пакет СИБУРа был в руках Газпрома? А вот после решения правления Газпрома о продаже контрольного пакета СИБУРа НИПИГАЗ, простите, стал частной компанией, такие дела. В современной России НИПИГАЗ — это ЗапСибНефтехим в Тобольске, это модернизация Московского НПЗ, модернизация Омского НПЗ, это строительство с нуля ГПЗ в городе Свободном, это ГХК там же, это "Арктик СПГ 2"… НИПИГАЗ подписал два контракта и по Усть-Луге — на разработку проектной документации для прохождения Главгосэкспертизы и ЕРС-контракт. Как уж там что происходило после Главгосэкспертизы — тайна, покрытая мраком, но результат оказался следующим: ЕРС-контракт по газохимическому комплексу был подписан с китайской СС7, ЕРС-контракт по ГПЗ и СПГ — с Linde, а НИПИГАЗ ушёл прочь: у него своих хлопот полон рот, и он, как и всегда за свои полсотни лет биографии, вполне успешно справляется.
Теперь давайте посмотрим, что получилось на день сегодняшний. Linde стараниями своей германской власти из России ушла целиком и полностью, и даже, поговаривают, смазывает лыжи ещё дальше — через Атлантику. По иску Газпрома арестовано всё имущество Linde, которое в России имелось: СП у немцев было много, проектов в газовой промышленности было немало. Общестроительные работы на площадке продолжаются — их там реально выше головы: три завода, расширение портовых мощностей, электростанция на горизонте, дороги всевозможные и далее по списку. Но и это ведь не всё, американцы нам ещё и трубы обоих "Северных потоков" взорвали. Для газохимического кластера это автоматически стало ещё одной проблемой с большой буквы — а куда девать те самые 20 млрд кубов метана, которые по плану должны были уходить в трубы СП-2? Даже если вдруг мы в самое ближайшее время разработаем и освоим собственную технологию крупнотоннажного сжижения — куда девать 20 млрд кубов метана? Удвоить производство СПГ? Но земельных участков вокруг Усть-Луги уже физически нет, там желающих работать в порту чуть ли не очередь. Наземная часть обоих "Северных потоков" на нашей территории в полном порядке, по ним Газпром вполне способен поставить на нашу западную границу два раза по 55 млрд кубометров газа в год. Предварительный объём инвестиций в газохимический кластер в Усть-Луге — 1 трлн рублей, которые могли бы нас хоть чуточку, но увести подальше от сырьевой иглы, дать возможность производить куда более маржинальную, более прибыльную продукцию.
К тому же газ Тамбея имеет повышенное содержание не только этана, но ещё и пропана с бутаном, которые тоже должны были стать товарной продукцией усть-лужского газохимического кластера. Кроме проблем вокруг обоих "Северных потоков" и Усть-Луги, не работает (уже из-за наших контрсанкций) МГП "Ямал — Европа", а это ещё 33 млрд кубометров газа в год на нашей западной границе, точнее, на границе Евросоюза (в лице Польши) и Белоруссии. Из-за отказа Прибалтики и Финляндии покупать наш трубопроводный газ за рубли на 6 млрд кубов теперь недозагружена система магистральных газопроводов "Сияние Севера". В связи с тем, что в этом году ожидается ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока Белорусской АЭС, "Сияние Севера" снизит загрузку ещё на 6 млрд кубометров: белорусы уверенно перешли на электрическое теплоснабжение своего промышленного и жилого фонда, поскольку экспорт электроэнергии, планировавшийся в Литву и Польшу, стал невозможен. Итого ещё 12 млрд кубометров газа на нашей западной границе, то есть общая цифра — 175 млрд кубометров!
Что делается для выправления положения? Июнь 2022 года, запрос губернатора Мурманской области Андрея Чибиса: а давайте газифицируем Мурманскую область? В феврале этого года в ведомственном журнале "Газпром проектирование" выудил сообщение о создании рабочего офиса "Центр — Север": Волхов — Кандалакша и Волхов — Мурманск, 27,5 млрд кубов для Мурманской области и для Карелии. А что со всеми остальными 150 млрд кубометров в год? "Ямал — Европа" позволяет, к примеру сказать, расширить на обоюдовыгодных условиях производственные мощности Гомельского завода азотных удобрений. "Сияние Севера" — потенциальная возможность строить заводы по производству аммиака, аммиачной селитры, карбамида в Псковской и Новгородской областях, что даст им шанс создать новые рабочие места и рвануть вверх с уровнем жизни. Но основная-то масса газа приходит именно в Ленинградскую область, именно там нужно искать, где можно расположить новые газохимические заводы или СПГ-заводы, то есть нужна плотная, серьёзная работа Ленинградской области, Газпрома и всех прочих наших компаний, занятых в газохимической отрасли. Но не все проекты возможны: если удастся включить газохимический комплекс в Усть-Луге, то все прочие объёмы газа окажутся практически чистым метаном, то есть варианты с этаном, пропаном, бутаном отпадают. Метан — это метанол, это аммиак и всё, что можно произвести из аммиака, самое маржинальное — производство карбамида, но под него потребуются серьёзные объёмы ещё и серной кислоты.
Но это шанс на рывок в газопереработке, которого у России не было никогда, в том числе и в советские времена. Аммиак и азотные удобрения — это то, что востребовано в любой стране мира, поскольку кушать хотят все, причём не три раза в неделю, а три раза в день. Такие объёмы — это явная, очевидная возможность разработать и реализовать комплексный проект развития всего нашего Северо-Запада. Того самого русского Нечерноземья, которое давным-давно, с советских времён, не блещет уровнем своего развития. Такой комплексный проект — это тысячи новых рабочих мест в Псковской, Новгородской и Ленинградской областях. Такой объём газопереработки — это, как говорилось во времена исторического материализма, опережающее развитие энергетики, причём серьёзное такое развитие. Напомню, что производство аммиака начинается с парового риформинга метана, а это, если грубо, — сначала пар подогреть до 430 градусов, на втором этапе нужно греть смесь пара и метана уже до 727 градусов. Химическая формула аммиака — NH3, водород — из метана, но нужен ещё и чистый азот, а он у нас из фракционной перегонки жидкого воздуха с тем ещё давлением в 250 атмосфер и работой турбин, то есть электроэнергии и тепловой энергии потребуется просто прорва. Такой комплексный проект, в котором хватит места и государственным, и частным компаниям, — это огромная загрузка химического машиностроения по всей России.
Если всё это моё эмоциональное описание возможного проекта государственного размаха и значения перевести на менее эмоциональный уровень, то всё можно выразить вот таким, пожалуй, предложением. Разрыв торговых связей в газовой отрасли с Евросоюзом позволяет разработать и реализовать в Северо-Западном регионе России масштабный проект территориально-производственного комплекса, а это в нашей стране научились делать ещё в начале 30-х годов прошлого века. На день сегодняшний бизнес-проект Балтийского химического комплекса — переработка этана в полиэтилен с дальнейшим экспортом. Это уже хорошо, поскольку и прибыльность такого бизнеса выше, чем при продаже непереработанного газа или СПГ, и новые рабочие места.
Однако у России есть ещё одна проблема — среднетоннажная и малотоннажная газохимия. Разделение между средне- и малотоннажной химией достаточно условное, поскольку за основу берут единичную мощность предприятия: от 50 до 150 тысяч тонн в год — среднетоннажная, менее 50 тысяч тонн в год — малотоннажная. В России к такому разделению относятся с ещё меньшим вниманием, поскольку у нас что среднетоннажного, что малотоннажного не хватает катастрофически: есть позиции, по которым импортозависимость по-прежнему составляет 100%.
Вообще продукция средне- и малотоннажной химии насчитывает десятки тысяч наименований, но основные группы — пигменты, катализаторы, сырьё для специальных волокон и специальные пластики. Мировой рынок среднетоннажной химической продукции — порядка 1,1 трлн долларов в год, мировой рынок малотоннажной — около 100 млрд долларов. Можно, кстати, пусть и условно, разделить средне- и малотоннажную химическую продукцию по стоимости килограмма готовой продукции. Среднетоннажная — это от 1,5 до 5 долларов за килограмм, малотоннажная — от 5 до 10 долларов за тот же килограмм. То, что мировым лидером химической отрасли безоговорочно является Китай — просто факт, его доля на мировом рынке составляет 44%. Россию на этом рынке рассмотреть можно только с огромным трудом, и результат тоже понятен: в Китае производство химической продукции в 2021 году составляло 8,9% ВВП этой страны, в России в том же году — 1,1%. Внимание, вопрос: Китай импортирует что природный газ, что нефть, Россия то и другое экспортирует, но на мировом рынке химии лидер не Россия, а Китай. Внутренние цены на природный газ в России — около 70 долларов за тысячу кубометров, средние цены трубопроводного импорта для Китая — 280 долларов за тысячу кубов, импорт СПГ в пересчёте — около 600 долларов, а именно цена сырья является основным параметром для себестоимости продукции переработки. Вопрос прост: нас вот такая ситуация точно устраивает?
Подводя итоги, можно сказать, что ситуация, сложившаяся в связи с прекращением работы магистральных газопроводов "Северный поток — 1" и "Ямал — Европа", с незапуском "Северного потока — 2" и сокращением объёмов поставок по сети МГП "Сияние Севера" — уникальна. Можно вести себя пассивно — авось само рассосётся, Европа одумается, но это не наш метод. Россия стараниями политиканов Евросоюза получила уникальную возможность кратно увеличить масштабы всего, что связано с химической переработкой природного газа во всех сегментах производств — крупнотоннажных, среднетоннажных и малотоннажных. Гигантский объём газа, поставляемого по четырём указанным маршрутам в Северо-Западный регион нашей страны, по моему глубокому убеждению, требует государственного планирования, которое, разумеется, не должно исключать участия частного бизнеса, но не как определяющей силы, а как сегмента, встраиваемого в государственную экономическую политику. И то, что Северо-Запад России максимально удалён от наших восточных границ, как ни странно, тоже положительный момент, поскольку на востоке нам бы пришлось конкурировать с химической продукцией Китая. Могу ещё раз повторить цифры по объёмам газа, приходящего к нашей западной границе: 110 млрд кубометров для отсутствующих поставок по "Северным потокам", 20 млрд кубометров, необходимых для реализации проекта усть-лужского кластера, 33 млрд кубометров для отсутствующих поставок по "Ямалу — Европе" и 12 млрд кубометров — снижение объёма поставок по сети "Сияние Севера". 175 млрд кубометров в год — невероятный объём, невероятные потенциальные возможности для разворачивания химических производств в Ленинградской, Новгородской, Псковской и Смоленской областях, возможность расширения сотрудничества с Белоруссией. Даже если учесть начало разработки проекта поставок газа в Карелию и в Мурманскую область, то это только 25–27 млрд кубов в год, всё равно 150 млрд кубов — в чистом сносе. Переработка такого объёма потребует именно комплексного подхода, с пространственным планированием, с созданием десятков тысяч новых рабочих мест, строительством новых теплоэлектростанций, с расширением транспортной и инженерной инфраструктуры. Надо обязательно воспользоваться такой возможностью!

30-летие «Газпрома»
Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в мероприятии по случаю 30-летия ПАО «Газпром».
В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!
А.Миллер: Добрый день, Владимир Владимирович!
В.Путин: Здравствуйте!
Замёрз, Алексей Борисович?
А.Миллер: Нет.
В.Путин: Холодно у вас там? Сколько температура?
А.Миллер: Температура где-то минус пять градусов. Ветер с залива.
В.Путин: Понятно.
Сегодня мы отмечаем 30-летие нашей известной на весь мир компании «Газпром». Это одна из крупнейших, ведущих компаний России и глобальный лидер по запасам, добыче и поставкам природного газа.
Рад поздравить с этой значимой датой всех вас, всех работников «Газпрома», а это без малого полмиллиона человек (более 490 тысяч): рабочие, инженеры, геологи, буровики, строители, представители десятков других профессий – специалисты действительно высшего класса, которыми гордится вся страна.
И конечно, сегодня наши самые тёплые слова и добрые пожелания – в адрес ветеранов отечественной газовой промышленности. Это именно они заложили её традиции, начинали освоение богатейших, уникальных месторождений, строили целые города новые и посёлки, прокладывали энергетические маршруты мирового значения.
«Газпром» как самостоятельная компания создавался в сложное для страны время, в самом начале 1990-х годов, и решение сохранить его единый, цельный комплекс оказалось стратегически верным. «Газпром» развивался, тянул за собой, поддерживал многие другие отрасли, целые регионы, социальную сферу этих регионов, стал одним из локомотивов экономического возрождения и роста.
Сегодня «Газпром» демонстрирует высокую ответственность в своей работе, эффективность, устойчивость. Несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, «Газпром» идёт вперёд, запускает новые проекты. А это и геологоразведка, и добыча, и глубокая переработка сырья, участие в строительстве Северного широтного хода, другой транспортной инфраструктуры.
Отмечу и то, что компания обеспечивает заказами высокотехнологичный отечественный бизнес, в том числе средние и малые предприятия, молодые исследовательские команды.
И конечно, «Газпром» по уже сложившейся, давней традиции особое внимание уделяет реализации востребованных социальных, гуманитарных проектов: поддерживает культуру, образование, важные экологические программы, строит жилые дома и школы, помогает оснащать больницы и благоустраивать улицы, набережные, парки.
Так, только в рамках проекта «Газпром – детям» – а эту программу, по-моему, если ошибусь, Алексей Борисович меня поправит, где-то с 2007 года «Газпром» ведёт, – в рамках программы «Газпром – детям» по всей России возведено уже более двух тысяч спортивных комплексов, площадок, пришкольных стадионов.
«Газпром» серьёзно вкладывается в комплексное развитие городов, сельских территорий, регионов нашей страны – и, конечно, правильно делает. Хочу поблагодарить за это руководство, акционеров, всех работников компании.
Отмечу и то, что перспективные планы «Газпрома» всегда устремлены в будущее, рассчитаны на годы и даже десятилетия вперёд – понятно, что цикл при реализации ваших проектов достаточно большой, – и это в полной мере отвечает национальным интересам, целям и приоритетам России как большой державы, одного из суверенных центров многополярного мира.
Конкретные задачи, новые проекты «Газпрома» прорабатываются на основе экспертного, детального анализа и прогноза изменений, тенденций на глобальных рынках. А они говорят о том, что газ был и ещё очень долго будет ценнейшим ресурсом, реальным активом, спрос на который будет только расти.
Так, за предыдущие 30 лет мировое потребление газа увеличилось почти вдвое, а в ближайшие 20 лет, по экспертным оценкам, прибавит ещё как минимум 20 процентов, а может, и больше. В так называемый переходный период востребованность будет колоссальной. Причём более половины такого прироста придётся на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего, конечно, на Китайскую Народную Республику, имея в виду темпы роста её экономики.
В этой связи по-настоящему стратегическую важность для России приобретает дальнейшее развитие уже созданного на востоке нашей страны колоссального газопромышленного комплекса. Он включает в себя Якутский и Иркутский центры газодобычи, строящийся Амурский газоперерабатывающий завод, магистральный газопровод «Сила Сибири», который получил новые мощности с запуском в декабре прошлого года Ковыктинского газоконденсатного месторождения.
В целом в области международного сотрудничества, экспортных контрактов перед «Газпромом» сейчас стоят масштабные, сложные задачи. Они связаны с перестройкой логистических маршрутов, закреплением на новых рынках. Мы вчера только с Алексеем Борисовичем, наверное, часа два обсуждали все эти планы с нашими возможными партнёрами.
Но хочу подчеркнуть: при всей значимости вопросов международной торговли, главное для нас – это собственное развитие, обеспечение уверенного, стабильного экономического роста, экономической безопасности страны, бесперебойного снабжения наших предприятий и регионов. И конечно, это повышение качества жизни людей во всех регионах России.
Считаю одним из наиболее значимых и ответственных проектов «Газпрома» расширенную программу социальной газификации, в рамках которой газовые сети бесплатно подводят до границ земельных участков граждан. В текущем году эта программа стала бессрочной. Кроме того, теперь она распространена не только на жилые дома, но и на социально значимые объекты, образовательные и медицинские учреждения.
При этом, напомню, предусмотрена дополнительная поддержка для отдельных категорий граждан, в том числе многодетных семей, ветеранов боевых действий. Имею в виду субсидии, которые люди могут получить на проведение необходимых работ и покупку газового оборудования для своих домов. Федеральные средства на эти цели выделены, и прошу держать эту работу на постоянном контроле.
В ходе сегодняшнего мероприятия у нас запланировано несколько прямых включений с объектов компании «Газпром» в различных регионах страны: от Балтики до Дальнего Востока.
Но прежде хотел бы ещё раз поздравить работников «Газпрома» с юбилеем компании и поблагодарить вас за отличную работу на благо наших граждан, всей нашей огромной страны, пожелать вам новых достижений!
Передаю слово председателю правления «Газпрома» Алексею Борисовичу Миллеру.
Пожалуйста, Алексей Борисович.
А.Миллер: Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы находимся в Петербурге, в «Лахта-центре».
В «Лахта-центре» расположена штаб-квартира «Газпрома», отсюда мы осуществляем технологическое управление всей единой системой газоснабжения России, от Петропавловска на Камчатке до Калининграда – мы работаем во всех часовых поясах.
И в осенне-зимний период, когда бывает особо холодно, когда наступают сильные морозы, «Газпром» надёжно и стабильно, бесперебойно поставляет газ своим потребителям: и электроэнергетике, и промышленности и, конечно же, населению.
«Газпром» реализует уникальные проекты, и эти уникальные проекты формируют газовую отрасль России XXI века.
Сегодня компания «Газпром» – это один из лидеров мирового энергетического рынка, крупнейшая компания страны, которая обеспечивает полное энергоснабжение Центральной России и обеспечивает не только газом наших потребителей, но и электроэнергией, и теплом.
Мы накопили уникальный опыт работы в Арктике, накоплены собственные компетенции, опыт и знания. «Газпром» создал новый центр газодобычи – Ямальский. В настоящее время идёт обустройство новых крупных месторождений добычи углеводородов. И мы можем ответственно сказать, что Россия здесь, в Арктике, – впереди планеты всей. Нам в Арктике равных нет.
Мы успешно работаем на востоке. Совсем недавно, Владимир Владимирович, Вы дали команду на пуск в эксплуатацию Ковыктинского месторождения и ввод в эксплуатацию второй очереди газопровода «Сила Сибири». Теперь «Сила Сибири» эксплуатируется на всей своей протяжённости – три тысячи километров.
Крупнейшие месторождения Восточной Сибири – Ковыктинское и Чаяндинское – обладают многокомпонентным составом газа, а это значит, что мы строим Амурский газоперерабатывающий завод для получения продукции для газохимической отрасли.
«Газпром» развивает магистральный транспорт во всех регионах страны, и в настоящее время мы готовимся к началу реализации таких проектов, как «Сила Сибири – 2», к началу старта строительства газопровода «Союз Восток» через территорию Монголии, дальневосточного газопровода, и, конечно, перемычки, которая соединит газотранспортную систему, которая у нас создана в европейской части страны, с теми газотранспортными мощностями, которые созданы в рамках Восточной газовой программы.
Магистральный транспорт – это, конечно же, основа роста газоснабжения и газификации. Газификация на селе, конечно, в первую очередь – это новое качество жизни, а рост газоснабжения и газификации регионов, без сомнения, – это новые возможности для сельского хозяйства и для промышленности.
Наших потребителей можно заверить, что газа в России будет много в течение долгих десятилетий. Залогом тому является огромная, крупнейшая в мире ресурсная база.
Флагманом добычи является Ямальский центр газодобычи и его сердце – Бованенковское месторождение. И мы передаем слово Бованенково.
Д.Щёголев: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Алексей Борисович!
Докладывает генеральный директор «Газпром добыча Надым» Дмитрий Павлович Щёголев. Я нахожусь на полуострове Ямал, на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении.
Эксплуатация Бованенково началась в 2012 году. За это время мы ввели в эксплуатацию три газовых промысла, достигли проектных показателей и можем добывать более ста миллиардов кубометров газа в год. Ежегодно увеличивается количество эксплуатационных газовых скважин, сегодня в работе 595 скважин из 770 проектных.
Одновременно с дообустройством Бованенково мы готовимся к вводу в эксплуатацию Харасавэйского месторождения, это чуть более ста километров к северо-западу отсюда.
Сегодня на Харасавэе пробурено сто газовых скважин из 167 проектных, ведётся строительство установки комплексной подготовки газа, дожимной компрессорной станции, газопровода подключения Харасавэй – Бованенково.
Промышленную добычу газа на Харасавэе мы планируем начать в 2024 году. Харасавэй добавит ещё 32 миллиарда кубометров газа в год в баланс «Газпрома».
Сегодня на Бованенково работают около трёх тысяч наших сотрудников, ещё тысяча сотрудников вахтовым методом будут трудиться на Харасавэйском месторождении. Суровые климатические условия мы компенсируем устройством жизни наших работников: это современные вахтовые комплексы, спортивные залы, столовые, бассейн, концертный зал.
30-летие «Газпрома» – значимое событие для нашего коллектива. Работать в «Газпроме» почётно и ответственно. Мы уверены, у компании большое и славное будущее.
А.Миллер: Уважаемый Владимир Владимирович!
Газ с Бованенково поступает в район Выборга, где «Газпром» построил завод по сжижению газа. В области сжижения мы нарабатываем свои собственные компетенции по технологиям сжижения, нарабатываем свой собственный опыт. И я передаю слово коллективу компании «Газпром СПГ Портовая».
А.Стуков: Докладывает генеральный директор компании «Газпром СПГ Портовая» Антон Владимирович Стуков.
Мы находимся на комплексе по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа. Предприятие расположено на северо-восточном побережье Финского залива.
Наш завод может производить полтора миллиона тонн сжиженного природного газа в год. Комплекс был запущен в сентябре прошлого года, и к настоящему времени предприятием уже произведено более полумиллиона тонн СПГ.
Комплекс подключён к единой системе газоснабжения России. На установках завода газ проходит необходимую подготовку и затем направляется непосредственно на сжижение. Два цеха с газовыми турбинами «Ладога» обеспечивают компримирование хладагента. Температура сжиженного природного газа – около минус 160 градусов, он поставляется для нужд общественного транспорта Санкт-Петербурга. А с помощью плавучего хранилища – судна-накопителя «Портовый», мы осуществляем морские отгрузки СПГ на суда-газовозы.
Нашей главной задачей является обеспечение независимого автономного снабжения Калининградской области природным газом. Эта задача была поставлена Вами, Владимир Владимирович, и она успешно выполнена.
Уважаемые коллеги, каждый из нас стремится работать с высокой самоотдачей и максимальной ответственностью. Мы, как и весь многотысячный коллектив «Газпрома», прилагаем все усилия для обеспечения энергетической безопасности нашей страны.
А.Миллер: Уважаемый Владимир Владимирович!
В Восточной Сибири создан уникальный газовый комплекс, в который входят объекты добычи, транспорта и переработки, и эти объекты объединяет уникальный, самый современный в мире магистральный газопровод «Сила Сибири». И я передаю слово компании «Газпром трансгаз Томск».
В.Бородин: Докладывает генеральный директор «Газпром трансгаз Томск» Владислав Иванович Бородин.
Мы находимся на компрессорной станции «Атаманская» магистрального газопровода «Сила Сибири». Со мной рабочие, инженеры, руководители, которые обеспечивают надёжную эксплуатацию газопровода.
Строительство «Силы Сибири» велось с 2014 года в экстремальных природно-климатических условиях. Трубы прокладывали через горные и сейсмоактивные территории, вечномёрзлые и скальные грунты.
Сегодня «Сила Сибири» – это новые возможности для газификации востока России на десятилетия вперёд. Уже сейчас природный газ идёт на котельные и предприятия, в том числе на космодром Восточный.
Планируется наращивать и экспортную производительность газопровода. Для этого запланирован ввод вторых цехов на семи компрессорных станциях, которые названы в честь первопроходцев Сибири XVII века. Мощность восьмой станции – КС «Атаманская», где мы сейчас находимся, – к концу года увеличится почти в два раза, со 128 до 224 мегаватт.
Наша компания работает на благо страны, и каждая её победа – это победа каждого из жителей России. Вместе мы сила – «Сила Сибири», сила «Газпрома», сила России!
А.Миллер: Уважаемый Владимир Владимирович!
Газ Восточной Сибири является многокомпонентным, и поэтому «Газпром» в этом регионе создаёт мощности по переработке газа, для того чтобы продукты переработки поставлялись другим высокотехнологичным отраслям.
Я передаю слово Амурскому газоперерабатывающему заводу.
Ю.Лебедев: Докладывает генеральный директор «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Владимирович Лебедев.
После выхода на полную мощность Амурский ГПЗ будет перерабатывать 42 миллиарда кубических метров газа в год.
Наш завод уже стал основой для формирования крупного газохимического кластера в Амурской области. Продукция Амурского ГПЗ – этан, пропан, бутан, пентан-гексан – послужит для производств полиэтилена, полипропилена, различных пластмасс, строительных материалов, моторных топлив и другой продукции, которая востребована экономикой нашей страны и за рубежом.
Редкий газ гелий, который наш завод будет производить в больших количествах, необходим для развития высокотехнологичных отраслей промышленности: приборостроения, космонавтики, электроники, а также медицины.
Рядом с заводом сейчас строится газохимический комплекс, который инфраструктурно и технологически связан с нашим предприятием.
Для строительства и эксплуатации Амурского ГПЗ сегодня в город Свободный переезжают самые лучшие специалисты со всей страны. Здесь формируется трудовой коллектив с уникальными компетенциями.
Наш завод – это ещё и современное автоматизированное предприятие.
Сегодня в нашей компании приняты для эксплуатации завода 2500 человек. С выходом на полную мощность коллектив составит 3200 специалистов. Опыт и знания, полученные здесь рабочими и инженерами, позволят развивать перерабатывающую промышленность и внедрять самые современные технологии, которые надёжно обеспечат Россию газом и продуктами его переработки в XXI столетии.
А.Миллер: Уважаемый Владимир Владимирович!
Без сомнения, главной социальной программой «Газпрома» является программа газификации и догазификации.
Газификация на селе, без сомнения, – это новое качество жизни, а рост газоснабжения, газификации регионов, – это новые возможности для развития сельского хозяйства и промышленности в этих регионах.
Я передаю слово Тульской области.
С.Густов: Добрый день!
Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Алексей Борисович! Уважаемые коллеги!
Докладывает генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз» Густов Сергей Вадимович.
В настоящее время «Газпром» реализует программу развития газоснабжения и газификации в 72 субъектах Российской Федерации. До 2025 года газ придёт вновь в 4500 городов, сёл и деревень в нашей стране. Программа выполняется в полном объёме.
В соответствии с Вашим поручением, Владимир Владимирович, в конце 2021 года начата догазификация страны – это проведение за счёт средств «Газпрома» газопроводов до границ земельных участков заявителей. Только в 2022 году мы провели газ до 504 тысяч домов. И это программа, которая обеспечена материальными, техническими и финансовыми ресурсами. Всё, что необходимо для газификации и догазификации, производится у нас в стране в достаточном количестве и отличного качества.
Спасибо, Владимир Владимирович, за Ваше внимание и поддержку этой масштабнейшей программы, которую реализует «Газпром». «Газпром», партия «Единая Россия», Правительство Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума – все мы вместе трудимся над тем, чтобы выполнить поставленную задачу.
Всё новые и новые дома подключаются к газу, промышленные, сельскохозяйственные предприятия, социальные объекты. Сегодня с губернатором Тульской области Алексеем Геннадьевичем Дюминым мы откроем новый газопровод, который позволит обеспечить газом 300 домов, а значит, в них будет комфортно, уютно и тепло, в том числе и с экономией на отоплении.
Самое главное – выполнить ту задачу, которую Вы поставили, Владимир Владимирович: обеспечить полную технически возможную газификацию страны.
С праздником вас, уважаемые коллеги, с 30-летием нашей компании!
А теперь я передаю слово губернатору Тульской области Дюмину Алексею Геннадьевичу.
А.Дюмин: Добрый день, уважаемые Владимир Владимирович, Алексей Борисович!
Разрешите тоже присоединиться к поздравлениям, поздравить весь руководящий состав, персонал отрасли с юбилеем, поблагодарить за активное участие в газоснабжении нашего региона! Это даёт абсолютно новые возможности для решения задач и развития региона в различных сферах, но самое главное и ключевое, что стоит во главе угла, – это комфорт наших жителей.
В августе 2020 года вместе с Алексеем Борисовичем в городе-герое Туле мы подписали программу догазификации нашего региона до 2025 года, в которой предусмотрено подведение газа в 363 населённых пунктах нашей области. Во исполнение Вашего поручения по социальной догазификации – в регионе она идёт полным ходом, эта программа востребована, её оценили жители – уже подписано семь тысяч договоров, газ подведён к границам 3,5 тысячи участков, домовладений. Также по этой программе предусмотрено [догазифицировать] ещё 17 тысяч домовладений.
Уважаемый Владимир Владимирович, во исполнение Вашего поручения также разработана и уже реализуется региональная мера поддержки для 13 льготных категорий граждан – субсидии в размере 120 тысяч рублей.
Отдельно хочу остановиться и ещё раз сказать слова благодарности лично Алексею Борисовичу, всему руководству компании за их активное – и Вы об этом говорили, Владимир Владимирович, – участие в социальной жизни нашего региона.
За семь лет компанией «Газпром» на территории Тульской области построено два физкультурно-оздоровительных комплекса, 67 многофункциональных спортивных площадок, на которых жители с удовольствием проводят время – и в летнее, и в зимнее время. Введён в эксплуатацию большой ледовый дворец, который дал толчок развитию хоккея в нашем регионе, и уже есть две молодёжные команды и команда ВХЛ, которая показывает неплохие результаты. Кроме того, продолжается строительство многофункционального легкоатлетического манежа, который после ввода в строй позволит принимать соревнования самого высокого уровня – как всероссийские, так и на международном уровне.
Уважаемый Владимир Владимирович, всё то, что уже реализовано, и те планы и задачи, которые стоят перед нами, которые мы будем реализовывать, были бы невозможны без Вашего личного участия и без тех поручений, которые Вы уже дали. Большое Вам спасибо, Вам лично, за внимание к этой сфере, Алексею Борисовичу – за активное участие в развитии нашего региона.
(Обращаясь к А.Миллеру.) Уважаемый Алексей Борисович, пользуясь случаем, хотел бы довести до Вас, что сегодня я подписал обращение на Ваше имя с дополнительной просьбой о постройке многофункциональных спортивных площадок, которых ждут жители в отдалённых населённых пунктах, муниципальных образованиях. Я уверен, что в этот праздничный день – «Газпром»: мечты сбываются!» – решение будет положительным, и в ближайшее время мы уже увидим определённые результаты.
Ещё раз поздравляю с юбилеем ваш коллектив, всё ваше руководство!
Владимир Владимирович, большое спасибо.
Доклад закончил.
А.Миллер: Уважаемый Владимир Владимирович!
Традиционно, когда в населённый пункт приходит газ, мы торжественно осуществляем поджиг контрольного факела.
Прошу дать разрешение на поджиг контрольного факела.
В.Путин: Пожалуйста, разрешаю, конечно.
(Торжественный поджиг газового факела в газифицированной деревне Кресты Тульской области.)
А.Миллер: Уважаемый Владимир Владимирович!
«Газпром» – социально ответственная компания, и мы, как Вы отметили, с 2007 года реализуем программу «Газпром – детям». В 74 регионах Российской Федерации построено более двух тысяч спортивных объектов, из них 202 физкультурно-оздоровительных комплекса.
Месяц тому назад мы ввели в эксплуатацию Академию единоборств в Сочи. Я передаю слово «Сириусу».
Е.Михайлова: Докладывает член правления публичного акционерного общества «Газпром» Елена Владимировна Михайлова.
В прошлом году в рамках проекта «Газпром – детям» введено в эксплуатацию 70 различных объектов: построено 19 физкультурно-оздоровительных комплексов, 46 плоскостных сооружений, пять объектов реконструировано. Совершён прорыв в Дальневосточном федеральном округе: построено семь физкультурно-оздоровительных комплексов, один реконструирован.
Сегодня мы находимся в стенах новой Академии единоборств, которая станет домом для спортсменов, занимающихся дзюдо и самбо, от самых маленьких до сборных команд Российской Федерации и наших прославленных олимпийцев. Это масштабный, современный спортивный комплекс мирового класса площадью 63,5 тысячи квадратных метров. Построен по самым высоким стандартам в рекордно короткие сроки – за 2,5 года.
Наш уникальный комплекс имеет два тренировочных зала, гостиницу для спортсменов, гидротермальный комплекс с бассейном, медико-восстановительный центр.
Также в Олимпийском парке нами реконструирован «Ледяной куб» и построен центр проведения соревнований, который имеет уникальный зал с трибунами, помещения для спортсменов, судейских бригад и медиацентр.
Желаем нашим борцам успехов и новых великих побед! Вместе мы строим здоровое будущее нации. Ура!
Передаю слово президенту Федерации дзюдо России Сергею Игоревичу Соловейчику.
С.Соловейчик: Спасибо, Елена Владимировна.
От семьи российского дзюдо благодарю Вас, Владимир Владимирович, Правительство Российской Федерации, компанию «Газпром», а также руководство федеральной территории «Сириус» за столь нужный нам подарок. Мы всегда мечтали о собственном доме, и благодаря вашей поддержке сегодня на татами Академии единоборств состоится первая тренировка.
В Академии единоборств лучшие российские дзюдоисты будут совершенствовать своё мастерство, чтобы достойно выступать на крупнейших мировых соревнованиях.
Наряду с тренировками сборных команд в новой академии будут оттачиваться наши приоритетные программы: «Дошкольное дзюдо», «Школьное дзюдо», «Семейное дзюдо», – которые мы разработали совместно со специалистами Министерства просвещения и федеральной территории «Сириус». Благодаря этим программам сотни тысяч детей нашей страны получат на татами физическое, духовное и, самое главное, патриотическое воспитание, станут достойными гражданами России.
Спасибо вам!
А.Миллер: Уважаемый Владимир Владимирович!
В «Лахта-центре» предусмотрены обширные пространства для объектов программы «Газпром – детям». Это объекты для творческого, спортивного, интеллектуального развития. В «Лахта-центре» будет открыт самый современный планетарий, будет открыт большой образовательный, досуговый центр для детей и подростков, где они смогут получить новые знания и новые навыки. Без сомнения, программа «Газпром – детям» – это большой вклад в будущее России.
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с 30-летием «Газпрома»! И, как мы говорим в «Газпроме»: и продолжим работу!
В.Путин: Уважаемый Алексей Борисович! Уважаемые коллеги, друзья!
Сейчас только мы прошлись по некоторым объектам, которые создаёт или уже эксплуатирует «Газпром», реализует их отчасти и выстраивает планы развития в целом. Но это, конечно, далеко не всё, что есть у «Газпрома» и что делает «Газпром», это просто небольшой срез.
Но даже если ещё раз вернуться к тому, о чём сейчас коллеги говорили, – Бованенковское месторождение и Харасавэйское: в первом случае – 4,9 триллиона кубических метров разведанных запасов, почти пять триллионов, во втором случае, около двух триллионов. Это астрономические запасы для любой страны, я уже не говорю о других возможностях «Газпрома», которые просто несоизмеримы ни с одной газодобывающей страной мира. Это колоссальные запасы.
Завод СПГ, проектная производительность – полтора миллиона тонн СПГ в год. Но на что я обратил внимание в ходе этого доклада, доклада по этому объекту? На предприятии работает компрессорная станция «Ладога» отечественного производства. Мы знаем: ещё в прошлом да и сегодня она ещё отчасти сохраняется – зависимость от иностранных производителей в этой части работы компании.
«Газпром» – заказчик для нашего энергического машиностроения, для предприятий энергетического машиностроения. Есть заказ, и с учётом наших компетенций, подготовки наших инженерных, научных кадров, при наличии заказов, в данном случае со стороны «Газпрома», это якорный заказчик, но будут и другие, и это будет подталкивать развитие отечественного энергетического машиностроения, и в этом тоже немаловажная, существенная роль «Газпрома». Это только одно из направлений деятельности, где мы наблюдаем синергию работы «Газпрома» и смежных предприятий.
Когда я сказал о смежных предприятиях – есть синергия и в других отраслях. Вот коллега докладывал о компрессорной станции «Атаманская» в Амурской области и вскользь упомянул о подаче газа на космодром Восточный. Но послушайте: и в одном случае это огромный, важнейший проект для страны, и во втором – развитие космической отрасли. И казалось бы: ну что, снабжение газом… Но это кардинальным образом меняет возможности космодрома Восточный, имея в виду его гражданскую направленность. Экономика всего предприятия, космодрома, кардинально меняется, а это значит, что Россия получает дополнительные возможности для развития и космической отрасли в том числе, и в данном случае – совершенно очевидно – при поддержке «Газпрома».
Или взять Амурский газоперерабатывающий завод. Конечно, «Газпром» как крупнейшая добывающая газ компания в мире должна и делает это – постепенно всё больше и больше развивает направления, связанные с газопереработкой, в данном случае с газохимией. В этом, конечно, будущее, совершенно очевидно, так же как и при переработке другого энергетического сырья, включая нефть и уголь в том числе. И это тоже очень важное, серьёзное направление развития «Газпрома».
Мы говорили сейчас, привели в качестве примера большую, масштабную, общегосударственную работу «Газпрома» по газификации. Мы знаем, что некоторые специалисты, экономисты считают, что эта работа низкомаржинальная, она не приносит больших доходов «Газпрому». Но я считаю, что «Газпром» делает абсолютно правильно, развивая эти программы, потому что он создаёт рынок на будущее. Рост благосостояния – а подача газа в домохозяйства, безусловно, повышает уровень благосостояния российских семей, – так вот рост благосостояния, конечно, создаёт будущего потребителя, причём по очень многим направлениям.
В этой связи отмечу, конечно, и такое очень важное направление, как обеспечение газомоторным топливом всей российской экономики и автотранспорта, и комбыта, и легкового транспорта. Очень важное направление, и прошу, конечно, вас – и нас, безусловно, услышат руководители регионов – уделять этому направлению должное внимание.
Что касается таких социальных программ, как «Газпром – детям», – а их в России «Газпром» осуществляет немало, – то это то же, что я говорил по поводу газоснабжения: это, собственно, укрепление будущего рынка. Потому что и развитие медицинской части, оздоровительной, спортивной – это всё работа на наших граждан, на наших людей, на ваших сегодняшних и будущих потребителей. И это имеет не только социально-политическое, внутриполитическое, но и экономическое измерение – это совершенно очевидная вещь.
Хочу вас поблагодарить и за последний объект в рамках программы «Газпром – детям» – это зал для борьбы, дзюдо и самбо. Я уверен, что он выполнен на уровне самых лучших стандартов.
(Обращаясь к А.Миллеру.) Алексей Борисович, мы с Вами договаривались о том, что мы там побываем лично, посмотрим. И поскольку, я вижу, шапку Вы носите, как Соловей-разбойник, это лишний раз подтверждает отдельные черты Вашего характера. Как мы и договаривались, давайте вместе выйдем – хоть Вы и не занимались этим видом спорта, – вместе выйдем на татами в этом замечательном зале и посмотрим, как это функционирует, вместе с детьми, которые там сегодня занимаются.
А что касается «Лахта-центра», который построен по Вашей инициативе, то думаю, что он будет служить и «Газпрому», и всем людям, которые проживают непосредственно рядом с этим объектом, имея в виду те возможности, которые «Лахта-центр» имеет и предоставляет возможным потребителям. Это 462 метра, огромное здание, самое высокое здание Европы. Уверен, что на такой же рекордной высоте будет оставаться и «Газпром».
Желаю Вам успехов и поздравляю с юбилеем!
Всего хорошего!

Запуск Ковыктинского месторождения
Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ковыктинского месторождения и участка Ковыкта – Чаянда газопровода «Сила Сибири».
Извлекаемые запасы Ковыктинского месторождения – 1,8 триллиона кубометров газа и 65,7 миллиона тонн газового конденсата, проектная мощность – 27 миллиардов кубометров газа в год.
Газопровод «Сила Сибири» проходит по территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области. В декабре 2019 года начались поставки газа Чаяндинского месторождения до Благовещенска на границе с КНР. Для подключения к «Силе Сибири» Ковыктинского месторождения построен 800-километровый участок Ковыкта – Чаянда.
* * *
В.Путин: Уважаемые коллеги, дорогие друзья, добрый день!
Сегодня у нас с вами особое, знаменательное, хорошее событие для отечественной газовой отрасли да и для всего топливно-энергетического комплекса России, для экономики в целом.
На карте страны появляется новый, Иркутский центр газодобычи. Мы запускаем уникальное Ковыктинское газоконденсатное месторождение – крупнейшее в Восточной Сибири. Его извлекаемые запасы – 1,8 триллиона кубометров газа.
Для доставки природного газа построен трубопровод длиной 800 километров. Он соединит Ковыктинское месторождение с Чаяндинским в Якутии.
Этот участок дополнит магистральный газопровод «Сила Сибири», тем самым наш важнейший газотранспортный маршрут будет введён в эксплуатацию на всей протяжённости. Она превысит три тысячи километров.
Кроме того, Ковыкта будет давать газовый конденсат – ценнейшее химическое сырьё. Для его отгрузки также проведена трубопроводная и железнодорожная инфраструктура.
Отмечу, что проектная мощность Ковыктинского и Чаяндинского месторождений – более 50 миллиардов кубометров газа в год. Это серьёзная ресурсная база для Амурского газоперерабатывающего завода – одного из самых больших и современных в мире. На его технологических линиях будут выпускаться этан, пропан, гелий и другие товарные позиции, которые востребованы в химической промышленности, в коммунальной сфере и других отраслях.
Таким образом, на востоке России создаётся мощный, стратегически важный производственный комплекс, который включает в себя добычу, транспортировку и переработку природного газа.
Запуск такого комплекса обеспечит надёжное снабжение газом и продуктами его переработки как российских предприятий, так и наших зарубежных партнёров, даст серьёзный импульс социально-экономическому развитию восточных регионов нашей страны, позволит создать новые, высокопроизводительные рабочие места.
У нас сейчас на связи трудовые коллективы, специалисты, благодаря которым стало возможным освоение Иркутского центра газодобычи.
Хочу сказать спасибо геологам, инженерам, строителям, рабочим и организаторам производств за ваш ответственный труд, высокий профессионализм и за результат.
Поздравляю с большим, без преувеличения знаковым достижением и желаю, конечно, новых успехов в вашей работе!
Передаю с удовольствием слово Алексею Борисовичу Миллеру.
Пожалуйста, Алексей Борисович.
А.Миллер: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Мы находимся в центре управления проектами «Газпрома». В этот центр сходится вся информация о стратегических проектах нашей компании, и сейчас на мониторы выведена информация о наших проектах на востоке Сибири.
Владимир Владимирович, как Вы отметили, сегодня знаменательный день – мы вводим [в эксплуатацию] уникальный инженерно-строительный комплекс, в который входят объекты добычи, транспорта, переработки. Первоочередные объекты Ковыктинского месторождения готовы к вводу, готов к эксплуатации участок «Сила Сибири» от Ковыкты до Чаянды.
Сегодня на карте России появляется новый надёжный центр, новое месторождение Ковыктинское, самое крупное в Восточной Сибири. И, без сомнения, с вводом «Силы Сибири» в эксплуатацию по всей протяжённости открываются новые дополнительные возможности по газоснабжению восточных регионов страны, Восточной Сибири, Дальнего Востока.
Газ Ковыкты очищается от влаги и механических примесей и по магистральному газопроводу Ковыкта – Чаянда поступает на Чаяндинское месторождение, где смешивается с потоками чаяндинского газа, а дальше следует в Амурскую область.
Газ Ковыкты и Чаянды содержит много ценных компонентов. Хотелось бы отметить гелий, который востребован в высокотехнологичных отраслях. И именно для этого мы строим Амурский газоперерабатывающий завод – чтобы производить новые продукты переработки. Все объекты комплекса введены строго в плановые, директивные сроки.
Вводные объекты Ковыктинского месторождения построены за два года. Хочу здесь отметить строительство установки комплексной подготовки газа УКПГ-2. И здесь мы должны сказать особые слова благодарности трудовому коллективу, потому что всё это сделано и построено в невообразимых, сверхтяжелейших климатических и геологических условиях и сделано на самом высоком уровне. Огромное вам, коллеги, за это спасибо.
Запуск Ковыктинского месторождения и «Силы Сибири» в эксплуатацию на всей своей протяжённости более трёх тысяч километров – конечно, это наши новые возможности для социально-экономического развития, новые возможности в наращивании экспорта. И конечно, Россия выходит в мировые лидеры по производству гелия.
Я передаю слово генеральному директору Ковыктинского месторождения. Пожалуйста.
О.Аксютин: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Алексей Борисович!
Докладывает заместитель председателя правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Аксютин Олег Евгеньевич.
Мы с коллегами находимся на установке комплексной подготовки газа № 2 Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Фактически это сердце промысла, сюда сходятся шлейфы от эксплуатационных скважин, которых на сегодняшний день пробурено более ста. Всего же после освоения всего месторождения общее число скважин будет порядка пятисот.
Установка комплексной подготовки газа – это сложный производственный комплекс, который занимает площадь более 80 гектаров. Построен за рекордно короткие сроки – за два года. Работа здесь велась постоянно, в вахтовом режиме. Общее количество специалистов, одномоментно находившихся на объектах строительства, достигало 20 тысяч человек.
Предназначение установки комплексной подготовки – это очистка газа от воды, механических примесей и отделение конденсата. После этого подготовленный газ уже подаётся в линейную часть магистрального газопровода.
Второй продукт, который мы будем получать здесь, – это стабильный конденсат. Сюда практически по бездорожью было доставлено три установки стабилизации конденсата. Высота каждой достигает 12-этажного дом, а масса – порядка 152 тонн. Создан необходимый парк для накопления конденсата, и построен конденсатопровод протяжённостью 174 километра до станции приёма конденсата в посёлке Окунайский, где создана также необходимая железнодорожная инфраструктура, подключённая к Байкало-Амурской магистрали.
Хотел сказать несколько слов о магистральном газопроводе Ковыкта – Чаянда протяжённостью 804 километра. Он также был построен в рекордно короткие сроки – за полтора года. И особо я хотел бы сказать о подводном переходе через реку Лена, который был построен в сложных геологических условиях. Протяжённость его достигает полтора километра, а разность высот между входом и выходом – более 155 метров. Именно из-за своей сложности этот переход включён в Книгу рекордов России.
Строительство данного перехода позволило обеспечить все экологические нормы и требования и никоим образом не коснуться тех археологических артефактов, которые находятся по ходу движения магистрального газопровода.
После выхода на проектную мощность установки комплексной подготовки № 2 объём газа, который будет подаваться в магистральный газопровод, составит шесть миллиардов кубометров газа в год. А после обустройства всего месторождения объём газа будет 27 миллиардов кубометров газа в год и полтора миллиона тонн стабильного конденсата.
Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Алексей Борисович!
Работа над проектом велась в тесном сотрудничестве с Администрацией Иркутской области, и я хочу передать слово губернатору Иркутской области Игорю Ивановичу Кобзеву.
И.Кобзев: Здравствуйте, уважаемые Владимир Владимирович, Алексей Борисович, уважаемые коллеги!
Сегодня долгожданное событие для страны и для Иркутской области. Сотрудничество с крупнейшей газодобывающей компанией России открывает перед Иркутской областью новые возможности, которые позволят решить важные экономические задачи. Это в первую очередь создание регионального газохимического комплекса в городах Саянске и Ангарске. Это развитие площадки «Усольехимпром», которая сегодня переживает новое рождение.
Кроме того, перевод угольных теплоисточников на газ в границах центральной экологической зоны озера Байкал и других населённых пунктов сегодня снизит негативное влияние на экологию региона, в том числе в рамках Вашего поручения по городу Байкальску.
Мы утвердили с «Газпромом» программу газификации и газоснабжения Иркутской области до 2025 года. Она предусматривает газификацию населённых пунктов в четырёх муниципальных образованиях Иркутской области. И это только начало.
Три четверти магистрального газопровода «Сила Сибири» от Ковыкты до Чаянды проходит по территории Приангарья. Реализация проекта уже проходит по территории Приангарья. Реализация проекта уже привлекла в регион более 500 миллиардов рублей инвестиций. На средства «Газпрома» сегодня строятся и ремонтируются школы, детские сады, дороги, спортивные объекты. Север Иркутской области развивается. Правительство Приангарья уже прилагает максимум усилий для того, чтобы здесь было комфортное проживание. И качество жизни жителей для меня, как для главы региона, остаётся ключевой задачей.
Ещё раз хочу поблагодарить Вас, уважаемый Владимир Владимирович, и Вас, уважаемый Алексей Борисович, за внимание к Иркутской области.
А.Миллер: Передаём слово Чаяндинскому месторождению.
А.Джалябов: Докладывает генеральный директор «Газпром добыча Ноябрьск» Антон Александрович Джалябов.
Я нахожусь в Якутии на Чаяндинском месторождении. Его активное обустройство продолжается. Действующий фонд скважин поэтапно увеличивается, и сегодня он составляет более 180 скважин. В этом году введены ещё пять кустов газовых скважин. Объекты газодобычи работают стабильно с необходимыми уровнями отбора. Кусты газовых скважин управляются автоматически, вся информация выводится на главный щит управления месторождением.
Введён второй цех дожимной компрессорной станции Чаяндинского месторождения. Он расширил наши возможности по подготовке и компримированию углеводородов. Второй цех построен специально для приёма газа с Ковыктинского месторождения. Здесь сырьё будет проходить подготовку для дальнейшей подачи в магистральный газопровод «Сила Сибири». Объём добычи газа на Чаяндинском месторождении в 2024 году выйдет на полную проектную мощность, это 2,5 миллиарда кубометров газа в год. Для этого будут введены в строй ещё 65 скважин, и общий фонд добывающих скважин составит порядка 300 единиц.
Развитие месторождения позволит и дальше надёжно и стабильно обеспечивать поставку газа в магистральный газопровод «Сила Сибири» в соответствии с проектными решениями.
А.Миллер: Слово Амурскому газоперерабатывающему заводу.
Ю.Лебедев: Докладывает генеральный директор «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Владимирович Лебедев.
Амурский газоперерабатывающий завод – одно из крупнейших и самых современных предприятий в мире по переработке природного газа.
График строительства завода, ввод его технологических линий синхронизирован с ростом газодобычи на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях.
Я сейчас нахожусь на третьей технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода. Здесь уже почти закончены пусконаладочные работы. Сырьевой газ в настоящее время прошёл глубокую осушку для подачи его на криогенные технологические процессы.
Последние месяцы на всех установках третьей линии велись функциональные испытания оборудования. Всего на Амурском ГПЗ строится шесть технологических линий. Каждая из них будет обеспечивать переработку семи миллиардов кубометров газа в год.
Справа от меня находится установка очистки, сжижения и затаривания гелия. Это вторая гелиевая установка нашего завода. Всего их будет три, они обеспечат выпуск шести миллионов кубометров товарного гелия в год – это более 30 процентов мирового потребления.
Особенность нашего предприятия – полное извлечение всех компонентов природного газа. Для этого применяются низкотемпературные процессы и современное криогенное оборудование. Для извлечения каждого компонента из природного газа используется своя колонна. Это обеспечивает высокую чистоту извлекаемых продуктов: этана, пропана, бутана, пентана, гексана и гелия. Главный продукт – очищенный метан – перекачивается потребителям надёжными агрегатами «Ладога». Они изготовлены на Невском заводе в Санкт-Петербурге. Эти же машины используются на компрессорных станциях «Силы Сибири», обеспечивая необходимый режим поставки газа. Всё это ключевое оборудование нашего завода.
Установки по производству жидкого гелия – одну из них Вы видите сейчас справа от меня – являются самыми мощными в мире, и они позволяют получить гелий особой чистоты. Степень очистки – 99,9999 процента. Гелий охлаждается при этом до экстремально низкой температуры – минус 269 градусов по Цельсию. В технологическом процессе используется оборудование, специально разработанное для Амурского ГПЗ, как, например, спиральновитые теплообменники. Они также изготавливаются в России. После запуска всех шести технологических линий завод будет перерабатывать 42 миллиарда кубических метров газа Ковыктинского и Чаяндинского месторождений в год. Выход предприятия на полную мощность запланирован на 2025 год.
А.Миллер: Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите пуск Ковыктинского месторождения и магистрального газопровода Ковыкта – Чаянда.
В.Путин: Начинайте работу.
А.Татаринов: Докладывает генеральный директор «Газпром добыча Иркутск» Андрей Олегович Татаринов.
Это диспетчерская по управлению установкой комплексной подготовки газа УКПГ-2 Ковыктинского месторождения. С тысячи датчиков сюда стекается вся информация о работе установки, и отсюда же можно управлять всеми технологическими процессами. Газ отсюда по шлейфам поступает на установку в заданных объёмах. Ведётся осушка и очистка газа и отделение конденсата.
Все параметры в норме, установка комплексной подготовки газа Ковыктинского месторождения введена в работу.
В.Бородин: Докладывает генеральный директор «Газпром трансгаз Томск» Владислав Иванович Бородин.
На магистральном газопроводе «Сила Сибири» работает восемь компрессорных станций. Мы в «Газпроме» приняли решение назвать компрессорные станции именами казаков-первопроходцев, которые осваивали данную территорию для России. Четыре компрессорные станции запустили в декабре текущего года – это «Иван Ребров», «Максим Перфильев», «Василий Поярков» и «Василий Колесников».
В настоящее время газ с узла учёта УКПГ-2 Ковыктинского месторождения поступает в магистральный газопровод. Всё технологическое оборудование работает в штатном режиме. Обеспечивается транспортировка газа от Ковыктинского месторождения в направлении Чаяндинского месторождения.
А.Миллер: Уважаемый Владимир Владимирович!
Ковыктинское месторождение введено в эксплуатацию. Магистральный газопровод «Сила Сибири» эксплуатируется на всей своей протяжённости.
В.Путин: Алексей Борисович, сколько человек принимало участие в реализации проекта в целом? Я имею в виду рабочих, инженеров, технологов.
А.Миллер: На сегодняшний день 20 тысяч человек у нас находится на Ковыкте, 600 человек у нас находится на Чаянде, и 16 тысяч у нас находится на линейной части «Сила Сибири».
В.Путин: На линейной части люди в среднем сколько получают? Заработная плата какая у них?
А.Миллер: Средняя заработная плата в «Газпроме» составляет, конечно, в зависимости от северных условий работы больше, чем в обычных наших газотранспортных компаниях.
В.Путин: Понятно.
А.Миллер: Но я могу сказать, Владимир Владимирович, что это десятки тысяч рублей. И наши работники чувствуют себя социально защищёнными и абсолютно уверенно смотрят в своё будущее.
В.Путин: Хорошо. Мы сейчас у них и спросим.
Включите, пожалуйста, Иркутск. Включите, пожалуйста, Олега Евгеньевича Аксютина и губернатора Кобзева Игоря Ивановича.
О.Аксютин: Да, на связи, Владимир Владимирович.
В.Путин: У вас за спиной там стоят представители трудового коллектива. Попросите, пожалуйста, чтобы кто-то из них подошёл к микрофону. Пожалуйста, без стеснений.
М.Ерёмин: Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Алексей Борисович, уважаемые коллеги!
В.Путин: Здравствуйте!
Представьтесь, пожалуйста.
М.Ерёмин: Перед Вами наш многотысячный коллектив, который сегодня достойно вводит объект в эксплуатацию, с хорошим результатом нашего труда. Докладывает первый заместитель строительного комплекса «Газстройпром» Ерёмин Михаил Александрович.
В нашем коллективе трудится много профессий. Это строители разных профессий: сварщики-технологи, сварщики-монтажники, бетонщики, слесари, водители разных наименований техники – экскаваторщики, бульдозеристы.
В.Путин: Условия у вас там экстремальные, естественно, повышенная заработная плата. Всё-таки она какая средняя у вас?
М.Ерёмин: Владимир Владимирович, в среднем [в зависимости] от условий труда – от 90 тысяч до 150 [тысяч]. То есть если вахтовик находится полную вахту, 30 рабочих дней, то за полную вахту, имея полный загруженный день, это десять с половиной часов работы в день, его заработная плата может составлять в среднем от 110 до 150 тысяч рублей в месяц с учётом подоходного налога.
В.Путин: Понятно. Результатами работы вы довольны, я так понимаю?
М.Ерёмин: Да, коллектив результатами работы доволен, и компания на сегодня проводит большие усилия для повышения социально-бытовых условий. Созданы комфортные условия проживания и работы.
В.Путин: Я хочу поблагодарить вас, всех ваших коллег, рабочих, инженеров, технологов – всех, кто там работал и продолжает трудиться, с этим результатом, с тем, как вы справились с этой сложной задачей.
Хочу ещё раз подчеркнуть, что такие проекты крайне нужны для экономики страны, для России, для укрепления её социального и экономического самочувствия в самом широком смысле этого слова. Это перспективная работа, которая создаёт нам стабильные условия в экономике в целом, не только в регионе, но и в экономике в целом, повышает наши экспортные возможности и будет, безусловно, улучшать экономические возможности развития регионов Восточной Сибири, улучшать условия жизни для миллионов людей, которые проживают на этих территориях.
Ещё раз вам большое спасибо. Самые наилучшие пожелания и приветы всем, кто принимал участие в этой работе.
Алексей Борисович, я и Вас, разумеется, ещё раз поздравляю с этим результатом и желаю всему Вашему коллективу новых больших успехов в наступающем, 2023 году.
Спасибо большое.
А.Миллер: Спасибо, Владимир Владимирович.
В.Путин: Всего доброго! Всего хорошего!

Энергопотоки России
началось расширение внутренней газовой инфраструктуры
Борис Марцинкевич
На минувшей неделе в Москве прошла пятая по счёту РЭН — первый маленький «юбилей» международной конференции, задуманной для возможности ведения диалога между ведущими экспертами отрасли, во многом определяющей уровень развития как каждой отдельной страны, так и цивилизации в целом.
После прошлогодней РЭН и речи на ней Путина, его новое выступление, признаюсь, ждал. Для тех, кто успел забыть, напомню, что в прошлом году именно на РЭН-2021 президент России сделал несколько крайне серьёзных заявлений. О том, что наша страна начинает своё движение к углеродной нейтральности, до которой намерена добраться к 2060 году. Именно к углеродной нейтральности, а не к декарбонизации энергетики, как всего год назад трещали все западные политики. Тотальная декарбонизация энергетики — идиома идиотов, в реальности неизбежно приводящая к разбалансировке объединённых энергосистем, что мы, собственно, и наблюдаем в виде мирового энергетического кризиса, имеющего отличные шансы вырасти до уровня не менее мирового и превратиться в общеэкономический.
Потому в тот момент, когда в прошлом октябре Путин заявил, что Россия будет решать проблему углеродной нейтральности по своему собственному сценарию, без оглядки на разработанные Западом догмы, я только что не аплодировал. Но он ведь на этом не остановился, им были названы показатели желаемого электроэнергетического баланса по состоянию на тот самый 2060 год. Напомню: 20% должна будет составлять доля гидроэнергетики, 25% — доля атомной энергетики, доля ВИЭ — 12,5%, всё остальное — традиционная тепловая энергетика с преобладанием газовой как экологически наиболее чистой. Это практически полностью совпадает с концепцией зелёного квадрата, предложенной ещё в 2016 году нашим Росатомом, где чисел для запоминания ещё меньше: 25% — атомная энергетика, 25% — ВИЭ, в состав которой включаются ГЭС, остальное — энергетика тепловая. Предложенное президентом страны соотношение базируется на том, что разработано инженерами Росатома — такое совпадение не может не греть душу технократов, к которым я имею смелость относить себя самого.
Но самое занимательное в прошлом году произошло часом позже выступления Путина, когда на одном из пленарных заседаний слово получил наш министр энергетики Николай Шульгинов. Тезисы практически рубились топором. Цель, поставленная президентом на 2060 год — да, достижима. Но достижима только одним методом: возвратом к долгосрочному централизованному планированию во всём, что касается электроэнергетики и её распределения. Банда, свора системных либералов, восседавшая в зале — молчала, даже не пытаясь спорить с министром. И Шульгинов, как ни удивительно, начал и продолжает сейчас, в настоящее время, последовательно, шаг за шагом, двигаться в обозначенном направлении — без громких политических заявлений, без попыток устраивать шумный ор и бунт на корабле. Из того, что удалось на сегодня узнать о его выступлениях на РЭН-2022 — министр считает, что доля ВИЭ в энергобалансе России к 2060 году должна составить не 12,5% — вполне достаточно будет и 10. Но сегодня подробнее — о выступлении на РЭН-2022 Владимира Путина и о выступлении Алексея Миллера — в этом году именно он детализировал до технических подробностей сказанное президентом.
Выступление Путина было достаточно кратким и на удивление жёстким — не было даже намёка на дипломатическую вежливость, на поиск гладких формулировок. «Диверсия на «Северных потоках» — это, несомненно, акт международного терроризма. Цель — уничтожить, блокировать источники дешёвой энергии, лишить миллионы людей, а также промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии и заставить покупать всё это по гораздо более высоким ценам». Путин констатировал: Евросоюз остался без даже пусть призрачной, но технически возможной подушки безопасности на случай климатических сюрпризов предстоящей зимой.
Разрешение включить СП-2 в момент серьёзных морозов можно было бы обыграть как угодно: тестовая проверка, надёжность соединений надобно проверить, а то балтийская килька в опасности, так что давайте-ка десяток-другой миллиардов кубов вот чисто для проверки прогоним. Теперь и этого нет даже в помине, а что это может означать для того Евросоюза, Путин коротенько обрисовал, напомнив о зиме 2018–2019 года, про антициклон «Зверь с востока» с его 30-градусными морозами и о том, как тогда Газпром за две недели установил десять рекордов по объёмам суточных поставок газа через всю сеть трубопроводных магистралей. За эти же две недели из Штатов к европейским брегам было доставлено просто-таки гигантское количество СПГ — ноль целых шиш десятых. Специально для Шольца и примкнувшей к нему Урсулы от меня своими словами: надёжный поставщик, господа и дамы, познаётся в беде, а не в биде, как вы думаете. С той стороны Атлантики ничего нового не будет, только слова главного девиза США, которым я бы вообще предложил заменить их гимн и конституцию в придачу: «Ничего личного, только бизнес». Способны предложить цены выше, чем в ЮВА и условия лучше, чем потребители в Латинской Америке — будет вам наш СПГ, но исключительно спотовый.
От выполнения долгосрочных контрактов с надёжными и платёжеспособными партнёрами в пользу европейских немамонтов никто в Штатах отказываться не будет. Немамонты — это те, кто не вымирает, если кто не понял. Путин напомнил об этом, чтобы ещё раз подчеркнуть, — выбор в пользу спотовых поставок, в пользу спотовой торговли, в пользу спотового ценообразования Евросоюз во главе со своей многомудрой Еврокомиссией сделал совершенно самостоятельно, по собственному почину и инициативе, руководствуясь нетленным «Всяк человек — финиш своему счастью». За самостоятельный выбор Европе теперь самостоятельно и платить — Путин озвучил, что в этом году ЕС переплатит за поставки СПГ вместо трубопроводного газа не менее 300 млрд евро, 2% ВВП еврозоны.
Такие суммы никто дарить не будет, ЕК вынуждена будет включить тот самый печатный станок. Результаты можно предсказать заранее. Во-первых, таким способом ЕС получит возможность сгребать СПГ со всех рынков — развивающиеся страны такого бешеного аллюра цен просто не выдержат. Во-вторых, ЕС обрекает себя на дальнейший рост инфляции, который вполне сопоставим с тем, который сложился в России, находящейся под 12 тысячами санкций со стороны Штатов, ЕС и прочих прихвостней. Высокие цены на энергоресурсы — это рост себестоимости, рост себестоимости — это падение конкурентных преимуществ европейской продукции реального сектора, а это уже закрытие предприятий, их банкротство и бегство в более благополучное место. Бегство в Штаты уже началось, что стимулирует наступление рецессии в ЕС и дарит США шансы этой самой рецессии избежать.
Выбор, повторю вслед за президентом, — добровольный, и похоже, что литературные опусы Леопольда фон Захер-Мазоха в Евросоюзе в особой цене. Дополнительными причинами для европейской рецессии стали все виды эмбарго на поставку в Россию продукции самых разных отраслей промышленности. Наш ответ известен — параллельный импорт, от которого, впрочем, я не так чтобы сильно в восторге. Статистика тоже известна: дефицит торговли с Россией у ЕС в прошлом году был 73 млрд евро, а за первые 8 месяцев года текущего — уже 103, то есть имеется шанс удвоения по итогам 12 месяцев. Да, для объёма внешней торговли ЕС числа не самые крупные, но, как известно, курочка по зёрнышку...
Разумеется, не обошёл своим вниманием Путин и те два момента, которые появились всего неделю назад. Активизирование муссирования идеи введения потока цен российской нефти и нефтепродуктов, поднятую на щит Вашингтоном и компанией, и решение ОПЕК+ о сокращении объёмов добычи на ноябрь сразу на 2 млн баррелей в сутки. Странно, но в этом случае президент не стал формулировать свои выводы до логического завершения. Есть его слова по поводу того, что ОПЕК+ не намерено соглашаться ни на какие потолки — ОПЕК+ занимается балансировкой рынка, балансировкой спроса и предложения. Было и продолжение, цитирую: «Допустим, как уже говорил, будет введён пресловутый потолок цен на нефть. Но кто даст гарантии, что такой же потолок не будет установлен в других секторах экономики: в сельском хозяйстве, в производстве полупроводников, удобрений, в металлургии, причём не только в отношении России, но и любой другой страны мира? Никто таких гарантий уже не даст».
Вывод из этого вполне очевиден: мы входим в острую стадию борьбы производителей и потребителей. Потолок цен для российской нефти — это попытка диктата потребителей, соглашение о сокращении объёмов добычи — спокойный, взвешенный и неотразимый ответ-парирование со стороны производителей. Если рассматривать этот конфликт ещё более обобщённо, то его можно считать практически экзистенциальным: что важнее — реальный сектор экономики или экономика услуг, экономика виртуального мира, кто кому будет диктовать правила сосуществования. На чьей стороне Россия, сомнений нет: «Координация действий партнёров по ОПЕК+ обязательно продолжится для стабильности и предсказуемости рынка».
Далее Владимир Владимирович от теоретических рассуждений быстро перешёл к практическому выводу, короткому и предельно чёткому, ясному, недоступному для двойных толкований: «Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены для них». Точка. Причём точка ещё и оптовая — под действие этого алгоритма попадают и евросоюзовские деятели, что-то там бурчащие про потолок цен на российский газ. Миллер хорошо продолжил: потолок ледяной, дверь скрипучая. Алексей Борисович на этих словах и остановился, а зря — там весь припев хорош, напомню: «Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая, как шагнёшь за порог — всюду иней, а из окон мороз синий-синий». Песня написана в начале 1970-х, но оказалась нетленной — если будет на то желание Деда Мороза, её этой зимой весь ЕС хором будет петь, причём на русском.
Асимметричным ответом на все желания и хотелки Евросоюза стало сенсационное, в общем-то, предложение Путина перенаправить транзит газа с Балтийского моря на Чёрное, то есть: кратное расширение мощности «Турецкого потока» и создание в Турции крупнейшего газового хаба для Европы. Предложение было совершенно неожиданным для многих, в том числе и для руководства самой Турции — во всяком случае, днём позже министр энергетики этой страны сказал, что никто ничего подобного с ним не обсуждал.
Предложение не без логики, поскольку заниматься восстановлением работы «Северных потоков» Россия и наш Газпром могут, но только теоретически — только после того, как со стороны Евросоюза появятся юридически обязывающие гарантии того, что трубопроводы будут использоваться по их прямому назначению. Дело не только в санкциях, но и в расширительном толковании положений Третьего энергопакета, и в зелёном курсе ЕС, политики которого пылко уверяют, что после то ли 2038-го, то ли 2030 года намерены напрочь отказаться от любого ископаемого топлива в пользу пресловутого зелёного водорода.
Чуть позже Миллер относительно «Северных потоков» кое-что уточнил: к примеру, для корректной работы СП-1 потребуется строить совершенно новую компрессорную станцию, которая будет работать на полностью российском оборудовании, дабы нам не связываться с неумёхами и недотёпами из убогого «Сименса», потому что трубы СП-1 теперь полностью заполнены морской водой. Это работа не на один год, тут суетиться уже никакого смысла нет. А вот наземная инфраструктура «Южного потока», по приказу США убитого политиками Болгарии, — на месте, и была она рассчитана на транспортировку 63 млрд кубометров газа в год, а мощность построенного «Турецкого потока» ровно в два раза ниже. Следовательно, если прокладку ещё одной пары морских труб провести параллельно уже проложенным — реализовать проект с технической точки зрения куда как менее затратно по времени и по инвестициям, чем восстанавливать «Северные потоки», к прорыву на которых нас ещё и не допускают.
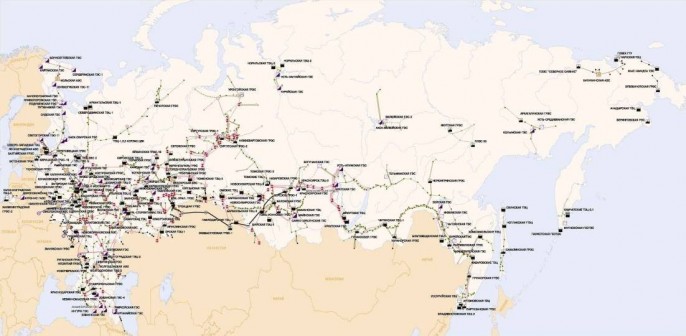
единая энергетическая система России
Кроме того, после взрывов на Балтике немалую роль стала играть ещё и безопасность, а в этом плане маршрут Турецкого потока весьма интересен. Наши территориальные воды, дальше — наша исключительная экономическая зона, которая физически стыкуется с исключительной экономической зоной Турции. Следовательно, совместное патрулирование маршрута по всей его протяжённости — реализуемое решение, что в сложившейся обстановке действительно немаловажно.
И ещё один момент, о котором как-то забывают. На территории Турции имеются два ПХГ, Силиври и Туз Гёлю, и в феврале этого года министерство энергетики страны официально заявило, что начало работы по расширению их активной мощности с целью довести этот показатель до 10 млрд кубометров, запланированное окончание работ — январь 2023 года. Если этот проект будет реализован, то можно считать, что технически условный проект «Турецкого потока — 2» готов к реализации: проведена подготовка к работе на морском участке, ПХГ готовы к организации крупного торгового хаба. Потому, собственно, и реакция команды Эрдогана была исключительно положительной — всё совпало, можно начинать переговоры, благо точно известно, о чём именно говорить.
То, что техническую часть Газпром и его турецкие партнёры согласуют к взаимному удовольствию, — сомнений не вызывает, но на день сегодняшний совершенно неочевидно, как это может выглядеть с организационной стороны. Турецкие компании никогда не отказывались от долгосрочных контрактов и от нефтяной привязки, перейти на рубли они вообще согласились без указаний с нашей стороны. Газпром может подписать и новые контракты — разумеется, с учётом инвестиционной составляющей. Но при нынешней стоимости барреля ориентировочная цена тысячи кубометров газа получится в пределах 500 долларов при спотовых ценах в Евросоюзе не менее 1500 долларов. Кто будет получать львиную часть прибыли? Совместное предприятие? Евросоюз может опять начать морду воротить, а проект должен окупаться, в нём нет политической составляющей, в нём ничего личного, только бизнес. Вот эта часть российско-турецких переговоров может оказаться куда как более интригующей, причём она вряд ли выйдет на страницы газет. Так что, подождём и посмотрим, чем всё обернётся. Но технически, повторюсь, и Россия, и Турция к реализации этого проекта подготовлены на 5 с плюсом.
Не преминул Владимир Путин напомнить и о росте производства СПГ и о «Силе Сибири — 2», который в пределах территории Монголии уже назван МГП «Союз Восток», и о том, что Россия и Китай на поставках газа стали работать в рублях и в юанях. Напомнил и о том, что у нас происходит с переработкой газа. Цитирую: «Стратегическое направление — это повышение объёмов переработки сырья. У нас уже реализуются масштабные проекты в этой сфере, в том числе на Дальнем Востоке запущены проекты по развитию крупно- и малотоннажной нефте- и газохимии. В ближайшие годы количество таких проектов заметно вырастет».
За скобками выступления Путина несколько внезапно остался Ленинградский проект: строительство Газпромом в Усть-Луге на одной площадке одновременно газоперерабатывающего завода, газохимического комплекса и СПГ-завода мощностью 13 млн тонн в год, что соответствует 20 млрд кубометров газа в год. Строительство силами турецких, китайских и узбекских подрядчиков было начато в прошлом году, руководство Ленинградской области даже упорядочило всё, что там происходило с отведением земельных участков и размещением рабочей силы, но это ведь только общестроительные работы. ГПЗ и СПГ-завод тоже планировались на технологиях той же «Линде», потому информационный вакуум по этому поводу совершенно логичен. Такая же тишина у нас и по проекту ИНК — Иркутской нефтяной компании, которая в качестве своего газового направления развития начала работы по строительству в Усть-Куте завода по производству полиэтилена низкой и высокой плотности мощностью 650 тысяч тонн в год. Усть-Кут, между прочим, — берег Лены и некогда крупнейший речной порт СССР Осетрово, то есть просто праздник для роста грузооборота по СМП. Очень надеюсь, что эта тишина — из поговорки о том, что именно любят деньги, а не из-за того, что и тут возникли проблемы с поставщиками технологий и оборудования.
Продолжается модернизация и расширение производственных мощностей в Татарстане, что всячески заслуживает одобрения, уважения и внимания.
Ещё хотелось бы отметить серьёзное достижение Газпрома, усилиями которого в России в сентябре начал работу наш второй отечественный среднетоннажный СПГ-проект на компрессорной станции «Портовая» в составе двух технологических линий общей годовой мощностью 1,5 млн тонн. В пересчёте на обычное состояние газа это 2 млрд тонн — мелочь по сравнению с былыми объёмами наших трубопроводных экспортных поставок, зато мелочь родная, отечественная, с явными перспективами для дальнейшего масштабирования. В тех же Штатах, раз уж речь об этом зашла, уже реализован крупнотоннажный СПГ-проект, который состоит из среднетоннажных технологических линий, и ещё неизвестно, что обходится выгоднее, т. к. среднетоннажные строятся быстрее, поэтапно наращивая производительность, позволяя также, по графику, комплектовать проект танкерами-газовозами и так далее.
Из действительно нового, что было предложено Владимиром Путиным на РЭН-2022 — практически приказ в адрес правительства и Газпрома о предоставлении субсидий для установки газового оборудования и работ внутри придомовых участков для многодетных семей, ветеранов, инвалидов и малоимущих семей в размере не менее 100 тысяч рублей. Это действительно не только добавит динамики темпам газификации, но и поможет тем, кому это реально необходимо, поднять уровень комфорта. Мелочь, но ведь приятно, тем более что есть теперь и более серьёзное поручение президента в адрес всё того же дуэта в составе Газпрома и правительства — включить в программу социальной газификации медицинские организации (поликлиники, больницы и ФАПы). Стрельба дуплетом: и рост потребления природного газа внутри России, и рост уровня медицинского обслуживания в небольших посёлках и сёлах. Да, хотелось бы быстрее, но выше головы прыгать тяжело, а дорогу осилит идущий.
Хотелось бы ещё услышать о газификации российского автотранспорта, и вот почему. Этот вопрос у нас курирует Министерство промышленности, которое уверено, что России одновременно требуются: газификация транспорта за счёт пропан-бутана, газификация транспорта за счёт компримированного метана, газификация транспорта за счёт СПГ, но при этом всенепременно нужно развивать электрификацию всё того же транспорта и готовиться к переходу на водород, но и задачу дальнейшего роста качества производимого традиционного моторного топлива с наших НПЗ никто не снимает. Сложно сказать, когда прекратится такое расшестерение сознания личностей, работающих в этом ведомстве.
Ни слова не было сказано о такой важной отрасли энергетики, как угольная промышленность, и причина тут очевидна — хвастаться нечем. Будет в этом году и спад объёмов добычи, особенно в Кемеровской и в Ростовской областях, а рост добычи в Якутии не сможет компенсировать этот спад. Затоваривание складов, прекращение целого ряда инвестиционных проектов в Кузбассе и успешное завершение первого этапа расширения БАМа и Транссиба в 2022 году вместо 2017-го — вот реальные причины того, что снизится и объём экспорта, а не какие-то там санкции со стороны Европы. Напомню, что не так давно РЭА Минэнерго завершило анализ того, сколько России требуется балкеров-сухогрузов для вывоза всего добываемого объёма угля на экспорт — требуется почти 170 судов, из которых около 50 должны быть крупнотоннажными. При этом государственная программа развития судостроительной отрасли, утверждённая правительством в 2019 году, предусматривает загрузку производственных мощностей до целых 64% — и вот такое странное несовпадение реальных запросов и теоретических мечтаний.
Что касается атомной энергетики, то Росатом у нас в полном порядке, да ещё и ни под одну санкцию не попал — не рискуют западники ногу на него задирать. А вот с гидроэнергетикой — прямо противоположная ситуация. 6 сентября на последней на сегодня строящейся в России крупной ГЭС — Усть-Среднеканской — РусГидро был установлен последний по счёту гидроагрегат, разумеется, наш, отечественный. И на этом на сегодня всё, в активе РусГидро остаются проекты только малых ГЭС, часть из которых, кстати, совместная с Росатомом — атомный пострел везде поспел. Если в самое ближайшее время правительство не примет никаких решений по поручению президента относительно строительства трёх новых крупных ГЭС на Дальнем Востоке, мы рискуем просто потерять эту отрасль энергетики. ГЭС на великих сибирских реках, невероятной сложности и инженерной красоты ГЭС в республиках Средней Азии, Асуанская ГЭС на Ниле в Египте — нам есть, чем гордиться, но все эти невероятные проекты были реализованы в прошлом веке. Как и в любой отрасли, самое главное в гидроэнергетике — люди, кадры, профессионалы с большой буквы, а время, как известно, безжалостно.
На что ещё можно надеяться? Как ни странно, на ЕвроСибЭнерго Олега Дерипаски — там всерьёз взялись за восстановление проекта Крапивинской ГЭС в Кемеровской области, в Кузбассе, мощностью 345 МВт. Надеяться можно на Айсена Николаева, главу Саха Якутии, который без спешки, с сибирской основательностью отчитывается о том, что происходит в этой республике. За минувший год спрос на электроэнергию в Якутии вырос на 8,9% — сравните со средним по России 1,8%, и в этом году темпы роста спроса сохраняются. Растёт добывающая отрасль, растёт перерабатывающая — угольная отрасль стала мощным драйвером, а гидропотенциал Якутии используется просто невероятно интенсивно, уже на целых 5%. И у нас на глазах в Якутии происходят удивительные энергетические события: за Полярным кругом работают уже 28 солнечно-дизельных электростанций, к 2025 году их число должно вырасти до 94. Панели, автоматически закрывающиеся в случае непогоды, автоматическое включение дизельных двигателей, но только после того, как будут полностью использованы мощные аккумуляторные батареи. Батареи — наши, на якутский климат рассчитанные и у нас произведённые. Росатом готовится стартовать со строительством первой наземной атомной станции малой мощности на базе реактора РИТМ-200 мощностью 55 МВт — тоже в Якутии. Якутия подписала с атомной корпорацией договор ещё и на реализацию проекта мощностью 10 МВт — это уже АЭС не малой, а мини мощности, наверное. То, что о Якутии всё ещё не так часто вспоминают большие СМИ — это строго в соответствии с народной мудростью, которая гласит «Чем тише омут — тем умнее черти». Так что, если Якутия в ближайшее время выстрелит проектом крупной ГЭС — персонально я и не подумаю удивляться, поскольку эти — точно могут.
В качестве резюме по выступлению Путина на РЭН-2022 коротко. Анамнез Евросоюзу поставлен точный, по-медицински суровый: больной потеет, но того и гляди помрёт, как старый алкоголик, пытающийся лечить цирроз печени особо чистой водкой — вдруг поможет. Предложенный проект «Турецкого потока — 2» или турецкого хаба — последнее предложение с нашей стороны, но реализация проекта требует весьма серьёзных организационных усилий, на которые Евросоюз будет способен только в случае отмены жёсткого эмбарго на поставки здравого смысла. В этом отношении президент России — оптимист, но сбудутся ли его надежды на отрезвление европолитиков, теперь во многом зависит от суровости Деда Мороза, от того, возжелает ли старик этой зимой как следует отдохнуть и оттянуться в старушке Европе. Миллер вспоминает про ледяной потолок, он, судя по всему, убеждён, что только весна покажет, кто где сохранил хоть какие-то запасы газа, и что только скудность остатков вкупе с морозами активизирует мозговое кровообращение у тех из европейских политиков, кто в голову не только ест. Другой вопрос — есть ли в ЕС такие люди, кроме команды Виктора Орбана, но это мы точно узнаем где-нибудь в марте. Предложение Путина в адрес Турции с технической точки зрения очень выверенное — и мы, и турки готовы к быстрому началу работы, которая может быть завершена весьма оперативно, так что от меня лично — снятая шляпа перед президентской командой экспертов и аналитиков.

Моя сверхновая Россия
такая ты будешь
Борис Марцинкевич
Сверхновая Россия — название, которое заставляет задуматься над тем, в каком же мире живёт наша страна, какая из дорог, открывающихся перед нами, — наша; задуматься над тем, в каком темпе по этой дороге придётся идти, кто может стать нашим попутчиком, а кто будет из-за обочины пытаться швырять камни. Почему конференция проводится сейчас? Мне кажется, что время выбрано исключительно точно. Утро 24 февраля — это не только начало горячих событий в северном Причерноморье и Приазовье, это дата, после которой коллективный Запад окончательно и бесповоротно скинул с себя овечью шкуру, когда даже самый заядлый, закореневший еврофил увидел не то, что ему долгие годы пытались показывать, а то, что происходит на самом деле. Только за XX век Россия трижды сменила форму своего государственного правления: от империи к буржуазной республике, через неё — к социализму, в 1991 году (как нам тогда говорили, «Россия снова вернулась в семью цивилизованных народов»). Не обращая внимания на все эти изменения, Запад в составе стран Европы, Соединённых Штатов и бывших колоний Англии — Канады и Австралии — оставался нашим верным врагом.
14 государств, пытавшихся оттяпать куски территории у юной Советской России, два десятка стран во главе с Гитлером рванувшие на нас в 1941 году, бывшие союзники, уже в первые годы после Великой Отечественной войны пытавшиеся сжечь нас ядерными взрывами, но вынужденные утешиться всего лишь холодной войной. Искренняя глупость сдававшего всё и вся Горбачёва в обмен на посулы зачислить Россию в реестр цивилизованных и равноправных стран. Горбачёв изволил покинуть нас, многие смеялись по этому поводу, а я вот признаюсь: в день его смерти я едва ли не плакал, настолько мне хотелось увидеть его не умершим, а повешенным. Именно повешенным, а не расстрелянным — именно так Красная Армия поступала с полицаями и предателями. Тридцать лет, минувших после страшного лично для меня 1991 года, многие из тех, кто оказался во властных структурах России, лелеяли мечту о том, что Запад признает нашу страну ровней себе. Молились на этот Запад, перенимали западные лекала для обустройства нашей с вами жизни — в культуре, в образовании, в экономике. На Запад отправляли учиться своих отпрысков, западных менеджеров вводили в состав правления наших государственных компаний, в западные банки выводили всё, что удавалось украсть в России и у России. Запад был эдаким священным градом на холме — ни больше и ни меньше.
Те, кто и сейчас всё ещё остаётся у нас во власти, отказываются признать очевидные факты. Запад — это колыбель расизма, фашизма и нацизма, ни одно из этих учений не пришло в Европу извне, не было принесено на её просторы рептилоидами с планеты Нибиру. Это оттуда, с Запада, на наши земли шли крестовые походы, польские шакалы, солдаты Наполеона; это Запад помогал любым восточным правителям, пытавшимся сломать Российскую империю. Это Запад, уразумев, что сломать нас нельзя, в 1941 году решился на самый отчаянный шаг — Гитлер, Муссолини и прочая шатия-братия вели войну не на покорение, а на уничтожение нашего народа. Не было в истории человечества ничего подобного — попытки физически уничтожить полуторасотмиллионный народ, убить всех и каждого. Кто-то забыл об этом? Давайте напомню: немцы воевали против нас при Александре Невском, при Николае Втором, при Иосифе Сталине.
И мы с этими существами мечтаем выстроить равноправные отношения, серьёзно? Ненависть и страх перед русским народом, перед Русским Миром, перед русской цивилизацией — не в головах, а в спинном мозге всей этой публики. То, как ведёт себя Запад после 24 февраля этого года, — это не некая воля правителей европейских стран, это та самая, нутряная, многовековая животная ненависть и не менее многовековой страх перед нами. Отказ от понимания этих простых вещей не мог привести Россию к успеху.
Для того, чтобы из новой России стать Россией сверхновой, нам важнее всего найти силы и вытравить в нашем собственном сознании стремление подражать Западу, вытравить желание стать частью западной цивилизацией. Хватит уже! Нам нужна смелость, чтобы самим себе признаться: Россия была, есть и будет отдельной цивилизацией, которая только прикидывается всего лишь страной. Мы не запад, не восток, не юг, мы — Россия. У нас — наш собственный путь, мы не можем подражать хоть кому-то и надеяться, что это нам поможет.
Это очень непростая работа — заставить себя отказаться от подражания Западу. Со времён Петра Первого, прорубившего окно в ту самую Европу, откуда всё больше смердит падалью, мы пытались натянуть на себя маску европейцев, пытались втиснуть нашу цивилизацию в прокрустово ложе чужих и чуждых правил и традиций. Бороды рубили, немецкие сюртуки с париками пытались на себя натянуть — триста лет подряд и практически без остановок. Придумали себе иллюзию, фантом — и рвались к нему. Но для Запада мы были, остаёмся и будем оставаться людьми то ли второго, то ли третьего сорта. Сейчас со стороны Запада мы слышим огромное количество слов, но всю эту словесную диарею можно скомпоновать в одну фразу: «Россия, ты что себе позволяешь?! А ну — в стойло и жди, когда овса зададим!» Сверхновая Россия для меня — та, которая сняла с себя розовые очки, которая не прячется от реальности, которая умеет видеть, думать и делать. Сверхновая Россия для меня — та, где среди нашей элиты больше нет тех, кто лелеет надежду, что коллективный Запад в одночасье коллективно осознает собственные ошибки, коллективно их исправит и всё снова встанет на свои места. Вот то самое миттерановское «Европа от Лиссабона до Владивостока», сладкие посиделки в виллах на Лазурном берегу, детки-внуки в Сорбонне, откаты и просто украденное — в надёжных банках Кипра и Швейцарии. Россия станет сверхновой только тогда, когда этих мечтателей во власти просто не останется — мечтать можно где угодно, где от этого не будет вреда. Моя сверхновая Россия — та, которая понимает, что возврата к этим временам уже не будет, что вновь выстраиваемый Западом железный занавес — это уже навсегда. Моя сверхновая Россия — та, которая имеет хорошую память и смелость называть вещи своими именами. Враг — это просто враг, никаких вторых и третьих шансов для восстановления дружбы нет и быть не может. Назвались груздем — лезьте в кузов. Живите за своим занавесом, лязгайте там зубами от злости и от холода — это больше не наши проблемы. Европа, европоцентризм должны умереть в наших головах, исчезнуть из нашей системы ценностей — этот мусор, эта гниль только мешает. Моя сверхновая Россия — та, для которой 24 февраля 2022 года стало днём очередного рождения. Днём, после которого каждый из нас и уж тем более — каждый из тех, кто оказался у нас на вершине власти, осознал, что европейские, западные лекала, по которым мы упорно пытались жить, — это не лекала, а кандалы, вериги, рубище, не дававшее расправить крылья. Им — гнить, нам — рваться вверх, в наше русское небо.
Нам — видеть, думать, делать — самостоятельно, не по чужим учебникам, не пытаясь напялить себе на глаза шоры чужих теорий, чужих нравов. Европа нас будет считать ровней себе только при двух условиях: 1) если будет понимать, что любая попытка военной агрессии против нас неизбежно закончится полным крахом и 2) если будет понимать, что Россия не будет всеми силами цепляться за сотрудничество с Европой, что Россия и без европейской цивилизации будет прекрасно себя чувствовать. Грубо: Европа должна понимать, осознавать, что на Россию где сядешь, там и слезешь. Без сантиментов: уходя из России, из совместных проектов, европейские компании должны понимать, что обратного пути уже не будет. Уходя — уходи. Не выкупать акции, а просто конфисковать с пожеланием обращаться к правительствам их же стран, к правительствам, которые ограбили Россию на треть триллиона долларов. С ними выясняйте отношения, у них выпрашивайте или отсуживайте компенсации, а мы уже всё сказали — прощайте.
Теперь, пожалуй, надо пробовать найти алгоритмы решения стоящих перед нами задач. Первый факт — в режиме капитана Очевидность: Россия огромна по своей территории, но слишком скудна своим населением для того, чтобы существовать в режиме автаркии. Не важно, кто в этом виноват, — ответ на этот вопрос могут искать философы, факт от этого не изменится: нас всего 150 миллионов, мы не можем развиваться только за счёт внутреннего рынка. Для автономности нас должно быть хотя бы в два раза больше, а лучше — раза в три-четыре.
Задача номер ноль — даже не народосбережение, а народоприумножение, без этого дороги вперёд и вверх не будет. Русский, как известно, — имя прилагательное, а не существительное, для нас важен не состав крови, а образ мышления, принятие наших идеалов, нашего мироощущения. Русскими могут стать сербы и поляки, эфиопы и казахи — наша история полна сотнями таких примеров. Не вижу ни одной причины для того, чтобы Россия не стремилась собрать русских всей планеты — нашим соотечественникам не рады в странах их присутствия, их там скоро начнут физически уничтожать. Для сомневающихся в этом тезисе ещё раз напомню: расизм и нацизм — вершины философской мысли Запада, их образ мышления и существования.
Простой пример: Латвия намерена принять закон, запрещающий русский язык на рабочем месте. Звучит почти невинно, вот только врачи, пожарные, полицейские, отказывающиеся разговаривать с вами на вашем языке — это шаг на пути физического уничтожения или ментального переформатирования сотен тысяч наших с вами соотечественников. Русские, остающиеся в Прибалтике, в Германии, в Англии будут или уничтожены физически, или превращены в толпу новых, полубесправных европейцев той или иной национальности — это просто факт.
Но эти русские нужны России, и потому необходимы максимальные усилия, чтобы люди вернулись на Родину. Вернулись, чтобы приложить здесь свои силы и умения, чтобы страна развивалась, осваивая саму себя. Второе следствие из этого факта: в сверхновой России предоставление жилья для семей должно стать не бизнесом для банковских ростовщиков, выдающих ипотечные кредиты, а государственной заботой. Семья с одним ребёнком — двухкомнатная квартира; с двумя детьми — трёхкомнатная и далее по списку. Не человейники с квартирами-студиями, а комфортное жильё для того, чтобы мы могли выполнять государственной важности задачу — плодиться и размножаться. Эту задача должна развернуться в тщательно продуманный проект, который мы просто обязаны реализовать.
Огромная территория при скудности населения, но территория, изобилующая полезными ископаемыми — вот самое краткое описание России. И именно отсюда, из этого железобетонного факта, вытекает неизбежное, не оспариваемое следствие: на этой планете просто нет стран, чей путь может повторить Россия. Мы никогда не достигнем той плотности автодорог и железных дорог, той плотности газопроводов, ЛЭП, которая достигнута в Европе. Ни одна страна в Азии, в Африке, на любом другом континенте не простирается на восемь часовых поясов, никто не способен на полном основании заявить ничего подобного: Россия — страна, над которой в летнее время не заходит Солнце. Нет другой страны на планете, которая вмещает в себя субтропики и арктическую морозную тундру. Это не лирика, это реальность России — мандарины в Абхазии и мхи Северной Земли, проблема с летним кондиционированием и 10 месяцев отопительный сезон в Певеке. Нет больше нигде ничего подобного — вот и некому у России учиться, вот и неизбежность собственного, исключительного проекта развития. И это тоже должно быть неотъемлемой частью размышлений о пути России сквозь века: мы — особые, исключительные. Особые, исключительные не потому, что считаем себя выше всех прочих народов, а потому, что живём в условиях, которые больше нигде не существуют. Мы не Европа, не Азия, не Америка, мы — Россия. Это — данность, от которой нам никуда не деться, если мы — не коллективный Горбачёв, добившийся отпадения от России бывших союзных республик. И этой своей особости, исключительности нет никакого смысла стесняться — так устроена наша с вами планета, так устроена наша с вами Россия.
Неизбежное следствие огромности территории и недостаточности населения — необходимость экспортной направленности нашей с вами экономики. Собственно, подспудное понимание этого укоренилось в головах наших правителей ещё полсотни лет тому назад — именно тогда начали формироваться огромные потоки наших ресурсов за пределы России.
Куда потоки шли и идут даже в настоящее время? Правильно — в Европу, на самый платёжеспособный рынок, да ещё и находящийся в шаговой доступности. Год назад у нас появился список недружественных стран, но как-то при этом нам недосуг было заметить, что 2/3 нашего экспорта было направлено внутрь этого списка. Хорошо это или плохо? Было бы хорошо, если бы не существовал один статистический казус: в списке экспортируемых нами товаров — около 500 наименований, зато в списке товаров импортируемых — 20 тысяч наименований товаров. Разница не просто значительная, а колоссальная.
На этой чудовищной диспропорции — вывезли нефть, ввезли полиэтиленовые пакеты с «Монтаной» — у нас на глазах сломали Советскую власть. Мы хихикали над этим, но не замечали, что и после 1991 года этот странный алгоритм никуда не исчез, а ещё и приумножился. Ставим галочку — подобного рода диспропорция недопустима, это Зло с большой буквы. Экспортируя непереработанное сырьё, Россия обязана полученную выручку использовать не для того, чтобы покупать за рубежом модные штаны наиболее вероятного противника, а для того, чтобы вкладывать выручку в создание, в развитие собственных технологий, в свою собственную инфраструктурную связанность, в создание новых очагов нашей цивилизации на наших бескрайних просторах. Квинтэссенция такого подхода очевиднее всего именно сейчас: в силу того, что внутри России цены на природный газ регулирует государство, наши предприятия газопереработки получают сырьё по ценам в 40 раз ниже, чем их коллеги по ремеслу в Европе, но конечные изделия из газохимии мы как завозили, так и завозим. Налоговая система в России построена так, что импортируемые товары зачастую оказываются дешевле, чем произведённые у нас, а наши власть предержащие называют этот абсурд конкурентной средой и прочими красивыми словами.
Возможен ли мгновенный переход от экспорта непереработанного сырья к поставкам конечной продукции? Правильный ответ — нет, мы ведь в реальном мире живём, сегменты мирового рынка расхватаны теми, кто пришёл в этот рынок намного раньше, кто уже вложил крайне серьёзные деньги в логистические схемы, в рекламные кампании и так далее.
Возможен другой путь конкретно для нас, для России? На мой взгляд — да, возможен, но только в том случае, если мы не будем упорно лезть на тот самый европейский рынок, где волки жрут друг друга. Да, возможен, но только в том случае, если Россия сама начнёт создавать, расширять рынки для своих товаров. Да, возможен, но только в том случае, если такую работу мы даже не будем пытаться делегировать пресловутым эффективным частным собственникам, а сделаем государственной задачей. Нет, я не против капитализма в принципе, но у нас просто нет времени на то, чтобы пройти тот же путь развития, по которому прошагал Запад. Дешёвые товары Европы — они не явились подарком судьбы, они были результатом огромной работы, которую Европа выполняла в присущей им манере. Дешевизна — это следствие масштаба производства, европейские колонии имели право приобретать товары потребления, произведённые только в конкретной метрополии.
На мой взгляд, первым, кто заговорил о необходимости отказа от европоцентричности, стал, как бы кто ни удивлялся по этому поводу, президент России. В апреле этого года, проводя совещание по вопросам развития ТЭК, Владимир Путин констатировал: в среднесрочной перспективе рынок Евросоюза для наших энергетических ресурсов станет второстепенным. Специально остановлюсь на том, что Путин вёл речь именно об энергетических ресурсах, то есть о непереработанных газе, нефти и угле.
Да, совершенно верно, — речь шла о той самой сырьевой игле, о которой так много и часто говорят многочисленные критики современной России. Здесь два момента. Во-первых, далеко не во времена правления Путина появилась эта проблема — первые поставки чёрного золота за рубеж у нас состоялись при Хрущёве, вскоре после проведённой им денежной реформы. Первые трубопроводы в Европу — это середина 70-х, названия, надеюсь, многие помнят: нефтепровод «Дружба», газовая магистраль Уренгой — Помары — Ужгород. Желаете критиковать? Правильно делаете, но тогда уж будьте добры вспоминать все фамилии, не ограничивая себя только Путиным: Хрущёв, Брежнев, Андропов с Черненко и Горбачёв с Ельциным до кучи. Второй момент — у кого что болит, тот о том и говорит, — это я о том, что налоги, сборы, пошлины, собираемые при экспорте энергетического сырья, обеспечивают при нынешних ценах не менее половины доходов нашего государственного бюджета, не говоря уже о количестве рабочих мест, о заказах смежникам и прочем. Ничего удивительного в том, что президент России с таким вниманием относится именно к ТЭКу, я не вижу. Вот только когда дело доходит до конкретных цифр и дат, ситуация становится куда как менее умилительной: Россия выстояла против западных санкций, всё у нас в полном порядке, мы всех победим, закидаем шапками и валенками. Было бы хорошо, кабы было именно так. Среднесрочный период в энергетической отрасли — это 7–8 лет — первое соображение. Второе: в течение прошлого 2021 года, когда отношения ещё можно было считать условно нормальными, в ЕС было поставлено 150 млрд кубометров природного газа, 140 млн тонн сырой нефти, 70 млн тонн нефтепродуктов и 50 млн тонн угля энергетических марок. На то, чтобы создать инфраструктуру, способную справиться вот с такими реками экспорта, у СССР и у России ушло 50 лет. Такой роскоши — спокойной жизни на протяжении полувека, у нас просто нет — это раз. Два — если мы говорим об экспорте в регион Юго-Восточной Азии, нам и полувека не хватит, поскольку расстояния в Сибири и на Дальнем Востоке куда как серьёзнее, чем на европейской части нашей территории. Третий момент, тоже важный. Наши проблемы с привычным рынком сбыта, с Европой, возникли ещё и от того, что мы ничего не могли и не смогли противопоставить централизации ЕС. Итог этого процесса централизации — то, что наши экспортные компании по большому счёту имеют дело не с множеством, а с единственным, монопольным покупателем. Утрирую, конечно, но все ведь видят, насколько покорно даже самые мощные европейские компании выполняют любые хотелки своих политиков, не так ли? Риск получить монопольного покупателя на Востоке у нас совершенно естественный, обусловленный географией материка Евразия — из крупных стран у нас там только Китай да Япония, причём последняя готова в любой момент уйти в прямое подчинение штатовского генерал-губернатора. Улыбки китайских политиков на встречах с российскими коллегами широки как никогда, а вот отворот левой полы китайских бизнесменов для реализации совместных проектов — куда как скромнее. Привяжем себя трубами исключительно к Китаю — квакнуть не успеем, как получим нового седока на наши многострадальные шеи. Нет, я не спорю — нам нужны и сахалинский маршрут для поставок газа в Китай, и «Сила Сибири — 2» для того же; они уже проектируются: знаменитое судно «Академик Черский» уже укладывает трубы на сахалинском шельфе. Но этого слишком мало, а о чём-то новом, дополнительном наше правительство если и думает, то явно чересчур лениво.
Почему я считаю, что сказанное в апреле Путиным — это только «А», а все прочие буквы алфавита нам стоит освоить самостоятельно? Политес, политкорректность — слов для обозначения причин предостаточно. Так уж получилось, что Россия обладает тем, что способно удовлетворить две базовые потребности любого народа, любой страны — энергетическими ресурсами и продуктами питания. Я не про урожаи пшеницы, при всей их значимости, а про то, что помогает наращивать объёмы сельскохозяйственного производства в любой точке земного шара — про удобрения и, прежде всего, про удобрения азотные.
Азотные удобрения — это аммиак, аммиак — это природный газ. Сидеть в кондиционированном помещении при свете и иметь что поесть — это про Азию, Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток скопом, а не только про Европу.
Нет ни одной страны в мире, которой для существования, развития, роста уровня жизни не требуется гарантированный киловатт*час, краюха хлеба и кусок мяса. И это факт, который мы обязаны использовать на всю катушку, без малейшего стеснения по этому поводу. Факт крайне важный, поскольку он позволяет справиться с проблемой, которая много лет не решалась, — мы можем добиться того, чтобы на нашем горизонте не показался призрак монопольного покупателя. Не только нефть, уголь, газ, но и удобрения (азотные, фосфорные, калийные) — вот основа для создания и расширения нашей собственной сферы влияния. Почему я не верю в то, что с такой работой справится частный собственник? Да потому, что это игра вдолгую, — ни один из перечисленных рынков не является настолько платёжеспособным, каким до последнего времени был рынок Евросоюза. Нас ждёт эпоха сделок своповых, бартерных и тому подобного, а это не то, что нравится частным собственникам, которые работают на прибыль здесь и сейчас. У нас в правительстве есть министр развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, который в своей недавней статье для РБК высказал мечту о появлении нового российского предпринимателя — заинтересованного в долгосрочных проектах, видящего перспективу на несколько поколений вперёд. Здорово, конечно, вот только такой частный предприниматель — это брат-близнец западного инвестора, который приходит в наши необжитые регионы для того, чтобы строить там теплоцентрали, дороги, дома, шахты и заводы. Прекрасные братаны, вот только есть одна проблема — их не существует. Хочется оставаться капиталистической страной? Да не проблема: создавайте государственные компании, а после того, как их бизнес будет развёрнут на полную мощность, — отдавайте на приватизацию. Но это как-нибудь потом — нельзя думать о конкурентном рынке в тот момент, когда России требуется создание новых отраслей экономики. Создайте, запатентуйте все необходимые технологии в государственной собственности, и только потом приглашайте частников для масштабирования новых производств, и вот эти частники пусть и строят конкурентную среду. Сначала — кости, потом — мясо, сначала — создать отрасль со всеми необходимыми технологиями за счёт усилий всего государственного организма, и только потом — конкуренция и прочее. Мы не имеем права долго запрягать — ехать пора.
Отказываясь от европоцентричности, мы не обязаны понимать, что остаёмся в компании стран, которые отнесены к рангу развивающихся. Развивающихся, но по европейским лекалам — это что-то из разряда горячего льда, жидкого огня и сапогов всмятку, поскольку эти лекала в принципе не предусматривают развития. А наша с вами вынужденная экспортная ориентированность требует того, чтобы страны, куда мы собираемся экспортировать, были платёжеспособны, чтобы их покупательная способность обеспечивала наше с вами развитие. База для такого роста — энергетика и продукты питания, и оба эти инструмента у нас в руках имеются, а потому руки тех, кто пытается у нас эти инструменты отобрать, надо вырывать из плеч.
Да, централизация и концентрация инструментов развития в вертикально интегрированных государственных компаниях. Да, долгосрочное планирование. И нет нужды пугаться этих слов — нам с ними жить. Почему? Да всё по той же причине: у нас слишком маленькое население. Конкуренция — там, где народу много, а территории — мало. Конкуренция способна обеспечить развитие Лихтенштейна, но собрать весь тот Лихтенштейн и закинуть куда-нибудь на Камчатку с Чукоткой — так разве что тамошние медведи заметят, что у них рацион стал более обильным, не более того.
РЖД на конкурентной основе расширяет Восточный полигон, результат мы видим — уже на три года опаздывает, и никаких перспектив на изменение ситуации не видно. А рядышком, по той же тайге, через те же реки и сопки Транснефть протянула магистраль Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО-2) с опережением графика на 10 лет.
Или ещё из совсем недавней нашей с вами истории: в начале нулевых Газпром наизнанку вывернулся, чтобы получить контрольный пакет акций в СИБУРе. У переработки природного газа есть несколько этапов. Нулевой — подготовка газа, добытого на месторождении, к транспортировке по трубопроводам. Первый — фракционирование добытого и доставленного, чтобы получить отдельно метан, этан, пропан с бутаном и прочее. Второй — чтобы произвести полиэтилены с полипропиленами. Третий — произвести из них уже конечные изделия. Так вот Газпром — это нулевой этап и этап № 1, а дальше у нас СИБУР. История с получением контроля над этим концерном ждёт своего писателя — сюжет был залихватским, с поддельными письмами, чёрными пистолетами и прочим. Но так или иначе — сделали. Но тут же получили распоряжение президента Медведева о необходимости избавиться от «непрофильных активов». И что, Россия сильно выиграла от этого? Безусловно, выиграла, но не сильно, — СИБУР успешно развивается, вот только: а) технологии для своих новых заводов он всё так же импортирует и б) конечную продукцию старался реализовать на том самом европейском рынке, поскольку тут максимально соблюдалась платёжная дисциплина. Выгода для Государства Российского есть — налоги, рабочие места, СИБУР охотно вкладывается в развитие уровня жизни во всех местах своего присутствия. Это хорошо. Но мало.
Что я предлагаю? Нет, не национализировать СИБУР — тут уж «умерла, так умерла». Но у нас только на Ямале — 27 трлн кубометров доказанных запасов природного газа, не говоря уже о шельфе наших северных морей. Ждать, когда СИБУР вырастет настолько, чтобы прийти и на новые месторождения или те самые сверхдоходы за экспорт энергоресурсов использовать для того, чтобы в этот сектор экономики пришло государство? На мой взгляд, вопрос сугубо риторический. Хотим конкурентную среду? Прекрасно, но кто сказал, что одним из конкурентов не может быть государство? Автор учебника «Экономикс», что ли? Ну вон он, пример — за вновь отстраиваемым железным занавесом. Государства ЕС ушли из реального сектора экономики — и как вам результат? Производство тех самых азотных удобрений за год в Европе сократилось не на проценты, а в 2,5 раза — касса свободна, причём свободна навсегда. Потому, что газ в России в 30–40 раз дешевле, чем в Европе. Имеем мы право не воспользоваться таким моментом и не договориться с Ираном, который № 2 в мире по запасам газа, как именно расписать мировой рынок на двоих? Нет, не имеем — потомки не простят, а нам эти рынки и деньги с них нужны для того, чтобы продолжать выполнять задачу № 0 — плодиться и размножаться.
Новые производства — новые рабочие места — новые возможности для того, чтобы создавать подрастающее поколение. И это тот самый асимметричный ответ: наращивать не только экспорт энергетического сырья по новым маршрутам новым потребителям, но и более маржинальную продукцию, приносящую больше денег, позволяющую развивать производство в самой России. Экспорт не миллиардов кубометров газа, а миллионов тонн удобрений — это ещё и дешевле с точки зрения логистики, морских судов меньше потребуется. Совсем недавно Россия отметила профессиональный праздник — работников нефтяной и газовой отрасли, а вот такой подход позволит сделать праздник более широким, более масштабным, поскольку таких специалистов станет больше. Почему? На территории нашей страны есть немалое количество углеводородных месторождений, относящихся к категории ТрИЗ — трудноизвлекаемых запасов. Их открывали и в советские времена, и сейчас: газ и нефть в них имеются, но наличествующие технологии и биржевые котировки делают их разработку не рентабельной. Добыть можно, но продажа добытого газа или нефти как сырьевых ресурсов эту добычу просто не окупит, и по этим причинам целый ряд месторождений не разрабатывается уже десятки лет. Но в том случае, если углеводороды из разряда ТрИЗ будут отправляться в переработку, ситуация изменится кардинальным образом в силу того самого 30–40 кратного выигрыша перед теми же европейскими ценами на нефть и газ. Не рентабельно добывать и гнать на продажу нефть Баженовской свиты, которую даже западные эксперты оценивают в гигантские 20 млрд тонн? Давайте её перерабатывать до уровня нефтепродуктов, до уровня нефтехимии — и картина сразу заиграет другими красками.
Но самое удивительное, что первый шаг на пути к сверхновой России мы можем сделать прямо сейчас — я имею в виду приведение в порядок, к здравому смыслу нашей налоговой системы. Напомню, что с 2015 года Минфин проводит так называемый налоговый манёвр: ежегодно увеличивается ставка налога на добычу природных ископаемых (НДПИ) и так же ежегодно снижаются экспортные пошлины на вывоз сырой нефти. Это самое настоящее преступление перед страной — никаких других слов я подбирать не намерен. Год за годом нашим нефтяным компаниям всё менее выгодно перерабатывать нефть внутри России, год за годом всё прибыльнее становится работа по архаичному принципу «качай и вези». Те, кто изобрёл этот налоговый манёвр, даже не скрывали конечной цели: стоимость нефтепродуктов внутри России должна совпасть с мировыми ценами. Это, простите, как понимать? Россия — страна с самой большой протяжённостью автомобильных дорог, для нас рост цен на бензин и дизельное топливо означает рост на любой продукт, на любой товар, да даже на рабочую силу — на дальние прииски вахтовиков доставлять и то дороже становится. Мы хотим слезть с пресловутой сырьевой иглы, но наш Минфин делает всё, чтобы игла становилась как можно толще. Это точно наш Минфин? Лишать Россию нашего естественного преимущества — дешёвого моторного топлива для того, чтобы профессионалы Минфина ставили галочки: вот как всё здорово, вот как нас полюбят и похвалят за пределами России. И уже семь лет прочие министерства, депутаты Думы и Совфеда взирают на это с полным равнодушием — всё хорошо, всё идет как надо. При этом ещё и ФАС носится по АЗС, проверяя, уж не поднял ли кто цену выше, чем... А, собственно, выше, чем что? Ответ ровно один — выше того уровня, когда люди начнут выходить на улицы, окончательно рассвирепев от бензина по европейским или американским ценам. Да, есть факт: в России слишком низка численность населения на нашу огромную площадь. Да, мы вынуждены строить экспортно ориентированную экономику, но экспортировать нужно как можно более глубоко переработанную продукцию — мне это представляется прописной истиной.
Остановите либералов в Минфине, в ФАС, в прочих наших загадочных ведомствах, разбудите депутатов, поставьте этот вопрос ребром. Уберите маразм из наших законов, его слишком много. Частная угольная компания России имеет право подписать 10-летний, 15-летний контракт на поставку угля в Китай, в Индию, а вот с нашей государственной компанией РусГидро, которая отвечает за свет и тепло на всём Дальнем Востоке и в Арктике, — запрещено законом. Ежегодные тендеры, которые невозможно обойти, а потом — недоумение по поводу того, что РусГидро умоляет поднять тарифы на свет и на тепло, чтобы не обанкротиться, — это практика, с которой мы живём.
Почему угольные компании поднимают цены на внутреннем рынке? Да потому, что Минфин России рассчитывает ставки налогов на основании данных частных британских компаний «Платс» и «Аргус», которые норовят угольным эталоном делать каменный уголь Австралии. У нас растёт стоимость даже государственных строек, поскольку на мировом рынке растут цены на конструкционный металл, на сталь, а то и другое надо закупать на тендерах, а налоги — по «Аргусу» и «Платтсу». Не «господа металлурги, мы видим вашу себестоимость, миллион тонн арматур диаметром 16 мм для государственных строек — это ваши 15% рентабельности и ни копейки больше, и цена не изменится, пока последний килограмм не заберём; не нравится? — тогда экспортная пошлина с ближайшего понедельника удвоится; без тендеров, поскольку мы в 90-е догадались приватизировать все до одного металлургические комбинаты». Примеры могу приводить и дальше, а могу и коротко: вся наша налоговая система подлежит ревизии, идеологией которой станет соблюдение государственных интересов России, а не соблюдение лекал и предписаний МВФ и прочих ВБ.
Сверхновая Россия — это страна не только разведчиков и добытчиков нефти и газа, но и страна нефтяных и газовых технологов, инженеров, конструкторов нового оборудования. Выстраивание вертикально-интегрированных компаний в нефтегазовой отрасли — это не только «сам разведал, сам добыл, сам доставил, сам продал», это ещё и «сам разработал нужные технологии и сам произвёл всё необходимое оборудование», поскольку это — единственно верный способ добиться снижения себестоимости конечной продукции. Нельзя — «провёл тендер на разработку технологий — заплатил с наценкой, заказал оборудование на чужом заводе — заплатил с наценкой, доставил оборудование на нужное место — заплатил с наценкой, отремонтировал у победителя очередного тендера — заплатил с наценкой» и далее по списку. Хочешь сделать хорошо — сделай сам, пока отрасль не встала на ноги. Пока встаёт на ноги, все патенты уходят государству, хочется-желается получить конкурентную среду — государство продаст патенты тем, кто пожелает с ним, с государством, конкурировать.
Чем ещё хороша нефтяная и газовая химия? Нет такой критической зависимости от импортных технологий, как в случае с тем же СПГ, причём зависимости как у нас, так и у потенциальных покупателей. Про тот же СПГ сейчас пишут все, кому не лень, но как-то не замечают при этом, что СПГ покупают всего 42 государства в мире. Почему? Нет своих регазификационных терминалов, нет своих хранилищ, не создана трубопроводная распределительная сеть. Почему? Денег нет, специалистов нет, ничего нет. Вносить удобрения в землю для того, чтобы урожаи выше стали, — смогут. Склад в порту — смогут, а дальше хоть машинами, хоть тачками растащат. И таких стран — в два раза больше, и население там растёт. Можем предоставить? Да не можем, а обязаны — больше ведь никто по приемлемым ценам этого сделать не способен. Обязаны — потому, что это обеспечит тот самый рост сферы влияния. Я не буду про военные характеристики такой сферы — об этом пусть говорят специалисты, но без гражданской составляющей стенки у сферы будут так себе. «Россия, дай поесть», — вполне нормальный лозунг для сотни стран, испытывающих проблемы с продовольствием для своего населения. Нет, такой подход не значит, что нам нужно отказываться от разработки и создания наших собственных технологий, связанных с СПГ, — это тоже нужно, но стоит определиться с порядковыми номерами при реализации наших планов.
Удобрения проще нам и проще потенциальным покупателям, которых в разы больше, чем потенциальных покупателей СПГ, — значит, с этого и нужно начинать. И автоматически вытекает следующая задача: связанность с теми, с кем России предстоит расширять сотрудничество. Эти страны — на других континентах и в тех частях Евразии, до которых мы можем добраться только через моря и океаны. В 2014 году дефицит торговых судов всех типов в России составлял 600 штук, и эта цифра не изменилась. Мы везём свою нефть на чужих судах, мы везём свой уголь на чужих судах, мы везём свой лес на чужих судах.
Да, в этом году Россия заработает на нефти раза в три больше, чем в 2021-м, но есть и другая статистика: компании-судовладельцы Кипра и Греции, владеющие самыми большими флотами нефтяных танкеров, тоже заработают в три раза больше. Они просто подняли тарифы — мол, мы очень рады поработать, но за наш риск попасть под вторичные санкции вам, дорогие россияне, придётся доплатить. Ровно такая же картинка будет и у наших угольщиков, которые тоже вынуждены будут обеспечивать рост прибылей зарубежным компаниям. И группа G7, мечтающая о введении некоего потолка цен для российской нефти, тоже будет пытаться бить в это слабое место — в отсутствие у России собственного торгового флота. И как с этим бороться? Да только одним методом: Россия, страна трёх океанов и одиннадцати морей, обязана стать центром сначала своего собственного, а потом и мирового судостроения.
Моя сверхновая Россия — это страна, умеющая и любящая строить суда всех марок и всех размеров: для морей тропических и арктических, работающие на дизельном топливе, на метаноле, на СПГ, на атомной энергии. Мечты о том, что против санкций Россия выстоит усилиями малого и среднего бизнеса, — это для слабых разумом и памятью; в нашей истории ещё не было случая, когда лавочник спас бы Россию. ИТ-отрасль, какие-то там искусственные интеллекты и прочие благоглупости — это украшение на фасаде, фасад первичен. Морские суда — это не только сталь корпусов, это двигателестроение, приборостроение, это рост спроса на космическую группировку спутников.
С 2009 года Россия строит ровно одну крупную верфь — в Большом Камне рядом с Владивостоком. Строим-строим — не построим; позорище просто вселенского масштаба. Строят китайские компании, потому как ФАС и прочая либеральная рать против того, чтобы государство для строительства государственного объекта создавало государственную строительную компанию. Эффективный частный собственник строит ещё и три завода разом в Усть-Луге — СПГ, газоперерабатывающий и газохимический. Заглядывали туда? Турки, китайцы, узбеки — полный интернационал. Так выгоднее эффективному частному собственнику. А России выгодно строить самой. Строить не только заводы, но и всё необходимое для того, чтобы будущие работники жили в нормальных условиях. Города Дальнего Востока в годы Великой Отечественной войны создавались для того, чтобы было где строить необходимые для защиты рубежей боевые корабли. Владивосток, Хабаровск, Николаев-на-Амуре, Комсомольск-на-Амуре — вот это и есть плацдарм для моей сверхновой России — страны-судоколонки.
Моя сверхновая Россия — страна, которая и не думает стесняться того, что для Евразии она была, есть и остаётся Хартлэндом, сердцем материка. Потому моя сверхновая Россия восстановит Южно-Кавказскую железную дорогу, чтобы восстановить былую связь трёх империй — Российской, Персидской и Османской. Моя сверхновая Россия достроит и начнёт в полный рост эксплуатировать железную дорогу из Ирана через Азербайджан, чтобы индийские паромы таскали индийские товары для Европы и европейские — для Индии. Моя сверхновая Россия ворвалась в проект века, предложенный президентом Узбекистана — проект железной дороги нашей имперской колеи 1520 от Термеза через Кабул в Пакистан и дальше, в Бангладеш и в Индию. Моя сверхновая Россия не слушает словеса Сергея Лаврова, ждущего появления в Афганистане некоего инклюзивного правительства — простите, я не знаю ни одной страны на планете, где существует такое чудо из чудес. Может, у Лиз Трасс спросить? Афганистан способен стать перекрёстком континентальных железнодорожных супертрасс — с севера на юг и с запада на восток, из России до Цейлона и от Тегерана до Пекина. Моя сверхновая Россия не упустила возможность стать мотором и мозговым центром этого проекта, стала неотъемлемой частью новых караванных троп XXI и XXII веков. Моя сверхновая Россия не слушает стенания министерства развития Дальнего Востока и Арктики о том, что БАМ и Транссиб не справляются с потоками грузов — моя сверхновая Россия вообще стонать не намерена. Северный широтный ход выводит Свердловскую железную дорогу к Ямбургу — порту в Обской губе. Моя сверхновая Россия построила Северный широтный ход — 2, который выводит железную дорогу страны к федеральному порту Сабетта. По этим двум дорогам идут наши грузы — вперёд и вверх, к нашему СМП, а БАМ с Транссибом — это для наших пассажиров и для транзита Азия — Европа и обратно. Моя сверхновая Россия вспомнила, почему наши сибирские реки названы великими — по ним снова идут речные суда, расширяя товарные потоки, усиливая возможности наших железных дорог. Моя сверхновая Россия перестала продавать миллионы тонн СПГ и энергетического угля — она умеет строить плавучие электростанции на обоих ресурсах, которые востребованы по всему миру, за исключением, разумеется, Европы и прочих прихлебателей США. Не строить самим, тратя миллиарды денег и годы усилий, а заказывать у России плавучие электростанции — у России это получается дешевле, поскольку строятся они на заводах, да ещё и поточным методом. Не миллионы тонн сырья, а киловатт*часы, — это экспорт конечной продукции энергетики, это стабильность и отсутствие зависимости от спекулятивных биржевых цен.
Конечно, я могу продолжать и дальше — о том, что в сверхновой России геология снова стала основой выстраивания планов развития для новых и новых территориально-производственных комплексов. О том, что сверхновая Россия опамятовалась и вспомнила, что наши с вами леса — это возобновляемый ресурс, востребованный во всех концах планеты, научилась свои леса регулировать и использовать себе и другим на пользу. О том, что сверхновая Россия перестала бояться самостоятельности своих же муниципалитетов, позволила городам и даже посёлкам стать участниками экономической жизни, что и сделало нашу экономику действительно конкурентной, а не спекулятивной и не живущей по принципу «выкачал — продал». Но самое главное, что произошло в моей сверхновой России — то, что она отменила сдуру придуманный для себя запрет на собственную государственную идеологию. Только после этого мы с вами, а не сторонние дяди с тётями, сможем определять, куда мчаться тройке-Руси. Конференция стала первым шагом, первой попыткой осмыслить нашу исключительность, нашу особость, и это — начало большого пути.
Выступление на научно-просветительской конференции "Сверхновая Россия. Какая ты будешь?", состоявшейся 10 сентября 2022 года.

Гигантский рост и острый кризис
Китай в 2022 году
Николай Вавилов
Самый важный итог 2021 года заключается в том, что центр мировой экономики продолжает перемещаться на Восток, из Атлантического региона в Тихоокеанский. Для США это парадоксальным образом сказывается растущими проблемами Западного побережья, потому что многое от него забирает Азия, и чуть меньше — американский Юг, но для КНР, для Индии, для стран АСЕАН вектор развития очевиден. ВВП КНР по итогам 2021 года вырос на 8,1%. По сравнению с 2,3% в 2020 году. Это значит, что за годы пандемии средний медианный рост китайской экономики составил 5%. Напомню, что до пандемии он составлял 6,5% Для китайской экономики это колоссальный провал, с точки зрения темпов роста. То есть, с 6,5% Китай опустился до 5% роста. Это при том что в экономику «вливали» примерно по три триллиона долларов ежегодно. То есть, несмотря на масштабные вливания, несмотря на рост китайского товарооборота, который тоже продемонстрировал рекордные цифры, 6 триллионов долларов по итогам года, китайская экономика замедляется. И если в 2022 году будет 5% роста, то что может произойти? По данным Народного банка, был проведён стресс-тест для финансовой системы Китая, и выяснилось, что китайскую экономику, половину её банков ждёт дефолт, если рост будет меньше 4%. С учётом того, что экономика Китая перегружена долговыми обязательствами, новыми, постковидными, то этот показатель теперь можно считать близким уже к 5%. То есть Китай в 2022 году может подойти к дефолтной ситуации, несмотря на его гигантский рост.
То есть налицо гигантский рост — и при этом опасность очень острого кризиса. Это не пустые слова. В 2021 случился беспрецедентный за последние 20 лет энергетический кризис в КНР. Китайская экономика в сфере энергетики является плановой: и по ценам, и по физическим показателям… И она столкнулась с тем, что в течение сентября в двадцати провинциях происходили одномоментные отключения всей энергосистемы, причём они длились по нескольку дней. Останавливались лифты, не работали светофоры в крупных мегаполисах, прекращалась подача воды, потому что насосные системы работают на электричестве, естественно. Труднообъяснимый энергетический кризис, официально вызванный тем, что резко вдруг угля не стало для энергогенерирующих систем… Это всё случилось в сентябре, за месяц до 6-го Пленума Компартии Китая. С точки зрения науки, подобный сбой планового хозяйства никак не объясняется. Потому что цены на уголь были высокими в течение всего года. Но сбой система дала почему-то именно в сентябре. Это очень важный для Китая, скажем так, момент, который указывает на присутствие неких внутренних социально-политических факторов. В итоге Хань Чжэн, вице-премьер КНР, отвечающий, в частности, за надзор над энергосектором, провёл экстренное совещание, на котором приказал любой ценой обеспечить наличие энергоресурсов в приближающуюся зиму, подчеркнув, что блэкауты недопустимы. И огромные деньги были брошены на закупку энергоресурсов на внешних рынках. Потому что за энергосистемами, за добычей угля и за энергетикой стоят разные абсолютно группы. Они никуда не делись.
К энергетическому кризису стоит добавить кризис застройщиков. Китайская экономика с 2008 года во многом росла за счёт финансирования строительного сектора. Не знаю, как там насчёт ракетных шахт, но в гражданском строительстве цены были беспрецедентно взвинчены. Это была очень популярная тема, широкий сектор, который занимал до 30% китайской экономики. И вот кризис коснулся крупнейшей компании-застройщика Evergrande Group, это едва ли не первый номер среди крупнейших застройщиков КНР. В секторе строительства в Китае работают от 50 до 70 миллионов человек. Это в основном трудовые мигранты, социально незащищённые граждане и т. д. Я вижу в кризисе Evergrande Group то же самое, что и в энергетическом кризисе — некий клинч между определёнными политическими группами. Но, тем не менее, такого раньше в Китае не было. Кстати, у Си Цзиньпина основная политика направлена прежде всего на сокращение долговой нагрузки предприятий, особенно в строительной отрасли. Это его цель — провести коррекцию в данном секторе. А сектор не просто огромный, но и связанный с предыдущим китайским руководством. Тем не менее это произошло.
Все эти проблемы, столкновения политических групп и их интересов внутри Китая, будут только усиливаться в предстоящем году и распространяться на остальные сектора экономики. У нас почему-то действует некое табу на обсуждение экономических проблем КНР, что, на мой взгляд, и неправильно, и опасно. Здесь ещё один важный момент — демографический. Рождаемость в Китае по итогам 2021 года в пересчёте на 1 тыс. человек оказалась даже ниже, чем в РФ. Это свидетельство крайнего социального неблагополучия. Китайцы, так же как россияне, не хотят рожать. И в 2022 году население КНР начнёт уже официально сокращаться. То есть китайцы вышли на пик своего населения, 1 миллиард 400 миллионов человек. Дальше эта цифра расти не будет. И это окажет влияние на экономическую политику Китая, где будет сокращаться численность трудоспособного населения.
Третий момент, явно обозначенный по итогам 2021 года, — рост напряжения вокруг Тайваня. Воинственная риторика Пекина в отношении этого острова была всегда, но только в 2021 году наблюдалось такое количество заходов боевой авиации, причём это были крупные соединения военно-воздушных сил НОАК, до 150 самолётов, способные нанести масштабный удар по Тайваню. Такого раньше тоже не было. При этом сам Тайвань вышел на очень интересную дипломатическую траекторию, начал открывать свои представительства в странах ЕС. Ситуация с Литвой у всех на слуху и на виду. А с первых дней нового года заговорили о возможности открытия аналогичного представительства в Словении. Пекин на это реагирует беспрецедентно жёстким образом. Похоже на то, что Тайвань готовится к провозглашению своей независимости, и на Западе готовится некий «парад» его признания. Возможно, это будет связано с какими-то действиями со стороны КНР — не исключено, уже в этом году. Есть мнение, причём его высказывают и достаточно серьёзные внутренние наблюдатели, что такие действия могут начаться либо сразу после зимних Олимпийских игр в Пекине, либо даже во время этих игр.
Чтобы отвлечь внимание от Тайваня, американцы могут спровоцировать какие-то другие приграничные конфликты. Там возможностей очень много. Помимо Индии, это и Мьянма, и Непал, и Бутан, и Афганистан, и республики Центральной Азии. У того же Казахстана граница с Китаем составляет 1771 километр… Это почти неохраняемая, если использовать передовые транспортные системы, территория. И если в Центральной Азии начнутся какие-то «горячие» конфликты, и Китай будет вынужден в них вмешаться, тогда Тайваньская операция станет просто невозможной. Китай, вопреки мифу о том, что он со своей огромной армией может воевать на всех направлениях, не может воевать на двух направлениях одновременно. И если его войска будут каким-то образом задействованы в Средней Азии, то он не сможет провести Тайваньскую операцию.
Почему Тайвань важен? Почему так остро стоит сегодня этот вопрос? Потому что, если Китай установит свой контроль над Тайванем или хотя бы вынудит американцев уйти оттуда, вопрос о господстве США в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно будет считать закрытым. Потому что это господство автоматически перейдёт к КНР. Япония, Южная Корея, страны Юго-Восточной Азии не смогут выстроить логистику в регионе в обход Китая, Китай будет определять эту логистику и тем самым установит контроль над экономической зоной АСЕАН. А это гораздо больше, чем экономика Евросоюза. Поэтому вопрос о Тайване – это вопрос о мировом лидерстве.
В данной связи необходимо отметить и создание такого межгосударственного формата, как AUKUS. Он возник в качестве ответа на рост совокупной мощи Китая. Я считаю, что это протовоенное объединение, военное партнёрство под флагом развития военно-технического сотрудничества. Если же говорить по существу, то в рамках этого партнёрства Австралия становится местом размещения ядерного оружия для нанесения удара по КНР. Почему это стало необходимым? Потому что конвенциональным оружием, дипломатическими средствами, экономическими, Китай уже невозможно остановить. Вот глобальные СМИ сообщили, что КНР в 2021 году провела испытания гиперзвукового оружия — это ведь тоже свидетельство определённого технологического уровня. По числу космических запусков Китай вышел на первое место в мире, Россия только третья.
Помимо прочего, в экономической политике КНР обозначилась новая стратегия Си Цзиньпина, его новая доктрина, которая называется «Всеобщее процветание». Она подразумевает некий налог на сверхприбыль корпораций, в том числе IT-сектора. Под действие этой доктрины уже попали такие корпорации, как Alibaba, Tencent и другие. Можно сказать, что началось масштабное перераспределение активов крупных рыночных игроков в пользу общественных институтов, прежде всего здравоохранения. Это тоже важная примета прошедшего года.
Таковы краткие итоги 2021 года применительно к Китаю. И если говорить о перспективах 2022 года, то должен повторить, что формальный рост китайской экономики сопровождается угрозой дефолта и дестабилизации ситуации. Понятно, что это не одномоментный дефолт, не одномоментная дестабилизация. Скорее всего, данные процессы будут идти поэтапно. И первое, с чем столкнётся Китай, это дефолты крупных корпораций. Не только Evergrande Group. Это могут быть и "Хайнаньские авиалинии", чей совокупный долг примерно соответствует объёму долга Evergrande Group. Эти дефолты будут распространяться с корпоративного уровня на региональный. Тем более что многие регионы по своей долговой нагрузке за последние 14 лет, с 2008 года, стали очень проблемными заёмщиками. Это в основном Юго-Западный и Западный Китай, провинции Ганьсу, Гуанчжоу и другие. Они фактически ничего не производят, удалены от морского побережья, но в рамках реализации программы «среднезажиточного общества» набрали очень большие долги, с которыми вряд ли в состоянии расплатиться. Разумеется, если будет дефолт этих провинций, то он пройдёт, естественно, по-китайски: без каких-либо громких заявлений, центральное правительство возьмёт выплаты на себя. Но на местах будут сокращаться социальные программы, возрастёт нагрузка на тех же учителей, тех же медиков и т. д. и т. п. Дотационные категории граждан, а они очень велики в Китае, в этих регионах начнут получать меньшие выплаты. Соответственно, на этих территориях возрастёт социальное недовольство, которое вследствие «ковидных» ограничений и без того достаточно высоко. И к концу 2022 года, к ХХ Съезду КПК, всё это каким-то образом может выйти и на политический уровень.
Официальная инфляция в Китае около 5%. Но вот цена угля выросла на 25%. А уголь — то, чем топят на селе, где нет централизованного отопления и т. д. То есть реальная инфляция на товары первой необходимости достигает 20–25%, идёт сокращение располагаемых доходов населения, и всё это может, скажем так, полыхнуть... Перед событиями на площади Тяньаньмэнь, в 1988 году, рост цен в Китае составлял 29%. То есть инфляция — ключевой фактор недовольства и массовых протестных акций… То, что мы видели недавно в Казахстане, может повториться и в Китае. Там, конечно, своя политическая ситуация. На уже упомянутом мною ХХ съезде КПК должен решиться вопрос о политическом лидерстве в Китае. Он касается не только Си Цзиньпина лично, который планирует переизбраться на пост генерального секретаря, — будет переназначаться около трети нынешнего состава Политбюро и ЦК, многие важные посты получат новых хозяев. Тем более, это будет происходить в очень острой экономической и внешнеполитической ситуации. Те, кто знаком с моими работами, знают о том, что в Китае нет монолитной партии, идёт борьба между «силовиками», чьим лидером является «товарищ Си», и группой «комсомольцев», связанной с Демократической партией США, ныне находящейся у власти. И, конечно, если Си Цзиньпин останется во власти на третий срок, хотя бы в партии, то вытеснение комсомольских лидеров, которые связаны с Демпартией, перейдёт в новую стадию. Хотя они традиционно доминируют в китайской экономике, контролируют основные экспортные и финансовые потоки, и какой-то баланс сил между ними и армейской группировкой сложился всё-таки. Скорее всего, этот баланс не будет окончательно разрушен, и на пост премьера КНР выберут человека, который представляет проамериканскую группу «комсомольцев». Самый вероятный кандидат, на мой взгляд, — это Ван Ян, хотя очень много претендентов на этот пост. Но его избрание воссоздаст ту ситуацию, которая была при Мао Цзэдуне, когда председателем правительства и председателем Госсовета КНР являлся Чжоу Эньлай, выходец из Шанхайской группы, который, кстати, устанавливал отношения с Республиканской партией США и президентом Ричардом Никсоном. Связка Мао Цзэдуна и Чжоу Эньлая работала лет 20. Если не будет активного обострения американо-китайских отношений, в том числе вокруг Тайваня, то это очень вероятный и приемлемый для Китая вариант сохранения балансов…
Тут надо помнить, что как раз при Мао Цзэдуне Китай вышел из советского лагеря, и это заставило нашу страну дальше вести «холодную» войну фактически на два фронта: и на западном, и на китайском. В конечном счёте именно эта позиция Китая заставила СССР сделать выбор в пользу политики конвергенции, разрядки и «мирного сосуществования», что привело к уничтожению Советского Союза и мировой системы социализма. Если ситуация в Китае сейчас сложится таким образом, что позиции Си Цзиньпина и «силовиков» ослабеют, а проамериканских «комсомольцев» усилятся, то это будет означать необходимость «замирения» России с Западом чуть ли не любой ценой, потому что противостоять одновременно США и Китаю наша страна принципиально не в состоянии. Не нужно считать, что никаких изменений в отношениях между США и Китаем быть не может, всё гораздо сложнее и неопределённее.
Из выступления на научной конференции на тему "2022: тенденции, прогнозы, риски" в Фонде поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова.

Главное - безаварийность
КИНЕФ продолжает модернизацию производства и снижает нагрузку на окружающую среду
Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)
В следующем году Киришский нефтеперерабатывающий завод начнет закупку оборудования для строительства нового производственного комплекса по переработке тяжелых нефтяных остатков. Это существенно увеличит возможности предприятия и снизит нагрузку на окружающую среду. Ввод объекта в строй запланирован на 2025-2026 годы. О том, что еще нового появится на предприятии, о влиянии политики и пандемии на производство топлива и спортивные достижения корреспонденту "РГ" рассказал генеральный директор ООО "КИНЕФ" Вадим Сомов.
Работаем в нормальном технологическом режиме
Вадим Евсеевич, мир, страна, регион второй год живут в условиях ковидных ограничений. Как они повлияли на КИНЕФ? Возможен ли возврат к прежней жизни и насколько он необходим?
Вадим Сомов: Мы практически вернулись к тому образу жизни, который вели в докоронавирусные времена. На нашем предприятии работает 7,3 тысячи человек, из них 80 процентов вакцинированы. Если учесть переболевших за последние полгода, то коллективный иммунитет составит 88 процентов - и это без учета медотводов. Болеют у нас сегодня 40 человек, но они болеют в легкой форме, не нуждаются в стационаре. Ковидный госпиталь в Киришах на сегодняшний день закрыт, хотя в самое трудное время мы помогали больнице всем необходимым. И для наших работников даже сами шили маски, когда в первое время их не хватало.
В самом городе Кириши с населением в 50 тысяч человек вакцинировано более 36 тысяч. Если не считать детей, которым прививки не делают, это тоже довольно высокий показатель.
Когда началась пандемия, мы были готовы перевести людей на 12-часовые смены, да и сейчас готовы, но этого не понадобилось - предприятие работает в нормальном технологическом режиме. Летом прошлого года пришлось скорректировать график отпусков, но сейчас, как я уже сказал, при высоком уровне вакцинации все пришло в норму. Поэтому даже оперативки мы не стали переводить в режим онлайн, по-прежнему проводим их, но в усеченном составе. И только командировок в другие регионы стало гораздо меньше.
Насколько для вашей сферы вообще подходит "удаленка"?
Вадим Сомов: Конечно, это абсолютно невозможно для сотрудников, которые непосредственно задействованы в производственном процессе - операторов, машинистов, слесарей, электромонтеров... У нас непрерывное производство, с распределенной системой управления. Но это исключено и для тех, кто работает только за компьютером, для сотрудников заводоуправлений.
На КИНЕФе действует абсолютный запрет на внешний доступ к технологической компьютерной сети предприятия. Мы очень тщательно оберегаем свою информационную инфраструктуру, ведь вмешательство в нее может быть опасно как для завода, так и для всего города, для экологии региона - у нас взрывопожароопасное предприятие. Ежегодно мы отражаем большое количество хакерских атак. Для этого у нас действует специальное управление информационной безопасности.
В условиях пандемии стали много говорить о кадровом голоде, отсутствии квалифицированного персонала. Вы с этим столкнулись?
Вадим Сомов: Нас эта проблема совершено не коснулась. Рабочие кадры для КИНЕФа готовит в том числе Киришский политехнический техникум. Вместе мы разработали программы профессионального обучения таким образом, чтобы выпускники соответствовали нашим требованиям. Мы помогли техникуму с оборудованием для мастерских и лабораторий, чтобы ребята учились работать в реальных условиях. Кроме того, студенты проходят практику в наших цехах, по результатам которой получают возможность трудоустройства.
Как идут работы над новым комплексом по переработке тяжелых нефтяных остатков? Когда планируется его пуск?
Вадим Сомов: Проект, который мы инициировали в целях увеличения глубины переработки нефти, снижения выпуска топочного мазута, переработки гудрона в кокс, сжиженные углеводородные газы, компоненты бензинов и дизельных топлив, реализуется по графику. На первом этапе была закуплена лицензия, пройдена государственная экологическая экспертиза. В 2022 году мы планируем начать закупки оборудования, а пуск нового производства намечен на 2025-2026 годы.
Переработка нефти требует неукоснительного соблюдения экологических требований. Как построена природоохранная политика КИНЕФа, что вы считаете наиболее важным в этом направлении?
Вадим Сомов: На нашем предприятии выполняются все экологические требования в полном объеме, для контроля за этим создано специальное подразделение. Поскольку мы работаем на природном газе да к тому же установили все необходимое дымоуловительное оборудование, у нас фактически отсутствуют выбросы в атмосферу.
Для очистки сточных вод используются наши собственные очистные сооружения, через которые, кстати, проходят и стоки всего города Кириши. А для очистки воды, которая задействована в производственных процессах, есть специальные отстойные пруды. Их общая площадь составляет около 3,5 тысячи гектаров, это даже больше, чем территория самого завода! И вода, которую мы раз в год сбрасываем из них в реку Волхов, чище, чем вода самого Волхова.
Что вы думаете о дальнейших перспективах использования углеводородного топлива? ЕС, к примеру, с 2035 года отказывается от использования двигателей внутреннего сгорания.
Вадим Сомов: О том, что запасы нефти на Земле истощаются, говорили еще в 1970-е годы - мол, хватит всего на 50 лет. Однако к настоящему времени добыча во всем мире идет очень активно. О двигателях, работающих не на бензине, тоже говорят давно, я сам еще в институте изучал особенности применения пропан-бутана. Сейчас вот говорят о "зеленом" водороде.
Но, во-первых, бензиновый двигатель гораздо безопаснее. Тот же водород горит в открытом пространстве и взрывается в замкнутом объеме. А во-вторых, встает вопрос скорости и расстояния - сегодня это в среднем не более 500 километров. Соответственно, для электромобилей нужна развитая инфраструктура, зарядные станции, для которых электричество тоже нужно вырабатывать. А если Европа отказывается от угля и хочет сократить зависимость от российского газа, то где они будут его брать? Наконец, пока еще не существует электрокораблей и электросамолетов. Так что если вы беспокоитесь о будущем КИНЕФа, то совершенно зря.
О спорт, ты - мир!
Вы уже более 30 лет развиваете в России водное поло, команда "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" собрала массу наград. Сейчас ее состав значительно обновился. Что это дало?
Вадим Сомов: Буквально две недели назад обновленная команда "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" уступила греческому "Олимпиакосу" в матче за Суперкубок Европы, хотя сначала вела в счете. Греки играли в качестве победителя ватерпольной Евролиги, наша команда - как победитель Кубка LEN Trophy. Несмотря на поражение, я видел, как серьезно эти 17-18-летние девчонки отнеслись к игре. К тому же все устали - команда месяц не была дома, играла сначала в Волгограде, потом в Италии, в Греции. А "Олимпиакос" буквально перед матчем купил четырех мощнейших игроков, участников Олимпийских игр. А у нас принцип - вырастить своих звездочек. Поэтому у нашей Анны Карнаух, которая признана лучшим вратарем на чемпионате Европы 2020 года, уже есть как минимум две замены.
Как устроена подготовка резерва?
Вадим Сомов: Все начинается с детского сада. Мы специально на автобусах привозим детишек в бассейн, а примерно со второго класса начинается профессиональный отбор. Перспективные ребята попадают в спортивные классы - всего их шесть - и живут уже по совершенно иному распорядку, чем сверстники. Даже расписание уроков в школе подстраивается под режим тренировок.
А насколько сложно было подобрать замену легендарному Александру Кабанову, тренировавшему команду "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" на протяжении многих лет?
Вадим Сомов: Александр Кабанов был уникальным человеком и спортсменом, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы... За годы работы в нашей команде он вместе с девчонками продолжил рекордную серию побед в национальном чемпионате, дважды победив в Евролиге, завоевав Суперкубок LEN.?
Таких людей рождаются единицы, и его уход для нас стал большой потерей. Но нового главного тренера мы даже не искали - им стал Александр Нарица.
Мы его буквально вырастили, он начинал в нашем спорткомплексе с детских групп, после лондонской Олимпиады уже был главным тренером и неизменно входил в тренерский штаб Александра Клейменова и Александра Кабанова в "КИНЕФ-Сургутнефтегазе" и в сборной России. Он продолжатель традиций Кабанова, хотя работает несколько по-другому.
Александр Нарица отличный тактик и умеет быстро принимать решения, перестраиваться. Например, когда вратарю в водном поло разрешили выходить из ворот за середину поля, он моментально настроил Анну Карнаух на совершение бросков, и она стала приносить команде очки. Это рискованная тактика, потому что ворота остаются незащищенными. Но при твердом расчете она дает свои результаты, и мы стали применять такую тактику одними из первых.
В непростой политической ситуации в мире вы ощущаете антагонизм России и Европы в спорте?
Вадим Сомов: Нет, сегодня этого нет. Мы много лет проводим в Киришах соревнования по водному поло, и всегда к нам приезжали с удовольствием.
Мы ответственно относимся к встрече команд-участников, создаем для них все условия, и это ценят. Прием международных соревнований прервала пандемия, но я очень надеюсь, что в 2022 году его удастся возобновить.
Есть ли у вас самый любимый состав команды за все годы и самый нелюбимый противник?
Вадим Сомов: Команда - мои дети. Как я могу сказать, что кого-то люблю больше? Но могу отметить, что самую большую радость принесла первая победа девчонок. Потом все кубки в наших руках стали восприниматься как должное, потому что для меня существует только одно место - первое.
При этом довольно сложно развиваться в условиях, когда практически нет конкуренции. В России мы сегодня можем соревноваться лишь с командой "Динамо-Уралочка" Михаила Накорякова. С 2003 по 2021 год мы 19 раз подряд становились чемпионами России. Возможность поддерживать форму нам дает только участие в международных соревнованиях.
PROжизнь
Вы охарактеризовали КИНЕФ как непрерывное производство. Остается ли время на что-то, кроме работы?
Вадим Сомов: С самого детства не могу обойтись без книги.
Перед сном всегда обязательно прочитывал 40-50 страниц. В прошлом году напряжение в связи с ковидом возросло настолько, что на это просто не оставалось времени. Сейчас читаю мемуары Уинстона Черчилля.
Мне удалось собрать уникальную библиотеку, в том числе книги, принадлежавшие потомкам русской эмиграции. Сегодня в моем собрании около 15 тысяч томов. Электронные книги не читаю принципиально.
Мы беседуем в преддверии Нового года. Что бы вы пожелали - и себе, и предприятию?
Вадим Сомов: Конечно, всем нам желаю счастья, здоровья, благополучия. А предприятию - безаварийности. И себе - безаварийности. Потому что я лично несу ответственность за жизни людей.

Сергей Стародубцев: У нас есть задача в максимально короткие сроки превратиться в углеродно-нейтральную компанию
Для международного концерна Shell Россия является одним из самых крупных и перспективных рынков. О строительстве индустриального парка в Торжке, развитии сети АЗС, кофе на заправках, масле, прозрачном как слеза, и раздельном сборе мусора «НиК» поговорил с генеральным директором ООО «Шелл Нефть» Сергеем Стародубцевым.
«НиК»: Как пандемийные ограничения повлияли на деятельность компании Shell на российском рынке? Когда, на ваш взгляд, российский рынок вернется к прежним объемам потребления нефтепродуктов и смазочных материалов?
— И сама пандемия, и самоизоляция, связанная с ней, крайне негативно сказались на продажах топлива всех компаний в России в 2020 году. Что касается Shell, то нам удалось свести потери в продажах к уровню минус 6% по сравнению с 2019 годом. Приблизительно такие же результаты были и по реализации смазочных материалов: продажи в 2020 году составили минус 6% к 2019-му. Но, на мой взгляд, свет в конце туннеля есть: в 2021 году мы, по крайней мере в рамках направления смазочных материалов, ощущаем возросший спрос и планируем в этом году прирастить порядка 18% к результатам 2020 года, что составит достаточно хороший уровень развития бизнеса в таких непростых условиях. На сегодняшний день по итогам полугодия наши результаты полностью соответствуют плану, мы в состоянии удовлетворять потребности рынка, и я считаю, что перспективы достаточно неплохие.
Также хочу отметить, что, по нашему мнению и по оценкам аналитических компаний, рынок смазочных материалов восстанавливается достаточно быстро.
«НиК»: Можно ли утверждать, что Россия является для компании одним из наиболее перспективных и принципиальных рынков?
— Российский рынок — один из самых крупных рынков смазочных материалов в мире, его емкость составляет порядка 1,7 млрд литров, поэтому Россия включена в группу из пяти стран, в которых концерн ожидает наиболее быстрое развитие рынка, причем Россия — одна из самых перспективных не только по смазочным материалам, но и по развитию автозаправочной сети.
Наш завод смазочных материалов, расположенный в Торжке, обеспечивает прежде всего российский рынок. Причем завод может обеспечивать поставки и в Европу, но при пересечении границы с Евросоюзом взимаются таможенные пошлины, поэтому с чисто коммерческой точки зрения это нецелесообразно. Всего у концерна девять заводов, самый крупный находится в Германии, его производственная мощность составляет 600 млн литров смазочных материалов в год. Завод в России второй по величине, через два года он будет производить около 300 млн литров.
«НиК»: Каковы масштабы деятельности завода Shell в России?
— Завод в Торжке — одно из крупнейших и наиболее современных предприятий концерна в мире. На сегодняшний день мощность комплекса — до 200 млн литров в год, что обеспечивает порядка 80% смазочных материалов Shell, которые реализуются в России и странах бывшего Советского Союза. На заводе работает порядка 150 сотрудников, преимущественно все они из Тверской области.
В 2021 году было принято решение о расширении завода для увеличения мощностей до 300 млн литров в год. Работы по расширению уже начались: мы получили все разрешения от Главгосэкспертизы, на сегодняшний день начинаем строительство, которое закончим к 2023 году.
На заводе производится полный спектр продуктов: автомобильные масла, масла коммерческого назначения, индустриальные. Согласно оценкам статистических компаний, таких как GFK или Millward Brown, Shell занимает лидирующие позиции в коммерческом сегменте смазочных материалов и самую большую долю в автомобильном сегменте — у нас порядка 15% рынка.
«НиК»: А как развивается сеть АЗС Shell на территории России?
— На сегодняшний день на территории РФ у нас работает более 400 АЗС. По нашим планам мы должны в ближайшие годы довести их число до 600, чтобы обеспечить наличие заправок на самых загруженных транспортных направлениях России. Наряду с такими странами, как Китай, Индия, Бразилия и Мексика, Россия является одним из самых крупных рынков, куда компания готова инвестировать. В прошлом году мы открыли чуть более 40 станций, практически раз в неделю открывали заправку в течение года. Это очень хороший темп, мы его набрали и сбрасывать не хотим.
Сейчас порядка 60% сети АЗС являются нашими собственными станциями. Выбор модели управления АЗС в первую очередь зависит от экономических показателей и наличия партнера, которому мы можем доверять по степени его надежности, лояльности и т. д. Работаем по схеме, которая предусматривает, что Shell поставляет топливо нашим партнерам.
Самыми перспективными региональными направлениями для нас являются Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону и те магистрали, которые наиболее востребованы с точки зрения передвижения автотранспорта. Но мы не концентрируемся на какой-то одной территории, а стараемся быть представлены как можно шире, учитывая экономическую составляющую и спрос на заправки в конкретном регионе. Недавно открыли АЗС в Новосибирске.
«НиК»: Планирует ли компания расширение своей деятельности за счет других направлений? Приобретение или строительство собственных перерабатывающих мощностей?
— На данный момент у нас нет планов по строительству или покупке нефтеперерабатывающего завода на территории РФ, но мы, конечно, планируем расширение и увеличение нашего бизнеса по направлениям и смазочных материалов, и заправок.
Могу добавить, что это не единственное направление, где мы работаем.
Несмотря на то, что покупать НПЗ не планируется, мы все равно представлены на российском рынке нефтепереработки.
На сегодняшний день один из департаментов Shell, который называется Shell Catalysts & Technologies, уже достаточно прочно закрепился на российском рынке в качестве поставщика технологий и катализаторов для производства моторного, авиационного топлива на НПЗ. Мы принимали участие в таких проектах, как предоставление лицензии на установку гидрокрекинга на Орском НПЗ.
В 2020 году в удаленном режиме удалось оказать поддержку при пуске установки гидроочистки дизельного топлива на ТАНЕКО. В настоящее время в процессе строительства находится несколько установок, лицензированных для Shell. Это гидроочистка дизельного топлива с блоком каталитической депарфинизации на предприятии нашего партнера «Газпром нефти» — АО «Газпромнефть-ОНПЗ», установка гидрокрекинга газового конденсата на производстве НОВАТЭКа в Усть-Луге.
«НиК»: Планирует ли компания расширять свое присутствие в сегменте СУГ, КПГ, зарядных станций для электромобилей, водородных заправок?
— На некоторых АЗС мы расширяем линейку топлив и устанавливаем модули для заправки газом. Пропан-бутан доступен на 30 АЗС нашей компании в Белгороде, Ульяновске, Ростове-на-Дону. Природный газ (метан) сейчас доступен на двух АЗС. При этом я бы сказал, что у нас нет разделения между чисто бензиновыми станциями и чисто газовыми. Это заправки мультитопливные. Если позволяет территория, на них устанавливаются дополнительные агрегаты для заправки газом. В дополнение к этому сегодня у нас есть восемь АЗС, которые оборудованы электрозарядками. При этом мы не устанавливаем электрозарядку на каждой новой заправке, а подходим к этому с точки зрения наличия транспортных коридоров. Один из таких важных, с нашей точки зрения, транспортных коридоров — это Москва — Санкт-Петербург.
И станции, которые находятся в этом коридоре, оборудованы электрозарядками с расчетом, что в Москве можно сесть в автомобиль и доехать через Петербург до Финляндии, заправляясь только электричеством.
На будущее у нас в разработке есть еще один такой коридор: Москва — западная граница с Белоруссией. В планах и несколько хабов: например, Санкт-Петербург — Москва — Казань, то есть наиболее загруженные и востребованные трассы.
«НиК»: Насколько перспективным вы видите развитие сегмента нетопливных товаров и услуг на АЗС?
— Мы зарабатываем не только на реализации нефтепродуктов на заправках, но и на деятельности магазинов и сейчас стараемся как можно активнее развивать сферу продаж сопутствующих товаров на АЗС. Это привлекает внимание: чем более комфортное обслуживание получают люди, тем чаще они приезжают вновь и покупают топливо. Мы планируем, что выручка от реализации сопутствующих товаров должна сравняться с продажами топлива в районе 2025 года, причем не только у нас, но и в других странах. На сегодня консолидированные продажи магазина и кафе на наших АЗС составляют где-то 30–35%, и они постоянно растут.
У нас есть несколько заправок, рядом с которыми находится McDonald’s. Помимо McDonald’s, представлены и такие бренды, как Burger King, Pizza Hut, пончики Dunkin’ Donuts и т. д. Это ряд брендов, которые готовы с нами сотрудничать и использовать заправку как центр притяжения. Плюс «Азбука вкуса»: у нас был довольно успешный проект, где на заправках стояли холодильники от «Азбуки вкуса» со свежими готовыми продуктами.
«НиК»: Покрывает ли масляный бизнес все сегменты номенклатуры смазочных материалов и есть ли планы по выходу в какие-то другие сегменты?
— Завод в Торжке производит всю линейку масел и смазок: у нас есть премиальная линейка в автомобильном сегменте, которая продается под брендом Helix, и тут мы занимаем лидирующее положение. Мы представлены в коммерческом сегменте под брендом Rimula и поставляем масла для строительной техники, грузовиков, автоперевозчиков. Наиболее широкую линейку мы обеспечиваем в индустриальном сегменте и в этом смысле очень конкурентны.
Номенклатура, которая сейчас производится на заводе в Торжке, будет расширена на 25–30% с учетом увеличения мощностей. Сегодня мы в состоянии производить 200 млн литров определенного портфеля, а будем производить 300 млн литров. Соответственно, увеличится и номенклатура, и виды упаковки. Допустим, продажа наливом, что, конечно, сокращает наши затраты, но делает закупку более интересной для покупателей, особенно индустриальных. У нас очень хорошо налажено сотрудничество с авторизованными дилерами, и географическое положение Торжка позволяет нам при достаточно коротком логистическом плече поставлять продукты, например, в авторизованный холдинг автомобильных дилеров наливом. Мы инвестируем в развитие автомобильных дилеров за счет того, что подключаем центральную систему снабжения маслом, устанавливаем резервуар и привозим масло уже не в упаковке, не в бочках, не в канистрах, а наливом. Соответственно, они заливают его в резервуар и дальше централизованно обеспечивают смену масла по тем или иным автомобильным брендам. Это снижает их затраты на закупку масла, существенно снижает и логистические затраты, потому что они высвобождают помещения на своих станциях за счет того, что убираются бочки.
«НиК»: Предлагаете ли вы клиентам не только свою продукцию, но и техническую поддержку?
— На мой взгляд, это направление, которое позволяет нам выделяться и выигрывать конкуренцию у других участников рынка. Мы сотрудничаем практически со всеми крупнейшими мировыми производителями оборудования, в первую очередь для автопрома. Большинство из них ориентируются на решения, которые призваны обеспечить нулевые выбросы при использовании топлива и смазочных материалов. Наш департамент Shell Lubricants разработал специализированную линейку жидкостей для электрических транспортных средств, которые представлены на рынке с 2019 года для использования в пассажирских электромобилях. В 2020 году эта линейка была расширена за счет продукции для коммерческого дорожного транспорта. Новые виды смазочных материалов могут приобрести автопроизводители по всему миру, включая Россию. Вместе с Kaisen Electric мы сформировали альянс, созданный для выработки отраслевых инновационных решений в области аккумуляторных батарей. Это сотрудничество позволяет сочетать передовые технологии Shell и Kaisen Electric по изготовлению литий-ионных аккумуляторных модулей с использованием специализированной терморегулирующей жидкости, которую производит наша компания. Результат этого сотрудничества — разработка системы производства аккумуляторных батарей, которые позволяют улучшить производительность и продлить срок службы аккумуляторов, а также повысить степень безопасности и стабильность их работы. Это большое преимущество, особенно при использовании в пассажирском, грузовом транспорте, в электротранспорте.
Новая услуга — Shell Remote Sense. Эта услуга представляет собой так называемый интеллектуальный мониторинг состояния смазочных материалов в момент их использования покупателями.
Она основана на технологии машинного обучения, которая выдает отраслевым клиентам полезную информацию и рекомендацию, когда, на каких интервалах менять масло. В результате это обеспечивает снижение общей стоимости использования оборудования, приводит к многомиллионным экономическим эффектам, такие примеры есть. Мы видим и улучшение состояния оборудования, и снижение затрат. У нас целое направление работает на эту тему, есть и техническая поддержка, и R& D, которые предоставляют решения именно в этой сфере.
«НиК»: Есть ли у компании направления по декарбонизации, по разработке масел и смазочных материалов для новых видов двигателей и типов техники с учетом трендов на снижение выбросов СО2 и углеродную нейтральность?
— Да, учитывая то, что концерн в феврале представил обновленную Стратегию развития, в рамках которой была поставлена задача в максимально короткие сроки превратиться из поставщика экологически чистых энергетических продуктов для клиентов в углеродно-нейтральную компанию. Это касается не только глобального Shell, но и российского.
В 2020 году у нас открылись две АЗС, оснащенные солнечными модулями, — в Адыгее и Ростове-на-Дону. Благодаря этому мы сможем обеспечивать электричеством около трети от общего потребления станции. «Умная АЗС» — это проект по комплексному переводу АЗС на «умное» управление. Оно позволяет контролировать большое количество параметров, управлять расходом электроэнергии. Такой подход отлично зарекомендовал себя на многих наших заправках, и все новые АЗС Shell сейчас становятся «умными», а мы видим большую экономию электроэнергии.
И АЗС, и завод в Торжке сортируют и раздельно утилизируют собственный мусор — это тоже большая тема. Мы видим, что эта тема развивается в России, и будем включаться в эту работу, предлагать свои решения.
Наличие альтернативных видов топлива (газ, электроэнергия) на тех же самых заправках.
У нас есть проект по использованию переработанного пластика для канистр с маслом. Например, в середине июля Shell запустит производство новых экологически чистых канистр, для изготовления которых применяются разработанные нашим партнером в России СИБУРом PCR-гранулы.
Дальше — больше. Это одно из важнейших направлений, и мы будем двигаться только вперед.

Церемония запуска первой технологической линии Амурского ГПЗ
Президент в режиме видеоконференции принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода. Проект реализуется компанией «Газпром».
Амурский ГПЗ в районе города Свободный – один из крупнейших инфраструктурных проектов «Газпрома» на Дальнем Востоке. Строительство началось в 2015 году. На заводе будет перерабатываться многокомпонентный природный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, поступающий по газопроводу «Сила Сибири».
ГПЗ должен выйти на проектную мощность в начале 2025 года, она составит 42 миллиарда кубометров газа в год. Шесть технологических линий мощностью по 7 миллиардов кубометров газа в год будут вводиться в эксплуатацию поэтапно. Завод будет включать крупнейшее в мире производство гелия – до 60 миллионов кубометров в год.
После выхода Амурского ГПЗ на полную производительность перерабатывающие мощности «Газпрома» увеличатся на 80 процентов.
* * *
В.Путин: Уважаемый Алексей Борисович [Миллер]!
Уважаемые коллеги, друзья!
Добрый день! Рад всех вас приветствовать.
Сегодня у нас значимое событие: российская компания «Газпром» вводит в строй первую технологическую линию Амурского газоперерабатывающего завода. С выходом на полную мощность он станет одним из самых больших предприятий в мире по переработке природного газа и крупнейшим по производству гелия – газа, который востребован в целом ряде ключевых, высокотехнологичных отраслей. Это и медицинские дыхательные смеси, и «искусственный воздух» для водолазов и космонавтов, [используется] для МРТ, для компьютерных чипов, для оптоволокна, жидкокристаллических экранов и так далее.
Для нашей экономики этот проект имеет особое значение, поэтому с самого начала мы держим его в поле зрения. В 2015 году мы его открывали, и в 2017 году, по-моему, я был на строительной площадке – всё время наблюдали за ходом его реализации.
Знаю, что в него вложен поистине колоссальный труд нескольких тысяч специалистов из многих регионов нашей страны и из-за рубежа. Решён целый ряд сложных строительных, инженерных, логистических задач, учтены все экологические требования, внедрено уникальное современное оборудование отечественного и импортного производства.
И здесь отмечу весомый вклад наших зарубежных партнёров, которые приняли самое широкое участие в оснащении завода. Такое сотрудничество мы, безусловно, приветствуем и надеемся на него в будущем.
От души благодарю всю вашу большую, слаженную команду за упорство, ответственность, за работу, что называется, на максимальный результат.
Создан действительно масштабный, без преувеличения, стратегически важный производственный комплекс. Повторю ещё раз, он значим не только для отрасли, но и для всей национальной экономики, для развития Восточной Сибири и Дальнего Востока. И конечно, Амурский газоперерабатывающий завод – это хороший шаг в повышении глубины переработки сырья, а это означает рачительное, эффективное использование природных ресурсов.
После выхода на полную мощность в 2025 году завод ежегодно будет перерабатывать – если я в чём-то ошибусь, Алексей Борисович меня поправит – 42 миллиарда кубических метров природного газа, производить порядка 60 миллионов кубических метров гелия. Такой объём позволит России обеспечить внутренний спрос на этот газ, а также занять одну из ведущих позиций по его поставкам на мировом рынке.
Сегодня на мировом рынке США занимают 56 процентов, Катар – 28, Алжир – 9, а доля России – всего 3 [процента]. Существенным образом нарастим эти возможности.
Подчеркну и то, что Амурский завод станет частью крупного газохимического кластера, который сейчас активно формируется в регионе. Компания «СИБУР» ведёт здесь строительство флагманского предприятия по выпуску полиэтилена и полипропилена. Сырьём для него будет как раз служить продукция Амурского ГПЗ.
Запуск подобных современных производств означает появление тысяч новых рабочих мест для квалифицированных специалистов, рост налоговых поступлений, создание транспортной инфраструктуры, жилья, социальных объектов – их целый набор, у меня в справке здесь есть: и поликлиника, и детский сад, и школа, и так далее. А это значит повышение качества жизни людей.
Сейчас мы ставим перед собой масштабные задачи по развитию инфраструктуры страны, по модернизации отраслей промышленности, по раскрытию потенциала всех наших регионов – от Калининграда до Владивостока. И строительство Амурского газоперерабатывающего завода, ваш труд – это прямое, зримое доказательство того, что мы готовы и способны реализовать такие масштабные планы.
Я желаю вам дальнейших успехов и ещё раз поздравляю с сегодняшним знаковым событием. Всего вам самого доброго.
Пожалуйста, Алексей Борисович.
А.Миллер: Уважаемый Владимир Владимирович!
Амурский газоперерабатывающий завод станет якорным предприятием нового центра по глубокой переработке газа и газохимии на востоке страны. Мощность переработки газа составит 42 миллиарда кубометров в год. И сегодня мы пускаем в работу первый пусковой комплекс.
График строительства был очень и очень жёсткий, но проделана колоссальная работа. Сегодня мы говорим о том, что завод запускаем строго в плановые, в директивные сроки, потребовалось менее шести лет.
На заводе будет производиться 2,4 миллиона тонн этана, 1,5 миллиона тонн сжиженных углеводородных газов (пропана и бутана), 200 тысяч тонн пентан-гексановой фракции и гелий. Газ, который будет переработан на заводе, очищен от ценных компонентов, будет поступать обратно в трубу магистрального газопровода «Сила Сибири». Мощность завода будет наращиваться постепенно, по мере увеличения объёма транспортировки газа по «Силе Сибири».
Отдельно необходимо отметить гелий. Это один из важных продуктов производства завода. Объём производства гелия составит 60 миллионов кубометров в год, и завод станет крупнейшей мировой площадкой по его производству.
Гелий крайне востребован в самых современных производствах. Мы видим, что спрос на гелий растёт, особенно в районе Юго-Восточной Азии. В самое ближайшее время в районе города Владивостока будет запущен в эксплуатацию гелевый хаб для поставки гелия на международные рынки.
Конечно, для такого крупного проекта потребовалось создать и мощную инфраструктуру. В рамках проекта построено около 30 километров автомобильных дорог, построен железнодорожный перегон от Транссибирской магистрали до площадки завода протяжённостью около 40 километров и причал на реке Зее.
Завод является энергоёмким предприятием, и рядом с заводом построена Свободненская ТЭС мощностью 160 мегаватт. На станции применяется и работает оборудование российского энергомашиностроения.
Социальная инфраструктура для работников завода, для их семей включает современный жилой микрорайон с общеобразовательной школой, с поликлиникой, с детским садом, с домом культуры, со спортивным комплексом. А в рамках программы «Газпром – детям» в Благовещенске мы построили универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс, в котором могут заниматься более 200 человек единовременно. И самое главное – там впервые в области, впервые в этом районе появились спортивные залы, в которых можно заниматься боевыми видами спорта: боксом, борьбой, дзюдо, карате.
Газ на Амурский газоперерабатывающий завод поступает с Чаяндинского месторождения, и я предоставляю слово генеральному директору компании «Газпром добыча Ноябрьск» Джалябову Антону Александровичу.
Пожалуйста.
А.Джалябов: Докладывает генеральный директор «Газпром добыча Ноябрьск» Антон Александрович Джалябов.
Я нахожусь на Чаяндинском месторождении, где активно продолжается обустройство, возводится новая производственная инфраструктура. В декабре прошлого года, в частности, введены в строй объекты второй очереди – установки предварительной подготовки газа и мембранного выделения гелиевого концентрата, электростанция собственных нужд.
Действующий фонд скважин на данный момент приближается к сотне. Качество газа, подаваемого в магистральный газопровод «Сила Сибири», соответствует требуемым параметрам.
Установка выделения гелиевого концентрата – это уникальный производственный комплекс с двухступенчатым мембранным газоразделением. В масштабах, как на Чаяндинском месторождении, такой технологический процесс извлечения гелия применяется впервые в мире.
Технология позволяет рационально использовать стратегическое сырьё: часть гелия будет направляться по магистральному газопроводу «Сила Сибири» на Амурский ГПЗ для дальнейшей переработки и реализации. Невостребованный пока объём в виде выделенного гелиевого концентрата закачивается в подземное хранилище.
Современные технологии и инженерные подходы позволяют обеспечивать надёжные поставки многокомпонентного газа на Амурский газоперерабатывающий завод. В настоящий момент оперативный персонал предприятия находится на посту, подача газа в магистральный газопровод идёт в штатном режиме.
А.Миллер: Уважаемый Владимир Владимирович!
Амурский газоперерабатывающий завод – это самое современное, высокотехнологичное производство. Я предоставляю слово генеральному директору завода Лебедеву Юрию Владимировичу.
Ю.Лебедев: Докладывает генеральный директор «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Владимирович Лебедев. В технологии выделения ценных компонентов из сырьевого газа применяются криогенные процессы. Понижение температуры природного газа позволяет разделить его на фракции путём их сжижения и выделения из исходной смеси газов.
Вы сейчас видите за моей спиной колонны газоразделения. Их гигантские размеры – а это почти 100 метров в высоту – обусловлены точностью разделения перерабатываемого газа. Самая высокая колонна – деметанизатор, колонна выделения метана. Рядом с ней находится колонна выделения этана и две колонны отделения азотно-гелиевой смеси.
Установки первой технологической линии Амурского газоперерабатывающего завода готовы к работе.
А.Миллер: Уважаемый Владимир Владимирович!
Из центральной диспетчерской «Газпрома» мы управляем всеми производственными процессами: добычи, транспортировки, хранения, переработки, распределения газа. Сегодня к этому единому центру управления готов присоединиться и Амурский газоперерабатывающий завод.
Прошу Вас дать команду на пуск завода в работу.
В.Путин: Начинайте.
Е.Дьяков: Докладывает начальник смены оперативно-диспетчерского отдела Амурского ГПЗ Дьяков Евгений Олегович.
Первая технологическая линия готова к приёму сырьевого газа из магистрального газопровода «Сила Сибири». Открываю входные краны. Газ поступает на завод. Все установки по газоразделению функционируют в штатном режиме.
А.Миллер: Уважаемый Владимир Владимирович!
Амурский газоперерабатывающий завод запущен в работу и стал неотъемлемой частью единой производственной системы «Газпрома».
В.Путин: Уважаемые друзья, коллеги!
Я вас ещё раз поздравляю с этим событием. Это капиталоёмкий и наукоёмкий проект. Свыше одного триллиона рублей стоимость всего проекта. Уверен, что в последнюю очередь, как и запланировано, в 2024 – 2025 годах будет запущено в строй это огромное предприятие площадью более 900 гектар.
Особенно приятно, что у нас много партнёров, заинтересованных в совместной работе и результате. Это люди и компании из России, Турции, Китая, Индии, Италии, Федеративной Республики Германия, Хорватии, Сербии, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. Общая численность, насколько я представляю, – 35 тысяч человек, огромный коллектив.
Я уверен, что эта совместная работа пойдёт на пользу в том числе и для создания новых предприятий подобного рода и новых альянсов для достижения общего результата.
Большое вам спасибо.
Ещё раз поздравляю и желаю всего самого доброго.

Яков Гинзбург, ИНК: «В 2024 году мы станем нефтегазохимической компанией»
По его словам, компания в течение года запустит шесть новых заводов по переработке газа
Заместитель генерального директора по экономике и финансам Иркутской нефтяной компании Яков Гинзбург во время ПМЭФ рассказал о том, как нефтяные компании приспосабливаются к современным требованиям экологичности и на каком производстве будут фокусироваться в будущем.
Ваша компания пока не на слуху в нашем нефтегазовом ландшафте, ведь ей фактически всего 20 лет, а разработка месторождений ведется даже меньше. В интернете о вас можно найти не так много информации: я понял, что вы добываете нефть на сравнительно новом месторождении в России?
Яков Гинзбург: Иркутская нефтяная компания действительно была создана 20 лет назад, в 2000 году. Мы начинали с трех месторождений, в настоящий момент уже только открыли 14 новых. В активе группы 51 лицензионный участок, все — в Восточной Сибири: в Иркутской области, в Красноярском крае и Республике Саха (Якутия). Мы добываем примерно 9 млн тонн нефти и газового конденсата, однако сейчас находимся в ограничениях ОПЕК+. Поэтому по добыче нефти, по крайней мере до конца апреля 2022 года, если ограничения не будут продлены, будем сохранять примерно один и тот же объем.
Что касается газового конденсата и вообще газа, на него нет ограничений, поэтому здесь у ИНК большие планы. У нас большая инвестиционная программа, примерно на 0,5 трлн рублей, которую мы реализуем с 2011 года. Уже освоено порядка 200 млрд рублей, а в этом и в следующем году мы запускаем шесть новых заводов.
Вопрос ребром. У нас газ, помимо использования внутри страны, — это экспорт. Экспорт происходит двумя способами: через трубу, как у «Газпрома», или морским путем. По второму пути сжиженный газ экспортирует «Новатэк», и это был большой прорыв. Вы же находитесь посреди континента, без всяких газовых коммуникаций. Как с этим быть?
Яков Гинзбург: Все правильно. Логика нашего газового проекта как раз и заключалась в том, что у нас есть инфраструктурное ограничение. Действительно, на тысячу километров вокруг нет магистрального газопровода, мы можем уповать только на самих себя. В связи с этим наш проект представляет собой своеобразную «матрешку». Добыча газа, затем его подготовка и первичная переработка, потом глубокая переработка. Соответственно, сначала мы добываем газ на наших основных месторождениях. Это и природный газ, и попутный газ. В Восточной Сибири месторождения нефтегазоконденсатные, с высоким содержанием жирных фракций (пропана, бутана, газового конденсата и этана). Далее мы построили 193 километра продуктопровода, способного прокачивать одновременно и пропан, и бутан, и газовый конденсат, и этан. Мы выделяем пропан и бутан — сейчас это порядка 180 тысяч тонн в год — на газофракционной установке в городе Усть-Куте и поставляем его железнодорожным экспортом как в западном направлении, так и на Восток, в Китай. Этан станет сырьем для Иркутского завода полимеров. Производственная мощность завода — 650 тысяч тонн полиэтилена высокого и низкого давления в год. Данный проект достаточно широко известен. На Восточном экономическом форуме в 2018 году в присутствии президента Путина и премьер-министра Абэ были подписаны документы о намерениях между нами и японской компанией Toyo Engineering Corporation, выступившей EP-подрядчиком по нашему проекту. В настоящий момент основное оборудование уже завезено в Усть-Кут. Это было сделано прошлым летом, доставка осуществлялась через Северный морской путь. 14 тысяч километров из порта Масан (Южная Корея) с перегрузкой в порту Тикси и далее баржами по реке Лене. Сейчас мы занимаемся заливкой фундаментов под оборудование.
Вы молодая компания, и все ваши большие инвестиционные проекты — новая добыча, новая стройка, газохимическое производство полимеров — приходятся на тот исторический этап, когда объявлена война углеводородам вообще и пластику в частности.
Яков Гинзбург: Мы понимаем современные тренды и поэтому всегда очень внимательно относились к высоким экологическим стандартам. В составе акционеров нашей компании был Европейский банк реконструкции и развития, и с 2008 года он задал очень высокую планку, намного выше, чем те требования, которые были на тот момент в Российской Федерации. Да, мы двигаемся в ESG и от нефтяного бизнеса в сторону газа, и дело не только в диверсификации, но и из-за стремления следовать высоким экологическим стандартам. Сейчас мы изучаем разные возможности, в том числе по биоразлагаемым пластикам. Также мы думаем о том, как в современных тенденциях должна трансформироваться нефтяная компания. В нашем случае в 2024 году мы станем нефтегазохимическим холдингом.
В планах производить жидкий водород или просто водород из газа?
Яков Гинзбург: В рамках развития газового проекта у нас появляется много новых продуктов. Так, мы строим установки по выделению гелия: уже поставлено оборудование для первой гелиевой установки на 10 млн литров на Ярактинском месторождении, и принято решение по гелиевой установке на втором нашем месторождении, Марковском. Суммарно к 2025 году мы будем выпускать примерно 15-17 млн литров в год — это, грубо, объем производства Катара. В России этот проект будет вторым по величине после Амурского ГПЗ.
У нас есть мысли и по водороду, и по аммиаку. Не так давно мы с нашими японскими партнерами начали совместную работу по подготовке технико-экономического обоснования производства «голубого» аммиака. В процессе СО2 закачивается обратно в пласт, извлекается необходимый экологически чистый продукт.
Здесь мечта, чтобы получающийся CО2 закачивать обратно под землю…
Яков Гинзбург: На самом деле у нас накоплен интересный опыт. Мы, например, сайклинг — когда газ закачивается обратно в пласт — еще в 2009 году внедряли, поставили необходимые для этого процесса компрессоры на нашем основном Ярактинском месторождении. Это был первый проект в России с одновременным отбором газового конденсата. Сейчас мы реализуем проект по водогазовому воздействию, где газ используется как агент для нагнетания, то есть для того чтобы увеличивать коэффициент извлечения нефти. А это значит, работать более рационально с точки зрения природопользования.
Илья Копелевич

КИТАЙ БОЛЬШЕ НЕ НАМЕРЕН ЖДАТЬ БЛАГОПРИЯТНОГО МОМЕНТА
КУРТ КЭМПБЕЛЛ
Председатель и исполнительный директор Asia Group, заместитель госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана в 2009-2013 годах.
МИРА РЭПП-ХУПЕР
Ведущий научный сотрудник Совета по международным отношениям.
КОНЕЦ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СДЕРЖАННОСТИ ПЕКИНА?
По ходу кризиса, вызванного новым коронавирусом, аналитики наблюдали за тем, как отношения между США и Китаем скатываются к самой низкой точке за всю историю. Надежды на их восстановление весьма призрачны. Причин сползания к откровенной конфронтации немало, но Пекин, демонстрируя поразительный отход от своей обычной дипломатической практики, проводит гораздо более жёсткую линию на международной арене – даже искушенные наблюдатели теряются в догадках: не изменил ли Китай свою внешнюю политику в принципе?
Конечно, подход Китая к мировым делам никогда не был жёстко детерминирован. Его дипломатическая стратегия определяется многими факторами – от истории, культуры и географии страны до природы режима и его относительной силы в мире. Если китайское правительство считает, что один или более факторов изменились, меняется и китайская дипломатия. Но когда COVID—19 начал сеять хаос на земном шаре, президент Китая Си Цзиньпин, похоже, сразу отказался от многих давнишних внешнеполитических принципов, которых придерживалась его страна. Пока ещё слишком рано об этом говорить, но Китай, проникшись национализмом, подогреваемым кризисом, уверенный в непрерывном подъёме и готовый идти на гораздо больший риск, чем в прошлом, – вполне может находиться в процессе переосмысления своей внешней политики, что аукнется всему миру.
Китайская компартия (КПК) начала 2020 г. в оборонительной позиции, но оставалась в ней недолго. Обвинённый в недостаточной прозрачности относительно происхождения и начала коронавирусной пандемии, Пекин бросился на защиту своего имиджа в мире. И стоило ему остановить распространение эпидемии внутри своих национальных границ, как он поспешно начал кампанию «завуалированной дипломатии», позиционируя себя в качестве нового лидера мирового здравоохранения.
Но на этом Пекин не остановился. После того как пандемия охватила весь мир, правительство КНР в течение нескольких месяцев перешло в беспрецедентное дипломатическое наступление практически на всех внешнеполитических фронтах. Оно усилило контроль над Гонконгом, продолжило нагнетать напряжённость в Южно-Китайском море, начало кампанию дипломатического давления на Австралию, применило летальное оружие в пограничном споре с Индией и стало более явно и решительно критиковать либеральные демократии Запада.
В прошлом КПК стремилась поддерживать относительную стабильность в сфере безопасности, периодически используя имеющиеся возможности для продвижения целей страны, не провоцируя при этом ненужную критику мирового сообщества и тщательно корректируя свои действия в тех случаях, когда заходила слишком далеко. Сейчас Пекин может просто воспользоваться хаосом, вызванным пандемией, и глобальным вакуумом власти, оставленным самоустраняющейся американской администрацией. Однако есть основания полагать, что сдвиг происходит более глубокий и далеко идущий. Быть может, мир получает сейчас первые представления о том, как выглядит жёсткая внешняя политика самоуверенного Китая.
Изменение риторики
Отчасти речь идёт об изменении риторики и стиля в дипломатии. Исторически Пекин делал достаточно туманные и завуалированные дипломатические заявления, особенно когда критиковал Вашингтон. Например, в 2015 г. на пике международного противостояния, связанного с островным строительством Китая в Южно-Китайском море, заместитель министра иностранных дел Китая Чжан Есуй призвал Соединённые Штаты «дорожить общим миром и стабильностью в Южно-Китайском море, а также тяжело давшейся динамикой положительного развития отношений между Китаем и США». Едва ли это можно назвать острой критикой. Но с пандемией тон изменился, став более жёстким. «Если кто-то заявляет, что китайский экспорт токсичен, тогда прекратите носить защитные маски и халаты, сделанные в Китае, прекратите пользоваться аппаратами ИВЛ, которые поставляет Китай!» – твитнул представитель МИД после того, как выяснилось, что некачественные китайские товары медицинского назначения поставлены в несколько европейских стран. Китайские дипломаты раскритиковали западные демократии за то, что те не справились с кризисом, и потребовали благодарности от правительств, получающих товары медицинского назначения. Это вызвало очень острую критику в Европе и Африке, и ведущий исследовательский центр Китая предупредил Пекин в апреле, что Китай рискует подорвать свои позиции в мире, если и дальше будет прибегать к подобному агрессивному стилю.
Похоже, что совет остался без должного внимания. Создаётся впечатление, будто Пекин гораздо меньше, чем в прошлом, заботится о своём имидже. Си сознательно пошёл на подрыв репутации, когда его правительство избрало дипломатию «воина-волка» (названную так в честь националистического сериала в стиле «экшн»). Вероятно, расчёт строился на том, что Китай больше приобретёт, играя военными и экономическими мускулами, даже если частично лишится мягкой силы.
Ряд изменений дипломатического курса Китая – необычных для правительства, не слишком любящего пересматривать свою официальную позицию – так же говорят о вновь обретённой уверенности в своих силах. В прошлом Пекин избегал таких резких поворотов из страха «потерять лицо». Однако после первоначального отвержения идеи международного расследования вспышки коронавируса в КНР Си сказал на Ассамблее всемирного здравоохранения в мае, что ВОЗ должна провести расследование, как только пандемия пойдёт на убыль. И хотя Китай поначалу отказывался присоединиться к инициативе «Большой двадцатки» облегчить бремя долга странам с низкими доходами, оказавшимся в тисках экономического кризиса, впоследствии он изменил решение и поддержал данную инициативу, хотя и с некоторыми оговорками. Эти сдвиги указывают на веру Си в то, что ему удастся управлять обоими тернистыми процессами без ущерба для интересов Китая.
Изменения на деле
Пекин не ограничивается дерзкой риторикой. За последние несколько месяцев он повысил ставки почти во всех многочисленных территориальных спорах и даже спровоцировал новые, что стало ещё одним отходом от практики прошлых лет. Политолог Тейлор Фрейвел доказывал, что Китай долгое время расставлял приоритеты в территориальных спорах, педалируя одни и отодвигая на задний план другие, чтобы не вызвать слишком большого напряжения на разных фронтах. От былой сдержанности сегодня, похоже, не осталось и следа. Начиная с марта, Китай усиливал патрулирование островов Дяоюйдао (известных в Японии как острова Сенкаку) в Восточно-Китайском море и с удвоенной энергией стал выдвигать свои притязания на акваторию Южно-Китайского моря, отправляя свои суда барражировать воды в непосредственной близости от побережий Индонезии, Малайзии и Вьетнама. Он проводил воздушную разведку и наблюдение вблизи Тайваня, решительно покончил с полуавтономным статусом Гонконга, подхлестнул новый пограничный спор с Бутаном и, по всей видимости, спровоцировал пограничное столкновение с Индией, в котором были человеческие жертвы. Впервые за последние тридцать лет Народно-освободительная армия Китая применила военную силу за рубежом. Вряд ли какое-либо из этих действий само по себе могло бы вызвать удивление. Но когда всё делается одновременно, это производит впечатление массированного внешнеполитического давления, которое до этого Пекин не оказывал.
Некогда допуская многообразие и разные правовые режимы внутри полуавтономных территорий на территории Китая, КПК теперь пересматривает политику в отношении периферии. В западной провинции Синьцзян государственная кампания репрессий против уйгурского меньшинства, исповедующего ислам, начатая ещё до пандемии, с тех пор переродилась в кампанию по этнической чистке. Противоречивый новый Закон о национальной безопасности лишил Гонконг его уникального правового статуса. Некоторые положения этого закона потенциально выходят за пределы государственных границ Китая, так что китайскую юриспруденцию могут начать навязывать всему миру. Это знаменует собой переход от традиционно оборонительных представлений о китайском суверенитете к более агрессивной позиции: расширению зоны китайской юрисдикции. Китай давно противодействует тем международным инициативам, которые он расценивает как угрозу национальному суверенитету. Например, он отвергает доктрину об ответственности защищать слабых, которая нацелена на предотвращение геноцида и гуманитарных кризисов. Похоже, что теперь осталась лишь одна разновидность китайского суверенитета: та, которую навязывает КПК.
Даже далеко за пределами своего непосредственного окружения Китай сегодня, похоже, готов вступать в противоборство и даже открыто совершать недружественные действия. Речь идёт о его отношениях с Австралией. После того как Канберра призвала к независимому расследованию происхождения пандемии, Пекин выступил с резкой отповедью и ввёл торговые санкции. По всей видимости, он также провёл серию кибератак на серверы австралийского правительства и компаний. В итоге общественное мнение Австралии быстро становится антикитайским, а в австралийском обществе растёт поддержка более жёсткой внешнеполитической линии в отношении Китая. Канберра также объявила о планах наращивания расходов на оборону. Пекин остаётся непреклонным, возможно, потому что надеется научить другие страны в своём регионе дважды подумать, прежде чем противодействовать. Но ему вряд ли удастся в ближайшем будущем вернуть себе расположение Канберры.
Демонстративное упрямство Китая в отношении Австралии – решимость идти напролом вместо корректировки своих действий – символизирует более серьёзный сдвиг. В 2015 г., когда создание Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море вызвало негодование у других региональных игроков, Пекин почувствовал, что зашёл слишком далеко и немного отыграл назад. Он временно свернул процесс создания новых островов и стал уделять больше времени региональной дипломатии, а также инициативе «Пояс и путь». В отличие от этой прошлой сдержанности, мало что сегодня говорит о том, что Китай собирается переосмысливать свой подход – по крайней мере, этого не заметно. Мир уже насторожился, когда в июне Всекитайское собрание народных представителей объявило о новом всеобъемлющем законе национальной безопасности для Гонконга. Однако всемирный хор осуждения, последовавший за этим объявлением, не помешал КПК ревностно имплементировать новый закон и формально обвинить в шпионаже двух граждан Канады, которых держали в заключении восемнадцать месяцев.
В этой новой внешней политике очень мало разворотов на 180 градусов, и нет никаких явных скоростных ограничений.
Некоторые из самых важных перемен происходят внутри, в высших эшелонах китайского политического истеблишмента. Когда в прошлом Пекин сталкивался с непредвиденными внешнеполитическими вызовами, он следовал путём неторопливого обдумывания ситуации, который был заметен внешним наблюдателям. В последнее время этого сказать нельзя. По слухам, Си единолично принимает многие наиболее важные решения даже без помощи самых доверенных советников. Это объясняет, почему внешняя политика стала более терпимой к рискам: когда слышно всеёменьше независимых голосов и мнений, Си, не встречая никакого противодействия, никаких противовесов, может пойти напролом. Китайские лидеры прошлого – прежде всего, Дэн Сяопин и Цзян Цзэминь – верили в институциональные процессы коллективного лидерства. Си перекрыл или нейтрализовал многие из этих каналов. Теперь, когда сильный лидер-одиночка действует более или менее самостоятельно, мир может получить представление о том, как выглядит процесс принятия решений в Китае.
Ничто не ново под луной?
К чему приведут все эти сдвиги в своей совокупности – вопрос по-прежнему спорный. Кто-то будет доказывать, что стратегия Китая не изменилась – просто он пользуется моментом, что неоднократно делал и прежде. Си извлекает дивиденды из поразительного отречения Соединённых Штатов от мирового лидерства в момент кризиса, чтобы отстаивать свои интересы на многих фронтах. Его имперская коронавирусная дипломатия – лишь последний пример давнишней китайской традиции внешнеполитического оппортунизма и импровизации. Просто выросли масштабы этого оппортунизма для заполнения зияющей дыры, оставленной Америкой. Наверно, три года односторонней дипломатии Трампа со ставкой на антагонистические отношения воодушевили Пекин на то, чтобы добиваться внешнеполитических выгод, где только возможно, особенно сейчас, когда все в США заняты подготовкой к крайне конфликтным ноябрьским выборам президента.
В Соединённых Штатах и раньше существовали разногласия и отвлекающие моменты – например, в разгар войн на Ближнем Востоке и во время мирового финансового кризиса 2008 г., но это не подвигало Китай на такое количество дерзких выпадов. Вне всякого сомнения, отсутствие лидерства со стороны США имеет значение, но не менее важна консолидация власти Си Цзиньпином, равно как и его вера в наступление геополитического «часа Х». Это те самые силы, которые подталкивают Пекин к решительным действиям. Отдаление Соединённых Штатов от мира просто даёт пространство, которое нужно для того, чтобы продвигать китайские интересы.
Ясно то, что новая внешняя политика Пекина уже оставила свой след. Отношения с Австралией находятся на низкой точке, да и в Европе общественное мнение может стать менее благосклонным в ближайшем будущем. Недавнее пограничное столкновение в Гималаях с человеческими жертвами подвигнет Индию на то, чтобы выступать более решительным противовесом в регионе. Колючая дипломатия кризисного периода дорого обойдётся Пекину: она чревата новыми и долговечными издержками, хотя Пекин может пока этого не сознавать.
Дипломатическое наступление Китая, конечно, не останется без внимания будущей президентской администрации в США, кто бы ни занял президентское кресло. Будет это бывший вице-президент Джо Байден или Дональд Трамп, следующей администрации Белого дома придётся готовиться к жёсткой двусторонней дипломатии с Пекином на многих фронтах одновременно – от Гонконга до Южно-Китайского моря, Индии и Европы, где КНР, вероятно, продолжит проводить политику давления и запугивания. Американским лидерам следует ожидать столкновения с китайскими дипломатами, которые заняты метанием риторических бомб, даже когда сам Си выступает с более спокойных и конструктивных позиций, как это делали в последние недели он и министр иностранных дел Ван И. И им следует ожидать, что придётся иметь дело с китайским правительством, которое, несмотря на отпор всего международного сообщества, по-прежнему ведёт себя самоуверенно, даже нагло, что типично для новоиспеченной великой державы.
К счастью для следующего президента США контуры более действенного американского подхода к Китаю уже прояснились. Соединённым Штатам необходимы односторонне карательные методы, которые стали нормой в последние годы, но не принесли дивидендов ни в торговле, ни в сфере национальной безопасности. Им надо перестроить отношения с союзниками в Европе и Азии, которые дают единственный пока ещё остающийся шанс уравновесить Китай в предстоящие десятилетия. Необходимо реинвестировать в международные организации, такие как ООН, «Большая семёрка», ВОЗ. Последняя незаменима, когда речь заходит о кризисном управлении, и в отсутствии США Китай просто счастлив ей руководить в соответствии со своими приоритетами. Вашингтону также требуется восстановить здравоохранение и благоденствие внутри страны, чтобы остаться жизнеспособным конкурентом на мировой арене.
Возможным лучом света в нынешней буре кризиса является то, что Пекин приоткрыл завесу, скрывавшую его истинные намерения. Неожиданно это дало всему миру представление о том, что будет означать ничем не сдерживаемая китайская мощь. Оставив в мире вакуум власти в самую мрачную историческую эпоху, США подарили Китаю достаточно пространства для выхода за дозволенные границы и демонстрации всему миру, что Пекин не способен единолично руководить всем мировым хозяйством. Но если Вашингтон не вернётся в ближайшее время, тогда уже не будет иметь большого значения, как мир относится к нагловатой дипломатии Китая – в безальтернативной геополитике вакуум будет заполнен вопиющими китайскими излишествами.

Газ - и навсегда
Программа по льготному переводу автомобилей на газ может быть расширена на всю Россию
Текст: Елена Березина
Перевод автомобиля на газ позволяет среднему таксисту экономить в день тысячу рублей, а для бизнеса выгода еще ощутимее. Где авто на метане пользуются большей популярностью и что ждет программу по льготному переводу автомобилей на газ, рассказал в интервью "РГ" замглавы минэнерго Антон Инюцын.
Антон Юрьевич, как минэнерго предлагает повысить экологичность транспорта?
Антон Инюцын: Путем обновления парка и использования более "чистых" видов топлива. Переход на газомоторное топливо позволит полностью избавиться от выбросов соединений серы, твердых частиц, сократить выбросы бензапирена и других вредных веществ. В отличие от большинства мероприятий по снижению выбросов, инвестиции в переход на газомоторное топливо экономически выгодны.
Мы предлагаем установить дифференцированную ставку транспортного налога с льготами для машин высокого экологического класса. Такая практика уже есть в регионах, которые введут льготу от 30 до 100% от транспортного налога для газовых и электромобилей, и предусмотреть возможность господдержки обновления автопарка по механизму "трейд-ин", когда государство за счет субсидии повышает привлекательность замены старой и низкоэкологичной техники на новую, экологичную, при условии утилизации старого автомобиля.
Как планируется подстегнуть переход на газ?
Антон Инюцын: В 2019 году в программу поддержки по развитию инфраструктуры и переоборудованию транспорта на газ вошли 27 регионов. В 2020 году заявки на субсидию подали 23 из них. Часть из тех, которые не участвуют, будут подавать заявки на 2021 год. Наша цель - создать минимальную инфраструктуру.
Когда инвесторы построили заправки, они хотят там видеть клиентов. Естественно, государство, помогая одним, должно поддерживать спрос и загружать эту инфраструктуру.
Как можно поддержать спрос?
Антон Инюцын: Во-первых, субсидировать новый транспорт. Если раньше разница между транспортом на дизеле и на газе была почти 20-25%, то сегодня государство практически уравняло их за счет субсидий производителям. И для тех, кто принимает решение купить новый автомобиль, машина на газе становится привлекательной.
Во-вторых, можно переоборудовать уже существующий транспорт. Программа в 27 регионах предусматривала финансирование со стороны государства - скидку в одну треть от стоимости переоборудования легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта. При разработке мер поддержки малого и среднего бизнеса и самозанятых из-за пандемии мы посчитали, что скидку можно увеличить в два раза. Кроме того, "Газпром" предложил в этих регионах за счет своих маркетинговых программ добавить еще 30% скидки. В результате переоборудование обходится в 5% от стоимости.
Для таксиста, который в день заправляет машину на 1,5 тысячи рублей, после перевода на газ сумма составит 500-600 рублей. На наш взгляд, тысяча рублей в день - серьезная экономия.
Никакая экономия не поможет переводу на газ, если негде заправиться.
Антон Инюцын: Эти 27 пилотных регионов соединены между собой коридорно-кластерным принципом, в них уже есть какая-то инфраструктура. Наша задача в перспективе сделать этот проект общероссийским. Пока же 60-65% всей инфраструктуры для газового транспорта сосредоточены именно в этих регионах, поэтому было решено развиваться именно там. По каждому региону было рассчитано минимальное количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), которое должно появиться к 2025 году, чтобы людям было удобно заправляться.
Темпы строительства задает минэнерго?
Антон Инюцын: Правительство определило минимальное количество станций для каждого субъекта, при этом регион сам вправе выбирать, сколько строить заправок и когда. На каждой территории своя специфика и своя база для запуска программы. Например, перед московским транспортным узлом стоит серьезная задача обеспечить как минимум комфортный транзит транспорта. Для этого потребуется возвести десятки заправок.
Ключевым инструментом мы считаем возмещение части затрат инвесторам, которые строят эти объекты. Мы хотим в год строить минимум от 100 до 120 объектов. На начало этого года в стране было около 500 заправок. Наша цель - в ближайшие пять лет довести их число до 1200-1300. Только в пилотных регионах мы планируем построить за пять лет почти 600 заправок.
Сейчас много обращений от регионов с просьбой добавить их в эту программу. У нас пачки писем от губернаторов. Мы подготовили предложение расширить программу на всю Россию. Но тогда дополнительно на каждый год нужно еще около 15 млрд рублей к 4,2 млрд, которые уже заложены до 2024 года, то есть еще 60 млрд. Отправили наши расчеты в правительство, ждем ответа.
Сейчас по этой программе заложены 700 млн рублей на переоборудование, 3,5 млрд - на инфраструктуру. Еще 3,3 млрд минпромторг выделяет на поддержку автопроизводителей транспорта на газе. Если эти меры просуммировать, то получается 7,5 млрд рублей в год на развитие рынка газомоторного топлива.
Может быть, не все регионы включить до 2024 года, а растянуть программу до 2030 или 2035 года?
Антон Инюцын: Мы исходили из стратегии опережающего развития, чтобы инфраструктура появлялась как можно быстрее. Все перевозчики, с которыми мы встречались, в один голос говорят: мы готовы переходить, но нам не хватает заправочной инфраструктуры. Лишь единицам ее хватает.
В некоторых регионах уже даже возникают пробки на заправках. Например, в Ставропольском крае очень многие сейчас переходят на газ. Вообще газ на юге всегда пользовался особым спросом. Но где-то спрос еще низкий, есть заправки, загруженные лишь на 10-15%. Целевая загруженность любой заправки - 65-70%, то есть потенциал достаточно большой.
До пандемии "Яндекс.Такси" заявил, что готов перевести парк на метан. Планируете ли сотрудничать с другими агрегаторами, сервисами каршеринга?
Антон Инюцын: Запустив пилот в несколько десятков автомобилей на газе, в "Яндекс.Такси" увидели реальную экономию. В Москве появляется все больше таких машин. Но особенно этот тренд, конечно, развит в регионах.
Мы создаем условия, а переходить или нет, бизнес решает сам. Наша целевая аудитория - машины, которые очень много ездят. Мы не хотим всех на газ перевести. Более того, есть транспорт, который нерентабельно переводить на газ. Например, сельхозтехнику можно перевести, но комбайн или трактор, который работает сезонно, не так быстро окупится, как, например, "Газель", которая ездит круглогодично. Но сельхозтоваропроизводители могут перевести на газ легкий коммерческий транспорт, который возит готовую продукцию с полей и ферм.
В крупных городах планировалось создать ограниченные зоны доступа для неэкологичного транспорта. Уже определены пилоты?
Антон Инюцын: Ряд регионов планирует в крупных городах ввести ряд преференций для транзитного транспорта на газе, дает скидку на транспортный налог или парковку. Но я не очень верю в такие привилегии, как, например, парковка. Для коммерческого транспорта это не актуальные меры. Они больше рассчитаны на физлиц, которые занимаются индивидуальным предпринимательством. Но как мера стимулирования она есть у нас в плане мероприятий. И мы с регионами рассматриваем такие меры, как бесплатная парковка, транзит большегрузного транспорта на газе через города в любое время суток, послабление по налогам.
Некоторые регионы предлагают ввести скидку 50% или вообще убрать плату за "Платон". Конечно, в таком случае, наверно, завтра же все перейдут на газ. Но дорожники должны получать от государства деньги. Мы не можем, стимулируя одно, забирать ресурсы у других. Например, тот же налог на транспорт идет на благие цели, на создание инфраструктуры. Поэтому нужно очень тонко и аккуратно поддерживать переход на газ, чтобы не затронуть другие отрасли. Меры все равно будут от региона к региону различаться, ничего централизованного тут быть не может в принципе.
Тормозит ли перевод на газ то, что многие потребители по-прежнему считают такой транспорт небезопасным?
Антон Инюцын: Люди часто не разделяют пропан-бутан (сжиженный углеводородный газ, который является побочным продуктом при переработке нефти) и метан (чистый газ). Первый тяжелее воздуха, и если происходит утечка, то он скапливается, что создает дополнительную опасность. Метан легче воздуха, он улетучивается, вероятность взрывов в случае утечки минимальна.
Кроме того, сертифицированное отечественное оборудование - баллоны, подкапотное оборудование, соединительные элементы - отвечает мировым стандартам безопасности. Например, полностью или частично композитный баллон не только легче, но и в случае аварии не разорвется на части, как металлический. При взрыве осколки металлического баллона представляют собой разрушительную силу. В композитном баллоне появится только трещина.
Это иллюзия, что бензиновые и дизельные машины не могут гореть. Я сам видел воспламенение бензина при аварии. Еще неизвестно, что опаснее. Улетучивающийся газ и баллон в виде хлопушки, нежели разлитый бензин и искра.
Мы много говорим про финансовую экономию. Экологический эффект от перевода транспорта на газ уже просчитан?
Антон Инюцын: К сожалению, нет. Мы очень рассчитываем на появление методики, которая бы наглядно показала эффект от перевода машин с дизеля на газ. К сожалению, сегодня такие верифицированные расчеты отсутствуют, есть только экспертные. Все они показывают, что инвестиции в переход на экологически чистый транспорт сравним, скажем, с повышением эффективности очистных сооружений промышленных предприятий. Кроме того, зачастую предприятия расположены в промышленных зонах, а выбросы от транспорта - везде, в том числе в жилых территориях.
А если создать пилотный пункт, где будут передвигаться только на газе, и сделать там замеры?
Антон Инюцын: Мы уже предлагали это коллегам. Или использовать данные двигателестроителей или автопроизводителей. У них должна появиться адекватная методика, но пока ее нет. От газа очень серьезный экологический эффект - практически нет сажи и серы в отличие от традиционного жидкого топлива, - но, к сожалению, мы не можем его просчитать, несмотря на то, что мы планируем по этой программе перевести на газ до 12 тысяч автомобилей.
Как планируется стимулировать предприятия - владельцев крупных парков ж/д локомотивов переходить на использование сжиженного природного газа (СПГ)?
Антон Инюцын: РЖД является одним из крупнейших потребителей дизельного топлива и мазута - около 8-9% всего рынка. Это порядка 2,5 млн тонн нефтепродуктов. Если половину этого парка перевести на СПГ, это будет огромный экологический и финансовый эффект. Сегодня компании около 130 млрд рублей тратят на дизель и мазут. В случае перехода половины их транспорта на СПГ, удастся высвободить почти 30 млрд рублей в год. Это большие деньги, для развития РЖД.
У них есть маневровые тепловозы, которая работает на сортировочных станциях вблизи крупных городов. В РЖД есть пилотные проекты по переводу на газ, и мы очень рассчитываем, что начиная со следующего года эта программа будет расширена.
Как будет развиваться сеть заправочных станций СПГ?
Антон Инюцын: В ближайшее время должны выйти правила предоставления субсидий инвесторам на СПГ-заправки. Мы планируем направить на эти цели 4-4,5 млрд рублей. Скорее всего, будет в 2023-2024 гг. Инвестор должен получать деньги после того, как закроет все точки на конкретном коридоре. Мы разделили весь пилот на 12 коридоров по трассам. Минтранс нам помогал с этой некой условной картой. Туда вошло 80 объектов, от 3 до 15 точек на коридор в зависимости от направления. Тот инвестор, который захочет участвовать в конкурсе и потом возместить часть затрат, а это примерно 60 млн рублей на одну станцию, должен подать заявку именно на коридор. Не как с АГНКС, когда построена одна станция и субсидия получена. Здесь, пока не будет построен весь коридор, возмещение не получить. Это сделано по просьбе транспортников, чтобы избежать проблемы "невозможности заправки", когда кто-то построит две станции в начале и две в конце коридора, а в середине ничего не будет. В итоге и транспорта не будет. Кто будет переходить на машины, которые негде заправить? Таких желающих нет.
Инфраструктура должна появиться одновременно по всем ключевым направлениям. Тем более, лаг между СПГ-заправками гораздо больше, чем между АЗС и АГНКС, примерно одна заправка на 350-400 км.
СПГ имеет узкую нишу с точки зрения автотранспорта?
Антон Инюцын: Он выгоден только для транспорта, который ездит на длинные расстояния - тягачи, фуры. В Китае был опыт перевода автобусов. Но в целом мировой опыт подсказывает, что пока это только тягачи. Легковые автомобили нерентабельно им заправлять. Не найти легковушек, которые каждый день больше тысячи километров проезжают. А дальнобойщикам это выгодно за счет экономии денег на топливе и времени на заправке. Скажем, фура может пройти на дизеле до 800-900 км, а на СПГ я уже видел пилотный проект одной из иностранных компаний, когда машина без остановки проезжает 2000 км. Это очень круто. Компании, которые занимаются логистикой, именно за счет этого выигрывают у железных дорог.
Здесь открывается огромный потенциал для транзита наземного транспорта через Казахстан в Китай. СПГ могло бы стать прорывным элементом для загрузки "Шелкового пути".
Уже идут переговоры с иностранными инвесторами?
Антон Инюцын: Мы с Казахстаном планировали начать такие переговоры после того, когда начнем свои коридоры застраивать. Есть очень много нюансов. Если рынок компримированного газа и сжиженного углеводородного газа имеет огромную, еще с советских времен, историю, то СПГ - это совершенно новая история. У нас единицы заправок, практически нет источников производства. У нас есть большие заводы, но малотоннажные и среднетоннажные заводы, которые потом могли бы снабжать эту инфраструктуру, в нужном количестве отсутствуют. Мы в самом начале пути, и без государственной поддержки, без активной работы с инвесторами сложно будет запустить большие проекты.
Состоится ли Российская энергетическая неделя (РЭН) в этом году?
Антон Инюцын: Решение по ее проведению будет принято в течение недели. Все уже соскучились по живому общению, поэтому мы надеемся на ее проведение офлайн. РЭН - отраслевой форум, который собирает лидеров компаний, крупных объединений, таких как ОПЕК, как Форум стран - экспортеров газа, Международного энергетического агентства. Энергетика является основой экономики в нашей стране, ни одна отрасль не может без нее работать. РЭН могла бы стать крутой площадкой, на которую можно было бы позвать всех смежников - партнеров по энергомашиностроению, строителей, транспортников.
С 2007 по 2020 год энергоемкость экономики должна была снизиться на 40%. На сколько удалось ее снизить и за счет чего?
Антон Инюцын: У нас была задача снизить энергоемкость ВВП на 40%, мы много лет вели эту тему, сейчас этим занимается минэкономразвития. Мы, как энергетики, делаем свой вклад. Прежде всего, за счет внедрения ПГУ на электростанциях, снижения потерь в сетях, повышения процента полезного использования попутного нефтяного газа, перевода транспорта на более качественное топливо - на Евро-5 и т.д.
В конечном итоге для транспорта: что перспективнее - газ или электричество?
Антон Инюцын: При определении того, что выгоднее - электрокар, автомобиль на газе или на бензине, - все обуславливается стоимостью, которая требуется для того, чтобы машину заправить. Газ дешевле, чем традиционное жидкое топливо. Электричество тоже недорого стоит. Но производство киловатта именно для этой машины, может быть, и дороже выйдет. Таких расчетов никто не делал.
Нет расчетов и по экологичности электрокаров, потому что произвели электричество непонятно где, заряжается от источника производства каждый раз по-разному. Станция может стоять где-то в Москве, заправка в центре города, и эта же генерация может стоять иногда за десятки километров. Как рассчитать, где больше? Конечно же, у электрокара практически нет выброса. Есть только парниковый эффект от работы двигателя, от трения шин, но негативных выбросов в атмосферу нет. Но она же заправилась электричеством, а оно было произведено на станции, значит, кто-то другой подышал этим воздухом. И хорошо, если это электричество, которое произведено на атомной, газовой или гидроэлектростанции. А если, например, на угольной.
Минэнерго является соисполнителем по федеральному проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Что сделано?
Антон Инюцын: Снижены выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Красноярске и Омске. В Красноярске предусмотрена модернизация ТЭЦ-1, включая строительство дымовой трубы высотой не менее 270 метров, реконструкцию котлов с оснащением электрофильтрами, вывод из эксплуатации малоэффективных турбоагрегатов, ввод нового турбинного оборудования и систем охлаждения. Для увеличения эффективности рассеивания выбросов и снижения приземной концентрации вредных веществ в 2019 году демонтировано и возведено более 200 метров новой дымовой трубы.
В Красноярске планируется заместить 35 малоэффективных угольных котельных, а также создать новые генерирующие мощности на Красноярской ТЭЦ-3. На Красноярских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 запланирована установка электрофильтров последнего поколения с эффективностью газоочистки 99,5% и повышением общей улавливающей способности на 4,5%. Это позволит снизить выбросы твердых веществ в атмосферу приблизительно на 6500 тонн в год. На Омских ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 запланировано техническое перевооружение котлов с установкой гибридных фильтров.
Какие работы предусматривает федеральный проект по обеспечению транспорта нефти и газа комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры?
Антон Инюцын: Для увеличения пропускной способности магистральных нефтепроводов реализуются проекты по строительству магистрального газопровода "Сила Сибири" (восточный маршрут), участок от Чаяндинского НГКМ до границы с Китайской Народной Республикой. Ведется работа над магистральным газопроводом "Сахалин - Хабаровск - Владивосток". Также расширяется до 50 млн тонн в год транспортная система "Восточная Сибирь - Тихий океан".
В рамках этого проекта и федерального проекта по обеспечению доступной электроэнергии планируется ввести более 50 крупных объектов энергетической инфраструктуры на сумму около 700 млрд руб. Основные инвестиции планируются за счет внебюджетных источников. 96% средства на строительство объектов уже заложено компаниями в инвестиционные программы до 2024 года.
Как меняется зависимость от импортных комплектующих в энергетике?
Антон Инюцын: За инвестициями в новые проекты стоят миллиардные закупки оборудования - от гаек и гвоздей до турбин. К сожалению, не всегда, даже при наличии аналогов, закупается отечественное оборудование. Наша задача - при реализации нацпроектов обеспечить применение конкурентоспособной российской продукции. Для этого необходимо сформировать максимальный объем заказов для промышленности, а также локализовать в России производства отсутствующего оборудования.
В Челябинске уже открылся завод по производству высоковольтных электродвигателей, запущен полный цикл производства вертикальных и горизонтальных насосов, которые позволят увеличить коэффициент полезного действия, что снизит затраты на эксплуатацию и увеличит срок службы от 30 до 50 лет.
Планирует ли министерство расширять линейку проектов?
Антон Инюцын: Любой проект - живой организм. Они начинаются и заканчиваются. Мы постоянно рассматриваем новые предложения для их включения в портфель проектов минэнерго. В 2020 году планируется запуск как минимум трех проектов - двух ведомственных и одного федерального.
Первый ведомственный проект нацелен на формирование экономической модели газификации регионов. Он позволит определить объем требуемых инвестиций в строительство магистральной и распределительной инфраструктуры, а также оценить экономическую эффективность региональных программ газификации. Второй ведомственный проект будет направлен на развитие рынка газомоторного топлива для стимулирования расширения применения природного газа как моторного топлива, а также создания соответствующей инфраструктуры.
Что может стать федеральным проектом?
Антон Инюцын: Совместно с минприроды, минпромторгом, Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой и "Газпром нефтью" мы разрабатываем федеральный проект "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов". Он предполагает создание комплекса отечественного оборудования, который обеспечит замещение импортных технологий и сформирует конкурентный рынок высокотехнологичных нефтесервисных услуг в России. Эти технологии обеспечат независимость страны в области разведки и разработки нетрадиционных запасов нефти и газа. Помимо этого у проекта высокий экспортный потенциал.
Сегодня проект объединяет уже более 20 научно-исследовательских институтов, представителей крупного бизнеса и ВИНК. Реализация позволит вовлечь в разработку более 760 млн тонн извлекаемых запасов углеводородов, а также увеличить поступления в бюджет до 30 млрд рублей в год за счет акцизов, налогов и других отчислений.
Сколько инвестиций могут привлечь новые проекты?
Антон Инюцын: Проект по созданию технологий и оборудования для добычи трудноизвлекаемых углеводородов позволит привлечь около 40 млрд руб. Для увеличения частных инвестиций в нацпроекты до 2024 года мы провели масштабную работу по сбору и анализу инвестиционных заявок организаций ТЭК. В результате сформировали перечень новых инвестпроектов на 5,8 трлн рублей, которым требуются меры поддержки. Сейчас работаем над их включением в портфель проектов минфина для последующего определения механизмов софинансирования со стороны государства.
Проблема в том, что когда компании формировали планы по запуску новых инвестпроектов, никто не мог предвидеть ситуацию, которая сложилась в мире из-за пандемии COVID-19. Ряд организаций ТЭК уже занялись пересмотром и корректировкой своих программ.

ИНТЕРВЬЮ АНТОНА ИНЮЦЫНА ЖУРНАЛУ «НЕФТЬ И КАПИТАЛ»
Антон Инюцын: Мы старались продумать механизм, чтобы он не добавлял людям головной боли и бюрократии
Парк машин на ГМТ составляет порядка 150 тысяч единиц, программа субсидирования может добавить на рынок еще 10–12 тысяч автомобилей
Минэнерго РФ предлагает правительству увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо (ГМТ) до двух третей от стоимости переоборудования. Еще до 30% расходов оплатит «Газпром» за счет маркетинговых программ своей «дочки» «Газпром — газомоторное топливо». Эта мера позволит не только придать дополнительный стимул программе газификации транспорта, но и поддержать малый и средний бизнес в посткоронавирусных условиях. О целях программы и ее эффектах для бизнеса «НиК» рассказал заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцын.
«НиК»: Антон Юрьевич, почему инициатива по увеличению субсидирования появилась именно сейчас?
— Инициатива Минэнерго была направлена в первую очередь на исполнение поручения президента РФ по поддержке экономики, прежде всего различных слоев населения и малого бизнеса. Мы провели анализ и расчеты и пришли к выводу, что такая мера может стать эффективным способом поддержки как физлиц, так и субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых в нынешний непростой период.
Это, например, таксисты, фермеры, которым необходимо много ездить, доставляя свою продукцию потребителям, — словом, все те, у кого в бизнесе достаточно приличную статью расходов составляют транспортные издержки. То есть программа не только будет стимулировать рост спроса на газомоторное топливо, но и напрямую поддержит самозанятых, индивидуальных предпринимателей, малый и средний бизнес в период, когда требуется преодолеть экономические последствия коронавирусной эпидемии.
Мы видим, что такая поддержка со стороны государства могла бы быть востребована. Кроме того, «Газпром» готов большей части регионов за счет своей маркетинговой программы субсидировать еще 30% от стоимости переоборудования. Таким образом, для желающих перейти на газ стоимость переоборудования составит менее 5% от стоимости газобаллонного оборудования и работ по его установке.
Ответственность за реализацию программы лежит на регионах: им нужно утвердить региональные регламенты работы, заключить соглашения с сервисными центрами по переоборудованию, обеспечить ритмичное финансирование т. д.
«НиК»: О каких видах газа идет речь?
— Речь идет только о КПГ. В мире сегодня существует два вида газа, которые могут использоваться в виде газомоторного топлива: сжиженный углеводородный газ как побочный нефтепродукт, полученный в результате переработки нефти (пропан-бутан), и природный газ (метан). В свою очередь, природный газ может храниться в двух видах: сжатый (компримированный) газ — КПГ (метан, природный газ) и сжиженный природный газ — СПГ. Соответственно, программа субсидирования направлена на развитие транспортного сегмента, использующего компримированный газ, метан.
«НиК»: По вашим оценкам, каковы перспективы текущего спроса на КПГ и как они могут измениться после введения программы субсидирования?
— Говорить только о стороне спроса и потребления было бы неправильно. Процесс стимулирования спроса должен развиваться параллельно с формированием соответствующей инфраструктуры. В этой части Минэнерго последовательно реализует программу поддержки опережающего развития инфраструктуры — сегодня в 23 субъектах реализуется региональная программа поддержки, которую софинансирует Министерство энергетики.В этом году на эти цели будет направлено 3,5 млрд руб., и мы рассчитываем, что до конца года в этих субъектах РФ должны будут введены в эксплуатацию более 100 заправок.
Параллельно с этим осуществляется и поддержка спроса, чтобы те АГНКС, которые возводятся в рамках программы, не пустовали и имели своих потребителей.
«НиК»: Затронет ли эта программа автопроизводителей, чтобы стимулировать производство автомобилей на КПГ уже на базе автозаводов?
— Хотел бы развеять существующее заблуждение о том, что для того, чтобы получить автомобиль на компримированном газе, его можно только переоборудовать из машины на традиционном топливе. Это уже давно не так. Сегодня можно купить новый автомобиль, изначально на автозаводе сделанный под использование КПГ. За последние два года линейка такого транспорта серьезным образом увеличилась: если пару лет назад было 30–40 наименований моделей автомобилей на КПГ, то сегодня их уже порядка 150. Причем речь идет о моделях отечественного производства, которые мы с вами можем купить в России. Конечно же, линейку нужно расширять, особенно в легком коммерческом транспорте. Для этого есть отдельная программа поддержки автопроизводителей, выпускающих газовые автомобили. Она утверждена в мае, ее реализует Минпромторг.
Подчеркну: мы заинтересованы в появлении цивилизованной формы переоборудования при покупке нового автомобиля, распространенной в Европе (delayed OEM), когда дилер наряду с другими опциями проводит установку ГБО по конструкторской документации, согласованной с автопроизводителем. И при этом автомобиль сохраняет гарантию, а дилер гарантирует качество ГБО и качество его установки.
При реализации такой модели переоборудования производители вполне могли бы поучаствовать и в программе переоборудования тоже.
«НиК»: Как эта программа будет работать непосредственно для тех, на кого она направлена? Что нужно сделать человеку, чтобы переоборудовать автомобиль?
— Мы максимально старались продумать механизм, чтобы он не добавлял людям головной боли, не создавал излишней бюрократии. Региональные власти определяют сервисные центры, которые имеют соответствующие сертификаты и отвечают требованиям безопасности. Желающий переоборудовать автомобиль подает заявку в этот центр, оплачивает только ту часть, о которой мы с вами говорили. Все остальное сервис делает ему бесплатно. Вернее, сервис выставляет счет за минусом той скидки, которую дает государство. А потом сервисный центр возмещает средства у региональных властей, а мы как Министерство перечисляем эти деньги регионам. То есть человек не платит полную сумму, переоборудуя автомобиль за собственные средства, а потом собирает кучу справок для получения компенсации.
Нашей целью изначально было формирование такой системы, которая позволит человеку просто прийти в сервис и решить все вопросы быстро и на месте. Безусловно, есть еще моменты, связанные с процедурой установки ГБО: во-первых, провести экспертизу возможности переоборудования автомобиля, во-вторых, после установки пройти проверку безопасности и внеплановый техосмотр, получить свидетельство о внесении изменений в конструкцию транспортного средства и внести последующие изменения в регистрационные документы. В ряде регионов сейчас идет донастройка этого процесса. Например, в Татарстане уже действует система одного окна: гражданину не надо ходить по нескольким инстанциям — лаборатория, ГИБДД, сервисный центр, после этого снова ГИБДД и т. д. Вместо этого введена многоэтапная система регистрации и контроля за тем, как установлено оборудование.
Конечно, есть ряд экспертных предложений по упрощению этого процесса, особенно для типовых решений, но нельзя забывать об одном важном вопросе: это газ, что, в свою очередь, требует как минимум экспертизы безопасности оборудования, которое установлено, и качества выполненных работ. Поэтому такие предложения по упрощению сейчас прорабатываются нами с Минпромторгом, но двигаться в этом направлении надо очень осторожно.
Во многих регионах сейчас формируется следующая система: вы пришли переоборудовать автомобиль, отдали свою машину в сервис, где вам в тот же день установили ГБО, а потом в течение еще нескольких дней внесли соответствующие изменения в документы, провели экспертизу, выдали вам все бумаги. В идеале все должно работать именно так, и мы очень рассчитываем именно на такую целевую модель.
«НиК»: Как Минэнерго оценивает текущий спрос на КПГ и перспективы его роста с учетом этой программы?
— Та программа опережающего развития рынка газомоторного топлива, которая была поддержана правительством и сегодня реализуется, уже приносит свои плоды и почти на 20% увеличила объем проданного газа по итогам прошлого года. Такого роста не было никогда.
Если же говорить в абсолютных величинах, то мы подошли к рубежу 1 млрд куб. м газа.
Сегодня, по нашим оценкам, парк машин на газомоторном топливе, на метане, составляет порядка 150 тыс. единиц. Программа субсидирования и стимулирования спроса может добавить на рынок еще 10–12 тыс. автомобилей.
Кстати, должен отметить, что существует отдельная проблема с точки зрения статистики. К сожалению, смешивание видов топлива на газе есть при регистрационном учете транспорта. Если сегодня вы посмотрите в базу ГИБДД, то удивитесь, потому что показатель газифицированных машин будет больше миллиона транспортных средств. Но 95% из них — это машины, которые ездят на пропан-бутане.
«НиК»: Что касается рядового потребителя, насколько для него выгодно использование КПГ в сравнении с традиционными видами топлива?
— Простой пример: сегодня средняя стоимость жидкого топлива составляет около 45 руб., а газа — 16–17 руб. Таким образом, мы просто арифметическим путем (с небольшой поправкой на перевод с точки зрения физического потребления одного и того же транспортного средства) получаем экономию больше 50%, практически в 2,5 раза. То есть таксист, который в день заправляет свою машину 92-м бензином на 1,5 тыс. руб., заправит КПГ для того же расстояния на 600 руб. Разница почти тысяча рублей. Это мы сейчас говорим про легковой автомобиль. А если говорить о LCV, «газелях», «каблучках», которые потребляют еще больше? Поэтому здесь выгода, что называется, налицо.
«НиК»: Требуются ли какие-то меры поддержки для производителей топлива?
— Мы не говорим о производителях топлива. Скорее, здесь речь идет о заправочной инфраструктуре — любая КПГ-заправка сама по себе как мини-завод. Топливо, по сути, производится прямо на ней. Там стоит специальный компрессор, который сжимает газ, этот газ попадает в определенный аккумулятор, откуда идет заправка уже непосредственно в машину. Если мы говорим о поддержке газозаправочной инфраструктуры, то она есть. Инвестор получает на строительство АГНКС не более 40 млн руб., возводя ее в тех местах, которые согласованы с региональными властями с точки зрения развития концепции этого рынка. На наш взгляд, этот рынок может иметь достаточно хорошую нишу для страны. Естественно, не нарушая межтопливного баланса.

Пластик дороже нефти
Ресурсные и политические ограничения добычи углеводородного сырья подталкивают российские отраслевые компании к поиску новых источников прибыли. Цифры показывают, что возможность хорошо заработать дает сектор глубокой переработки и нефтегазохимии.
Поддерживает инвестиции в глубокую переработку и тенденция развития глобального спроса на продукты нефтегазохимии. Исходя из этих резонов, некоторые российские нефтегазовые инвесторы планируют осуществить ряд крупных химических проектов, которые значительно увеличат производство и экспорт углеводородных продуктов глубокого передела уже в ближайшие годы.
Самый быстрый и значительный рост инвестиций в нефтегазовом комплексе России происходит именно нефтегазохимической промышленности. Ежегодный объем капиталовложений увеличился с 175 млрд руб. в 2013 году до 442 млрд в 2018-м. Инвестиции за 2019 год еще подсчитываются, но в I квартале 2019-го рост капитальных вложений по отношению к прошлому году составил 26%. Выросли и цифры производства продуктов нефтегазохимии — за последние 10 лет в среднем в 2 раза по всей линейке товаров.
Правительственные оценки таковы, что объем производства только крупнотоннажных полимеров составит в 2025 году более 11 млн тонн. В нынешнем году их экспорт должен достичь 600 тыс. тонн, а еще через 5 лет — вырасти до 4,4 млн тонн. Доля переработки сжиженных углеводородных газов (СУГ) к 2025 году увеличится до 8,2 с 4,6% в 2019-м, а переработки нафты — с 5,6 до 7,2%.
Экспортный потенциал новых нефтегазохимических мощностей оценен более чем в $5 млрд в год, а объемы суммарной выручки — более чем в $10 млрд ежегодно. В осуществлении этих планов большую роль предстоит сыграть добывающим нефтегазовым компаниям. Они участвуют в 9 из 16 крупных проектов создания новых нефтегазохимических комплексов.
Динамика развития нефтехимической отрасли России
От импорта к экспорту
В 1990-х и значительную часть 2000-х годов развитие нефтегазохимии в России сдерживалось высокой капиталоемкостью создания новых мощностей и относительно невысокой прибылью от вложений. Мощности были слабые, из-за чего нефтегазохимический рынок был дефицитным по большинству позиций (хоть в России и производятся основные группы продуктов нефтегазохимии: пластики, каучуки и продукты органического синтеза). Иностранные пластики ввозились в страну в широком ассортименте.
Ситуация начала меняться в 2009 году, после кризиса нефтяных цен в 2008-м. Химические и нефтегазовые компании убедились, что при падении цен на сырье производители продуктов глубокого передела пострадали меньше, чем добывающие предприятия. А наступивший после кризиса продолжительный отскок нефтегазовых цен обеспечил поступление в российскую экономику значительных средств. Помимо нефтегазовых компаний, они расходились и по смежным отраслям.
В одной из них — нефтегазохимической — тоже начался подъем. Стали строиться и запускаться в эксплуатацию новые мощности. В результате в 2009–2018 годах объемы производства нефтегазохимической продукции увеличились: по полипропилену — в 2 раза, полиэтилену — в 1,2 раза, полиэтилентерефталату — в 2,2 раза, полистиролу — в 2 раза, поливинилхлориду — в 1,7 раза. А доля импорта в российском потреблении базовых полимеров, соответственно, сократилась: по полипропилену — в 1,8 раза, поливинилхлориду и полистиролу — в 2 раза, полиэтилентерефталату — в 2,2 раза.
Экспортные перспективы для продукции российской нефтехимии выглядят вполне обнадеживающе.
Размер мирового химического рынка на сегодняшний день оценивается примерно в $4,5 трлн, а к 2030 году ожидается практически двукратный его рост. Мировой спрос на продукты нефтегазохимии увеличится к 2030 году на 40%.
Наиболее перспективные рынки — Китай и Индия. Сегодня их совокупное потребление полиолефинов (в первую очередь полиэтилена и полипропилена) составляет 62 млн т/г. К 2024 году оно увеличится на 22–25 млн т/г. Спрос на пластики увеличивается в Латинской Америке и США.
А вот в Европе перспективы роста противоречивы. С одной стороны, ЕС в марте 2019 года принял резолюцию о запрете ввоза некоторых видов пластика из США начиная с 2021 года. С другой стороны, такие глобальные компании, как Unilever, Procter & Gamble, Colgate, Palmolive, сокращают потребление первичного пластика и заменяют его вторичной переработкой. Такой подход будет замедлять рост рынка полиолефинов.
Россия старается воспользоваться возможностями, которые создает азиатский спрос и «торговая война» между США и ЕС. Поэтому к нефтегазохимическим проектам подключаются добывающие компании.
Одно из преимуществ российских производителей продуктов нефтегазохимии — низкая цена на сырье.
Но есть и ограничения роста. Они заключаются в высокой стоимости проектов по созданию нефтегазохимических мощностей и слабой развитости транспортной инфраструктуры. Особенно на азиатском направлении.
«Газпром» ставит на переработку
Новый рывок Россия запланировала в производстве группы полиолефинов, куда входят полипропилен и полиэтилен. Из числа ВИНК наиболее размашисто действует «Газпром». В конце марта прошлого года компания объявила о совместном со своим партнером АО «РусГазДобыча» инвестиционном решении построить в районе Усть-Луги Балтийский химический комплекс. В этот крупный индустриальный узел будет входить комплекс переработки газа, добываемого на месторождениях «Газпрома», газоперерабатывающий завод, газохимический комплекс (ГХК) и объекты транспортной инфраструктуры.
На мощностях ГХК планируется перерабатывать этаносодержащий газ в объеме 45 млрд куб. м в год с последующим получением 13 млн тонн СПГ, до 4 млн тонн этана и более 2,2 млн тонн СУГ. Кроме того, на комплексе запланировано строительство установок пиролиза этана с получением этилена и установок полимеризации этилена с получением товарной полимерной продукции. Первая очередь комплекса должна быть введена в строй в III квартале 2023 года, вторая — ровно через год. Уже куплены лицензии для переработки у американских компаний Lummus Technology и Univation Technologies, LLC. Стоимость проектов оценивается в €12 млрд.
Этот проект осуществляется в интересном рыночном контексте.
Изначально партнером «Газпрома» в создании газоперерабатывающего комплекса и производства СПГ и СУГ была англо-голландская Shell. Но компания вышла из проекта, когда «Газпром» принял решение о газохимическом продолжении переработки. Shell дала понять, что не верит в возможности сбыта олефинов и полиолефинов. Российские эксперты также отмечают и прогнозируют низкий рост потребления полимеров в Европе, ближайшем рынке к Усть-Луге. Но газовая корпорация столько десятилетий продавала сырой газ на Западе, что верит в свои связи и лоббистов в ЕС.
С 2015 года «Газпром» ведет работы по созданию Амурского ГПЗ, который будет разделять многокомпонентный газ с Чаяндинского месторождения.
Метан станет поставляться в Китай, а этан — на одноименный газохимический комплекс СИБУРа, который должны возвести неподалеку от ГПЗ. Амурский ГПЗ возводится на территории опережающего развития (ТОР) «Свободный», для резидентов которой действуют льготные ставки налогов на прибыль (0% в первые 5 лет и 12% в следующие 5 лет), землю (0% в течение первых трех лет) и имущество (0% в первые 5 лет), а также страховых взносов в ПФР и фонды социального и общего медицинского страхования (7,6% вместо 30%).
Еще один инвестиционный замысел «Газпрома» — строительство ГХК на Ямале, который будет выпускать 3 млн тонн полиэтилена и полипропилена. Но пока он находится на ранней стадии проектирования. Вместе с Каспийской инновационной компанией (МЕТАКЛЭЙ) «Газпром» планирует создать производство по переработке природного газа в полиэтилены на базе Астраханского ГПЗ.
Оценивая стратегию «Газпрома» в газопереработке и газохимии, можно сделать вывод, что корпорация серьезно отнеслась и к своим прежним просчетам в оценке рыночных перспектив СПГ, и к затянувшемуся снижению цен на сырой газ. Теперь она спешно строит и планирует к постройке всё новые мощности по глубокой переработке газа.
ЛУКОЙЛ сомневается
У крупнейшей частной российской ВИНК — два проекта строительства новых нефтегазохимических мощностей на территории РФ. Компания сообщает, что намерена приступить к строительству нового производства полипропилена на базе Кстовского НПЗ в Нижегородской области в течение 2020 года. Предполагается, что мощность будущего нефтехимического комплекса составит 500 тыс. тонн полипропилена и 300 тыс. тонн стирола. ЛУКОЙЛ намерен отправлять полученную продукцию на экспорт.
Производство полипропилена в Кстово может стать логическим продолжением работы двух новых установок каталитического крекинга на Кстовском НПЗ мощностью 4 млн тонн в год, побочным продуктом которых является пропилен. Летом прошлого года Законодательное собрание Нижегородской области одобрило предоставление ЛУКОЙЛу 1,3 млрд руб. льгот по налогу на имущество и 3,1 млрд руб. льгот по налогу на прибыль (в пределах доли региона в этих федеральных платежах).
Местные эксперты предполагают, что ЛУКОЙЛ завершит строительство нефтехимического производства в 2024–2025 годах.
Компания много лет намеревается построить в Буденновске на Ставрополье газохимический комплекс. Там уже работает завод «Ставролен», который выпускает полиэтилен низкого давления (ПЭНД), перерабатывая попутный газ с месторождения им. Филановского на Каспии. Сырьем для нового ГХК должен будет стать газ с двух других каспийских месторождений — им. Грайфера (Ракушечного) и им. Кувыкина (Сарматского). Первая очередь, как предполагается, будет производить карбамид и аммиак, а вторая — полиэтилен и полипропилен. Объем инвестиций в проект оценивается в $2 млрд.
Однако точная конфигурация проекта пока не утверждена. Прежде чем принимать инвестиционное решение, ЛУКОЙЛ хочет получить от государства нефинансовую господдержку, то есть задействовать механизм специальных инвестиционных контрактов. В его рамках инвестор в обмен на капиталовложения получает от федерального или регионального правительства гарантии неизменности налоговых и регуляторных условий.
Но пока таких гарантий нет, Буденновский ГХК остается «воздушным замком».
А ЛУКОЙЛ намерен инвестировать в болгарский НПЗ в Бургасе €1 млрд, в частности, для увеличения производства пропилена с 80 до 150 тыс. тонн.
На Дальнем Востоке
Среди заявленных в отрасли проектов есть и строительство ГПЗ в Усть-Куте, который хочет возвести «Иркутская нефтяная компания» (ИНК).
Этот завод — часть более масштабного плана ИНК по глубокой переработке сырья Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения.
Компания планирует построить установку подготовки природного и попутного газа мощностью 3,6 млн куб. м в сутки. Она будет выделять смесь пропана и бутана, которую станут отправлять по продуктопроводу до Усть-Куты. Там предстоит создать комплекс приема, хранения и отгрузки СУГ, с которого смесь будет доставляться потребителям железнодорожным и автомобильным транспортом.
Затем ИНК построит еще две установки на Ярактинском месторождении и одну на соседнем Марковском НГКМ (общей производительностью 18 млн куб. м в сутки). С них смесь пропана и бутана будет транспортироваться до Усть- Куты, где нужно возвести ГПЗ. Он станет ежегодно выпускать до 600 тыс. тонн полиэтилена низкого и высокого давления. Завершить строительство завода ИНК рассчитывает в 2022 году.
Масштабные планы по строительству предприятий глубокой нефтегазопереработки на Дальнем Востоке у самой большой ВИНК России — «Роснефти».
Она намерена создать газоперерабатывающий и нефтегазохимический комплекс в административном центре Богучаны Красноярского края. Его ресурсной базой станут месторождения Юрубчено-Тохомского кластера: попутный и природный газ будет перерабатываться в полиолефины. Мощность комплекса может составить 3 млн т/г готовой продукции. Партнером «Роснефти» по проекту должна стать китайская Sinopec, с которой заключено обязывающее соглашение в рамках подготовки предварительного ТЭО. В своей Стратегии развития до 2022 года «Роснефть» подтвердила заинтересованность в проекте. Но точные сроки его реализации пока не обозначены.
Другой крупный проект «Роснефти» на Дальнем Востоке — нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в Партизанском районе Приморского края. Им занимается «Восточная нефтехимическая компания» (ВНХК, «дочка» «Роснефти»). Комплекс планируется выстроить в две очереди. Первая рассчитана на переработку 5 млн т/г нафты и производство из нее 850 тыс. т/г полиэтилена, 800 тыс. тонн полипропилена, 200 тыс. тонн бутадиена, 230 тыс. тонн бензола и 700 тыс. тонн моноэтиленгликоля. Блок нефтепереработки предусматривает выпуск 1 млн т/г бензина класса Евро-5. Первая очередь может быть завершена в 2026 году, вторая — в 2029-м. Снабжать проект газом «Роснефть» планирует за счет собственных ресурсов.
Правительство спорит само с собой
Но реальные перспективы приморского проекта во многом зависят от налогового режима, который будет действовать как на ТОР «Нефтехимический» (якорный инвестор — ВНХК), так и в отрасли в целом. Нефтяные компании и правительственные агентства уже несколько лет ведут переговоры о государственной поддержке капиталоемких проектов нефтегазохимии.
Описанные проекты создания новых мощностей либо находятся на начальной стадии, либо их реализация еще не начата.
В «Дорожной карте развития нефтехимической отрасли до 2025 года» правительство РФ признает, что «не приняты инвестиционные решения по большинству крупных проектов нефтегазохимического комплекса».
Почему? Правительство честно отвечает: «Для их принятия необходимо создание стабильных налоговых условий, отлаженное таможенно-тарифное регулирование, оказание мер административной и экономической поддержки со стороны государства для эффективной деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса». Так кто же, кроме правительства, должен создать эти условия и предоставить эту поддержку?
В кабмине между Минэнерго и Минфином идет спор о мерах содействия нефтегазохимическому комплексу.
Минфин предлагает ввести экспортный налог на СУГ, который служит сырьем для получения полиолефинов. Тогда под воздействием «карательной меры» нефтяные и перерабатывающие компании вроде как будут вынуждены развивать проекты и производства глубокой переработки. Минэнерго выступает за ввод «поощрительной меры» в виде ввода отрицательного акциза на самые распространенные виды сырья для нефтегазохимии: этан и СУГ. Обратные акцизы предлагается начислять на новые проекты или проекты по модернизации стоимостью не менее 65 млрд руб. Ставку отрицательного акциза на этан предлагается установить в размере 9 тыс. руб. за тонну с начала 2022 года, а для СУГ увеличивать ее с 4,5 тыс. руб. с 1 января 2022 года до 7,5 тыс. руб. с 1 января 2026 года.
Минфин не сдается и предлагает для компенсации отрицательного акциза на СУГ ввести НДПИ на попутный нефтяной газ. Павел Сорокин, заместитель министра энергетики, в интервью информационно-аналитическому центру RUPEC заявил: «Обложение налогами добычи попутного нефтяного газа приведет к выпадающим доходам в нефтехимии, которая создает наибольшую добавленную стоимость и которую мы пытаемся стимулировать».
Таким образом, окончательная ясность в налоговом режиме для нефтегазохимических проектов пока до конца не сформировалась. И, судя по примерам различных участников рынка, получение льгот в большой степени зависит от их индивидуального административного ресурса.
Конечно, все эти реалии не остановят дальнейшее развитие нефтегазохимии российскими добывающими компаниями. Но, безусловно, осложняют и тормозят его.
Игорь Ивахненко

Как сэкономить на грузоперевозках? Универсальный рецепт от компании Scania
О снижении стоимости владения рассказывает менеджер департамента продаж грузовых автомобилей «Скания-Русь» Дмитрий Миклашевич
Что волнует грузоперевозчиков, учитывая цены на топливо и регулярные ужесточения для этой сферы бизнеса? Разумеется, снижение стоимости владения. А есть ли универсальный «ключ» для снижения расходов, который подошел бы всем перевозчикам? Об этом мы и поговорим с Дмитрием Миклашевичем — менеджером департамента продаж грузовых автомобилей ООО «Скания-Русь».
Итак, есть ли какой-то уникальный универсальный рецепт для этого?
Дмитрий Миклашевич: Конечно, такой «ключ» есть. И в компании Scania мы его успешно применяем. Структура затрат любой транспортной компании представляет собой так называемый пирог, который состоит из затрат на топливо, обслуживающий персонал, в данном случае водителей, техобслуживание, резину, администрирование и прочее. Топливо занимает самую большую часть. С этим мы и предлагаем работать.
Если речь идет о топливе, то в первую очередь важно правильно подобрать спецификацию автомобиля. Как мы это делаем? У Scania есть уникальная система Fleet Management System, сокращенно FMS, и так называемый блок-коммуникатор С-300, который ставится на все машины с 2013 года. С его помощью мы собираем обезличенные данные обо всех автомобилях Scania: как они движутся по дорогам и по каким маршрутам, какой у них расход топлива, сколько они работают на холостом ходу. Все эти данные позволяют в дальнейшем подобрать самую подходящую спецификацию для клиентов. Мы загружаем информацию в специальную программу, и она подсказывает, какую комплектацию автомобиля лучше использовать под бизнес-задачи клиента, как оптимизировать силовую линию автомобиля, правильно выбрать кабину, резину для колес. У разных видов техники (тягачей, самосвалов) спецификации будут абсолютно разные.
То есть вы смотрите на клиентов, которые у вас уже есть, на базу, которая содержит данные о тягачах или самосвалах, и говорите им: «Вам эта машина не подходит»?
Дмитрий Миклашевич: Мы просто работаем со спецификацией. Предлагаем, что можно улучшить при выборе нового автомобиля. Если это клиент, у которого уже есть техника Scania, берем номер шасси его машины, загружаем в систему FMS и смотрим, как эксплуатируется автомобиль. Затем на основе полученных данных наши менеджеры предлагают клиенту самое лучшее решение, то есть наиболее подходящие под его задачи двигатель, кабину, коробку передач. Сейчас технологии стремительно развиваются, возможности техники расширяются. К примеру, на рынке уже появился новый двигатель с топливной системой XPI — это топливная система высокого давления. В прошлом использовалась топливная система PDE с обычными насос-форсунками. И даже просто сравнивая два мотора с этими системами, можно увидеть, что новый экономичнее на 1-2 литра в движении, чем предыдущий.
А если рассмотреть, как машина ведет себя на трассе? Вы говорили про холостой ход, про торможение. Наверное, речь еще может идти и об ускорении. Важна же не только сама автомобильная техника, но и водитель, как он справляется с управлением. Здесь какие-то у вас есть рекомендации?
Дмитрий Миклашевич: Конечно, какая бы ни была машина, как бы мы правильно ее ни укомплектовали, только обученный водитель может эксплуатировать автомобиль максимально эффективно и экономично, что в конечном итоге будет положительно отражаться на снижении затрат транспортной компании. А для того чтобы водители правильно эксплуатировали технику, с ними работают инструкторы школы водительского мастерства Scania.
А можно подробнее про эту школу? Какие навыки может получить водитель — например, как вести себя, если фуру занесло…
Дмитрий Миклашевич: Перед инструкторами школы водительского мастерства не стоит задача научить водителя управлять автомобилем, потому что водительский персонал транспортных компаний имеет достаточно знаний для эксплуатации техники. Наша задача — в теории и на практике показать, как управлять автомобилем максимально эффективно, с выгодой для компании. Если транспортное предприятие меняет марку грузовой техники, инструкторы рассказывают, как эффективно эксплуатировать именно машину Scania, потому что водитель, может быть, ни разу не сидел за рулем такого автомобиля. Водителям транспортной компании, у которой Scania уже есть, рассказывают о новых модификациях и нюансах эксплуатации именно того автомобиля, на котором они работают. Потому что предыдущее поколение грузовиков Scania и новое кардинально отличаются друг от друга. Мы внедряем много полезных функций. Например, систему, которая позволяет автомобилям Scania двигаться, учитывая холмистость, правильно проходить подъемы и, соответственно, экономить топливо. Не так давно мы внедрили адаптивный круиз-контроль, который помогает водителю не только меньше уставать, но и избегать аварийных ситуаций. Засмотрелся — машина за тебя притормозила.
Вообще, это очень полезная система, на легковых автомобилях она давно применяется. И очень помогает, когда на дальние расстояние двигаешься. Вы делаете упор на новичков? Ведь опытный дальнобойщик, наверное, и не пойдет в школу, скажет: «Я все умею лучше вас». А молодые? Сейчас достаточно много молодых водителей, для них есть какие-то специальные курсы?
Дмитрий Миклашевич: Наши курсы рассчитаны на водителей с абсолютно разным опытом, и они оказываются полезны всем. Кстати, бывалые дальнобойщики зачастую самые проблемные, потому что считают: «Я ездил, я умею, чему вы меня учите?» У нас есть несколько программ, базовая — это «Эффективное управление транспортным средством», где даются основы экономичного и безопасного вождения автомобиля Scania. Есть и другие программы.
Мы делали анализ результатов обучения, и даже тот водитель, который утверждал: «Я все умею», — пройдя буквально однодневный курс, достигал от 5 до 14% экономии топлива на своем маршруте. Эти данные официально подтверждены. Если обратиться к статистике транспортных компаний, то вот показательный пример: на предприятии, где работает 71 водитель, до обучения средний расход топлива составлял 28,5-28,7 литра на 100 километров, а после обучения снизился до 26,5 литра.
Это очень хорошие результаты. Но, как я понимаю, вы держите показатели водителей под контролем? Поскольку водитель-старожил может пройти обучение, а потом сесть в грузовик и опять сказать: «Я все знаю лучше всех, зачем меня учили?»
Дмитрий Миклашевич: Да, показатели всех водителей отслеживаются. Школа водительского мастерства Scania не ограничивается только тем, чтобы научить один раз. Для закрепления новых полезных навыков есть коучинг, когда инструкторы работают с каждым водителем индивидуально, наблюдают и помогают устранить недочеты. Через систему FMS инструкторы, а также руководители транспортных предприятий могут увидеть, как каждый водитель ежедневно эксплуатирует машину. Система выставляет ему оценки, практически как в школе: A, B, C, D. Причем сравнивает водителей не только в одной транспортной компании, но и по всему региону, где это предприятие работает. Например, в вашей компании есть водитель, который хорошо ездит, у него достаточно экономный расход топлива, он получает оценку А. Но у других водителей в регионе такая же транспортная задача, такой же маршрут, и среди них он уже может оказаться середнячком. Для транспортной компании это повод задуматься и найти ту точку улучшения, где можно сэкономить еще.
Давайте вернемся к топливу, потому как порядка 40% расходов на каждый грузовик уходит у компании именно на оплату топлива. Вопрос экономичности и, главное, цены. А как вы смотрите на машины на газе?
Дмитрий Миклашевич: Сейчас это одно из инновационных решений в грузоперевозках. Переход с дизельного топлива на газ — это реальная возможность сэкономить 40-50% расходов на топливо. И поэтому транспортным компаниям, особенно тем, которые эксплуатируют автомобили на длительных маршрутах, где требуется много топлива, газ делает экономику перевозок гораздо более привлекательной. У нас есть много клиентов, которые уже освоили технику на метане. Кстати, в декабре этого года на дорогах России появился пятисотый грузовик Scania на газомоторном топливе.
А вы газобаллонное оборудование устанавливаете здесь, в России, в дилерских центрах или это машины с завода в Швеции?
Дмитрий Миклашевич: Все машины с газомоторными двигателями приходят с завода. То есть там они собраны, а здесь проходят сертификацию, после чего можно их безопасно выпускать на дороги.
Вопрос по поводу безопасности. Многие по-прежнему считают, что газовый баллон — это страшно. Пора развеять миф.
Дмитрий Миклашевич: Действительно, были такие опасения. Но газа бояться не стоит. Завод Scania в Швеции совместно с производителем баллонов проводят многочисленные испытания. Есть видео, как эти баллоны мнут, поджигают, бьют, бросают, пытаются разрезать, но это сделать невозможно. Даже если предположить, что случится утечка газа, то здесь тоже нет риска, так как он быстро испаряется. Тем более мы говорим не о пропан-бутане, а о метане — это более безопасный газ, и перевозчики, которые эксплуатируют машины Scania на газомоторном топливе, уже убедились в его преимуществах. Они существенно экономят. Приведу пример: компания — 11 седельных газовых тягачей G340 с колесной формулой 4х2, работающих в Ульяновской и Самарской областях. Общий средний годовой пробег этих тягачей — 260 тысяч километров, работают без остановок. Средний расход топлива — 45 кубических метра на 100 километров. Только за счет более дешевого, чем дизельное, газового топлива эта компания экономит около 25 млн рублей в год, имея разницу по топливу в 8,81 рубля с каждого километра пробега в пользу газового автомобиля.
Однако пока, к сожалению, внедрение газомоторной техники сдерживает то, что заправок мало. Но они появляются. И не только в Центральной части, где это направление развивается более активно, но и в других регионах — на Урале, на Дальнем Востоке. Например, в Свердловской области дилеры Scania второй год подряд реализуют больше газовых машин, а не дизельных.
У нас, к сожалению, считают, что сначала должен появиться спрос, как на электромобили, и только потом надо строить инфраструктуру, а обычно делается наоборот. Вы, кстати, ведете переговоры с правительством, консультируетесь по поводу развития этого сегмента?
Дмитрий Миклашевич: Мы постоянно находимся в диалоге с представителями органов власти. Информируем о том, что развиваем технику на газомоторном топливе, что нужны заправки. Мы также ведем переговоры о необходимости снижения эксплуатационных расходов, в частности транспортного налога.
А есть какой-то профиль компании, которой наиболее выгодно использовать газомоторные машины? Или это не имеет значения? Какие есть ограничения?
Дмитрий Миклашевич: Наиболее эффективно использовать газ тем, у кого большие пробеги. Это компании, которые занимаются грузоперевозками на дальние расстояния. В этом случае экономия затрат особенно заметна. Также газ очень перспективен в сфере ЖКХ — например, когда машины эксплуатируются в городах с плотной застройкой, где остро стоит вопрос снижения уровня CO2. Scania предлагает инновационные решения в этой области. Благодаря переходу на газомоторную технику Scania в России выбросы CO2 в атмосферу за восемь месяцев 2019 года снизились на 3 тысячи тонн по сравнению с аналогичными автомобилями на дизельном топливе.
Смотрите, мы обозначили практически все главные вопросы, которые могут влиять на снижение стоимости владения грузовой техникой, — топливо, водители, спецификации машин, поговорили про газовое топливо, что, безусловно, тренд. Есть ли еще какие-то инструменты, может быть, менее эффективные, а может, по эффективности схожие с тем, о чем мы говорили, для грузоперевозчиков?
Дмитрий Миклашевич: Есть очень важная статья затрат в бизнесе транспортной компании — это техническое обслуживание автомобиля. Вы наверняка следите за состоянием своей легковой машины. Коммерческий транспорт эксплуатируется в гораздо более напряженном режиме, и важно поддерживать его в хорошем техническом состоянии, тогда он сможет показывать наибольшую эффективность, работать на линии максимальное количество времени. И можно сэкономить за счет продуманного ТО. Для этого Scania разработала специальную программу гибкого техобслуживания — Scania FLEX. Она позволяет обслуживать машину именно в том объеме, в каком это необходимо. Именно в то время, когда необходимо сделать ТО. Как было в прошлом? Брали за основу среднестатистический автомобиль и выбирали межсервисный интервал, исходя из данных о его эксплуатации в течение года. В результате одна машина оказывалась недообслужена, вторая — переобслужена.
Сейчас подход поменялся, все тот же коммуникатор С-300 снимает данные с каждой машины — около 17 параметров. Система Scania FMS отслеживает, в частности, холостой ход, среднюю скорость, температуру окружающего воздуха, и, соединяя эти параметры воедино, может точно определить межсервисный интервал, оптимальный для каждого конкретного грузовика.
При этом график ТО напрямую зависит от того, как водитель ведет машину. Если он управляет правильно, экономично и эффективно, значит, межсервисный интервал будет больше. А если ведет машину небрежно, перегружает, то интервал сокращается, о чем система FMS сообщит водителю и менеджеру.
Также в Scania есть специальная система сервисных контрактов, которая позволяет сэкономить на ТО и ремонте. Официальный дилер совместно с клиентом составляют подходящий график техобслуживания и определяют оптимальный график платежей, чтобы точно спрогнозировать затраты клиента. То есть никаких дополнительных инвестиций, непредвиденных расходов, и техника постоянно в исправном состоянии. Определенный ежемесячный платеж позволит клиенту поддерживать состояние машины на должном уровне.
При этом обслуживать технику можно на любой станции обширной дилерской сети Scania, которая охватывает все регионы России, даже самые отдаленные.
Вы перечислили много аспектов, давайте подытожим, что вы советуете грузоперевозчикам для максимального снижения стоимости владения грузовой техникой.
Дмитрий Миклашевич: В первую очередь — правильно выбирать спецификацию грузового автомобиля, чтобы она соответствовала транспортной задаче. Второе — обучать водителей эффективному эксплуатированию техники. А также использовать выгодные комплексные решения для технического обслуживания и ремонта автомобиля.

ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСАНДРА НОВАКА РАДИОСТАНЦИИ «BUSINESS FM» В РАМКАХ РЭН-2019
«Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД»
В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.
Президент вчера здесь, на Российской энергетической неделе, сказал, что многие, наверное, об этом не знают, но мы на самом деле давно согласны уже в переговорах с Украиной по условиям транзита газа, если бы Украина перешла на европейское регулирование, пускай будет аукцион и всем будет хорошо. Правда, мы очень сомневаемся, что до конца этого года, когда нам надо договор заключить, это произойдет. В ходе переговоров на прошлой неделе, которые состоялись с участием Еврокомиссии, в которых вы участвовали, эта тема поднималась? И если это произойдет, то что, собственно, изменится в наших таких вечно напряженных отношениях с Украиной как транзитером?
Во-первых, действительно, и президент раньше говорил всегда о том, что мы не против того, чтобы продолжать использовать газотранспортную систему Украины в будущем. Ключевое условие, которое всегда ставилось, что эта система должна быть конкурентоспособной, эффективной, тарифы должны быть конкурентоспособные, то есть должна быть конкуренция по газотранспортной инфраструктуре. Что касается конкретного варианта или продления действующего договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» или, например, тот второй вариант, который сейчас рассматривается, переход Украины на европейское законодательство, разделение «Нафтогаза» на добычную компанию, компанию, которая занимается сбытом, и компанию, которая занимается транспортировкой газа, такие решения приняты на Украине, и, когда мы встречались с нашими украинскими коллегами в Брюсселе, в Еврокомиссии с участием заместителя председателя Еврокомиссии Шевчевича, мы обсуждали именно этот вариант, потому что он был предложен и со стороны Еврокомиссии, и со стороны наших украинских партнеров.
То есть он уже становится основным?
Он становится основным, но на самом деле в чем заключается нюанс? Мы действительно не против, как сказал Владимир Владимирович, работать и по этому законодательству. Вопрос в другом: насколько это законодательство действительно будет принято к 1 января 2020 года. Это первое. А второе — насколько это законодательство будет соответствовать европейскому законодательству. Бывают такие нюансы, когда принимается законодательство, а при этом в него вписываются некие дополнения или отклонения, которые отличаются от того, что декларируется. Поэтому очень важно провести юридическую экспертизу принимаемых законов и нормативно-правовых актов на Украине в части энергетического законодательства. Мы об этом договорились с Шевчевичем, с Еврокомиссией, что, во-первых, они дадут соответствующее заключение на то, что это действительно законодательство полностью копирует европейское законодательство, а во-вторых, мы также проведем свою юридическую экспертизу. Пока в настоящий момент, к сожалению, на момент переговоров у нас не было даже на английском языке проектов этих документов. И мы попросили наших коллег, чтобы они нам направили все документы на английском языке, чтобы можно было к ним отнестись как минимум. Почему мы готовы работать в соответствии с европейским законодательством? Потому что у «Газпрома» большой опыт работы и он работает в Европе ровно по европейскому законодательству, никаких проблем нет. Мы просто видим риски, что могут быть некие закладки в украинском законодательстве, которые могут не соответствовать тому, как сегодня «Газпром» работает и как привык работать в соответствии с принятым европейским законодательством. А так, если оно будет полностью копировать, и с этим все согласятся, и будут соответствующие юридические заключения, конечно, тут у нас не будет никаких вопросов, мы можем работать в соответствии с этим законодательством.
Там ключевое слово «аукцион», что владелец газотранспортной инфраструктуры, газопровода в данном случае, свою мощность выставляет на аукцион. А никого не смущает, что покупателем этой инфраструктуры, поставщиком все равно будет один и тот же «Газпром», и в конечном счете этот аукцион сводится к переговорам ровно все тех же двух сторон? Или там как-то меняется процедура, когда действуют какие-то автоматические механизмы, определяющие цену?
Если будет полностью принято европейское законодательство, это законодательство предусматривает действительно бронирование мощностей, то есть выставление сначала оператором газотранспортной системы определенных мощностей на аукцион и подача заявок со стороны компаний, которые бронируют мощности. В частности, это «Газпром», который готов будет бронировать мощности. Там есть несколько вариантов. Если ты хочешь бронировать на год и более, то соответствующий аукцион проходит до 15 февраля года предшествующего.
В общем, мы уже не попадаем в 2020 год по этой модели.
Совершенно верно. Если бронирование осуществляется на один квартал, то это должно быть до 15 апреля года предшествующего. А если на месяц, то до 1 декабря. То есть фактически, если законодательство будет принято, мы сможем до 1 декабря подать заявку на аукцион, который будет на месячные объемы прокачки. Вы спросили, зачем европейское законодательство для Украины, если пока что только один поставщик со стороны РФ. У меня ровно такой же вопрос на самом деле. Европа — понятно, там очень много поставщиков, и поэтому там в рамках развития конкуренции произошло разделение в рамках Третьего энергетического пакета и созданы условия для того, чтобы можно было на аукционе различным поставщикам, бронируя, создавая конкуренцию, повышать эффективность, конкурировать между собой. Для Украины это европейское законодательство мне не очень понятно для чего. Это, может быть, просто желание следовать неким политическим трендам, чтобы имплементировать европейское законодательство. Хотя по факту на самом деле, как мы понимаем, украинскую газотранспортную систему может загружать только наш российский газ на сегодняшний день. Поэтому тут никакой конкуренции нет, и мы просто будем работать действительно в соответствии с этим законодательством, которое будет принято на Украине. Но тем не менее его целесообразность не соответствует тому, для чего принималось в Европе это законодательство — Третий энергопакет.
А цена транзита как будет определяться? Сейчас она предмет спора и условие предмет спора, потому что у нас это увязано с нашими поставками газа на Украину — take-or-pay, а они, как мы знаем, потом выставляют, что вы тоже должны take-or-pay мощность газопровода использовать. У нас такая сложная конструкция. А в этой модели она как будет выглядеть? Это будет уже два разделенных процесса — поставки газа и транзит газа?
В соответствии с европейским законодательством цена транзита будет определяться в соответствии с этим законодательством. И это не стоимость прокачки за 1000 кубических метров газа и за 100 километров, как это было ранее, это будет цена, связанная с входом в газотранспортную систему и выходом. И за это нужно будет платить. Хотя в переводе, конечно, это все считается и оценивается с точки зрения конкуренции с другими газотранспортными системами. В настоящий момент пока мы не обсуждали цену в рамках переговоров, я думаю, что это будет обсуждаться позже. И это будет в рамках существующих тарифов, которые действуют сегодня в Европе.
Вы сказали, что переговоры прошли конструктивно. Вы сказали: все детали, конечно, не будут выноситься пока, это только начало, но хорошее начало — здесь же новое правительство, новая администрация. Что заставило вас так охарактеризовать, что вы видите с той стороны?
Во-первых, мне кажется важным, что в переговорах участвовал министр энергетики, а не как в прошлые два раза министр иностранных дел, который приезжал только для того, чтобы делать политические заявления, господин Климкин (был министром иностранных дел Украины до 29 августа 2019 года. — Business FM). Сейчас действительно приехал человек, который профессионален, разбирается, с ним обсуждаются конкретные профессиональные вопросы. Во-вторых, мы договорились о дальнейших действиях, о передаче нам пакета документов, чтобы мы могли изучить, о том, что в случае, если украинское законодательство не будет готово, мы сможем обсудить и предложить вариант продления действующего договора, естественно, с некими корректировками, но тем не менее на старых условиях с точки зрения законодательства. И это уже конструктив.
«Газпром» ранее говорил, что увязывает продление нынешнего договора с мировым соглашением по тому решению Стокгольмского арбитража, который мы считаем абсолютно несправедливым, потому что в одной части он take-or-pay признал, а в другой части — нет, и что тогда мы не можем так договариваться, если в дальнейшем в судах только половина соглашения используется, а вторая — нет.
Действительно, несмотря на то что мы конструктивны с точки зрения обсуждения вопросов транзита с 1 января, на мой взгляд, негативный отпечаток во всей этой истории остается от тех судебных решений, которые состоялись в Стокгольмском арбитражном суде и которые были явно политизированными и ангажированными в пользу одной из сторон. По двум контрактам, которые в 2009 году были подписаны, это единый пакетный документ, были абсолютно разные решения приняты, в частности, по контракту на поставку газа для Украины, не был учтен принцип «бери или плати», а он был прописан в этом контракте. Что касается контракта на транзит газа для европейских потребителей через территорию Украины, здесь Стокгольмский арбитражный суд, наоборот, посчитал штрафы за якобы недопрокачанные объемы, причем он посчитал не как убыток от того, что там не было, допустим, несколько миллиардов кубометров прокачано, а посчитал ровно полностью как всю выручку, которая не была получена «Нафтогазом» за эту прокачку. Это разные вещи — убытки и выручка. Поэтому мы считаем, что это несправедливое решение суда, его нужно пересматривать, «Газпром» подал соответствующую апелляцию.
Но сейчас это не является предусловием.
Безусловно, мы это обсуждали на переговорах, и мы ставим вопрос нашим украинским партнерам и коллегам о том, что нужно обсуждать вопрос нулевого варианта, то есть выхода на мировое соглашение, либо дожидаться решения суда. Но решение суда будет не раньше середины следующего года. Поэтому, чтобы нам четко понимать наши совместные действия с 1 января следующего года и говорить о транзите газа и об условиях транзита, о том, какое законодательство применяется, нам важно, чтобы нормализовались отношения между нашими компаниями, чтобы они нашли вариант урегулирования тех разногласий, которые есть, и это нормально, потому что у нас очень давние взаимоотношения, мы много десятков лет использовали газотранспортную систему, постоянно реализуются новые соглашения, сейчас обсуждаем также механизм взаимодействия, я думаю, он все равно будет длительным. Конечно, важно, чтобы между коммерческими партнерами не было разногласий, иначе это, конечно, очень сильно мешает работе и достижению определенных договоренностей. Этот вопрос у нас на повестке дня и мы считаем, что он очень важный для того, чтобы дальше работать с нашими партнерами.
В переговорах всегда важны альтернативы. Мы понимаем, что хотя «Северный поток — 2» почти закончен, все-таки с 1 января 2020 года он не заработает. А когда заработает, это еще зависит в данный момент от позиции Дании. Можно, конечно, и обойти тот участок, который она не дает, но это еще несколько затянет. Что вы можете сейчас сказать, что известно по переговорам с Данией?
Этим вопросом занимается операционная компания Nord Stream 2, которая реализует проект, и менеджмент этой компании, они ведут переговоры с датским правительством, и по той информации, которая сейчас у нас есть, все-таки сохраняются шансы на то, что будет получено разрешение Дании на прокладку участка подводного газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Соответствующая заявка была подана, и сроки рассмотрения этой заявки уже фактически прошли, поэтому мы также надеемся и считаем, что такое решение должно состояться, поскольку нет никаких противоречий и никаких проблем, которые бы позволили отказать в этой заявке. В настоящее время строительство газопровода идет теми же темпами, которые и были, уже порядка 83%. Если считать в однониточном исполнении — примерно 2,5 тысячи километров. Поэтому будем надеяться, что это решение будет принято. Безусловно, возникает вопрос: а что будет, если, например, Дания не даст соответствующих разрешений? Есть и другие варианты прокладки газопровода, они просто несколько удорожат проект. И по времени это будет дольше на несколько месяцев с точки зрения реализации самого проекта. Но, наверное, нет необходимости сейчас говорить о том, будет ли уже принят второй вариант прокладки газопровода и когда он будет принят, пока окончательно не будет понимания о решении правительства Дании.
Несколько других тем — рынка как такового и его перспектив. ЕС поставил очень амбициозные задачи, таких никто в мире пока не ставит, по замещению своей энергетики возобновляемой энергетикой. К 2030 году они, по-моему, собираются добиться результата в 50%. Во-первых, верите ли вы в реализуемость таких целей? Во-вторых, если это произойдет, насколько изменится спрос на углеводородное сырье? Потому что еще важно, от чего считать эти 50%. Если в целом энергопотребление растет, то, возможно, спрос-то и не упадет. В общем, какие прогнозы с этой точки зрения?
Сейчас экологическая повестка выходит на первый план, и мы это видим во многих обсуждениях и на уровне глав государств. Например, Парижское соглашение, которое было подписано, наша страна приняла решение о ратификации буквально неделю назад. На полях проходящей сейчас Российской энергетической недели, наверное, половина вопросов на различных панелях, в том числе и углеводородных, была именно относительно чистых возобновляемых источников энергии. Мы, конечно, понимаем и видим, что возобновляемые источники энергии будут активно развиваться более быстрыми темпами в общем энергобалансе. Если сейчас это около 7% в энергобалансе, то в ближайшие 15 лет, по оценкам экспертов, доля ВИЭ в мировом энергобалансе достигнет 15-20%. Этим занимаются многие страны, и Россия занимается, но у всех разные цели достижения этих показателей. Многое зависит от того, есть ли другие собственные источники энергоснабжения. Например, Европа ставит себе более амбициозные задачи, потому что у них других собственных источников энергии нет. Для России мы в нашем энергобалансе гораздо меньшие показатели ставим, хотя тоже достаточно амбициозные. Недавно рассматривалась в правительстве продление до 2034 года программы поддержки строительства солнечной генерации, ветровой генерации. И такое решение уже было принято. А мы этим занимаемся, я напомню, с 2014 года, в 2024 году заканчивается первый этап программы, у нас будет построено 6 тысяч мегаватт соответствующих мощностей, а к 2034 году еще примерно столько же. То есть мы здесь не в последнем вагоне поезда, и у нас есть соответствующие компетенции, которые разработаны благодаря поддержке и программе правительства. У нас, как вы знаете, построено уже несколько заводов по производству солнечных панелей по российской технологии, она очень конкурентоспособная. И на сегодняшний день уже есть контракты на продажу этих солнечных панелей за рубеж. И мы планируем, что наши компании будут поставлять не только на российский рынок, но и на те рынки, которые более активно будут развиваться, в частности китайский рынок, европейский рынок и так далее.
Подрывая конкурентоспособность своего углеводородного сырья. Это сарказм, конечно.
Я думаю, что мы здесь сбалансированно развиваем свою энергосистему, в том числе и позволяя развивать добычу, переработку нефти и газа, угля, использование его в энергобалансе, а также производство солнечной и ветровой генерации.
Что касается европейских амбициозных задач, поживем — увидим, достигнут они или нет. Здесь очень много вопросов, которые носят достаточно сложный технический характер. Во-первых, потому что, несмотря на большое количество генерации из возобновляемых источников энергии, все равно необходимо держать на сегодняшний день резервную газовую генерацию, которая в часы пик и в часы отсутствия ветра или солнца должна покрывать и очень быстро включаться в общую энергосистему и вырабатывать электроэнергию, выдавать мощность в систему. Причем эта генерация должна содержаться, даже если она не работает, за это должны потребители платить. Вторая очень сложная составляющая — это развитие сетевой инфраструктуры Европы. Строительство солнечной, ветровой генерации происходит в основном в тех районах, где это целесообразно и эффективно, но для того чтобы обеспечивать снабжение европейских потребителей, нужно строить большое количество сетей, а это очень дорого. И за это нужно платить опять же кому-то. И в-третьих, несмотря на то что себестоимость производства такой генерации снижается с каждым годом, пока она все еще дорогая и субсидируется все равно за счет государства либо за счет потребителей. Хотя мы видим, что цели действительно амбициозные, поживем — увидим, но, наверное, все равно тренд будет в эту сторону.
А спрос на углеводороды в связи с этим будет стагнировать или будет снижаться?
Есть разные оценки на разные углеводороды. Например, уголь будет потребляться в будущем примерно в тех же объемах, как сегодня, но с учетом роста общего потребления энергии в мире его доля в энергобалансе будет снижаться в процентном отношении, а в абсолюте будет примерно сохраняться. Что касается нефти, примерно такая же ситуация, только еще ближайшие лет двадцать потребление нефти и общий пик потребления будут прирастать, хотя доля в энергобалансе тоже будет снижаться, потому что темпы потребления энергии будут выше. По газу наоборот: доля потребления газа будет увеличиваться. И сегодня мы видим, что это наиболее перспективный источник энергоснабжения. Его будут все больше и больше потреблять во многих странах мира, учитывая, что сжиженный природный газ можно доставлять в любой уголок нашей планеты, построить регазификационный терминал. А у нас еще очень большое количество стран, которые не имеют доступа к электроэнергии. То есть самый главный вопрос — в возможностях экономики этих стран обеспечивать выработку электроэнергии и оплачивать ее, потому что очень много стран в мире, особенно в Африке, достаточно бедных.
Не потянут альтернативную энергетику.
Это точно. Им нужно пройти путь, который прошла Европа или развитые страны, и прежде чем говорить о ВИЭ, которые очень дорогие, наверное, нужно говорить еще и о выработке хотя бы электроэнергии из традиционных источников.
По поводу нефти есть немаловажный вопрос. Мы уже видим отчетливый тренд — электромобилизацию. Практически все автоконцерны переходят на выпуск именно электромобилей. Это значит, что как раз спрос на бензин в перспективе, наверное, будет сокращаться. С другой стороны, на топливо, из которого будет вырабатываться электричество, наоборот, он будет расти. Но это чуть в сторону. Мы долгое время считали, и я слышал это не раз, что не электромобиль является лучшей альтернативой нынешнему двигателю внутреннего сгорания, а топливо на сжиженном газе, которое, кстати, популярно во многих бывших советских странах, где бензин дорог. Я лично видел, что баллоны очень распространены. Но западные производители взяли другой курс. Этот курс очень быстро завоевывает все пространство. Какие выводы из этого можно делать? Будем ли мы пытаться все-таки внедрять автомобили на сжиженном газе — на пропане, бутане? Будем ли мы понимать, что бензина нужно будет меньше, что надо у нас быстро создавать инфраструктуру электросетевых заправок? Потому что бензиновые автомобили скоро негде будет взять.
Есть следующие тренды. Действительно, сейчас во всем мире достаточно активно развивается использование газа в качестве газомоторного топлива: и СПГ, и компримированный природный газ. Это очень экологичный вид топлива, экономный, и многие сегодня заинтересованы в переводе на него своей техники, особенно техники жилищно-коммунального хозяйства, автотранспортной техники, больших грузовиков, которые на дальние расстояния ездят, в меньшей степени транспорт для личного пользования. Этот тренд, который сегодня идет во всем мире, строятся заправки, производится соответствующая техника.
Второй тренд, вы об этом сказали, производство электромобилей: либо гибридных, либо чистых электромобилей. Сегодня мы видим, что темпы прироста очень большие: в 2018 году продажи выросли на 70%. Но если вдуматься в цифры, сколько автомобилей в мире на сегодняшний день всего: 1 млрд 400 млн автомобилей, а электромобилей всего 5 млн. Еще очень далеко до хотя бы 15%, 20%, 30% рынка, и есть еще ограничения, связанные с отсутствием такого большого количества аккумуляторов, накопителей. Поэтому посмотрим, как будет развиваться. Сейчас это просто фактически нулевой показатель, нулевой старт, а всегда, когда база занижена, темпы роста сначала высокие.
И третий тренд: производители бензина, и дизеля, и двигателей внутреннего сгорания тоже не стоят на месте, постоянно совершенствуют свои технологии и качество топлива, снижая количество вредных составляющих. Мы уже в 2016 году перешли на «Евро-5» в нашей стране, а сейчас ставятся более амбициозные задачи, и во всем мире идут разработки «Евро-7», где будут вообще, может быть, нулевые выбросы в атмосферу. Тогда возникает следующий вопрос: три тренда — электромобили, использование газа и двигатели внутреннего сгорания на дизеле и бензине — будут между собой конкурировать по экологии, по цене автомобиля, по себестоимости, качеству автомобиля и так далее. Посмотрим, кто будет более конкурентен.
То есть пока рано ставить крест?
Я абсолютно уверен, что все три вида будут и будут занимать свою нишу, но размер этой ниши будет зависеть от научно-технического прогресса, который не стоит на месте, от потребительских качеств товара и автомобиля. Все автомобили пока что одинаковые независимо от того, какой они источник энергии имеют, и для человека без разницы: у него такой же салон, такой же руль, такая же панель, которая напичкана сегодняшними современными программными обеспечениями, ничего в принципе не меняется от того, что у тебя впереди стоит, какой мотор или какой двигатель. Если кто-то придумает новый качественный продукт, который бы изменил для человека качественные характеристики, например как раньше был стационарный телефон, придумали сотовый, еще и с видеоизображением — это существенное изменение качества. Почему кнопочные телефоны, по сути, впали в небытие? Потому что появилось новое качество для пользователя. Для пользователей автомобилей, думаю, будет очень важно именно качество.
Спасибо!
Беседовал Илья Копелевич

Новак: важно, что в переговорах по газовому транзиту участвовал министр энергетики Украины, а не глава МИД
Переговоры носят конструктивный, а не политический характер, заявил министр энергетики РФ в интервью Business FM на Российской энергетической неделе
В этот раз на переговоры по газовому транзиту через Украину приехал не министр иностранных дел, а министр энергетики, и в этом есть большая разница. Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу на Российской энергетической неделе.
Президент вчера здесь, на Российской энергетической неделе, сказал, что многие, наверное, об этом не знают, но мы на самом деле давно согласны уже в переговорах с Украиной по условиям транзита газа, если бы Украина перешла на европейское регулирование, пускай будет аукцион и всем будет хорошо. Правда, мы очень сомневаемся, что до конца этого года, когда нам надо договор заключить, это произойдет. В ходе переговоров на прошлой неделе, которые состоялись с участием Еврокомиссии, в которых вы участвовали, эта тема поднималась? И если это произойдет, то что, собственно, изменится в наших таких вечно напряженных отношениях с Украиной как транзитером?
Александр Новак: Во-первых, действительно, и президент раньше говорил всегда о том, что мы не против того, чтобы продолжать использовать газотранспортную систему Украины в будущем. Ключевое условие, которое всегда ставилось, что эта система должна быть конкурентоспособной, эффективной, тарифы должны быть конкурентоспособные, то есть должна быть конкуренция по газотранспортной инфраструктуре. Что касается конкретного варианта или продления действующего договора между «Газпромом» и «Нафтогазом» или, например, тот второй вариант, который сейчас рассматривается, переход Украины на европейское законодательство, разделение «Нафтогаза» на добычную компанию, компанию, которая занимается сбытом, и компанию, которая занимается транспортировкой газа, такие решения приняты на Украине, и, когда мы встречались с нашими украинскими коллегами в Брюсселе, в Еврокомиссии с участием заместителя председателя Еврокомиссии Шевчевича, мы обсуждали именно этот вариант, потому что он был предложен и со стороны Еврокомиссии, и со стороны наших украинских партнеров.
То есть он уже становится основным?
Александр Новак: Он становится основным, но на самом деле в чем заключается нюанс? Мы действительно не против, как сказал Владимир Владимирович, работать и по этому законодательству. Вопрос в другом: насколько это законодательство действительно будет принято к 1 января 2020 года. Это первое. А второе — насколько это законодательство будет соответствовать европейскому законодательству. Бывают такие нюансы, когда принимается законодательство, а при этом в него вписываются некие дополнения или отклонения, которые отличаются от того, что декларируется. Поэтому очень важно провести юридическую экспертизу принимаемых законов и нормативно-правовых актов на Украине в части энергетического законодательства. Мы об этом договорились с Шевчевичем, с Еврокомиссией, что, во-первых, они дадут соответствующее заключение на то, что это действительно законодательство полностью копирует европейское законодательство, а во-вторых, мы также проведем свою юридическую экспертизу. Пока в настоящий момент, к сожалению, на момент переговоров у нас не было даже на английском языке проектов этих документов. И мы попросили наших коллег, чтобы они нам направили все документы на английском языке, чтобы можно было к ним отнестись как минимум. Почему мы готовы работать в соответствии с европейским законодательством? Потому что у «Газпрома» большой опыт работы и он работает в Европе ровно по европейскому законодательству, никаких проблем нет. Мы просто видим риски, что могут быть некие закладки в украинском законодательстве, которые могут не соответствовать тому, как сегодня «Газпром» работает и как привык работать в соответствии с принятым европейским законодательством. А так, если оно будет полностью копировать, и с этим все согласятся, и будут соответствующие юридические заключения, конечно, тут у нас не будет никаких вопросов, мы можем работать в соответствии с этим законодательством.
Там ключевое слово «аукцион», что владелец газотранспортной инфраструктуры, газопровода в данном случае, свою мощность выставляет на аукцион. А никого не смущает, что покупателем этой инфраструктуры, поставщиком все равно будет один и тот же «Газпром», и в конечном счете этот аукцион сводится к переговорам ровно все тех же двух сторон? Или там как-то меняется процедура, когда действуют какие-то автоматические механизмы, определяющие цену?
Александр Новак: Если будет полностью принято европейское законодательство, это законодательство предусматривает действительно бронирование мощностей, то есть выставление сначала оператором газотранспортной системы определенных мощностей на аукцион и подача заявок со стороны компаний, которые бронируют мощности. В частности, это «Газпром», который готов будет бронировать мощности. Там есть несколько вариантов. Если ты хочешь бронировать на год и более, то соответствующий аукцион проходит до 15 февраля года предшествующего.
В общем, мы уже не попадаем в 2020 год по этой модели.
Александр Новак: Совершенно верно. Если бронирование осуществляется на один квартал, то это должно быть до 15 апреля года предшествующего. А если на месяц, то до 1 декабря. То есть фактически, если законодательство будет принято, мы сможем до 1 декабря подать заявку на аукцион, который будет на месячные объемы прокачки. Вы спросили, зачем европейское законодательство для Украины, если пока что только один поставщик со стороны РФ. У меня ровно такой же вопрос на самом деле. Европа — понятно, там очень много поставщиков, и поэтому там в рамках развития конкуренции произошло разделение в рамках Третьего энергетического пакета и созданы условия для того, чтобы можно было на аукционе различным поставщикам, бронируя, создавая конкуренцию, повышать эффективность, конкурировать между собой. Для Украины это европейское законодательство мне не очень понятно для чего. Это, может быть, просто желание следовать неким политическим трендам, чтобы имплементировать европейское законодательство. Хотя по факту на самом деле, как мы понимаем, украинскую газотранспортную систему может загружать только наш российский газ на сегодняшний день. Поэтому тут никакой конкуренции нет, и мы просто будем работать действительно в соответствии с этим законодательством, которое будет принято на Украине. Но тем не менее его целесообразность не соответствует тому, для чего принималось в Европе это законодательство — Третий энергопакет.
А цена транзита как будет определяться? Сейчас она предмет спора и условие предмет спора, потому что у нас это увязано с нашими поставками газа на Украину — take-or-pay, а они, как мы знаем, потом выставляют, что вы тоже должны take-or-pay мощность газопровода использовать. У нас такая сложная конструкция. А в этой модели она как будет выглядеть? Это будет уже два разделенных процесса — поставки газа и транзит газа?
Александр Новак: В соответствии с европейским законодательством цена транзита будет определяться в соответствии с этим законодательством. И это не стоимость прокачки за 1000 кубических метров газа и за 100 километров, как это было ранее, это будет цена, связанная с входом в газотранспортную систему и выходом. И за это нужно будет платить. Хотя в переводе, конечно, это все считается и оценивается с точки зрения конкуренции с другими газотранспортными системами. В настоящий момент пока мы не обсуждали цену в рамках переговоров, я думаю, что это будет обсуждаться позже. И это будет в рамках существующих тарифов, которые действуют сегодня в Европе.
Вы сказали, что переговоры прошли конструктивно. Вы сказали: все детали, конечно, не будут выноситься пока, это только начало, но хорошее начало — здесь же новое правительство, новая администрация. Что заставило вас так охарактеризовать, что вы видите с той стороны?
Александр Новак: Во-первых, мне кажется важным, что в переговорах участвовал министр энергетики, а не как в прошлые два раза министр иностранных дел, который приезжал только для того, чтобы делать политические заявления, господин Климкин (был министром иностранных дел Украины до 29 августа 2019 года. — Business FM). Сейчас действительно приехал человек, который профессионален, разбирается, с ним обсуждаются конкретные профессиональные вопросы. Во-вторых, мы договорились о дальнейших действиях, о передаче нам пакета документов, чтобы мы могли изучить, о том, что в случае, если украинское законодательство не будет готово, мы сможем обсудить и предложить вариант продления действующего договора, естественно, с некими корректировками, но тем не менее на старых условиях с точки зрения законодательства. И это уже конструктив.
«Газпром» ранее говорил, что увязывает продление нынешнего договора с мировым соглашением по тому решению Стокгольмского арбитража, который мы считаем абсолютно несправедливым, потому что в одной части он take-or-pay признал, а в другой части — нет, и что тогда мы не можем так договариваться, если в дальнейшем в судах только половина соглашения используется, а вторая — нет.
Александр Новак: Действительно, несмотря на то что мы конструктивны с точки зрения обсуждения вопросов транзита с 1 января, на мой взгляд, негативный отпечаток во всей этой истории остается от тех судебных решений, которые состоялись в Стокгольмском арбитражном суде и которые были явно политизированными и ангажированными в пользу одной из сторон. По двум контрактам, которые в 2009 году были подписаны, это единый пакетный документ, были абсолютно разные решения приняты, в частности, по контракту на поставку газа для Украины, не был учтен принцип «бери или плати», а он был прописан в этом контракте. Что касается контракта на транзит газа для европейских потребителей через территорию Украины, здесь Стокгольмский арбитражный суд, наоборот, посчитал штрафы за якобы недопрокачанные объемы, причем он посчитал не как убыток от того, что там не было, допустим, несколько миллиардов кубометров прокачано, а посчитал ровно полностью как всю выручку, которая не была получена «Нафтогазом» за эту прокачку. Это разные вещи — убытки и выручка. Поэтому мы считаем, что это несправедливое решение суда, его нужно пересматривать, «Газпром» подал соответствующую апелляцию.
Но сейчас это не является предусловием.
Александр Новак: Безусловно, мы это обсуждали на переговорах, и мы ставим вопрос нашим украинским партнерам и коллегам о том, что нужно обсуждать вопрос нулевого варианта, то есть выхода на мировое соглашение, либо дожидаться решения суда. Но решение суда будет не раньше середины следующего года. Поэтому, чтобы нам четко понимать наши совместные действия с 1 января следующего года и говорить о транзите газа и об условиях транзита, о том, какое законодательство применяется, нам важно, чтобы нормализовались отношения между нашими компаниями, чтобы они нашли вариант урегулирования тех разногласий, которые есть, и это нормально, потому что у нас очень давние взаимоотношения, мы много десятков лет использовали газотранспортную систему, постоянно реализуются новые соглашения, сейчас обсуждаем также механизм взаимодействия, я думаю, он все равно будет длительным. Конечно, важно, чтобы между коммерческими партнерами не было разногласий, иначе это, конечно, очень сильно мешает работе и достижению определенных договоренностей. Этот вопрос у нас на повестке дня и мы считаем, что он очень важный для того, чтобы дальше работать с нашими партнерами.
В переговорах всегда важны альтернативы. Мы понимаем, что хотя «Северный поток — 2» почти закончен, все-таки с 1 января 2020 года он не заработает. А когда заработает, это еще зависит в данный момент от позиции Дании. Можно, конечно, и обойти тот участок, который она не дает, но это еще несколько затянет. Что вы можете сейчас сказать, что известно по переговорам с Данией?
Александр Новак: Этим вопросом занимается операционная компания Nord Stream 2, которая реализует проект, и менеджмент этой компании, они ведут переговоры с датским правительством, и по той информации, которая сейчас у нас есть, все-таки сохраняются шансы на то, что будет получено разрешение Дании на прокладку участка подводного газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Соответствующая заявка была подана, и сроки рассмотрения этой заявки уже фактически прошли, поэтому мы также надеемся и считаем, что такое решение должно состояться, поскольку нет никаких противоречий и никаких проблем, которые бы позволили отказать в этой заявке. В настоящее время строительство газопровода идет теми же темпами, которые и были, уже порядка 83%. Если считать в однониточном исполнении — примерно 2,5 тысячи километров. Поэтому будем надеяться, что это решение будет принято. Безусловно, возникает вопрос: а что будет, если, например, Дания не даст соответствующих разрешений? Есть и другие варианты прокладки газопровода, они просто несколько удорожат проект. И по времени это будет дольше на несколько месяцев с точки зрения реализации самого проекта. Но, наверное, нет необходимости сейчас говорить о том, будет ли уже принят второй вариант прокладки газопровода и когда он будет принят, пока окончательно не будет понимания о решении правительства Дании.
Несколько других тем — рынка как такового и его перспектив. ЕС поставил очень амбициозные задачи, таких никто в мире пока не ставит, по замещению своей энергетики возобновляемой энергетикой. К 2030 году они, по-моему, собираются добиться результата в 50%. Во-первых, верите ли вы в реализуемость таких целей? Во-вторых, если это произойдет, насколько изменится спрос на углеводородное сырье? Потому что еще важно, от чего считать эти 50%. Если в целом энергопотребление растет, то, возможно, спрос-то и не упадет. В общем, какие прогнозы с этой точки зрения?
Александр Новак: Сейчас экологическая повестка выходит на первый план, и мы это видим во многих обсуждениях и на уровне глав государств. Например, Парижское соглашение, которое было подписано, наша страна приняла решение о ратификации буквально неделю назад. На полях проходящей сейчас Российской энергетической недели, наверное, половина вопросов на различных панелях, в том числе и углеводородных, была именно относительно чистых возобновляемых источников энергии. Мы, конечно, понимаем и видим, что возобновляемые источники энергии будут активно развиваться более быстрыми темпами в общем энергобалансе. Если сейчас это около 7% в энергобалансе, то в ближайшие 15 лет, по оценкам экспертов, доля ВИЭ в мировом энергобалансе достигнет 15-20%. Этим занимаются многие страны, и Россия занимается, но у всех разные цели достижения этих показателей. Многое зависит от того, есть ли другие собственные источники энергоснабжения. Например, Европа ставит себе более амбициозные задачи, потому что у них других собственных источников энергии нет. Для России мы в нашем энергобалансе гораздо меньшие показатели ставим, хотя тоже достаточно амбициозные. Недавно рассматривалась в правительстве продление до 2034 года программы поддержки строительства солнечной генерации, ветровой генерации. И такое решение уже было принято. А мы этим занимаемся, я напомню, с 2014 года, в 2024 году заканчивается первый этап программы, у нас будет построено 6 тысяч мегаватт соответствующих мощностей, а к 2034 году еще примерно столько же. То есть мы здесь не в последнем вагоне поезда, и у нас есть соответствующие компетенции, которые разработаны благодаря поддержке и программе правительства. У нас, как вы знаете, построено уже несколько заводов по производству солнечных панелей по российской технологии, она очень конкурентоспособная. И на сегодняшний день уже есть контракты на продажу этих солнечных панелей за рубеж. И мы планируем, что наши компании будут поставлять не только на российский рынок, но и на те рынки, которые более активно будут развиваться, в частности китайский рынок, европейский рынок и так далее.
Подрывая конкурентоспособность своего углеводородного сырья. Это сарказм, конечно.
Александр Новак: Я думаю, что мы здесь сбалансированно развиваем свою энергосистему, в том числе и позволяя развивать добычу, переработку нефти и газа, угля, использование его в энергобалансе, а также производство солнечной и ветровой генерации.
Что касается европейских амбициозных задач, поживем — увидим, достигнут они или нет. Здесь очень много вопросов, которые носят достаточно сложный технический характер. Во-первых, потому что, несмотря на большое количество генерации из возобновляемых источников энергии, все равно необходимо держать на сегодняшний день резервную газовую генерацию, которая в часы пик и в часы отсутствия ветра или солнца должна покрывать и очень быстро включаться в общую энергосистему и вырабатывать электроэнергию, выдавать мощность в систему. Причем эта генерация должна содержаться, даже если она не работает, за это должны потребители платить. Вторая очень сложная составляющая — это развитие сетевой инфраструктуры Европы. Строительство солнечной, ветровой генерации происходит в основном в тех районах, где это целесообразно и эффективно, но для того чтобы обеспечивать снабжение европейских потребителей, нужно строить большое количество сетей, а это очень дорого. И за это нужно платить опять же кому-то. И в-третьих, несмотря на то что себестоимость производства такой генерации снижается с каждым годом, пока она все еще дорогая и субсидируется все равно за счет государства либо за счет потребителей. Хотя мы видим, что цели действительно амбициозные, поживем — увидим, но, наверное, все равно тренд будет в эту сторону.
А спрос на углеводороды в связи с этим будет стагнировать или будет снижаться?
Александр Новак: Есть разные оценки на разные углеводороды. Например, уголь будет потребляться в будущем примерно в тех же объемах, как сегодня, но с учетом роста общего потребления энергии в мире его доля в энергобалансе будет снижаться в процентном отношении, а в абсолюте будет примерно сохраняться. Что касается нефти, примерно такая же ситуация, только еще ближайшие лет двадцать потребление нефти и общий пик потребления будут прирастать, хотя доля в энергобалансе тоже будет снижаться, потому что темпы потребления энергии будут выше. По газу наоборот: доля потребления газа будет увеличиваться. И сегодня мы видим, что это наиболее перспективный источник энергоснабжения. Его будут все больше и больше потреблять во многих странах мира, учитывая, что сжиженный природный газ можно доставлять в любой уголок нашей планеты, построить регазификационный терминал. А у нас еще очень большое количество стран, которые не имеют доступа к электроэнергии. То есть самый главный вопрос — в возможностях экономики этих стран обеспечивать выработку электроэнергии и оплачивать ее, потому что очень много стран в мире, особенно в Африке, достаточно бедных.
Не потянут альтернативную энергетику.
Александр Новак: Это точно. Им нужно пройти путь, который прошла Европа или развитые страны, и прежде чем говорить о ВИЭ, которые очень дорогие, наверное, нужно говорить еще и о выработке хотя бы электроэнергии из традиционных источников.
По поводу нефти есть немаловажный вопрос. Мы уже видим отчетливый тренд — электромобилизацию. Практически все автоконцерны переходят на выпуск именно электромобилей. Это значит, что как раз спрос на бензин в перспективе, наверное, будет сокращаться. С другой стороны, на топливо, из которого будет вырабатываться электричество, наоборот, он будет расти. Но это чуть в сторону. Мы долгое время считали, и я слышал это не раз, что не электромобиль является лучшей альтернативой нынешнему двигателю внутреннего сгорания, а топливо на сжиженном газе, которое, кстати, популярно во многих бывших советских странах, где бензин дорог. Я лично видел, что баллоны очень распространены. Но западные производители взяли другой курс. Этот курс очень быстро завоевывает все пространство. Какие выводы из этого можно делать? Будем ли мы пытаться все-таки внедрять автомобили на сжиженном газе — на пропане, бутане? Будем ли мы понимать, что бензина нужно будет меньше, что надо у нас быстро создавать инфраструктуру электросетевых заправок? Потому что бензиновые автомобили скоро негде будет взять.
Александр Новак: Есть следующие тренды. Действительно, сейчас во всем мире достаточно активно развивается использование газа в качестве газомоторного топлива: и СПГ, и компримированный природный газ. Это очень экологичный вид топлива, экономный, и многие сегодня заинтересованы в переводе на него своей техники, особенно техники жилищно-коммунального хозяйства, автотранспортной техники, больших грузовиков, которые на дальние расстояния ездят, в меньшей степени транспорт для личного пользования. Этот тренд, который сегодня идет во всем мире, строятся заправки, производится соответствующая техника.
Второй тренд, вы об этом сказали, производство электромобилей: либо гибридных, либо чистых электромобилей. Сегодня мы видим, что темпы прироста очень большие: в 2018 году продажи выросли на 70%. Но если вдуматься в цифры, сколько автомобилей в мире на сегодняшний день всего: 1 млрд 400 млн автомобилей, а электромобилей всего 5 млн. Еще очень далеко до хотя бы 15%, 20%, 30% рынка, и есть еще ограничения, связанные с отсутствием такого большого количества аккумуляторов, накопителей. Поэтому посмотрим, как будет развиваться. Сейчас это просто фактически нулевой показатель, нулевой старт, а всегда, когда база занижена, темпы роста сначала высокие.
И третий тренд: производители бензина, и дизеля, и двигателей внутреннего сгорания тоже не стоят на месте, постоянно совершенствуют свои технологии и качество топлива, снижая количество вредных составляющих. Мы уже в 2016 году перешли на «Евро-5» в нашей стране, а сейчас ставятся более амбициозные задачи, и во всем мире идут разработки «Евро-7», где будут вообще, может быть, нулевые выбросы в атмосферу. Тогда возникает следующий вопрос: три тренда — электромобили, использование газа и двигатели внутреннего сгорания на дизеле и бензине — будут между собой конкурировать по экологии, по цене автомобиля, по себестоимости, качеству автомобиля и так далее. Посмотрим, кто будет более конкурентен.
То есть пока рано ставить крест?
Александр Новак: Я абсолютно уверен, что все три вида будут и будут занимать свою нишу, но размер этой ниши будет зависеть от научно-технического прогресса, который не стоит на месте, от потребительских качеств товара и автомобиля. Все автомобили пока что одинаковые независимо от того, какой они источник энергии имеют, и для человека без разницы: у него такой же салон, такой же руль, такая же панель, которая напичкана сегодняшними современными программными обеспечениями, ничего в принципе не меняется от того, что у тебя впереди стоит, какой мотор или какой двигатель. Если кто-то придумает новый качественный продукт, который бы изменил для человека качественные характеристики, например как раньше был стационарный телефон, придумали сотовый, еще и с видеоизображением — это существенное изменение качества. Почему кнопочные телефоны, по сути, впали в небытие? Потому что появилось новое качество для пользователя. Для пользователей автомобилей, думаю, будет очень важно именно качество.
Спасибо!
Илья Копелевич

Встреча с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером
Председатель правления ПАО «Газпром» информировал Президента об итогах работы компании в 2018 году и планах на 2019 год. Отдельно обсуждался вопрос газификации регионов.
В.Путин: Алексей Борисович, начнём с результатов работы прошлого года. Окончательные данные есть уже?
А.Миллер: Управленческая отчётность у нас на сегодняшний день проведена. «Газпром» в 2018 году добыл 497,6 миллиарда кубометров газа. Это на 5,7 процента выше, чем в 2017 году, и на 26,6 миллиарда кубометров больше, чем, соответственно, тоже в предыдущем.
При этом росло потребление газа на внутреннем рынке. Мы поставили на внутренний рынок на 12,8 миллиарда кубометров больше, что в процентах соответствует росту в 5,5 процента. На 4,3 процента увеличились объёмы поставок населению и комбыту, на 9,5 процента увеличился объём поставок газа электроэнергетике, на 13 процентов – агрохимии и 18,5 – металлургии. Выросли объёмы поставок газа в дальнее зарубежье. Мы установили очередной рекорд поставок газа на экспорт – 201,8 миллиарда кубометров газа, на 3,8 процента больше, чем в 2017 году, или на 7,4 миллиарда кубов больше.
В первую очередь здесь надо отметить то, что повышенными темпами рос спрос на российский газ нашего основного партнёра, клиента – Германии. Рост составил 9,5 процента, и по прошлому году мы в Германию поставили 58,5 миллиарда кубометров газа. Это больше, чем мощности одного «Северного потока».
Но, без сомнения, здесь надо отметить, что тенденция роста спроса на российский газ продолжается, поэтому в среднесрочной перспективе мы рассчитываем, что объёмы потребления, поставок газа на европейский рынок ещё больше возрастут.
По итогам 2018 года доля нашего российского трубопроводного газа на европейском рынке составила 36,7 процента.
Без сомнения, одна из основных задач «Газпрома» – это прохождение осенне-зимнего периода. На начало периода мы закачали в подземки 72 миллиарда 270 миллионов кубометров газа, что позволило нам обеспечить суточный отбор из подземных хранилищ 812,5 миллиона кубометров. Это исторический максимум. И вообще компания за последние восемь лет на 31 процент увеличила показатель суточного отбора из подземок на начало периода отбора. Уже на предстоящий осенне-зимний период 2019–2020 годов мы планируем, что у нас отбор из подземок составит 843,3 миллиона кубометров.
В прошлом году мы ввели в эксплуатацию Бованенковское месторождение, опорное месторождение на Ямале. Владимир Владимирович, Вы очень хорошо знаете все характеристики этого месторождения. 4,9 триллиона кубометров – запасы газа. Эксплуатация месторождения рассчитана до 2124 года. Выведена на проектную мощность добыча на этом месторождении, 115 миллиардов кубометров газа. И сейчас, зимой, по суткам на этом месторождении можно добывать 317 миллионов кубометров газа.
Создали новые газотранспортные мощности для вывода газа с Ямала. В рамках Северного коридора мы ввели газопровод «Ухта – Торжок – 2». Северный коридор становится самым главным, самым важным для поставок газа российским потребителям, для распределения газа внутри страны ну и, конечно же, для поставок газа на экспорт.
В прошлом году мы раньше срока построили две нитки морского газопровода «Турецкий поток», в ноябре закончено строительство. И ещё одно очень важное событие – это ввод в конце прошлого года терминала по регазификации сжиженного природного газа в Калининградской области.
В.Путин: А как идёт работа по «Силе Сибири»?
А.Миллер: По «Силе Сибири» работа идёт с опережением графика. 1 декабря этого года начнутся поставки газа на экспорт в Китай с Чаяндинского месторождения, мы введём его в эксплуатацию. И, соответственно, мы начнём поставки газа в Китай. Без сомнения, это будет историческое событие, мы начинаем работать на ёмком газовом рынке. Темпы роста потребления на китайском рынке по итогам прошлого года – 17,5 процента, это самый динамичный, самый быстрорастущий рынок природного газа в мире. И мы видим большие перспективы для поставок российского газа.
В этом году также введём уже в эксплуатацию «Турецкий поток», и по двум ниткам будет поставляться 31,5 миллиарда кубометров газа. Будет построено продолжение в рамках северного коридора газотранспортных мощностей от Грязовца до компрессорной станции «Славянская». И, соответственно, это позволит обеспечить подачу газа в «Северный поток – 2» и также потребителям в Ленинградскую область.
В.Путин: Газификация как идёт внутри страны?
А.Миллер: Владимир Владимирович, программа газоснабжения и газификации регионов Российской Федерации – это программа, которая реализуется в 66 субъектах Российской Федерации, программа, в которой участвует «Газпром», с одной стороны, и регионы, с другой стороны. «Газпром» обеспечивает, как Вы знаете, функцию газоснабжения, доведения мощностей по высокой стороне до границ населённых пунктов. То, что касается уже непосредственно самой газификации, подготовки потребителей к приёму газа, то, что касается строительства внутрипоселковых сетей, строительства котельных, – это ответственность региональных властей.
По итогам прошлого года построено более 2 тысяч километров газопроводов, газифицировано 272 населённых пункта и газифицировано более 49 тысяч домовладений, построено 210 котельных. Мы на 1 января 2019 года имеем показатель газификации в среднем по стране 68,6 процента. В городе – 71,3 процента и на селе – 59,4. Вы помните, что когда Вы давали поручение активно работать по этой программе на селе, уровень газификации села был на 25 процентов ниже. Без сомнения, есть огромный потенциал прироста темпов газификации. Это, конечно же, связано в первую очередь с финансированием со стороны регионов. «Газпром» в прошлом году финансировал программу газификации на 36,7 миллиарда рублей. И, самое главное, мы можем увеличить финансирование и на 50 процентов, и даже в два раза, – но самое главное, чтобы в рамках программы синхронизации работ…
В.Путин: Регионы могли принимать.
А.Миллер: Чтобы регионы это могли принимать. И, конечно же, мы видим неполную загрузку тех газопроводов-отводов, которые создаёт «Газпром», они, конечно же, не на 100 процентов загружены. И, без сомнения, если бы те мощности, которые созданы «Газпромом» по высокой стороне, были бы подкреплены стопроцентным исполнением со стороны регионов, уровень газификации на селе уже на сегодняшний день составлял бы 65 процентов. То есть есть понимание того, что при увеличении объёма финансирования со стороны регионов программы газификации можно достаточно быстрыми темпами прирастить ещё дополнительно газификацию на селе.
В.Путин: Как Вы думаете, в этом году на сколько удастся увеличить объём, процент?
А.Миллер: На 1 процент, Владимир Владимирович, увеличится.
Когда мы начинали программу газификации, у нас прирост составил где-то 1,5 процента. Понятно, что удельные затраты, конечно же, возрастают, потому что это всё более и более удалённые населённые пункты. Год на год не приходится. В принципе, бывает в год 0,6 процента и 0,7 процента. То, на что мы рассчитываем по итогам 2019 года, – это плюс 1 процент.
Без сомнения, можно увеличить темпы роста, но, в любом случае, есть также понимание, что в течение десяти лет максимум мы можем выйти на такой уровень газификации, который бы позволил сказать, что этот вопрос в Российской Федерации полностью решён. Конечно же, можно эти сроки, без сомнения, приблизить, потому что мы понимаем, что, в любом случае, трубный сетевой газ в 100 процентах населённых пунктов у нас в стране не придёт. И это всё-таки и пропан-бутан, это сжиженный природный газ, то, что называется локальной газификацией. В этой связи, конечно же, роль, например, сжиженного природного газа, локальной газификации на данном этапе, в данный период газификации в стране приобретает всё большую и большую роль и значение.
В.Путин: У меня к Вам просьба. Подготовьте, пожалуйста, предложения компании «Газпром» по увеличению темпов газификации внутри страны, с тем чтобы мы могли синхронизировать эту работу и с Правительством, и с регионами Российской Федерации.

Подходы Индии к многостороннему сотрудничеству и евразийским институтам
Нандан Унникришнан – Почётный член исследовательского фонда Observer Research Foundation, Нью-Дели.
Ума Пурушотхаман – Старший преподаватель международных отношений Центрального университета Кералы, Индия.
Резюме Отношения между США и Россией сейчас переживают худшие с момента окончания холодной войны времена, между Китаем и США растёт напряжённость, Индия и Китай пытаются снова наладить отношения после периода напряжённости. Крупные державы напоминают сегодня несчастливые семьи из «Анны Карениной» Льва Толстого: «Каждая несчастливая семья (в данном случае великая держава) несчастлива по-своему».
Переменчивая природа мирового порядка и та неопределённость, которая в связи с этим возникает в международных делах, вынуждают разные страны перестраховываться, делая ставку одновременно на различные многосторонние и двусторонние проекты, а также создавая альянсы — как региональные, так и глобальные. Индия считает членство в таких ор.ганизациях очень полезным и за последнее время стала участником целого ряда таких фор.матов, хотя и по разным причинам. В настоящем исследовании рассматриваются прежние и нынешние подходы Индии к многосторонности, значение Евразии в контексте внешней политики страны и цели её вступления в некоторые многосторонние организации в Евразии.
Введение: многосторонность в международных отношениях
Структура системы международных отношений претерпевает масштабные измене.ния — беспрецедентные в новейшей истории. Эти трансформации стали следствием относи.тельного ослабления США и укрепления позиций таких держав, как Китай, Россия и Индия. Мир движется в направлении многополярности, пусть и асимметричной, которая в долго.срочной перспективе может трансформироваться в американо-китайскую биполярную систему. При нынешнем же раскладе своим положением не удовлетворена ни одна из великих держав: США хотят оставаться единственной сверхдержавой, Китай стремится к признанию себя в качестве второй сверхдержавы, Россия желает, чтобы США и Китай снова воспринимали её как равную, а Индия опасается гегемонистских претензий Китая. Эти устремления являются причиной сильного недоверия, существующего сегодня между крупнейшими державами: отношения между США и Россией сейчас переживают худшие с момента окончания холодной войны времена, между Китаем и США растёт напряжённость, Индия и Китай пытаются снова наладить отношения после периода напряжённости. Крупные державы напоминают сегодня несчастливые семьи из «Анны Карениной» Льва Толстого: «Каждая несчастливая семья (в данном случае великая держава) несчастлива по-своему».
Существует мнение, что недоверие и неудовлетворённость можно преодолеть путём расширения многостороннего взаимодействия, особенно на региональном уровне. Таким образом, страны вновь открывают для себя достоинства многосторонних форматов отношений[1] и видят новые преимущества слияния национальных суверенитетов в коллективных институционных объединениях[2], созданных с верой в то, что многосторонние организации и нормы могут способствовать урегулированию международных последствий стремительных перемен[3] и преодолению недоверия.
Такой подход к многосторонности зиждется на убеждённости в том, что государства, став членами одной организации, будут вынуждены друг с другом взаимодействовать: повышается их взаимозависимость, а издержки провокаций и актов агрессии друг против друга возрастают, вынуждая государства хорошо подумать, прежде чем решиться на враждебные действия. Государствам приходится сотрудничать, ибо они сталкиваются с общими проблемами, такими как истощение ресурсов, экологические трудности, пандемии, беженцы, незаконная миграция, а также традиционные угрозы безопасности. Впрочем, это увлечение многосторонними организациями основывается на реализме, понимании человеческой природы, что отражается в высказывании, приписываемом Сюнь-цзы, который советовал держать друзей близко к себе, а врагов ещё ближе. Вдобавок, членство в многосторонних организациях — вместе с враждебными государствами — позволяет добиваться не таких уж неблагоприятных результатов. Международные организации предоставляют информацию о целях других членов, что обеспечивает транспарентность, снижает уровень недоверия и пре.одолевает опасения, что их могут использовать в своих целях. Этим, вероятно, и объясняется взрывной рост региональных организаций в Евразии, ставшей главной ареной конкуренции между великими державами.
Подход Индии к многосторонности: краткий обзор
Индия является членом более 2000 международных организаций из 6000 существующих в мире в настоящее время. Но Индия не состоит ни в одном из коллективных оборонных союзов, в которых нападение на одного из участников альянса в силу самого этого факта считается нападением на всех остальных его членов.
В годы после обретения Индией независимости, когда мир пре.бывал в судорогах холодной войны, а сама страна оставалась ещё слабой и бедной, её руководство, осознавая силу многосторонности, сочло небесполезным присоединиться к ряду многосторонних и в основном крупных организаций, таких как Движение неприсоединения (ДН), «Группа 77», Межазиатская конференция (1947), Коломбская конференция (1954) и Бандунгская конференция стран Азии и Африки (1955). Лидеры Индии осознавали, что в одиночку страна мало что может сделать, чтобы заявить о себе. Однако в качестве участницы объединений, таких как ДН, Индия не только успешно доносила до мира свою точку зрения, к чему бывший в то время премьер-министром Джавахарлал Неру стремился в первую очередь. Как отмечают Мухерджи и Малоун, «на первых порах Индия взяла на вооружение принцип многосторонности, позволявший ей наращивать своё влияние в международных делах до тех пор,пока это влияние не станет приносить ощутимые результаты»[4].
А вот во вступлении в региональные группировки, наподобие Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), особенной заинтересованности у индийского руководства не было. Более того, Индия отказалась от приглашения стать членом АСЕАН, полагая, что АСЕАН создавалась под американским влиянием, в то время как Нью-Дели имел определённые идеологические разногласия с союзниками США в Юго.Восточной Азии. Руководство страны стало более активно добиваться членства в региональных организациях и содействовать созданию региональных союзов, вроде Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК), лишь к концу холодной войны, так как они рассматривались как средства продвижения национальных интересов. Окончание холодной войны, а потом и закат эпохи глобализации также ознаменовались учреждением ряда региональных группировок, поскольку их члены, в том числе и Индия, чувствовали потребность в создании взаимозависимостей в интересах процветания и гарантии безопасности. Когда в 1990-х гг. экономика Индии приобрела открытый характер, руководство страны осознало значение региональных организаций для целей развития и обеспечения стабильности на периферии. Неотъемлемой частью расширенной периферии Индии является Евразия.
Значимость Евразии для Индии
Значение Евразии[5] признаётся специалистами по геополитике с тех пор, как в 1904 г. британский стратег Хэлфорд Маккиндер заключил: «Тот, кто правит Восточной Европой, владеет Сердцем земли; тот, кто правит Сердцем земли, владеет Мировым островом (Евразией); тот, кто правит Мировым островом, владеет миром». В более позднее время бывший совет.ник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский назвал Евразию «великой шахматной доской», на которой разворачивается борьба за преобладание в мире. По его словам, «держава, господствующая в Евразии, будет контролировать два из трёх наиболее развитых и экономически продуктивных региона мира»[6].
О значении региона заговорили вновь с началом экономического подъёма Китая и Индии и перемещения туда центра мировой геополитики и геоэкономики. В регионе находятся шесть из девяти ядерных держав, он обладает огромными запасами энергоносителей, в нём сосредоточено 70% населения мира. Он же является ареной многих конфликтов и, соответственно, соперничества крупнейших держав. У Индии как восходящей силы, расположенной в Евразии, нет иного выбора кроме участия в многосторонних и двусторонних форматах отношений, сложившихся в регионе. Это особенно важно ввиду отсутствия здесь какой-либо сложившейся архитектуры безопасности. Поэтому Нью-Дели придаёт большое значение членству в большинстве из важнейших многосторонних организаций Евразии.
Ниже рассматриваются наиболее значимые многосторонние форма.ты сотрудничества Евразии, в которых участвует Индия.
Организация регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК)
К сожалению, успех не сопутствует СААРК, единственной региональной организации, объединяющей все южноазиатские страны в регионе, где во всех смыслах преобладает Индия. Южная Азия остаётся одним из наименее интегрированных регионов мира. Интеграции препятствует ряд факто.ров, том числе соперничество Индии и Пакистана; щедрые обещания Китая, соблазняющие ряд стран помельче играть в «неприсоединение»; неповоротливость Индии в осуществлении обещанных проектов и неспособность сравняться с Китаем в финансовых возможностях; а также отсутствие доверия между членами. Сейчас Индия и сама, как представляется, придаёт этой организации не столь большое значение, предпочитая иметь дело с другими региональными группировками, как, например, Инициатива Бенгальского залива по многоотраслевой технико-экономической кооперации (БИМТЭК), либо с субрегиональными группировками в рамках СААРК, наподобие Четырёхстороннего соглашения по развитию Южной Азии (South Asia Growth Quadrangle, SAGQ), в котором участвуют отдельные члены СААРК (Бангладеш, Бутан, Индия и Непал). Это, вероятно, объясняется желанием Индии сдержать распространение китайского влияния в Южной Азии, а также стремлением лишить Пакистан возможности препятствовать развитию этих объединений.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Индия стала «секторальным» партнёром по диалогу АСЕАН в 1992 г., полноправным партнёром по диалогу— в 1995 г., членом Регионального форума АСЕАН (АРФ) — в 1996 г., и членом-основателем Восточноазиатского саммита (ВАС) — в 2005 г. АСЕАН представляет для Индии важность в нескольких отношениях. Она соответствует целям индийского политического курса «Действуй на Востоке» (ранее — «Смотри на Восток»), направленного на развитие связей Индии со странами к востоку от границ страны. Задача состоит в том, чтобы выстроить сеть взаимозависимостей между восточными и северо-восточными провинциями Индии, с одной стороны, и процветающими странами Юго-Восточной Азии — с другой, и таким образом решить проблему вековой отсталости этих районов.
Политика реализуется посредством заключения ряда торговых договоров и осуществления проектов по развитию связанности, а на политическом уровне — путём укрепления двусторонних и многосторонних контактов с регионом. АСЕАН представляет для Индии ценность в силу того, что на её площадке встречаются все страны Юго-Восточной Азии и крупнейшие мировые державы. Более того, членство Индии в АРФ и ЕАС есть признак её выхода на мировую сцену в качестве крупного политического и экономического игрока, что придаёт ей определённый глобальный статус. Кроме того, Индия начинает играть более значимую геополитическую роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Обладание статусом партнёра АСЕАН также способствует сдерживанию полного доминирования Китая в регионе.
Треугольник Россия—Индия—Китай (РИК)
Концепцию РИК впервые сформулировал бывший премьер.министр России Евгений Примаков. РИК — это партнёрство трёх крупнейших стран Азии.Немаловажно то, что на эти три сопредельные страны приходится 19% мировой суши и примерно 37% мирового населения. Все три являются ядерными державами, а две — Россия и Китай — постоянными членами Совета Безопасности ООН, тогда как Индия также стремится получить такой статус. На первый взгляд, РИК едва ли может стать серьёзным объединением, учитывая не совсем безоблачные отношения, существовавшие в прошлом между Индией и Китаем и между СССР и Китаем. Однако «тройку» связывает воедино крепнущее партнёрство Пекина и Москвы и давние отношения дружбы между Россией и Индией. Поэтому в определённом смысле Россия играет роль моста между Индией и Китаем, с которыми у неё налажены прочные связи.
Достоинство такого трёхстороннего объединения заключается в том, что оно может стать важным форумом для обсуждения основ архитектуры безопасности в Евразии,так как все три страны уже являются,хотя и в разной степени, важными игроками на евразийской арене. Бывший посол Индии в России Аджай Малхотра считает, что РИК может быть также полезен для выработки региональных подходов к некоторым проблемам и для борьбы с региональными измерениями таких глобальных бедствий, как наркоторговля, терроризм, киберпреступность и других[7]. Постоянное взаимодействие между членами РИК могло бы позволить им выйти на сотрудничество по другим проблемам, по которым они имеют общие взгляды, таким как не.стабильность на Ближнем Востоке. Важная мысль, указывающая на потенциал данного формата, содержится в заявлении министров иностранных дел РИК 2016 г., призвавших к сотрудничеству во имя «установления мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и построения открытой, инклюзивной, неделимой и транспарентной архитектуры безопасности и сотрудничества в регионе»[8]. Ранее также было выражено намерение прилагать усилия в рамках ВАС в деле построения региональной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе[9].
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
ШОС создавалась как второстепенная многосторонняя структура, призванная содействовать разрешению пограничных проблем между Китаем и государствами Центральной Азии. С тех пор она превратилась в главный инструмент развития отношений Китая с Центральной Азией и распространения сотрудничества за пределы экономической области в сферы политики и безопасности[10]. Индия стала в ШОС государством-наблюдателем в 2005 г., а полноправным членом — в 2017 г. ШОС обеспечивает Индии официальный и структурно оформленный доступ в Центральную Азию, которую Нью-Дели рассматривает как часть своего расширенного окружения. Индия также рассчитывает, что ШОС сыграет центральную роль в деле стабилизации обстановки в Центральной Азии и Афганистане и проследит за тем, чтобы последний не попал в тиски экстремизма. Индия долгие годы страдала от жестоких террористических атак и осознаёт, какое воздействие это оказало на психо.логическое состояние и развитие страны. Таким образом, искоренение религиозного экстремизма и терроризма является общей целью России, Китая и Индии.
Кроме того, Индия надеется, что стабильность в Центральной Азии будет способствовать освоению энергетических ресурсов региона, которые нужны ей для дальнейшего развития. Более того, ШОС предоставляет Индии дополнительную площадку для переговоров с Китаем, а также для того, чтобы отслеживать стратегию и тактику Пекина в регионе, которые могут иметь определённые последствия для Индии. Наконец, членство Индии в ШОС расширяет круг стран, вовлечённых в дела Центральной Азии, и предоставляет государствам региона более разнообразный выбор. Вдобавок, более деятельное участие Индии в жизни Центральной Азии является фактором, препятствующим появлению ка.кого-либо одного гегемона, а такое развитие событий, возможно, приветствовало бы большинство стран. Кроме того, в отличие от группировок типа АСЕАН, ШОС в большей степени сосредоточена на обеспечении безопасности, и в этом состоит её ценность для Индии[11].
Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА)
Индия является одним из главных участников СВМДА с момента его учреждения. Значение СВМДА заключается в том, что оно могло бы стать матрицей азиатской системы безопасности. Этот формат объединяет страны СААРК, Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), Китай, Россию,Турцию, Вьетнам, Монголию и Израиль, то есть представителей всех основных регионов Азии. Не считая ШОС, СВМДА является наиболее важной площадкой для международного сотрудничества в Азии, в состав которой не входят США и их главный союзник — Япония[12]. Впрочем, поскольку ООН, США и Япония участвуют в деятельности СВМДА в статусе наблюдателей, ни одна страна не может диктовать повестку дня. Индия считает СВМДА полезной площадкой, обеспечивающей реализацию мер доверия государствами-членами и способной содействовать постепенному построению «основанного на сотрудничестве и плюрализме порядка безопасности в Азии, который зиждился бы на принципах взаимного доверия, взаимопонимания и суверенного равенства»[13], а также мира и стабильности в Азии.
На заседаниях СВМДА Индия поднимает важные для себя вопросы, в том числе борьба с терроризмом, включая ядерный терроризм, глобальный финансовый кризис, изменение климата и ситуация на Ближнем востоке, так как руководство страны рассматривает эти явления в качестве трансрегиональных и транснациональных вызовов, справиться с которыми можно только совместными усилиями. Индию, претерпевшую непомерные страдания со стороны террористов, устраивает контртеррористическая нацеленность СВМДА. Индия проводит меры доверия в области энергетической безопасности и транспорта. Наряду с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и Новым банком развития, СВМДА можно рассматривать как модель реализации совместных усилий Индии, Китая и других важнейших региональных держав в деле создания альтернативных структур[14]. Подобно ШОС, внимание СВДМА сосредоточено на обеспечении безопасно.сти, и это тоже важно для Индии. До сих пор Нью-Дели не придавал СВДМА большого значения, тогда как эта организация требует более пристального внимания с тем, чтобы не допустить появления в её повестке каких-либо во.просов, противоречащих индийским интересам. Возможно, в будущем ШОС и СВДМА могли бы координировать свою деятельность или даже проводить совместную работу, что также отвечает потребностям Индии[15].
Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
ЕАЭС включает в себя Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению и прежде всего сосредоточен на осуществлении региональной экономической интеграции. Индия ведёт с ЕАЭС переговоры о заключении соглашения о свободной торговле. Она надеется получить доступ к обширным запасам природных ресурсов ЕАЭС, таких как нефть, газ, электроэнергия, минеральные удобрения, уголь, железо, сталь и другие, а также выйти на рынок стран-членов объединения. Как только будет введён в эксплуатацию транспортный коридор Север — Юг, торговый оборот между Индией и ЕАЭС получит невиданный приток ввиду того, что расстояние между ней и странами ЕАЭС сократится на 40%, время товарообмена — на 50%, а транс.портные издержки — на 30%[16]. ЕАЭС становится важным игроком в регионе по нескольким причинам: а) он занимает обширное географическое пространство; б) он участвует в осуществлении инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП); в) растёт его экономический охват (уже заключено соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, интерес к сотрудничеству проявляют Иран и Турция).
Четырёхсторонний диалог по безопасности (Quad)
Из всех евразийских многосторонних организаций с участием Индии одной из наиболее обсуждаемых в последнее время является Четырёхсторонний диалог по безопасности, включающий Индию, Австралию, Японию и США. Объединяет эти страны их общая озабоченность возвышением Китая и общие политические ценности, так как эти четыре страны являются демократическими государствами. Практически Четырёхсторонний диалог опирается на опыт сотрудничества ВМС участвующих государств при проведении спасательных операций и оказании помощи пострадавшим от цунами в 2004 г. Сама организация была создана в 2007 г., но просуществовала не.долго, поскольку из-за сопротивления Китая её вскоре покинула Австралия. Однако в 2017 г. во время проведения Регионального форума АСЕАН она получила новую путёвку в жизнь. Основу формата составляют трёхстороннее взаимодействие Индии, Японии и Австралии. Идейные принципы деятельности группировки изложены премьер-министром Японии Синдзо Абэ в книге 2006 г. «Вперёд, к прекрасной стране». Позднее, в 2007 г., выступая перед индийским парламентом, Абэ констатировал, что на глазах у всех, через «динамическое слияние» Тихого и Индийского океанов, происходит формирование «Большой Азии», и призвал к партнёрству между Японией и Индией (а также Австралией и США) на пути построения «дуги свободы и процветания»[17].
Члены Четырёхстороннего диалога заявили о своей приверженности «свободе и открытости» в регионе на основе «соблюдения между.народного права», а также верности «основанному на правилах порядку в Индо-Тихоокеанском регионе». Это открытый намёк на их обеспокоенность решительными действиями Китая в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Однако данный формат, хотя и был возрождён, находится всё ещё в зачаточном состоянии, а его члены, по-видимому, пока не определились с тем, каковы их основные задачи: безопасность на море, обеспечение связанности, противодействие действиям Китая в Индо-Тихоокеанском регионе и инициативе ОПОП, или все эти пункты[18]. Впрочем, ценность данного фор.мата в том, что, хотя он вряд ли станет орудием жёсткого сдерживания Китая, он продемонстрирует напористому Пекину — путём изложения высоких принципов и проведения регулярных военно-морских учений, — что имеется альтернативный центр, чей потенциал при необходимости можно будет задействовать[19].
В Четырёхстороннем диалоге воплощено желание Индии не допустить чьего-либо преобладания в Индо-Тихоокеанском регионе и повысить уровень доверия к Индо-Тихоокеанскому концепту, который помещает Индию в центр региональной системы безопасности. Это является ответом на угрозу безопасности, исходящую от бурно развивающегося Китая и проявление со стороны Индии готовности взять на себя большую ответственность за безопасность в регионе[20]. Вдобавок, некоторые политологи считают, что Индия должна заполнить бреши, остающиеся после отступления США, и что данный формат будет для этого подходящим орудием. Более того, Четырёхсторонний диалог вписывается в новую стратегию президента Дональда Трампа по восстановлению влияния США в Восточной Азии: он подчёркнуто говорит об «Индо-Тихоокеанском», а не «Азиатско-Тихоокеанском» регионе и проводит новую стратегию на Корейском полуострове, которая ослабляет позиции Китая.
Европейский союз
Если в интересах Индии предотвратить возникновение гегемонии, в особенности китайской, то последним полем боя в этой борьбе станет Европа. Хотя Форум «Азия—Европа» (АСЕМ) представляет общую площадку для диалога между Индией и другими азиатскими странами с европейскими партнёрами, у него пока отсутствует институциональная структура и чёткая ориентация. С учётом намерений Индии предотвратить китайскую гегемонию в Евразии, ей необходимо значительно усилить своё экономическое и политическое влияние в Европе.У Нью-Дели налажены прочные связи с ЕС, стороны проводят консультации по вопросам безопасности, в особенности кибербезопасности, но этот аспект пока не получил серьёзного развития. Также необходимо, чтобы Индия, в числе прочего, обсуждала с ЕС будущее Евразии. Таким образом, её экономические и политические связи с Европой должны быть подкреплены договорённостями в сфере безопасности.
Недавно Индия предприняла первые шаги в этом направлении, заключив соответствующие соглашения с Францией. В числе прочего подписана индийско-французская Совместная стратегическая концепция сотрудничества в регионе Индийского океана. Кроме того, обе страны обязались открыть друг другу доступ на свои военно-морские объекты. Между тем Нью-Дели необходимо достичь аналогичных договорённостей с другими крупнейшими европейскими державами, в первую очередь с Германией и Великобританией, для которых «индийская карта» в их отношениях с США и Китаем была бы выгодным направлением внешней политики.
Концепция многосторонности на море
В дополнение к названным многосторонним структурам Индия возглавила создание многосторонних институтов вроде Ассоциации стран бассейна Индийского океана (Indian Ocean Rim Association, IORA) и Военно.морского симпозиума стран Индийского океана (Indian Ocean Naval Symposium, IONS). В этих структурах отражаются желание и намерение Индии стать глобальным игроком в Индо-Тихоокеанском регионе, который она считает своей сферой влияния, и отстоять свои военно-морские интересы в условиях нарастания мощи военно-морского флота Китая. Некоторые политологи утверждают, что эти шаги «выдают желание Индии окружить себя коалициями со своим участием и выступить своего рода ‘координатором усилий по наращиванию военной мощи’, направленной против Китая».Указывается также, что обе эти инициативы «систематически исключали державы, которые, по мнению Индии, к не принадлежат к данному региону, включая Китай, США, Великобританию и Францию»[21]. Более того, Индия предпринимает меры для того, чтобы наглядно показать, что является крупной морской державой. Она стала инициатором проведения каждые два года военно-морских учений «Милан» с участием ВМС четырёх стран. В 2018 г. в этих учениях уже участвовали флоты 17 стран. Кроме того, совместно с ВМС США и Японии проводятся Малабарские военно-морские учения.
Заключение
Участие Индии в многосторонних форматах не означает, что двусторонние отношения отходят для неё на второй план. Многосторонняя дипломатия лишь дополняет её двусторонние усилия в Евразии и за её пределами. Отношение Индии к многосторонним организациям в Евразии является производным от потребности в наличии стабильной и процветающей периферии и обширного географического окружения, поскольку они влияют на её без.опасность и экономическое развитие. Более того, ввиду отсутствия в Евразии единой всеобъемлющей структуры безопасности Индия вынуждена развивать отношения со многими многосторонними организациями.
Нью-Дели надеется оказывать существенное влияние на экономическую динамику этих многосторонних форматов и предпринимаемые меры по обеспечению безопасности, влиять на формирование регионального по.рядка, уделяя особое внимание политике своих противников. С точки зрения Индии, членство в каждой многосторонней организации имеет собственные преимущества. Одни, такие как ЕАЭС, занимаются исключительно экономикой, другие, в частности Четырёхсторонний диалог, сосредоточены на обеспечении безопасности. Форматы, вроде РИК, позволяют Индии играть глобальную роль, а другие воплощают все три эти функции. Таким образом, Нью-Дели рассматривает многосторонность в Евразии с исключительно функциональной точки зрения. Подход Индии к многостороннему сотрудничеству и многосторонним институтам в Евразии нельзя назвать «обструкционистским» — в отличие от её отношения к Всемирной торговой организации или к переговорам по соглашению об изменении климата на их ранней стадии. Это означает, что она либо играет положительную роль в формировании повестки дня этих многосторонних организаций, либо её подходы получают признание других членов.
Можно заключить, что участие Индии в многочисленных евразийских многосторонних структурах можно рассматривать как, во-первых, подтверждение её возросшего авторитета на мировой арене и, во-вторых, как отражение потребности в демонстрации своего повсеместного присутствия, что создаёт ей репутацию серьёзного глобального игрока. Наконец, важен и двусторонний формат взаимодействия, который может повлиять на место Индии в Евразии, в частности с Китаем, Россией, Японией, Европой (либо с ЕС, если в его рамках будет развито измерение безопасности, либо с Францией, Германией или Испанией/Италией отдельно), Ираном и Саудовской Аравией, а на более низком уровне — с Индонезией, Австралией, Южной Кореей, Турцией, и рядом других. Однако настоящим испытанием на наличие у Индии статуса великой державы станет реализация способности самостоятельно создавать многосторонние организации, «защищающие её интересы и выражающие её ценности»[22], как это делали в послевоенную эпоху США, а сейчас — посредством проекта ОПОП и АБИИ — делает Китай.
Данный текст отражает личное мнение автора, которое может не совпадать с позицией Клуба, если явно не указано иное.
Данный материал вышел в серии записок Валдайского клуба, публикуемых еженедельно в рамках научной деятельности Международного дискуссионного клуба Валдай. С другими записками можно ознакомиться по адресу http://valdaiclub.com/publications/valdai-papers
[1] Роберт Кохейн определяет многосторонность как «практику координации национальных политик в группах из трёх и более государств». См.: Keohane R.O. Multilateralism: An Agenda for Research // International Journal. 1990. No. 45. P. 731.
[2] Hampson F.O., Heinbecker P. The "New" Multilateralism of the Twenty-First Century // Global Governance. 2011. Vol. 17. No. 3 ‘Emerging Powers and Multilateralism in the Twenty-First Century’. Pp. 299–310. P. 299.
[3] Ruggie J.G. Multilateralism: the anatomy of an institution // International Organization. 1992. Vol. 46. No. 3. Pp. 561–598. P. 561.
[4] Mukherjee R., Malone D.M. From High Ground to High Table: The Evolution of Indian Multilateralism // Global Governance. 2011. Vol. 17. No. 3 ‘Emerging Powers and Multilateralism in the Twenty-First Century’. Pp. 311–329. P. 311.
[5] Для целей настоящего исследования Евразия определяется как сплошное пространство от Лондона до Токио.
[6] Brzezinski Z. The Grand Chessboard. New York: Basic Books, 1997. P. 31.
[7] Malhotra A. India-Russia-China: Is there a Case for Strategic Partnership? New Delhi: Vij Books, 2015. P. 37.
[8] Mitra D. Consultations on Asia, Illegal Drug Trade and Cyber Security: Key Takeaways from Russia-India-China Summit // The Wire. 2016. April 20. URL: https://thewire.in/30443/consultations-on-asia-illegal-drug-trade.and-cyber-security-key-takeaways-from-russia-india-china-summit
[9] Ibid.
[10] Payne J.S. Eurasia: The Hype of Continentalism // The Diplomat. 2015. February 3. URL: https://thediplomat. com/2015/02/eurasia-the-hype-of-continentalism/
[11] Ayres A. Our Time Has Come: How India is Making Its Place in the World. New York: Oxford University Press, 2018. P. 174.
[12] Chunshan M. What is CICA (and Why Does China Care About It)? // The Diplomat. 2014. May 17. URL: https:// thediplomat.com/2014/05/what-is-cica-and-why-does-china-care-about-it/
[13] Statement by H.E. Mr. Anand Sharma, Minister of Commerce and Industry of India. Secretariat of Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia. URL: http://www.s-cica.org/page.php?page_ id=292&lang=1
[14] Ayres A. Our Time Has Come: How India is Making Its Place in the World. New York: Oxford University Press, 2018. P. 174.
[15] Ibid
[16] India for Early FTA with Five-Nation Eurasian Economic Union // Business Standard. 2017. June 1. URL: http://www.business-standard.com/article/pti-stories/india-for-early-fta-with-five-nation-eurasian-economic.union-117060100621_1.html
[17] Choong W. The Revived ‘Quad’ – and an Opportunity for the US // International Institute for Strategic Studies. 2018. January 10. URL: https://www.iiss.org/en/iiss%20voices/blogsections/iiss-voices-2018-2623/january-c361/ the-revived-quad-opportunity-for-the-us-ab39
[18] Более подробно см.: Haidar S. Quad Confusion // The Hindu. 2017. November 23. URL: http://www.thehindu. com/opinion/op-ed/quad-confusion/article20723202.ece
[19] Choong W. The Revived ‘Quad’ – and an Opportunity for the US // International Institute for Strategic Studies. 2018. January 10. URL: https://www.iiss.org/en/iiss%20voices/blogsections/iiss-voices-2018-2623/january-c361/ the-revived-quad-opportunity-for-the-us-ab39
[20] Unjhawala Y.T. Quad Needs Both Economic & Military Plan for Indo-Pacific // Economic Times. 2018. February 23. URL: https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/quad-needs-both-economic-military.plan-for-indo-pacific/articleshow/63049831.cms
[21] Alhasan H. Multilateralism in a Post-Hegemonic World // Asia Dialogue. 2017. June 19. URL: http:// theasiadialogue.com/2017/06/19/multilateralism-in-a-post-hegemonic-world/
[22] Sidhu WPS. Why Multilateralism Matters for India // Brookings. 2014. July 7. URL: https://www.brookings.edu/ opinions/why-multilateralism-matters-for-india-2/

Хотим, как в Бутане!
Александр Киденис
В чем разница между цифрой в отчете и жизненным благополучием
Нам выпало время перемен — больших и малых, счастливых и не очень. К примеру, всего-то лет десять назад в моде была байка про шпиона, сообщавшего из Москвы в Вашингтон: «Никак не пойму, что такого страшного говорит русский президент народу в новогоднем обращении, после чего вся страна на две недели уходит в запой». И ведь уходила! А где нынче те анекдоты и те загулы?
Изменился не только календарь, по которому новогодние каникулы сокращены почти вдвое. Урезаны и алкогольные аппетиты: в 2008-м россияне потребляли по 18 литров на душу в пересчете на спирт, в 2018-м — чуть больше 10 литров (данные Всемирной организации здравоохранения). Из-за чего уходит в историю и послепраздничный диагноз среднестатистического россиянина «недоперепил» — это когда выпил больше, чем мог, но меньше, чем хотел.
Зато правительство в канун праздников бодро рапортует о снижении цен на красную икру (вдвое!) и красную рыбу горбушу ввиду рекордного улова. «Россия впервые за 20 с лишним лет сможет выполнить рекомендованную Минздравом норму по годовому потреблению рыбы на душу населения — 22 кг», — сообщает Росрыболовство. Такое всем нам небывалое гастрономическое счастье обещано в наступающем году.
Но одновременно главный банкир Эльвира Набиуллина спрогнозировала: в грядущем году в России вырастут цены на бензин и сигареты, вино и автомобили, а общая инфляция ускорится до 5,5-6%. По данным Росстата, следующий год может стать шестым подряд по падению реальных доходов населения. А исследования портала Rabota.ru показывают: каждый четвертый работодатель в России (23%) намерен в 2019-м сократить штат сотрудников. Сложные времена переживает малый бизнес, напрямую зависящий от потребительского спроса.
Как это ни удивительно, но Россия остается страной оптимистов, и в канун праздника пожелания всяческого счастья сыплются на всех и отовсюду — в основном «сверху донизу». Правда, не хватает конкретности: какого именно счастья хочется лично вам? Сменить работу или гражданство? Влюбиться или развестись? Найти клад? Помочь ближним?
Вот как раз помочь взрослым дядям попытался питерский школьник Марк Бондаренко, рассыпавший со второго этажа торгового центра «Галерея» на головы покупателям 600 тысяч рублей мелкими купюрами. «Отец учил меня делиться деньгами», — пояснил 17-летний мажор подоспевшим журналистам. Увы, вскоре выяснилось, что в денежном дожде настоящими оказались 86 тысяч, остальные — из «Банка приколов». Вместо массовой раздачи счастья получилась коллективная давка за подлинные купюры, местами переходящая в драку.
Зато в Москве на 13-й Парковой все оказалось взаправду: здесь волонтерская организация Маргариты Чукановой перенесла в настоящую рождественскую сказку семью из шести человек (три поколения), которую много лет живьем заедали полчища клопов. Добровольцы вынесли и сожгли мебель и имущество, очистили загаженную квартиру до кирпича и бетона, продезинфицировали, капитально отремонтировали. И на скромные деньги, собранные по подписке, приготовили для другой жизни — со скромной, однако новой мебелью и бытовой техникой, простынями, занавесками, скатертями, столовой и кухонной посудой и т. д. Все члены семьи получили новую одежду — от трусов и носков до зимних пальто и обуви. Вчера у них состоялось новоселье.
Это было почти как в телепередачах «Идеальный ремонт» или «Квартирный вопрос», но не в рекламно-коммерческом, а в реально-благотворительном варианте. До прихода волонтеров семья была уверена: так, как она живет, жить можно, а ей показали: нужно жить по-другому. И от всей души пожелали: «С новым счастьем!»
Нового счастья в России нынче не хватает многим, да и со старым ощущается острый дефицит. Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International ежегодно проводит по этому вопросу репрезентативные опросы населения в 55 странах мира. И если в среднем по этим странам счастливыми называют себя 59% респондентов, то в России пока лишь 50%.
Хотя по общим экономическим показателям наша страна входит в десятку лидеров. Но, как отмечает вице-президент Gallup International Андрей Милехин, «анализ мирового индекса счастья указывает на отсутствие его прямой зависимости от дохода и общего благосостояния — это больше ощущения развития и справедливости».
Взять, к примеру, маленькое Королевство Бутан, расположенное в Гималаях, между Индией и Китаем. Площадь — 38 394 кв. км, население — 700 тысяч человек. По населению это как наша Амурская область, а по площади — раз в десять меньше. Аграрная страна с неразведанными недрами и отсутствием крупных промышленных предприятий, за исключением гидроэнергетики. По данным Всемирного банка, ВВП этой страны на душу населения составляет 6,5 тысячи долларов (почти вдвое меньше российского). Но в Бутане свои понятия о благополучии: вместо ВВП (валовой внутренний продукт) они ввели показатель ВНС — «валовое национальное счастье». Главной задачей правительство считает стремление к счастью каждого своего гражданина, что закреплено в статье 9 Конституции.
Еще 10 лет назад монаршим указом была создана государственная Комиссия по всеобщему народному счастью во главе с премьером. А позже появилось Министерство счастья и специальный Центр исследований, выявляющий степень довольства сограждан своей жизнью, а также факторы, мешающие бутанцам быть счастливыми: от состояния экологии до здоровья и отношений в семье. Каждая экономическая программа составляется с учетом защиты окружающей среды и культурных традиций. И вот что показала перепись, во время которой социологи задавали вопрос: «Счастливы ли вы?»: 45,2% ответили «очень счастливы», 51,6% — «счастливы» и только 3,3% — «не очень счастливы».
Причем это не шутки — это главный ориентир для власти. И в Бутане уже несколько раз проводились международные конференции с участием многих видных экономистов (включая нобелевских лауреатов по экономике) с целью выработки методик расчета «валового национального счастья» на основе сочетания экономической ситуации в стране и удовлетворенности жизнью населения.
Тем временем в России регулярно публикуются прогнозы роста по разным показателям — сокращению госдолга, росту валютных резервов, увеличению производства алюминия, экспорта газа или зерна. Причем речь давно не идет об удвоении ВВП. Все макроэкономические достижения — в очень скромных размерах, часто в пределах статистической погрешности. Разве что за исключением криминальных показателей неуемного обогащения чиновничества — здесь все показатели зашкаливают.
Неудивительно, что, по данным опросов Левада-Центра, за последнее десятилетие число россиян, сожалеющих о распаде Советского Союза, достигло максимума — 66%. Как уверяют социологи, это уже не ностальгия по прошлому, а всеобщий плач по настоящему.
Зато в Бутане практически отсутствуют преступность и коррупция (в рейтинге Transparency International страна занимает 32-е место в мире, уступая в Азии Сингапуру, Гонконгу, Макао и ОАЭ). Для сравнения: Россия в этом рейтинге занимает 135-ю строчку.
Курение в Бутане запрещено еще 300 (!) лет назад. Половина территории объявлена национальными парками. В страну законодательно запрещен ввоз химических удобрений — и вся сельскохозяйственная продукция является экологически чистой, что выгодно для экспорта.
Охота, как и вырубка лесов, в Бутане запрещена по религиозным соображениям, и большинство здешних жителей — вегетарианцы. Но мясо завозится из-за рубежа и вполне доступно. Среднемесячная зарплата (после уплаты налогов) городского жителя в Бутане составляет 27 тысяч рублей, а обед в недорогом ресторане, по данным туристических изданий, обойдется в 263 рубля с человека, ужин на двоих в ресторане среднего класса — в 956 рублей (без спиртного). Кружка местного разливного пива стоит 69 рублей, а импортного (бутылка 0,33) — 100 рублей.
При достаточно скромных государственных доходах в королевстве образование и здравоохранения бесплатные. Личные доходы облагаются налогами лишь после превышения прожиточного минимума. Размер коммунальных платежей за квартиру площадью 85 кв. метров укладывается в 4 тысячи рублей в месяц, как и абонемент в фитнес-центр. Цена недвижимости в центре столицы — около 150 тысяч рублей за квадратный метр (на окраине — 60 тысяч). Годовая инфляция — 4%.
P.S. Вот такие цены на здешнее счастье. Неудивительно, что наши туристы, возвращаясь из этой страны, первым делом предлагают по примеру бутанцев завести в России свое Министерство счастья. И, быть может, даже заменить им разом все российское правительство. Понятно, что это пока лишь мечта. Но когда же людям помечтать, как не в канун Нового года?

Марина Седых: Наличие независимых компаний – показатель зрелости экономики
Независимые (неинтегрированные, малые и средние) нефтяные компании составляю очень скромный сегмент в российском нефтегазовом комплексе: на его долю приходится 4% общей нефтедобычи. Считается, что в отличие от крупных ВИНК такие компании наиболее чувствительны к кризисам и фискальным нововведениям. Однако независимый сектор сохраняется, а его ядро оставляют немногие стабильно работающие компании.
Как живется независимым НК нынешних реалиях, как строятся и реализуются стратегия и инвестиционные планы самого крупного представителя этого сегмента отрасли «Иркутской нефтяной компании», корреспондент «НиК» беседует с генеральным директором «ИНК» Мариной Седых.
«НиК»: Марина Владимировна, за период с 2010 года «ИНК» более чем в 10 раз нарастила добычу, несмотря на непростые для отрасли времена. За счет чего достигнуты эти успехи?
– Толчком для наращивания объемов добычи углеводородного сырья стало строительство нефтепровода ВСТО. «ИНК» получила техусловия на подключение к ВСТО в октябре 2009 года, а уже в январе 2011 нефть с наших месторождений начала поступать в эту магистраль. Мы в очень сжатые сроки построили подводящую трубу протяженностью 62 км и пункт сдачи-приемки сырья. На моей памяти это была самая быстрая стройка. С запуском ВСТО появилась возможность увеличить сбыт.
Положительную роль сыграли и резкий рост цен на нефть, и пакет льгот для восточносибирских месторождений.
Обнуление НДПИ на нефть – это было колоссальное решение российского правительства, самая главная и самая большая льгота, которая стимулировала развитие нефтедобычи в Восточной Сибири.
Это позволило нам пересмотреть свои инвестиционные планы. Появилось больше средств на бурение новых скважин, строительство инфраструктурных объектов.
Приемо-сдаточный пункт Марковское (точка врезки в ВСТО)
«НиК»: Помешало ли реализации производственных планов компании соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи? Можно ли сказать, что, если бы не оно, добыча в прошлом году превысила бы фактические 8,5 млн тонн?
– Компания полностью выполняет свои обязательства по сокращению добычи в соответствии с заключенным соглашением. Россия присоединилась к этому соглашению в декабре 2016 года, и тогда же, в четвертом квартале, «ИНК» достигла максимальных объемов добычи сырья. Как известно, процент сокращения объемов добычи был рассчитан от уровня, достигнутого российскими компаниями на момент присоединения к соглашению. Во всем есть свои плюсы: перестав работать на увеличение количества, мы получили возможность более плотно заняться качеством. Сегодня «ИНК» вышла на достаточно хороший уровень добычи относительно своих масштабов, затрат и так далее и чувствует себя в этом отношении вполне комфортно.
«НиК»: В прошлом году чистая прибыль компании по РСБУ снизилась на 3,3% в сравнении с 2016 годом. Чем объясняется снижение?
– До 2016 года включительно при составлении отчетности по РСБУ учитывались показатели всех предприятий, входящих в группу компаний «ИНК». С 2017 года учитываются только показатели ООО «ИНК», поэтому и получилась отрицательная динамика.
«НиК»: Как влияют кризисные явления общего рынка на стратегию компании? После падения нефтяных цен 2014 года сократились ли инвестиции в геологоразведку, эксплуатационное бурение?
– Мы практически без потерь пережили кризис 2008 года, поэтому к новому падению цены на нефть четыре года назад были в принципе готовы. Когда цены в очередной раз начали снижаться, паники не было. Сохранялись инвестиции, которые давали нам максимальную отдачу. Объемы добычи продолжали расти, поскольку именно они влияли на выручку.
Мы продолжили строительство инфраструктурных объектов, программы по бурению выполнялись в полном объеме. Были моменты, когда приходилось приостанавливать «проекты будущего» – объекты газового бизнеса, доразведку, особенно на периферийных участках. Но эти проекты мы притормаживали лишь до тех пор, пока не увидели, что период «самого дна» прошли относительно безболезненно.
Для нас всех это было очень хорошим уроком. Мы поняли, что можно работать в более бережливом режиме. Кризис позволил увидеть дополнительные резервы в снижении себестоимости, инвестиционных расходов.
И еще мы поняли, что нам нужно как можно скорее диверсифицировать бизнес. Сейчас, по сути, добыча нефти кормит все остальные проекты. Наша перспективная задача – чтобы газовый бизнес также начал приносить прибыль.
«НиК»: На каком этапе развития сегодня находится ваш газовый бизнес, каковы дальнейшие планы?
– В рамках первого этапа проекта на Ярактинском НГКМ построена установка подготовки природного и попутного нефтяного газа производительностью 3,6 млн куб.м/сут по сырью (УПППНГ-3,6) и резервуарный парк для хранения СПБТ (смеси пропана и бутана технической). Установка позволяет извлекать и подготавливать товарные СПБТ и газовый конденсат из смеси природного газа и попутного нефтяного газа. Газоконденсат, как товарный продукт, временно направляют в трубопроводную систему ВСТО. СПБТ транспортируется по продуктопроводу протяженностью 193 км от Яракты через Марковское месторождение до комплекса приема, хранения и отгрузки сжиженных углеводородных газов в Усть-Куте.
Установка подготовки нефти на Ярактинском НГКМ
Второй этап заключается в пятикратном увеличении объемов переработки сырья и выделении товарного пропана и бутана. Для этого до конца 2019 года предполагается построить еще три газовые установки, на Ярактинском и Марковском месторождениях, общей производительностью 18 млн куб.м/сут.
Третий этап предполагает строительство в Усть-Куте завода полимеров (полиолефинов), который будет выпускать полиэтилен низкой и высокой плотности. ООО «ИНК» и японская Toyo Engineering Corporation договорились о сотрудничестве в рамках этого этапа проекта. До конца 2018 года планируется подписать комплексный контракт на инжиниринг и закупку оборудования для первого блока завода – установки по производству этилена из этана, добываемого на месторождениях «ИНК». Уже проведены предварительные переговоры с потенциальными покупателями готовой продукции, которые способны приобретать весь объем выпускаемого на заводе полиэтилена.
На четвертом этапе планируется увеличить глубину переработки газа.
«НиК»: Недавно «ИНК» договорилась с China Pingmei Shenma Group о создании СП в области газопереработки. О каких совместных проектах идет речь?
– Сотрудничество с китайской стороной может быть реализовано на четвертом этапе газового проекта, в том числе в программах по утилизации метана.
«НиК»: В прошлом году «ИНК» произвела и отгрузила потребителям первую партию пропан-бутановой смеси. Сегодня на Дальнем Востоке строятся несколько морских терминалов по перевалке СУГ, на северо-востоке Китая в ближайшее время должен начать работу железнодорожный терминал для этой продукции. Планируете ли пользоваться этими направлениями экспорта?
– Мы рассматриваем все логистические варианты реализации своей продукции конечному потребителю.
«НиК»: Из каких средств финансируется газовый проект? Изменилась ли его ранее озвученная стоимость – 300 млрд руб.?
– Проект реализуется в основном на собственные средства, с небольшим привлечением кредитных ресурсов. На сегодняшний день в рамках первого и второго этапа освоено 44 млрд рублей. Весь проект оценивается в 361 млрд. На третьем и четвертом этапах рассматриваем вариант привлечения заемных средств.
Комплекс приема, хранения и отгрузки СУГ, Усть--Кут
«НиК»: В числе акционеров «ИНК» – ЕБРР, банк Goldman Sachs, ваш традиционный партнер японская госкорпорация JOGMEC; технологии для газового проекта предоставляют западные компании. Осложнились ли отношения с зарубежными структурами после введения санкций в отношении РФ?
– С точки зрения финансирования проектов санкции не оказывают заметного влияния на деятельность «ИНК». Оборудование и технологии, как импортные, так и российские, для проектов газового бизнеса приобретаем в полном объеме. Средства привлекаются как в иностранных, так и в отечественных банках. Ограничений на этот счет не испытываем.
Основное оборудование для бурения и ремонта скважин либо заказываем у российских производителей, либо по заказу компании оно изготавливается в Китае. Из стран ЕС и США получаем долотное оборудование, кое-что из телеметрии. Представители этих отраслей заверили, что производители заинтересованы в дальнейших поставках в Восточную Сибирь. К тому же у многих производителей есть российские представительства.
«НиК»: У «ИНК» есть собственное буровое подразделение, в этом году создана строительная «дочка». Вы делаете ставку именно на внутренний сервис?
– Основную часть постоянных работ выполняют компании, входящие в нашу группу. Это касается бурения, КРС, строительства производственных объектов и дорог. Но мы работаем и со сторонними подрядчиками. Ведь «ИНК» развивается очень активно и работает уже на территории трех регионов.
Так, буровые работы выполняют 24 бригады дочернего «ИНК-Сервис» и 8 бригад подрядных организаций, соответственно, 75% буровых услуг закрываем собственными силами. По текущему и капитальному ремонту скважин на внутренний сервис приходится почти 60% работ – это 18 бригад дочернего ООО «ИНК-ТКРС»; еще 14 бригад – подрядные организации. Все работы по строительству и ремонту дорог закрываем собственными силами. Организацией питания в офисе и на объектах на 100% занимаются подрядчики по итогам тендеров. Что касается первого этапа газового проекта, то в его реализации на разных стадиях участвовали десятки подрядных организаций.
Мы успешно сотрудничаем и с крупными транснациональными корпорациями, такими как Schlumberger, Deloitte. К слову, многому у них учимся.
«НиК»: Одним из наиболее важных направлений «ИНК» называется увеличение коэффициента извлечения нефти. Но ведь в вашем портфеле в основном молодые месторождения.
– Действительно, в активе «ИНК» нет месторождений, вступающих в стадию падающей добычи. Основные наши месторождения находятся либо на первой, либо на второй стадии, то есть добыча либо растет, либо стабилизировалась. Тем не менее задача увеличения КИН для компании – одна из актуальных, так как наша политика заключается в наиболее рациональном и эффективном использовании ресурсов.
Сегодня в компании реализуется несколько таких проектов. Наиболее значимый и масштабный – водогазовое воздействие на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении. Эта методика успешно применяется на многих месторождениях в мире, а вот в России используется впервые. Суть проекта – в увеличении коэффициента вытеснения нефти за счет поддержания высокого пластового давления на участке месторождения, где практически достигнут предельный КИН. В нефтяной пласт в попеременном режиме нагнетаются вода и добываемый здесь же попутный нефтяной газ, благодаря чему образуется углеводородная смесь и происходит массообмен между нефтью и газом. Это позволяет уменьшить действие капиллярных сил, удерживающих остаточную нефть в пласте. Кроме того, уменьшается вязкость нефти.
В «ИНК» водогазовое воздействие пока применяется в качестве эксперимента на нескольких скважинах Ярактинского НГКМ. Мы надеемся, что это даст нам увеличение коэффициента извлечения на 10%. Если методика докажет свою эффективность, то будет широко распространена.
«НиК»: Насколько широко у вас применяется гидроразрыв? Другие геолого-технические мероприятия?
– Основная технология разработки месторождений – горизонтальные, в частности многозабойные скважины, в том числе с применением многостадийного ГРП, систем контроля притока. Гидроразрыв на месторождениях достаточно широко распространен там, где это необходимо и возможно. Также активно применяются кислотные обработки, различные методы регулирования заводнения (потокоотклоняющие технологии, циклическая закачка), интенсификации добычи. В целом за счет ГТМ (без учета ввода новых скважин и зарезки боковых стволов) обеспечивается около 15% добычи.
«НиК»: Каковы в целом условия работы на месторождениях компании с точки зрения геологии, качества сырья?
– Нефть месторождений «ИНК» легкая, малосернистая, высокопарафинистая. Север Восточной Сибири, где расположены все наши месторождения и лицензионные участки, отличается очень сложной геологией. Нефть залегает на больших глубинах – от 1200 до 3500 метров, ее добыча осложнена суровым климатом. Для нефтеносных пластов некоторых месторождений характерны аномально высокое пластовое давление, зачастую низкая температура разрезов, наличие в них изливов вулканических пород или трещиноватых пород. Это снижает проницаемость коллекторов и отрицательно влияет на сохранность залежей. Продуктивные пласты на месторождениях часто имеют малую толщину, что требует особенно тщательных расчетов при бурении.
Энергокомплекс на Ярактинском НГКМ
«НиК»: Актуальна ли для компании проблематика ТРИЗ? Сообщалось, что на одном из ваших якутских месторождений есть «трудная» нефть.
– Вопрос ТРИЗ для «ИНК», пока не имеющий большой актуальности, вскоре, несомненно, ее приобретет. Мы планируем начать освоение в Якутии месторождений с низкими пластовыми температурами и вязкой нефтью. Это проекты ближайших 3–5 лет, поэтому интересоваться темой ТРИЗ мы начинаем уже сейчас.
«НиК»: В трудные времена компании нередко сокращают инвестиции в геологоразведку. Какова политика «ИНК» в этом сегменте?
– Поскольку наша ресурсная база не так велика, как у крупных ВИНК, стабильная добыча, а тем более ее рост, обеспечивается за счет новых месторождений. Объем инвестиций в геологоразведку весьма существенный. «ИНК» занимает первое место в регионе по объему геологоразведочных работ. По итогам 2017 года уровень восполнения запасов в компании составил 119%.
«НиК»: Какие новые участки наиболее перспективны?
– С точки зрения запасов – Верхненепский и Верхненепский (Северный), Аянский, Средненепский. Также большие перспективы связываем с лицензионными участками в Якутии.
«НиК»: Компания выходит в новые регионы. Зачем? Не проще ли небольшой компании расширять бизнес с насиженного плацдарма, с уже созданной инфраструктурой? Вы говорили в одном из интервью, что широкая география – не всегда преимущество.
– Выходим на новые территории в том числе потому, что компании необходимо поддерживать добычу на достигнутом уровне, а территория Иркутской области практически полностью относится к распределенному фонду недр. В соседних с нами Красноярском крае и Якутии еще много нераспределенных участков, да и по геологическому строению эти регионы похожи на наш.
Мы привыкли находиться в постоянном поиске. Мы постоянно отслеживаем объекты, которые предлагаются для лицензирования. Если они находятся в территориальной близости от участков «ИНК» и, по мнению геологической службы, представляют интерес, рассматриваем возможность участия в конкурсных процедурах.
«НиК»: Удовлетворены ли нынешней системой лицензирования и законодательной средой в сфере ГРР? Есть ли у компании стимулы для наращивания ресурсной базы, расширения разведки?
– По мнению нашей геологической службы, система лицензирования несколько усложнена. Тем не менее по нефти и газу условия более или менее прозрачны. Решающим фактором является наличие у компаний-претендентов финансовых средств для приобретения того или иного участка недр.
Что касается стимулов, мы работаем в рамках действующего законодательства и собственных финансовых возможностей. Одно могу сказать точно: без наращивания ресурсной базы дальнейшее развитие невозможно.
«НиК»: Оптимальна ли, на ваш взгляд, существующая налоговая система для такой компании, как «ИНК», – независимой, небольшой, не имеющей собственной нефтепереработки?
– Сложно назвать оптимальной систему, при которой отраслевое налогообложение только за последние несколько лет подверглось ряду налоговых маневров и десяткам точечных изменений. Тем не менее диалог власти и нефтяных компаний продолжается в постоянном режиме. Рост налоговой нагрузки соседствует с внедрением стимулирующих инициатив – это обусловлено стратегическим значением нефтяной отрасли для России и ее бюджета, постоянным изменением внешней конъюнктуры, многообразием запасов углеводородного сырья на территории страны. Наша компания в полной мере является отражением российской нефтянки: разрабатываемые нами участки недр – разные, с разным налогообложением, в том числе с пониженными ставками НДПИ, которые предусмотрены на начальном этапе для месторождений Восточной Сибири.
Марковское нефтегазовое месторождение
«НиК»: Какова структура реализации добываемого сырья? Сколько уходит на экспорт, сколько на переработку?
– Всю нефть, подготовленную по стандартам первой группы, по ГОСТу, мы транспортируем в ВСТО. В среднем 40% идет на экспорт, 60% – на внутренний рынок. Иногда цифры слегка меняются исходя из условий транспортировки. На Дальнем Востоке у нас два потребителя: Хабаровский НПЗ и, в меньшей степени, Ванинский НПЗ.
«НиК»: Можно ожидать, что в перспективе «ИНК» превратится в ВИНК? Интересует ли вас сектор нефтепереработки, АЗС?
– «Иркутская нефтяная компания», по сути, уже является холдинговой структурой. Переработка нас интересует, но не нефти, а газа. Как я уже сказала, мы намерены замкнуть цепочку от разведки газа и его добычи до глубокой переработки и получения продукта с высокой добавленной стоимостью.
«НиК»: Этим летом Ростехнадзор сообщил о выявлении более 370 нарушений промбезопасности в «ИНК», возбуждены административные дела. Можете это прокомментировать?
– Федеральная проверка проводилась в июне – июле 2018 года и носила плановый характер. С частью претензий мы согласны и работаем над их устранением. С частью – категорически не согласны и уведомили об этом Ростехнадзор. Скважина, эксплуатация которой по решению комиссии Ростехнадзора была приостановлена, на момент проверки уже не работала, поэтому временный запрет на ее эксплуатацию никоим образом не сказался на работе предприятия.
Поверьте, мы очень критично себя оцениваем, в том числе в этом вопросе. Безопасность в нефтедобыче – проблема, которая остается актуальной с самого начала развития отрасли по сегодняшний день. Для нас это ключевая ценность, «ИНК» сформулировала ее так: «Мы ставим на первое место жизнь и здоровье человека, оберегаем природу, защищаем собственность и бескомпромиссно соблюдаем установленные правила».
К слову, 2018-й объявлен в нашей компании годом безопасности. Сегодня в «ИНК» реализуется комплексная долгосрочная программа, включающая значительное число проектов. Это обучение персонала с использованием лучших международных практик, совершенствование системы качественного мониторинга и анализа происшествий, благоустройство вахтовых городков, развитие безопасности на транспорте и многое другое. Стремимся вовлечь в эту деятельность максимальное число сотрудников. Ведь культура безопасности формируется усилиями каждого члена коллектива, независимо от должности и места работы.
Кроме подразделений, которые по долгу службы занимаются этими вопросами, в компании создана сетевая структура «Команда больших возможностей». На самом деле это не одна, а восемь команд, всего около 150 человек, которые в свободное от основной работы время предлагают и вместе с профильными службами реализуют собственные проекты в сфере безопасности. Таких проектов уже несколько десятков. Они касаются, например, информационного обеспечения, внедрения электронной системы медосмотров, улучшения качества связи.
«НиК»: «ИНК» – неформальный лидер среди малых и средних независимых нефтяных компаний России, условно объединяемых «АссоНефтью». Как строится взаимодействие с ассоциацией?
– С «АссоНефтью» «ИНК» сотрудничает уже около десяти лет. Ассоциация вносит большой вклад в отстаивание интересов независимых компаний во всех органах власти, а консолидация усилий ее участников помогает решать многие насущные вопросы отрасли.
«НиК»: Как вы оцениваете нынешнюю роль и перспективы независимых нефтяных компаний в России?
– Считаю, что, пока независимые компании эффективны, они будут необходимы. Как говорит Николай Михайлович Буйнов (председатель совета директоров «ИНК» – прим. «НиК»), «лес здоровый, когда он разношерстный».
Мы ведь по большому счету ни у кого ничего не просим – сами открыли месторождения, построили инфраструктуру, создаем рабочие места, исправно платим налоги.
Независимые компании во многом более гибкие, управленческие процессы у нас проходят быстрее, командный дух очень силен.
Поэтому наличие независимых компаний как в регионе, так и в стране – это своего рода показатель зрелости и сбалансированности экономики.
Беседовал Виктор Прусаков

Великий южноазиатский поворот
Новое в отношениях Индии и Китая
Алексей Куприянов - Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН.
Резюме Происходящее китайско-индийское сближение вызвано объективными факторами; но не менее объективные факторы через 5–10 лет могут оттолкнуть Индию от Китая. К тому моменту Россия должна рассматриваться в Дели как надежный партнер и независимый полюс силы наравне с КНР и США.
Система международных отношений в Южной Азии находится на пороге больших перемен. Этот процесс не очень заметен извне, но Индия и Китай, два региональных лидера, уже полвека живущие в состоянии, близком к холодной войне, начали постепенное сближение, осторожно выстраивая взаимовыгодную систему двусторонних связей. И само это сближение, и конструкция, которая может получиться на выходе, нуждаются в осмыслении и анализе, чтобы понять контуры новой системы и осознать, как ее появление отразится на внешней политике России.
Путешествие в Ухань
«Я очень доволен встречей с председателем Си Цзиньпином в Ухане. Мы провели масштабные и продуктивные переговоры и обменялись мнениями по вопросу укрепления индийско-китайских отношений и других внешнеполитических вопросов». Этот пост, размещенный премьер-министром Индии Нарендрой Моди в китайской социальной сети Weibo по итогам двухдневного неформального саммита в апреле 2018 г., ознаменовал начало нового этапа в диалоге Нью-Дели и Пекина.
К моменту визита Моди в КНР китайско-индийские отношения были далеки от идеала. На границе Индии и дружественного Китаю Пакистана уже полтора года почти ежедневно происходили перестрелки, в памяти были еще свежи стычки (по счастью, без применения оружия) между китайскими и индийскими военнослужащими на плато Долам и в районе озера Бангонг-Цо летом 2017 года. Наконец, всего за два месяца до встречи своих лидеров Индия и Китай обменялись резкими заявлениями во время политического кризиса на Мальдивах, когда власти островного государства, традиционно находящегося в индийской сфере влияния, демонстративно обратились за поддержкой к Пекину. Неудивительно, что многие индийские и зарубежные эксперты восприняли уханьский саммит как тактический маневр, напоминание Вашингтону, что неплохо бы проявлять больше внимания к Южной Азии, а то интерес к этому направлению с приходом Трампа несколько угас. Но вскоре оказалось, что встреча Моди и Си была лишь первым шагом, с которого начался процесс сближения. С апреля 2018 г. отношения Нью-Дели и Пекина развиваются по восходящей, переговоры ведутся практически по всему кругу вопросов – от территориальных претензий до ликвидации торгового дефицита. На 2019 г. запланирован ответный визит Си Цзиньпина в Индию.
Западные и многие индийские аналитики, еще недавно писавшие о неминуемом альянсе Индии и США – двух крупнейших демократий и «естественных союзников», как принято их называть в западной прессе, – пребывают в некотором недоумении. Их можно понять: в экспертных рассуждениях общим местом стали пассажи о якобы изначально враждебных отношениях Китая и Индии. На самом деле это совсем не так.
Дружба и вражда
Вплоть до конца XIX века никакой синофобии в индийском обществе и элитах не было и в помине. Наоборот, индийцы и китайцы жили бок о бок несколько тысячелетий, Индия подарила Китаю буддизм, китайские паломники и торговцы были частыми гостями в индийских государствах. Кроме того, Индостан и Китай разделяли хребты Гималаев, между которыми располагалась цепочка горных королевств – Сикким, Бутан, Непал, тибетские княжества. Там, где могли пройти караваны и монахи, не прошла бы армия.
Однако на рубеже столетий отношение к Китаю в Индии начало меняться. Формирующаяся индийская национальная интеллигенция относилась к северным соседям с опаской, невольно перенимая взгляды британских колонизаторов. После проигранной Пекином японо-китайской войны к опасению добавилось презрение. Япония превратилась в глазах индийских националистов в символ прогресса, Китай – в олицетворение отсталости.
После того как Индия получила независимость, а китайские коммунисты одержали победу в гражданской войне, перед новым индийским руководством встал вопрос о том, как относиться к КНР. В тогдашней индийской элите шла борьба между условными синофилами, выступающими за сближение с Китаем и полагающими, что великие народы, освободившись от колониального гнета, вместе смогут построить светлое будущее, и синофобами, чьи взгляды сформировались под влиянием британских политиков, с опаской относившихся к перспективе возвышения Китая и рассматривавших его как потенциальную угрозу. Синофилы одержали победу: премьер Джавахарлал Неру и его ближайший советник Кришна Менон рассматривали союз с Пекином как потенциальную возможность сформировать третий полюс силы в условиях начавшейся холодной войны между СССР и Западом. Эта концепция, которую можно условно назвать Бандунгским миропорядком, предусматривала объединение азиатских и африканских стран на основе неприсоединения к враждующим блокам. Индия и Китай должны были выступать локомотивами этого объединения, причем очевидно было, что Индия, опережавшая на тот момент КНР по уровню экономического развития, играла бы главную роль.
В 1962 г., однако, все мечты пошли прахом. Нарастание взаимного недовольства привело к индийско-китайской пограничной войне, в которой Индия потерпела поражение. В задачу данной статьи не входит анализ причин конфликта, стоит лишь отметить, что в индийском обществе после него сложилось представление о том, что Индия стала невинной жертвой необоснованной китайской агрессии. Начало этой традиции положил сам Неру, назвав китайское вторжение «предательским ударом в спину».
В последующие два десятилетия отношения между странами оставались плохими, тем более что Индия в конце концов начала проводить дружественную СССР политику, а Китай наладил отношения с Западом и по сути занял антисоветскую позицию. В 1980-е гг. наметились первые признаки нормализации, в 1990-е гг. она уже шла полным ходом. Но к этому времени ситуация изменилась кардинально: КНР, успешно пройдя период реформ, стремительно превращалась в новую сверхдержаву, опередив Индию в экономическом развитии. Дели, в свою очередь, после распада дружественного советского блока изменил геополитические приоритеты, приняв в качестве ключевой концепцию Look East – разворота в сторону стран АСЕАН, где индийские политики надеялись найти необходимые для развития экономики инвестиции и технологии.
В настоящий момент Дели и Пекин соперничают, кажется, на всех фронтах. Индийские и китайские экономические интересы сталкиваются в Африке, Юго-Восточной Азии, островных странах Индийского океана. Индию тревожат китайские инфраструктурные проекты, благодаря которым КНР наращивает влияние в странах непосредственного соседства. Наконец, дает о себе знать неотболевшая рана проигранной войны. Частично ее залечили поражения китайцев в пограничном кризисе 1967 г., но по мере роста экономической и военной мощи Китая растут и опасения индийцев. Тем более что в последние десятилетия в индийско-китайском противостоянии, по сути, открылся второй фронт: Китай начал активное проникновение в Индийский океан. С точки зрения Пекина оно выглядит вполне логично: необходимо обеспечить безопасность основного маршрута поставки углеводородов, который проходит через два «бутылочных горлышка» – Ормузский и Малаккский проливы и в случае начала любого конфликта может быть легко перерезан, после чего экономика КНР окажется на грани краха. Неудивительно, что Китай пытается обезопасить себя, создавая на маршруте следования опорные пункты, посылая военные корабли для сопровождения судов через пиратские воды и отправляя подводные лодки в Индийский океан на боевое патрулирование.
Индийский политический истеблишмент все эти действия воспринимает как акт агрессии. Еще со времен Индиры Ганди считается, что ВМС Индии должны господствовать в Индийском океане, гарантируя свободу судоходства и являясь основным поставщиком безопасности. С постоянным военным присутствием США Индия мириться готова, тем более что сделать с ним она все равно ничего не может, но возможная китайская экспансия воспринимается с негодованием и опасением. Немалую роль в этом играет якобы существующая в КНР концепция «Нити жемчуга». Этот термин, предложенный некогда Пентагоном для обозначения китайской стратегии выстраивания сети торговых портов в Индийском океане, превратился под пером некоторых индийских экспертов-«ястребов» в агрессивную стратегию, нацеленную на создание условий для морской блокады Индии.
Очевидно, что в этих условиях Дели был нужен стратегический партнер, который уравновесил бы влияние Китая и гарантировал безопасность страны. Главным претендентом на эту роль выступили Соединенные Штаты. Процесс американо-индийского сближения начался в 2001 г.; отношения Вашингтона и Дели успешно развивались при Атале Бихаре Ваджпаи и Манмохане Сингхе. В 2010 г. началось форсированное сближение: после безуспешных попыток наладить взаимодействие с Китаем и создать «Большую двойку» США перешли к стратегии сдерживания, в которой Индия воспринималась как естественный союзник в регионе, антикитайский бастион, который вынудит Пекин тратить ресурсы на укрепление южной границы вместо того, чтобы уделять основное внимание увеличению морской мощи.
После прихода к власти Нарендры Моди процесс ускорился: между Бараком Обамой и индийским премьером установились дружественные отношения, для обозначения которых СМИ даже придумали термин «Мобама». Но когда президентом стал Дональд Трамп, интерес Вашингтона к Южной Азии заметно снизился. Если администрация Обамы играла на долгую перспективу и была готова к постепенному укреплению связей с Индией, то администрация Трампа ведет себя куда жестче, постоянно требуя ответных уступок и прибегая к шантажу, что показала история с антироссийскими санкциями, под которые едва не угодила Индия. В этих условиях у Дели не осталось иного выхода, кроме сближения с Пекином.
Парадокс состоит в том, что, даже не будь Трампа, сближение Индии и Китая все равно бы произошло. Оно носит объективный характер и объясняется не только естественным стремлением уравновесить слишком большой крен в сторону Вашингтона, но и насущными требованиями, с которыми столкнулась Индия на нынешнем этапе развития.
Экономика и безопасность
Существует два основных фактора, которые подталкивают Индию к улучшению отношений с Китаем.
1. Экономика. КНР является главным импортером товаров в Индию и одним из самых серьезных инвесторов. Торговля двух стран в последние годы непрерывно растет, причем политические разногласия на ней практически не отражаются: в 2016 г. она составила 71,18 млрд долларов, в 2017-м – 84,44 млрд долларов. Судя по цифрам за первый квартал 2018 г., в этом году она может превысить 90 млрд долларов. Без оглядки на все трения и разногласия растут и инвестиции: в 2017 г. они составили 13,7 млрд долларов, к апрелю 2018 г. уже превысили 8 млрд долларов. Причем Индия не скрывает, что в будущем рассматривает Китай как основного инвестора. В апреле этого года, выступая на конференции Chindia TMT Dialogue 2018, Амитабх Кант – исполнительный директор института NITI Aayog, правительственного органа, занимающегося планированием, – прямо заявил: «Нам нужно больше китайских инвестиций. У нас работают более 100 китайских компаний, но это число следует увеличить, и китайским компаниям нужно наверстать упущенное в плане инвестиций. Китай должен превратиться в первого инвестора в Индию… На данный момент около 15% индийских стартапов финансируются из Китая; это число, судя по всему, будет расти».
Слова Канта – не просто красивая фраза: Индия рассматривает КНР как основного инвестора, который предоставит необходимые средства для масштабных экономических реформ, задуманных Нарендрой Моди. От них зависит не только политическое будущее самого индийского премьера, но и будущее страны, которая в случае их успешной реализации сделает скачок вперед. Программа Make in India подразумевает интенсивный рост индийской экономики, профессиональную переподготовку миллионов рабочих, прорыв в области инноваций. Эти амбициозные планы осуществимы лишь в том случае, если Индия в ближайшие годы получит масштабный приток денег. Американцы при Трампе не спешат вкладывать средства в заграничное производство, предпочитая поднимать собственную экономику, так что у Индии не остается другого варианта, кроме как обратиться за помощью к Китаю.
Для Пекина, в свою очередь, увеличение товарооборота и инвестиций в Индию – возможность подстраховать себя в условиях начинающейся торговой войны с США, способной нанести серьезный урон китайской экономике.
2. Безопасность. Вопрос безопасности в отношениях с КНР – один из самых болезненных для индийского общества. Не в последнюю очередь потому, что Китай явно обгоняет Индию как в возведении инфраструктуры в приграничных районах, так и в разработке средств ведения конвенциональных боевых действий на больших высотах. Выдержать китайские темпы строительства дорог и разработки новых видов вооружений Индия физически не в состоянии: как из-за того, что ее экономика значительно уступает китайской, так и из-за трудностей с выделением средств на масштабные проекты.
Последние события – в первую очередь мальдивский политический кризис февраля 2018 г. – продемонстрировали уязвимость Индии на одном из важнейших направлений. Мальдивская Республика традиционно воспринимается в Дели как государство-клиент, контроль за внешней политикой которого критически важен для безопасности Индии. Однако в условиях наращивания китайского экономического присутствия в регионе Индия, чья экономика испытывает крайнюю нужду в инвестициях, не может соперничать с КНР. Государства бассейна Индийского океана, ранее безоговорочно ориентировавшиеся на Дели, начинают все активнее развивать связи с Пекином.
Если Индия не найдет адекватную стратегию реагирования, она обречена снова и снова попадать в «мальдивскую ловушку». Когда легитимное руководство страны-клиента меняет внешнеполитическую ориентацию и начинает сближаться с другим перспективным патроном, у Индии отсутствуют реальные возможности парировать это сближение за исключением морской блокады либо вооруженной интервенции. Оба варианта в случае отсутствия законных поводов для вмешательства приведут к потере Индией образа защитника малых стран региона от китайского империализма и сведут на нет многолетние усилия по созданию имиджа государства-покровителя.
Наилучшим для Индии решением, позволяющим устранить уязвимость, является достижение договоренности о разграничении сфер влияния с Пекином: гарантии соблюдения китайских экономических интересов при ответных гарантиях уважения индийских экономических интересов и интересов в сфере безопасности. Китай, как и Индия, не заинтересован в том, чтобы втягиваться в многолетнее противостояние, грозящее затормозить перспективные инфраструктурные и торговые проекты в рамках стратегии «Пояса и Пути».
Основой индийской внешней политики является принцип стратегической автономии – нежелания поступиться суверенитетом, быть младшим партнером в любом союзе и вообще заключать союзы, в которых индийские интересы будут подчинены интересам других стран. Страна планирует сохранять эту автономию и в дальнейшем, хотя делать это будет все сложнее: нарастание противоречий между Вашингтоном и Пекином потребует так или иначе определиться с местом в мире, где на фоне общей полицентричности конкурируют две сверхдержавы. В предшествующие годы маятник слишком сильно качнулся в сторону Америки, сейчас он движется в сторону Китая.
В этих условиях у России появляется дополнительное пространство для маневра – несколько лет до тех пор, пока индийская экономика не завершит процесс реформирования и пока Индия не начнет обратное сближение с Соединенными Штатами.
«Два плюс один»
Сама идея сближения Индии и Китая воспринимается Москвой традиционно положительно: еще Евгений Примаков мечтал о создании треугольника «Россия–Индия–Китай». Россия поддерживает отношения стратегического партнерства с обеими странами и заинтересована в установлении между ними максимально дружественных отношений. При этом очевидно, что Индия никогда не сблизится с КНР до степени союза и всегда будет искать державу, которая помогла бы ей обеспечить необходимый баланс.
Проблема в том, что Россию индийские элиты в качестве такого баланса не рассматривают. Отчасти это результат проамериканской пропаганды, которой подвержена часть индийского истеблишмента, отчасти – реакция на действия России на китайском и пакистанском направлениях (в частности, заключение с Исламабадом оружейных контрактов и проведение совместных учений). Многие индийские эксперты и политики всерьез опасаются, что Россия превратится в младшего партнера Китая и частично утратит субъектность. То, что кажется абсурдом из Москвы, совершенно иначе выглядит из Дели, особенно с учетом сравнительно пассивной политики России на южноазиатском направлении. Подобная утрата статуса крупного игрока – вроде того, каким обладал в годы холодной войны СССР – приводит к тому, что у Индии нет другого выхода, кроме как обращаться в поисках баланса к США.
Россия оказалась в трудной ситуации. На нынешнем этапе экономического развития она не может составить серьезной конкуренции ни Соединенным Штатам, ни Китаю. Более того, жертвовать хорошими отношениями с ближайшим стратегическим партнером и соседом ради успокоения тревог индийских элит Москва не готова, равно как и рвать с таким трудом налаженные связи с Пакистаном. Но каким-то образом необходимо продемонстрировать Дели независимость своей внешней политики, нежелание идти в фарватере Китая и становиться его младшим партнером.
Помимо очевидных мер наподобие наращивания экономического взаимодействия, увеличения военно-морского присутствия в бассейне Индийского океана, диалога на международных площадках, у России есть возможность эффективно задействовать один из форматов международного сотрудничества. Речь идет о формате «два плюс один», сиречь взаимодействии в рамках треугольника, где двумя углами являются Россия и Индия, а третьим – одна из средних стран региона, дружественно настроенная и заинтересованная в развитии экономического и политического сотрудничества с двумя основными акторами по принципу «друг моего друга – мой друг». Таких стран сравнительно немного, наиболее перспективными можно считать Вьетнам, Индонезию и Японию. Каждая из них имеет свою специфику, и формат «два плюс один» в каждом конкретном случае потребует ее учета.
Треугольник Россия–Индия–Вьетнам выглядит наиболее привлекательно. Ханой – давний друг и партнер Москвы, опасающийся, как и Дели, давления со стороны Пекина и ищущий сближения с теми, кто сможет гарантировать ему безопасность. Индия также воспринимает Вьетнам как перспективного союзника в регионе, налаживая с ним экономические, военные и политические связи. Помимо этого, Вьетнам – пока единственная страна, имеющая положительный опыт торгово-экономического сотрудничества в рамках ЗСТ как с ЕАЭС, так и с Индией. Как и Индия, Вьетнам является крупным импортером советского и российского оружия, сталкиваясь с аналогичными индийским проблемами из-за санкций CAATSA. Помимо этого Россия поддерживает тесные военные контакты с обеими странами, проводя с ними военные и военно-морские учения. Логично выглядит расширение их до формата трехсторонних.
Свою специфику имеют отношения с Индонезией, которая воспринимает себя как субрегионального лидера. В отличие от Вьетнама, она не испытывает опасений в отношении Китая, а в отличие от Нью-Дели и Вашингтона – имеет разработанный концепт Индо-Тихоокеанского региона, в котором ей по праву принадлежит ключевая роль: Индонезия контролирует или имеет возможности заблокировать все основные проливы, через которые осуществляется сообщение между Тихим и Индийским океанами. Отношения России и Индонезии далеко не так безоблачны, как отношения России и Вьетнама; тем не менее треугольник Россия–Индия–Индонезия, «партнерство трех сильных», в долгосрочной перспективе является самым многообещающим – особенно с учетом того, что Индонезия претендует на роль лидера АСЕАН. России выгодно максимальное усиление Индонезии и превращение ее еще в один независимый полюс силы, дружественный Москве.
Треугольник с участием Японии представляется наиболее проблемным, учитывая претензии Токио на Южные Курилы и специфический формат японской внешнеполитической деятельности в условиях нахождения на территории страны американских военных баз. В этом случае, однако, уже Индия, традиционно поддерживающая с Японией хорошие отношения, может выступить в качестве «общего друга» Токио и Москвы, облегчающего нахождение взаимоприемлемых решений.
Все эти форматы потребуют, очевидно, консультаций с Китаем. КНР не будет участвовать ни в одном из них, но в целом создание схем «два плюс один» выгодно Пекину, так как расширяет пространство маневра для стран – соседей Китая, позволяя им вместо США искать защиты у пары Россия – Индия. Москва, в свою очередь, сможет при помощи таких форматов улучшить позиции в Юго-Восточной и Южной Азии и укрепить отношения с Дели.
Сложно сказать, как долго продолжится китайско-индийское сближение. Оно вызвано объективными факторами; но другие не менее объективные факторы через 5–10 лет могут оттолкнуть Индию от Китая. Задача Москвы – добиться, чтобы к тому моменту Россия рассматривалась в Дели как надежный друг и партнер и независимый полюс силы наравне с Китаем и Соединенными Штатами.

Павел Завальный: Мы достигнем нового исторического максимума экспорта газа.
О перспективах развития газового рынка в России и мире «НиК» беседовал с председателем Комитета Государственной Думы РФ по энергетике Павлом Завальным
Большинство экспертов связывают будущее мировой энергетики с природным газом. Россия, занимая первое место в мире по разведанным запасам газа, является крупнейшим экспортером и потребителем этого энергоносителя. Но продвижение голубого топлива на внешнем и внутреннем рынках идет далеко не просто. Для стимулирования темпов газификации регионов России на муниципальном уровне правительство РФ одобрило и приняло решение внести в Госдуму отдельный законопроект.
«НиК»: В 2017 году Россия вновь была признана страной с самыми большими запасами газа. Но по добыче голубого топлива в 2016 году наша страна была только второй (650 млрд м3) после США (769 млрд м3). Какие шаги должны быть предприняты для увеличения добычи газа?
– Доказанные мировые запасы газа оцениваются примерно в 200 трлн м3, из них у России – около 50 трлн. Мы действительно занимаем первое место в мире по доказанным запасам. На втором месте Иран – порядка 33 трлн. Но специфика добычи при наличии газа такова: сколько потребляется, столько и производится. Российские газовые запасы позволяют полностью обеспечить спрос как внутри России, так и экспорт. Добычные возможности «Газпрома» сегодня на 100 млрд м3 превышают его фактическую добычу. А она определяется текущим спросом на внутреннем и внешнем рынках. В последние два года на фоне снижения цен и собственной добычи идет увеличение спроса на газ в Европе.
В 2016 году зафиксирован исторический максимум поставок российского газа в Европу – порядка 170 млрд м3. В этом году мы превысим этот показатель: думаю, будет порядка 190 млрд м3.
«НиК»: Как Вы видите ситуацию с доступом к экспортной трубе «Газпрома» независимых добытчиков?
– Позиция государства сегодня такова: газ, который добывается независимыми производителями газа, такими компаниями, как НОВАТЭК и «Роснефть», должен продаваться на территории Российской Федерации. Острой необходимости поставки на экспорт у этих компаний нет, практически весь этот газ законтрактован внутри России. Об этом можно судить по тому, какие объемы независимые производители газа продают на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже, при этом некоторые из них докупают необходимые объемы у «Газпрома».
Поговорить о доступе к экспортной трубе «Газпрома» в перспективе можно. Да, независимые производители хотели бы торговать не только на внутреннем рынке, но и на внешнем, чтобы получать дополнительную маржу, дополнительную прибыль и сверхприбыль, когда цены на газ высокие. Сегодня цены невысокие, они повышают доходность на 20-30%, но рентабельность для «Газпрома» все равно выше, чем при поставках внутри страны.
При этом независимые производители имеют преференции от государства: льготную ставку НДПИ и более (почти в два раза) короткое плечо доставки газа потребителю. Соответственно, они имеют более высокую рентабельность, сравнимую с газпромовской, и не имея экспорта.
Анализ последних лет показывает, что ниже чем на 20% рентабельность продаж у независимых производителей не опускалась. «Газпром» же продает газ по регулируемым ценам, является, по сути, гарантирующим поставщиком в рамках закона «О газоснабжении», он имеет транспортное плечо в два раза длиннее, чем у независимых производителей. Соответственно, и себестоимость доставки газа потребителю для него намного выше. Плюс регулируемые цены для всех категорий потребителей, включая население.
Независимые законтрактовали 80% платежеспособных потребителей с большими объемами потребления. «Газпрому» осталось только население, малые объемы, ЖКХ. С точки зрения платежной дисциплины это не самые платежеспособные потребители.
«Газпром», поставляя газ на экспорт, по сути, получает премию за то, что занимается газификацией и субсидирует российскую экономику.
Если говорить о допуске независимых производителей к экспортной трубе, то в любом случае должен быть сохранен единый экспортный канал. В противном случае российский газ в трубе будет конкурировать с российским же газом уже у потребителей в Европе, усиливая и без того жесткую конкуренцию с другими поставщиками и видами топлива. Конечно, они бы хотели еще понизить цену на наш газ, но страна бы от этого проиграла.
Напомню, возможности «Газпрома» минимум на 100 млрд м3 превышают фактическую добычу. И с государственной точки зрения неразумно вкладывать деньги в разработку новых месторождений, когда не монетизирован газ уже имеющихся. Не лучше ли их потратить на решение других проблем?
«НиК»: В 2017 году зафиксирован рост внутреннего потребления газа. Насколько внутренний рынок газа осложняет перекрестное субсидирование, возможен ли отказ от него?
– Перекрестное субсидирование было, есть и будет. В России более 90% запасов природного газа находятся на севере Западной Сибири. Газ доставляется до крупных центров потребления, будь то Средний Урал или Европейская часть России, по системе магистральных газопроводов высокого давления.
Напомню, что в себестоимости нефти основные затраты приходятся на добычу, на транспортировку – только 10-15%. С газом все наоборот.
Основная часть себестоимости газа – это затраты на доставку до потребителя, на добычу тратится только 10-15%, а по мере транспортировки себестоимость растет.
Если по этой схеме устанавливать цены, то минимальная стоимость будет на Ямале, в Тюменской области, а максимальная – на Кавказе.
Но, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, газ – это больше, чем газ! Он сегодня определяет возможности экономического развития, решает социальные проблемы. Например, на селе газ меняет качество жизни. Задача государства – предоставить всем регионам условия для равномерного развития. А если мы будем устанавливать цены чисто из экономической целесообразности транспортировки, то она по мере транспортировки будет отличаться в два-три раза.
Конечно, и сейчас есть зонирование, и чем дальше по схеме транспортировки, тем он стоит дороже. Но это увеличение стоимости неадекватно увеличению себестоимости доставки. То есть все равно есть и будет перекрестное субсидирование поставки. Но «перекрестка» должна иметь предел. Она не должна убивать рыночные отношения, межтопливную конкуренцию, потому что, как только пропадает экономическая обоснованность ценообразования, теряется здравый смысл.
«НиК»: В России газифицированы далеко не все населенные пункты, но «Газпром» берется за газификацию стран СНГ. Насколько это выгодно?
– Говоря о странах СНГ, речь идет только о Киргизии. «Газпром» монопольно допущен на ее рынок в части добычи, транспортировки, поставок газа населению и промышленным потребителям. «Киргизгаз» был продан «Газпрому» за $1, но концерн взял на себя обязательство инвестировать в развитие газотранспортной системы страны. «Газпром» в перспективе будет добывать газ и, соответственно, создает сеть доставки товара до потребителя. Это бизнес-проект, который рассчитан на десятилетия.
«НиК»: Каковы перспективы развития технологий СПГ на внутреннем рынке?
– В перспективе будут развиваться программы так называемого среднетоннажного и малотоннажного СПГ для обеспечения перевода на сжиженный природный газ большегрузного и железнодорожного транспорта, а также газификации отдаленных поселений. Здесь должна работать экономика. Ранее считалось, что конкуренция между прокладкой газопровода и СПГ начинается от 4000 км: поставку газа на меньшее расстояние выгоднее осуществлять по газопроводу. По мере развития СПГ-технологий мы уже подбираемся к 3000 км.
То же самое происходит и в газораспределении. Просчитывается, когда выгоднее строить газопровод или когда целесообразнее сжижать, а потом автомобильным способом, железнодорожными цистернами или баржей доставлять к месту потребления. Тем не менее пока СПГ обходится потребителям значительно дороже.
Вопрос газификации регионов РФ – это вопрос стоимости газа для конечного потребителя.
Строительство газопровода обходится очень дорого. Объемы потребления газа небольшие, а затраты – огромные. Получается, что строительство газопровода идет, по сути, за счет других потребителей, поскольку потребители оплачивают только потребляемые объемы, а в идеале за счет этих средств должны строиться газопроводы. Но себестоимость доставки газа до потребителей очень высокая, поэтому экономическая модель не работает.
Газификация, которую проводит «Газпром», – это решение не экономической, а больше социальной проблемы: газ дает новое качество жизни. В данном случае СПГ конкурирует даже не с газопроводами, а с другими видами топлива – сжиженным углеводородным газом, углем.
Цена на газ, поставляемый по газопроводам, регулируется, она в 3-3,5 раза ниже пропан-бутана. Но когда село находится в 50-100 и более километрах от системы газоснабжения, строительство газопровода экономически не оправдано. При рыночной цене газа «Газпром» очень быстро газифицировал бы всю Россию. Потребитель, который не имеет газа, готов платить больше, лишь бы газ появился. А он не может появиться, потому что цена не может быть выше, она ограничена государством.
«НиК»: Частичный уход от перекрестного субсидирования означает более активную газификацию?
– Невозможно, строя рыночную экономику, постоянно субсидировать одних за счет других. Рост перекрестного субсидирования, по сути, остановил реформу электроэнергетики: она развивается, как раньше развивалось РАО «ЕЭС». Скоро схема ДПМ (договоры на поставку мощности – прим. «НиК») закончится. Инвесторы, которые по этой схеме построили новые объекты генерации, не знают, смогут ли они выжить на так называемом рынке. Пять-шесть лет назад перекрестное субсидирование составляло 230 млрд руб. Его пытались ограничить, были целые программы, дорожные карты по решению вопроса. Сегодня фактически перекрестного субсидирования у нас 380 млрд руб. и его объем только увеличивается.
Что касается газификации, еще раз повторю: отказ от государственного регулирования цен на газ в пользу межтопливной конкуренции резко увеличил бы темпы газификации в стране, так как заработала бы экономика, появилась бы экономическая целесообразность строительства сетей и расширения газопотребления.
«НиК»: Как развивается проект «Турецкий поток» и «Северный поток-2»?
– «Турецкий поток» уже в стадии реализации, и нет никаких сомнений, что он будет построен в намеченные сроки. Это касается и первой, и в значительной степени второй части проекта. Думаю, у «Турецкого потока» есть перспективы и для дальнейшего развития. Есть потребность в этой ГТС, есть спрос на газ в этой части Европы и негласная поддержка европейского сообщества.
Реализация «Северного потока-2» пока сталкивается с геополитическим сопротивлением для поддержки транзитных позиций ряд стран, таких как Польша или Украина. Об этом постоянно говорят еврокомиссары, отвечающие за эти вопросы. При этом в ЕС хорошо понимают, что проект повышает безопасность и надежность европейской энергосистемы.
Самое главное, «Северный поток-2» позволяет держать в Европе более низкую цену на сырье. И в нем очень заинтересованы страны Центральной и Северной Европы – Германия и Великобритания.
В то же время есть давление США, которые не хотят видеть много дешевого российского газа на рынке ЕС. Они, наоборот, надеются поднять цены на голубое топливо в Европе, чтобы туда можно было выгодно поставлять свой СПГ.
Есть определенные политические силы и в самом ЕС, которые боятся усиления зависимости от российского газа.
Но если произойдет сбой в реализации «Северного потока-2», это скажется на надежности и безопасности поставок российского газа для европейских потребителей. Самое главное, это скажется на ценах. Запрет на строительство неминуемо приведет к увеличению стоимости энергии для потребителей и будет сдерживать развитие европейской экономики.
«НиК»: «Газпром» будет продлевать договор с Украиной по транзиту газа?
– Наш президент неоднократно заявлял, что мы не планируем прекращать транзит после 2019 года. Транзит должен сохраниться, вопрос в том, какие будут объемы, а это зависит от того, какие будут условия, какова стоимость. Заявления представителей украинского «Нафтогаза» об увеличении стоимости транзита в 1,5-2 раза делают перспективы украинского маршрута газа туманными. «Газпром» такую цену платить не сможет и не планирует. Мы будем вынуждены ограничивать свой транзит через Украину. Каждый преследует экономическую выгоду.
Должны быть различные варианты для транспортировки сырья в ЕС, у Украины уже нет монопольного положения. Из-за строительства «Турецкого потока», «Северного потока-2» возникают обходные маршруты. Соответственно, «Нафтогаз» станет более договороспособным.
И таких проблем уже не будет, поверьте.
«НиК»: Если будет прекращен судебный процесс по взаимным претензиям «Газпрома» и «Нафтогаза Украины», возможно ли восстановление сотрудничества России и Украины в газовой сфере?
– Наверняка. Взаимные претензии и судебные тяжбы мешают сотрудничеству «Газпрома» с «Нафтогазом». И все, и с российской, и с украинской стороны, я уверен, ждут, когда это закончится и начнется нормальное сотрудничество.
«НиК»: Вы считаете, что «Газпром» и «Нафтогаз» ждет плодотворное сотрудничество?
– Рано или поздно компаниям надо будет договориться и нормально сотрудничать. Украина еще долгое время будет нуждаться в российском газе. Сейчас она получает наше сырье реэкспортом из Польши, Словении или Венгрии. Украинским потребителям приходится переплачивать европейским трейдерам. Но политически это выглядит так, что вроде как Украина получает газ не из России. Однако она получает газ именно из РФ, там нет ни одной молекулы «чужого» газа.
«НиК»: Украина получает газ по реэкспорту на европейские кредиты?
– Да, получает кредиты у европейских кредитных институтов. Возвращает или нет, не знаю, но получает точно – под закупки, под сезонную закачку газа ПХГ и т.д.
«НиК»: Нам не придется чинить украинскую ГТС?
– Нам не придется точно. Киеву давно было сделано предложение по созданию консорциума по управлению этой ГТС. Согласно проекту, одна треть должна была принадлежать Европе, треть – России, треть – Украине. Предполагалось вместе провести модернизацию, обеспечив транспортировку газа по этой системе для европейских и украинских потребителей.
Украина от данного предложения отказалась. Сейчас она готова пустить в свою систему кого угодно, хоть черта с рогами, только не Россию.
Однако американцы и европейцы не горят желанием заниматься украинской ГТС, потому что они не видят перспективы.
Кроме российского газа, другого не будет, и, соответственно, все эти трубы при отсутствии загрузок превращаются в металлолом. Никто не хочет вкладывать деньги в то, что не будет востребовано. Так что без России им не обойтись.
«НиК»: Порошенко предлагает сдавать российский газ на восточной границе Украины.
– Это нереально и является полным прожектерством.
Россия основные объемы газа поставляет по долгосрочным контрактам. У «Газпрома» порядка 40 потребителей, с кем заключены контракты, и в каждом из них определены точки доставки газа. Это конкретные потребители и хабы в Восточной и Западной Европе, куда мы должны доставить сырье. Кому мы его можем продавать на границе с Украиной?! Ни один потребитель к нам с таким вопросом не обращался, потому что они еще больше нашего опасаются за надежность транзита через эту страну. Никто не хочет связываться с Украиной в доставке российского газа.
И вообще это не соответствует правилам ЕС – продавать на границе. Газ покупает не Германия или Италия, а конкретные компании, конкретные потребители на едином европейском рынке газа. Мы доставляем им СПГ или трубный газ в нужном объеме, в нужное место и нужное время. В точку сдачи нами может доставляться даже не российский газ. Допустим, можно купить газ в Алжире и поставить туда, а свой газ поставить вместо Алжира куда-то еще. Поэтому слова о продаже газа на границе с Украиной, по-моему, либо полное непонимание модели рынка газа, либо чистая политика.
«НиК»: В ходе Московской энергетической недели в начале октября прошла министерская встреча Форума стран – экспортеров газа. Генеральным секретарем был выбран заместитель министра энергетики РФ Юрий Сентюрин. Какие проблемы газового рынка может решить данная организация?
– Эта организация не является инструментом решения проблем газового рынка. Она существует для взаимодействия и координации участников рынка как между производителями газа, так и на стыке интересов производителей и потребителей. Основные запасы газа сосредоточены только в двух странах – в России и Иране. Именно они владеют 43% мировых запасов газа. Основные потребители – это Западная Европа, развитые страны, не обладающие такими запасами. Производители хотят честной конкуренции и объективной, экономически обоснованной цены, чтобы риски между производителями и потребителями справедливо раскладывались более или менее пропорционально. Задача ФЭСГ состоит в выработке общих позиций всех производителей, работе с потребителями, создании условий для развития рынка газа – и глобального, и регионального. Вот для чего нужен форум.
«НиК»: Какие проблемы мирового рынка газа могут возникнуть в ближайшее время?
– Перспективы газа на мировом энергорынке очень хорошие, его доля в мировом энергобалансе, в отличие от нефти и угля, будет только расти.
По разным прогнозам, доля газа на мировом энергорынке к 2040 году достигнет 25-26%.
Но усиливается и конкуренция, особенно в направлении СПГ. На сегодняшний день в разной степени реализации находится очень много проектов по сжижению газа, при этом спрос на этот энергоресурс растет не так быстро. Но моя оценка, что в данном случае как раз предложение сформирует спрос и все произведенные объемы СПГ будут востребованы. И Китай это уже подтверждает. В целом я не вижу острых проблем на мировом газовом рынке, кроме политических.
«НиК»: Сланцевые технологии насытили американский рынок газом. Большие запасы сланцевого газа есть в Китае. В случае активной разработки Пекином данного ресурса может ли это отразиться на российских поставках газа в КНР?
– С точки зрения эффективности разработки месторождений сланцевого газа таких условий, как в Америке, нет нигде. Там сланцевый газ может быть побочным продуктом добычи сланцевой нефти, когда все затраты отбиваются на добыче черного золота. Газ является сопутствующим продуктом, поэтому на него низкие цены. Изучали вопрос добычи сланцевого газа в Польше, Прибалтике, Украине – нигде нет такой себестоимости.
В Китае месторождения тоже более сложные. Кроме того, там есть еще одна проблема: в регионе добычи мало воды. Основная технология, применяемая для извлечения такого газа, – гидроразрыв пласта (ГРП – прим. «НиК»). На ГРП одной скважины надо 8-10 тыс. тонн воды. Никто не отменял и экологические риски данного метода добычи. В США, насколько я знаю, до сих пор экологические проблемы не решены. Технология ГРП очень «грязная». В воду, используемую для гидроразрыва, добавляется порядка 25 ингредиентов, представляющих собой опасность для всего живого. И потом встает вопрос утилизации этой жидкости, все это закачивается в землю. Об этом пока помалкивают, но проблема еще прозвучит. Не зря же гидроразрыв запрещен в Европе. Но пока запрещают только добычу, а завтра будет запрет и на газ, добытый по этим технологиям. Поэтому я не вижу большой перспективы добычи сланцевого газа в Китае.
С точки зрения развития мировой цивилизации применение данного метода для добычи газа недальновидно. В России есть газ, мы готовы им делиться. Наша страна допускает стратегических партнеров к добыче, транспортировке, совместной реализации проектов. Например, в «Ямал СПГ» России принадлежит только контрольный пакет, а 49% у иностранных участников, которые вкладывают деньги, а потом будут получать сжиженный газ и прибыль. То же самое касается разработки традиционных месторождений, создания транспортных коридоров. В «Северном потоке» у России 51%, такая же ситуация и с «Турецким потоком». При этом цены на российский газ будут намного ниже, чем на сланцевый. Сократится и экологическая нагрузка.
На мой взгляд, ни нефть, ни газ, ни уголь неперспективны для развития человечества. Будущее за термоядерной энергетикой, ВИЭ и водородными технологиями.
Этот век еще в какой-то степени будет веком газа, а следующий – точно не углеводородов и угля, будут использоваться другие виды энергоресурсов. По прогнозам, к 2050 году у человечества появится первый опытный промышленный термоядерный реактор. И по мере освоения термоядерных технологий и ВИЭ, включая водородную энергетику, необходимость в добыче, использовании угля, нефти и газа отпадет.
«НиК»: Могут ли в ближайшее время появиться новые технологии добычи газа, например газовые гидраты, которые способны повлиять на мировой рынок голубого топлива?
– Самые большие запасы газа в мире сосредоточены именно в газовых гидратах. Но их месторождения сосредоточены, как правило, на шельфе. Себестоимость их разработки значительно превышает себестоимость добычи на традиционных месторождениях. Сейчас многие страны, такие как Япония, Южная Корея, стараются осваивать технологии добычи газовых гидратов, поскольку почти не имеют традиционных месторождений. Они вынуждены этим заниматься, так как им приходится импортировать сырье, а газ у них самый дорогой в мире. Поэтому они готовы испытывать самые сложные и затратные технологии.
Россию газовые гидраты интересуют только с научной точки зрения. Запасы традиционного природного газа у нас такие, что позволяют обеспечить страну и экспортные поставки в любых объемах до той эпохи, когда наступит эра термоядерных реакторов и возобновляемых источников энергии.
Павел Николаевич Завальный. Биографическая справка.
Родился 11 августа 1961 года.
В 1984 году закончил Калужский филиал МВТУ по специальности «турбиностроение». С 1996 по 2012 год возглавлял ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва от «Единой России» (региональная группа от Ханты-Мансийского АО-Югра), председатель комитета ГД по энергетике.
На выборах в Государственную думу Федерального Собрания РФ VII созыва (2016 год) баллотировался от партии «Единая Россия» по 222 Ханты-Мансийскому одномандатному избирательному округу (Ханты-Мансийский автономный округ) и был избран депутатом Госдумы.
Интервью подготовила Екатерина Дейнего

Произойдет ли переворот в экономической политике?
Что экономисты услышали в Послании?
Николай Вардуль
1 декабря президент Владимир Путин выступил с очередным Посланием. Это было его тринадцатое Послание. Оно, по определению, охватывает все стороны нашей жизни. Если сосредоточиться на экономике, то поставленные в нем задачи весьма масштабны.
Президент традиционно оттолкнулся от макроэкономической и финансовой стабильности, которые были в Послании оценены положительно. Это ожидаемое начало раздела Послания, адресованного экономике.
На память в этой связи приходит выступление первого вице-премьера Игоря Шувалова, который 29 ноября заявил: «У нас есть единственный параметр, по которому если мы отработаем, то будем считать, что наша макроэкономическая ситуация практически идеальная — это контролируемая инфляция».
Президент, конечно, ни о каком достигнутом или вот-вот достигнутом макроэкономическом или каком-либо еще идеале не говорил. Хотя и подчеркнул, что в 2016 году, скорее всего, удастся снизить уровень инфляции вдвое. Владимир Путин рассматривает макроэкономические и финансовые достижения как базу для будущего экономического роста.
Но мы не в первый раз слышим похвалы в адрес финансистов и макроэкономистов во власти, а вот роста нет. Что по этому поводу было сказано в Послании?
База роста есть, а роста нет. Если он и появится, то, как свидетельствуют прогнозы, на которые ориентируется правительство, очень не быстрым. Так что же делать?
Налицо острый дефицит инвестиций в основные фонды. Некоторые предлагают преодолеть его переориентаций ЦБ, который должен открыть эмиссионный кран в интересах поддержки инвестиций. Другие предлагают улучшать инвестиционный климат. Но его улучшают все 25 лет новой России, а инвестиции падают.
Президент в своем Послании не упоминал эти активно противоборствующие позиции. Зато он предложил правительству взвесить доли в обеспечении экономического роста основных факторов, начиная с улучшения инвестиционного климата и заканчивая инвестициями в инфраструктурные проекты.
«Надо четко определить, какой вклад в экономический рост внесут улучшение делового климата, запуск крупных инвестиционных проектов, наращивание несырьевого экспорта, поддержка малого и среднего бизнеса, другие меры, какова будет роль регионов и отдельных отраслей производства. Поручаю Правительству с участием ведущих деловых объединений не позднее мая будущего года разработать предметный план действий, рассчитанный до 2025 года, реализация которого позволит уже на рубеже 2019–2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых, а значит, наращивать позиции России в глобальной экономике», — вот центральная часть Послания, обращенного к экономике.
Задача поставлена весьма широко. Кто-то будет трактовать ее постановку как признание необходимости смены экономического курса, потому что этот курс пока не обещает быстрых темпов экономического роста. Но я прочитал этот пассаж иначе. Экономический курс не надо кардинально менять, не надо разменивать финансовую стабильность на эмиссионное финансирование инвестиций, что чревато потерей контроля над инфляцией, а это снижение эффективности рыночного регулирования экономики, так как инфляция искажает систему прямых и обратных связей, что может привести к искушению перейти к другим методам регулирования. К тому же риск роста инфляции — это и рост социальных рисков, которых и так хватает, о чем «Финансовая газета» подробно писала.
Экономический курс нужно дополнять. Как — на этот вопрос уже давал свой ответ Алексей Кудрин: на недавнем инвестиционном фоне в Сочи он предлагал одновременно двигаться по двум направлениям: институциональные реформы и госинвестиции в инфраструктурные проекты, которые должны разбудить инвестиционный процесс в стране. Если же экономический курс начать разворачивать и еще больше усиливать госначала в экономике, а это и есть новая роль ЦБ, усиление контроля за валютным рынком, за всем инвестиционным процессом, то, во-первых, все Послание построено совсем на других принципах — усиления и поддержки предпринимательской инициативы. Во-вторых, если увлечься, разворачивая курс, то появятся риски роста изоляции России. А президент говорит о прямо противоположном развитии.
Что немаловажно, среди критериев роста экономики и ее отдельных отраслей Владимир Путин не ограничивался очевидными статистическими показателями. Они, конечно, назывались, президент, в частности, с надеждой говорил о том, что начинает подниматься российская промышленность. Он рассказал, в частности, что в В 2015 году введено в строй более 85 миллионов квадратных метров жилья. «Это рекордный показатель за всю историю страны», — оценил успех строителей президент.
Но главное — и Владимир Путин это всякий раз подчеркивал — расширение экспорта. Мало того, что АПК демонстрирует рост в процентах по отношению к прошлому году. Очень важно, что растет экспорт из России продукции АПК. Путин привел по-настоящему впечатляющие цифры: по экспорту российский АПК превзошел ВПК: в 2015 году экспорт продукции сельского хозяйства составила $16,2 млрд, стреляющий экспорт — $14,5 млрд. Еще одна цифра. Прогресс демонстрирует российские IT. За пять лет российский IT показал удвоение и составил $7 млрд.
Несырьевой экспорт — очень важный показатель. Это не только долгожданное расширение места России в международном разделении труда. Это показатель качества и конкурентоспособности производимой продукции.
В этой связи предложение президента продлить льготы для российских айтишников при уплате страховых социальных выплат можно рассматривать как результативную форму поддержки экспорта в самой передовой отрасли. Владимир Путин указал, что при этом рост IT существенно увеличил налогооблагаемую базу: «В 2010 году их налоговые отчисления составляли 28 с небольшим миллиардов рублей, а через два года — уже 54 миллиарда рублей». В принципе этот опыт можно было бы распространить и на других экспортеров, хотя в Послании об этом Путин не говорил. Зато он говорил о приоритетном развитии российской цифровой экономики и необходимости всячески поддерживать в нашей стране развитие соответствующих технологий.
Если же вернуться к экспорту, то это укрепление экономических связей с внешним миром. Без такого укрепления нет будущего. Потому что быть на уровне современных вызовов технологического прогресса просто невозможно. Россия должна наверстывать, а не увеличивать свое технологическое отставание от развитых стран прежде всего в упомянутых цифровых и других сквозных технологиях.
И дело не только в самих технологиях. Хотя по «индексу счастья» (а рссчитывают и такой индекс) самые счастливые люди по результатам опросов живут отнюдь не в технически передовых странах, а в Бутане или Вануату, но Россия таким, буддистским или банановым, счастьем не удовлетворится. Мои сограждане достойны того, чтобы жить в передовой стране. Задача политиков — двигаться в этом, а не в противоположном направлении.

Москва наблюдает активизацию деятельности различных террористических организаций в Африке, в том числе и ИГИЛ. Из-за их подрывной деятельности напряженной остается обстановка в Сомали, Южном Судане, ЦАР, в Сахаро-Сахельском регионе. Об этом, а также о некоторых аспектах торгово-экономического сотрудничества России со странами Африки в интервью корреспондентам РИА Новости Татьяне Калмыковой и Наталье Кургановой рассказал директора департамент Африки МИД РФ Валерий Уткин.
— ЮАР органично влилась в формат БРИКС, который в последнее время становится все более эффективным. В октябре состоится саммит БРИКС. Изъявляли ли другие страны африканского континента желание вступить в БРИКС? Будет ли этот вопрос обсуждаться на встрече лидеров организации в октябре на Гоа?
— ЮАР вступила в БРИКС в 2008 году, в 2013 году приняла в Дурбане саммит объединения, на полях которого был организован Форум для диалога БРИКС — Африка с приглашением руководителей африканских организаций и ряда стран континента. К саммиту 2015 года в Уфе собрались также члены ШОС и ЕврАзЭС. В Гоа предусмотрена встреча лидеров БРИКС с лидерами стран объединения "Инициатива Бенгальского залива", куда наряду с Индией входит Бангладеш, Бутан, Мьянма, Непал, Шри-Ланка и Таиланд. Эти заседания в формате аутрич позволяют "пятерке" поддерживать конструктивные контакты со многими странами, которые, по сути, являются единомышленниками участников БРИКС. Создано кредитно-финансовое учреждение — Новый банк развития (НБР) со штаб-квартирой в Шанхае. Единственное его региональное отделение решено открыть в Африке, в ЮАР. Начало работы офиса в Йоханнесбурге ожидается до конца нынешнего года. Вопрос же о расширении БРИКС, вступлении в него африканских или других стран в повестке дня не стоит.
— Китай прочно занял африканский рынок, активно ведет бизнес практически во всех африканских странах. Не опасается ли Москва, что Китай может вытеснить РФ с африканского рынка? В этой связи планируется ли нарастить сотрудничество со странами Африки, в каких областях?
— Конечно, китайские компании проявляют высокую активность на африканских рынках и вкладывают в них существенные средства. Сегодня в Африке, по имеющимся сведениям, действуют более 2 тысяч китайских фирм, в которых работают около 1 миллиона граждан КНР. Реализуется свыше 3 тысяч крупномасштабных проектов. Тем не менее конкуренция в мировой торговле — нормальное дело, а на африканском континенте с его миллиардным населением имеет немало ниш для приложения усилий различных стран и компаний.
В свою очередь, Россия проводит последовательный курс на расширение торгово-экономического взаимодействия с африканскими странами как в традиционных областях партнерства, так и по новым направлениям. Делается это, естественно, с учетом реальных возможностей, а также особенностей складывающейся конъюнктуры на мировых рынках.
В Африке, к югу от Сахары, российские экономоператоры широко представлены в энергетическом и нефтегазовом секторе. На разной стадии реализации находятся проекты компаний "ГПБ Глобал Рисорсиз", ГК "Ренова", АК "АЛРОСА" и ряда других. По нашим оценкам, есть перспективы сотрудничества в данной сфере с Анголой, Мозамбиком, Эфиопией, ЮАР, Замбией.
Развиваются связи со странами континента в области мирного использования атома, в сфере высоких технологий, в металлургическом секторе, развитии транспортной инфраструктуры, поставок автомобильной и авиационной техники. И это далеко не полный список направлений российско-африканского сотрудничества.
Последовательно расширяется правовая база для продвижения торгово-экономического взаимодействия, активно используются механизмы межправительственных комиссий. В настоящее время действуют межправкомиссии с Анголой, Гвинеей, ЮАР, Намибией, Зимбабве, Республикой Конго, Угандой, Нигерией, Ганой и Эфиопией. Ведется работа по созданию МПК с Танзанией и Кенией, а также отдельной рабочей группы по экономическому сотрудничеству с Джибути. 20 сентября этого года учреждена МПК с Мозамбиком. Деятельность МПК рассчитана на длительную перспективу и позволит сохранить наработанный потенциал взаимодействия в настоящем, а также преумножить его в будущем. Главное, что существует настрой и у российских предпринимателей, и у африканцев на расширение сотрудничества. Об этом, в частности, было заявлено в ходе делового круглого стола "Россия — Африка: расширение границ", который впервые прошел на площадке Петербургского международного экономического форума в июне текущего года.
Отдельно хотел бы отметить достаточно высокий уровень взаимодействия в гуманитарной области. Традиционно Россия оказывала существенную поддержку африканским государствам в области геморрагической лихорадки Эбола, распространившейся в странах Западной Африки, и внесла весомый вклад в борьбу с этим опасным заболеванием.
Важное значение имеет помощь России в профессиональной подготовке кадров. Растет число обучающихся в российских высших учебных заведениях африканских студентов, и сейчас их количество превысило десять тысяч человек.
— Как развивается сотрудничество с африканскими странами по антитеррористическому треку? Есть ли запрос со стороны африканских государств в его наращивании? Есть ли данные о том, что террористические группировки, действующие в африканском регионе, связаны с ИГИЛ?
— Сотрудничество в области борьбы с новыми вызовами и угрозами остается одной из составных частей наших связей с африканскими государствами и их региональными объединениями. К сожалению, приходится констатировать, что в настоящее время в Африке наблюдается активизация деятельности различных террористических организаций, пытающихся дестабилизировать обстановку во многих государствах. К наиболее опасным группировкам относятся запрещенное в Россией так называемое Исламское государство, "Боко Харам", "Аш-Шабаб", "Аль-Каида в странах исламского Магриба", "Аль-Мурабитун" и ряд других. Из-за их подрывной деятельности напряженной остается обстановка в Сомали, Южном Судане, ЦАР, в Сахаро-Сахельском регионе.
Тематика борьбы с терроризмом регулярно затрагивается в ходе встреч с африканскими партнерами на высоком уровне, во время переговоров с главами их внешнеполитических ведомств, на межпарламентском уровне. Используется механизм прямых контактов специального представителя по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Российской Федерации М.Л. Богданова с лидерами африканских государств в ходе его рабочих поездок на континент.
Большое внимание уделяется содействию усилиям Африки по укреплению национального потенциала для противодействия экстремистским группировкам. Осуществляется подготовка на базе российских профильных вузов африканских полицейских и военных кадров. Ежегодно для представителей правоохранительных органов государств Африки предоставляются места на краткосрочных курсах повышения квалификации, а также на обучение по программам высшего профессионального образования.
— Как обстоят дела с планами правительства ЮАР объявить тендер на строительство у себя новых атомных энергоблоков (этот тендер должен был быть объявлен год назад, но этого не произошло)?
— Национальный план развития энергетики ЮАР предполагает создание к 2030 году до 40 ГВт генерирующих мощностей, из которых около четверти будет приходиться на долю АЭС. В интересах реализации атомного проекта в 2013-2014 годах южноафриканцы провели консультации с рядом стран, включая Россию, и подписали соответствующие рамочные межправительственные соглашения о сотрудничестве.
В сентябре текущего года министр энергетики ЮАР Тина Джумат-Петтерссон объявила о намерении правительства в ближайшее время обнародовать предварительное техническое задание для потенциальных подрядчиков на строительство АЭС и многоцелевого исследовательского реактора и открыть соответствующий тендер. Госкорпорация "Росатом" планирует принять в нем участие.
— Какие еще страны региона готовы сотрудничать с Россией по развитию у себя атомной энергетики? В частности, обсуждается ли с Кенией перспективы участия Росатома в сооружении первой кенийской АЭС?
— Да, действительно, ряд африканских государств рассматривает возможность развития собственной атомной энергетики, чтобы удовлетворять все возрастающие внутренние потребности в электроэнергии, а также обрести новый источник внешних поступлений в национальные бюджеты. К этим странам относится и Кения.
В мае этого года государственная корпорация "Росатом" и Кенийский совет по атомной энергетике подписали в Москве меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. Документ создал основу для сотрудничества в области атомной энергетики по широкому спектру вопросов, в том числе содействие в развитии инфраструктуры атомной энергетики Кении, фундаментальные и прикладные исследования и так далее. В числе задач на ближайшую перспективу — подготовка российско-кенийского межправсоглашения о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.
Практический интерес к партнерству с Россией по развитию атомной энергетики проявляет Замбия. В мае этого года в Москве на полях восьмого международного форума "АТОМЭКСПО 2016" подписано российско-замбийское межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Ведется работа над проектами межправсоглашения о сооружении на территории Республики Замбии центра ядерной науки и технологий, а также ряда профильных межведомственных меморандумов.
— Говоря о сотрудничестве с африканскими государствами в нефтегазовой сфере, поступали ли российским компаниям предложения по работе на месторождениях, в частности в Уганде и Мозамбике)? Какие страны заинтересованы в этом, когда может быть принято решение?
— Как уже отмечалось ранее, некоторые российские компании проявляют интерес к совместным с африканцами проектам в нефтегазовой области, ведут переговоры, изучают условия местного рынка. Это, очевидно, потребует определенного времени. Что касается предложений российским компаниям по участию в разработке нефтегазовых месторождений в Уганде, то такими сведениями не располагаю. Здесь нужно учитывать и отсутствие на настоящий момент в Уганде инфраструктуры для промышленной добычи, хранения, переработки и транспортировки нефти. А в Мозамбике в октябре прошлого года по итогам тендера дочернее предприятие ОАО "НК "Роснефть" — ООО "РН-Эксплорейшн" совместно с "Эксонмобил" получило право на разведку и разработку в этой стране нефтегазовых участков.
В Республике Конго российские специалисты осуществляют проектирование нефтепровода Пуэнт-Нуар-Йе-Трешо-Ойо-Уэссо протяженностью более 1,3 тысячи километров. В Камеруне АО "ГК "РусГазИнжиниринг" в составе международного консорциума участвует в строительстве нефтепродуктопровода Лимбе-Дуала-Эдея-Яунде (380 километров). ПАО "Лукойл" совместно с американской компанией "Панатлантик" ведет нефтедобычу на шельфе Экваториальной Гвинеи.

«Кривые будущего роста вызывают улыбку»
Разговор с футурологом о его профессии
Резюме: Задачи политики смещаются от урегулирования различного масштаба конфликтов к национальному и международному регулированию в области новых технологий, полагает Карл-Хайнц Штайнмюллер.
Карл-Хайнц Штайнмюллер – самый известный писатель-фантаст ГДР, сегодня является одним из наиболее авторитетных исследователей будущего в Германии. Его прогнозы востребованы на разных уровнях – от частных компаний до различных международных организаций. О том, насколько возможно предсказать направления мирового развития, с футурологом беседует в Берлине Юрий Шпаков.
– Господин Штайнмюллер, в адрес ваших коллег-футурологов приходится слышать упреки, что ни одно из ключевых событий в мировой политике новейшего времени не было предсказано. Классический пример – падение Берлинской стены. Тогдашний канцлер Гельмут Коль и западногерманские правительственные чиновники узнали об этом из телевизионных сообщений в Варшаве, где находились с государственным визитом. Почему практическая футурология допускает подобные сбои?
– Увы, прогнозирование будущего и вправду не слишком, как мы говорим, запятнало себя славой. Правда, в 1980-е гг. уже проявлялись некоторые симптомы надвигающихся кардинальных перемен, о которых задумывались исследователи. Так, мои западноберлинские знакомые работали ассистентами у Германа Кана, американского футуролога, основателя и директора Гудзоновского института, одного из ведущих международных центров по «исследованию будущего». Кан, в частности, занимался сценариями развития Германии. И эти ассистенты однажды выложили своему шефу мысль о том, что не следовало бы исключать возможность падения Берлинской стены. На что Кан возразил: «Если в своей будущей книге я приведу столь невероятный сценарий, доверие читателя к другим вполне доброкачественным прогнозам будет безнадежно подорвано».
– Каково отношение к изучению будущего со стороны классического научного мира?
– К сожалению, назвать себя исследователем будущего может каждый, и этим занимаются и специалисты по анализу трендов, и просто сумасшедшие. В нашей среде велик удельный веc эзотериков, а также людей, раздувающих до непомерных величин всякие банальности. Некоторые мои коллеги ввиду реальной или мнимой девальвации этого понятия предпочитают не называть себя исследователями будущего. Однако интерес к этой области знаний в академических кругах Германии растет, в особенности среди молодежи. Является ли исследование будущего наукой? Однозначного ответа нет. Некоторые утверждают, что это не более чем консультационные услуги в большей степени для компаний и в меньшей – для политики. Я с этим соглашаюсь, но добавляю – консалтинг на научной основе.
– Не находите ли вы, что взгляд современных знатоков грядущего, в отличие от знаменитых авторов утопий и антиутопий первой половины прошлого века, стал более приземленным?
– С одной стороны, сами исследователи будущего не обладают достаточной фантазией или даже мужеством для фантазий. Но, с другой стороны, налицо и косность общественного восприятия. Общество не готово относиться всерьез к слишком неординарным перспективам развития. С середины 1990-х гг. мы непременно используем в разрабатываемых нами сценариях «дикую карту» (wild card) – этакие «сумасшедшие» варианты. Те, что не представляются слишком вероятными, но которые нельзя исключать полностью, потому что именно они способны развернуть ход событий.
– Это как в игре «Монополия», когда на один кон отправляешься в тюрьму.
– Совершенно верно, что-то вроде этого. Наши заказчики, чаще всего компании, считают подобный подход, если угодно, извращением, утверждают, что практической пользы из подобных сценариев не извлекут. Вот и получается, что исследователю, генерирующему радикальные идеи, сложно быть успешным. Тормозом является отсутствие адекватной широты восприятия. Большинство футурологов сходятся в том, что в мире каждое десятилетие происходят перемены основополагающего, глобального характера. Но мои коллеги редко получают от правительств заказы на сценарии радикальных перемен у себя в стране.
– Современные предсказатели строят работу на основе коммерческих договоров?
– В Германии исследования будущего осуществляются почти исключительно таким способом. Лишь в последние два года появилась кафедра исследования будущего – так называемый Institut Futur в берлинском Свободном университете. Однако это пока совсем новое явление. Независимых академических проектов в сфере футурологии больше нет. Несколько лучше дела обстоят, например, в Финляндии, Франции и США. Насколько мне известно, в России в настоящее время также не существует независимых финансируемых государством центров исследования будущего.
– А разве «независимый» и «финансируемый государством» – совместимые понятия? Вы можете представить себе власть, готовую оплачивать, скажем, сценарии своего неминуемого заката?
– Независимая, но поддерживаемая государством футурология – здесь нет никакого противоречия. Духовная независимость вполне может сочетаться с базовым бюджетным финансированием. Это важно в первую очередь для того, чтобы исследователи будущего перестали быть «наемной армией» индустрии и частного бизнеса. В Германии, например, прогнозирование потенциальных политических перемен осуществляется не футурологами, а традиционными научно-политическими институтами, такими как фонд «Наука и политика», или партийными фондами – Конрада Аденауэра, Фридриха Эберта, которые не только по природе своей не могут быть независимыми, но и применяют совсем другие инструменты. Прежде в некоторых странах исследования будущего были организованы иначе. Например, в Польской академии наук некогда существовал Комитет по вопросам будущего. Сегодня спектр исследований сузился. То, о чем вы меня спрашиваете и в чем упрекаете нашу отрасль исследований, является скорее все же не ментальной, а прежде всего структурной проблемой.
– Политики высшего эшелона, те, кто должны были бы являться вашими первейшими заказчиками, не спешат заглянуть в мир будущего, не отвечающий их представлениям, и поделиться этим с электоратом.
– Представители высшей политики еще меньше бизнеса заинтересованы в идеях, выходящих за рамки принятых представлений. Частный бизнес по крайней мере ищет новые рынки, и иногда необходимо стать радикальным, революционным, чтобы обскакать конкурентов. Один коллега в этой связи говорит о необходимости «мышления впрок». Для кажущихся непостижимыми возможностей и случайностей необходимо иметь некий «план Б».
Недавно мы проводили исследование по заказу Федерального союза германской индустрии. Речь шла о нарушениях в цепочках создания прибавочной стоимости. Мы размышляли, какие внезапные перемены могут разрушить эти цепочки. Например, fabbing, или, как еще говорят, desktop fabrications, то есть рассредоточенное производство. Исчезает потребность в гигантских производственных линиях. Появляется что-то вроде мелких мастерских, используя прежнее название, но это совершенно иной образец производства с другими цепочками поставок. Мы работали для почтовой службы DHL, изучая последствия кардинальных изменений существующих схем доставки. То есть экономика морально больше подготовлена к виражам. Возможно, в политике тоже есть те, кто привержен такому открытому подходу. Но они предпочитают не говорить об этом публично. Ведь высказывание политика тотчас подхватывают журналисты, которые перекраивают отвлеченное заявление о гипотетической возможности чего-либо в отдаленном будущем в прогноз. Да и сам по себе заказ на проведение исследования будущего – в некотором роде политический шаг, который может оказать влияние на события.
– Как глобализация влияет на способность прогнозирования? Система становится всеохватной, универсальной, очень сложной, но единой, взаимозависимой. Это дает больше оснований и инструментов для прогноза или делает его вовсе невозможным?
– Если мы в этих условиях беремся за перспективный анализ какой-либо отрасли экономики, нам необходимо рассматривать ее не только в Германии, но и в глобальном ракурсе. Другой вопрос: разворачиваются ли процессы в экономике, жизни общества, политике быстрее, чем это происходило прежде? Можно измерить срок, который проходит до появления инновации на рынке. Он, конечно, много меньше, чем прежде. Благодаря интернету налицо стремительный рост темпов при упрощении способов коммуникации. Но! Мы с супругой принялись за написание биографии Альберта Эйнштейна. И наткнулись на любопытный факт, который может избавить современных людей от чувства неизмеримого превосходства перед предыдущими эпохами. Так вот, Эйнштейн как-то утром отправил почтовую открытку из Цюриха в Берлин Максу Планку – и ответ получил вечером того же дня. Не электронная почта, конечно, но и не дилижанс, который трясется ночи напролет. Да и по информационной насыщенности мы не настолько далеко ушли вперед, как нам кажется. В Берлине в эпоху Веймарской республики существовало около трех десятков ежедневных газет, весьма оперативных, кстати, по подаче информации.
В исследованиях будущего мы имеем дело с сокращением горизонтов. Еще в 1950–1960-е гг. исследовательский горизонт в 40–50 лет – до рубежа века – считался совершенно нормальным. Когда мы теперь работаем по заказам компаний, речь идет чаще всего об одном-двух десятилетиях. Приходилось, разумеется, сталкиваться с проектами, чаще всего в энергетической отрасли, когда прогнозирование доходит до середины века. Рабочий ресурс электростанции, например, в среднем рассчитан на 30 лет, и это время необходимо планировать. Был еще один необычный проект, когда пришлось рассматривать сценарии до 2100 г. – будущее немецкого леса. Деревья растут медленно, их спиливают и используют на нужды экономики в среднем через 70 лет после посадки. Стало быть, сегодня высаживают саженцы для 2080-х годов. Но в каком климате придется расти нынешним лесопосадкам в Германии, какое количество древесины потребуется народному хозяйству через семь десятилетий из местных лесов, а сколько ее будет поступать из Сибири? Но исследования с подобным горизонтом планирования – исключения.
– Насколько процессы глобализации повлияли на внешнюю политику?
– Сама по себе глобализация лишь опосредованно сказывается на характере внешней политики и межгосударственных отношений. Ряд экономистов, например, в Великобритании утверждают, что глобализация в наше время отнюдь не масштабнее той, что была, скажем, в 1913 г. – если взглянуть на нее с точки зрения удельного веса внешнеторгового оборота и товарных потоков Британской империи. Подтверждение этому вы найдете, если обратитесь к работе Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма».
Разумеется, одно отличие от 1913 г. налицо: на экономико-политической арене взаимозависимого мира появилось значительно больше сильных игроков. В начале прошлого века Британская империя была непреложной глобальной доминантой. После окончания Второй мировой стала складываться биполярная парадигма США и СССР. В современном глобализированном мире появилось множество сильных акторов, которые, не сочтите за каламбур, являются и достаточно слабыми – как, например, нынешний Евросоюз. Перспективный анализ динамики баланса является фоном для исследований, которые мы проводим для компаний. Будет ли углубляться глобальная интеграция и кооперация на межгосударственном уровне или мир вновь, как совсем недавно, распадется на противоборствующие блоки, отделенные друг от друга протекционистскими границами? Мы непременно включаем в свои разработки подобный сценарий, отнюдь не представляющийся столь уж невероятным, например, в условиях господства кризисов, когда отдельные страны предпочитают самоизоляцию.
– Насколько реально, на ваш взгляд, ослабление или даже размывание нынешней модели монополярного мира?
– Не думаю, что до середины нынешнего века какой-либо из современных стран удастся занять столь же доминантное положение в мире, каким располагала Британская империя 100 лет назад или США в свои лучшие годы. Америка, вероятно, еще много лет будет мировым лидером, хотя и заметно обессилевшим. Многие страны будут наступать ей на пятки, Китай в первую очередь, но европейцы располагают значительными шансами – если им удастся преодолеть нынешний разлад. Мне пришлось по поручению Европейской комиссии участвовать в проектной группе «Глобальная Европа 2030–2050». Как известно, удельный вес населения Европы в мировом народонаселении, а также ее доля в мировой экономике снижаются. Что это означает и насколько данный процесс необратим? Если посмотреть на этапы развития Евросоюза от самых его истоков, то увидим, что его удельный вес в мировом народонаселении и экономике был приблизительно таким же, как сегодня. При каждом очередном расширении ЕС удельный вес его населения и доля экономики в глобальном соотношении не претерпели существенных изменений.
– Рост влияния Китая в международных отношениях сегодня многим кажется безудержным...
– Значительное торможение Поднебесной вероятно не позднее начала следующего десятилетия. Примерно к 2020 г., учитывая сокращение роста населения, китайская экономика не будет располагать тем количеством рабочих рук, что необходимы для замены нынешних работников. Приток трудовых ресурсов из сельской местности стремительно иссякает. Симптомы кадрового голода отмечают даже немецкие компании, работающие в Китае. Китай перестает быть страной с дешевым производством – растут зарплаты. Поэтому внимание западных предпринимателей все больше фокусируется, скажем, на Вьетнаме или даже отдельных странах Африки. Другой сильной стороной китайской экономики было то, что гигантские инвестиции направлялись в строительство. Однако в городах отрасль все больше сталкивается с границами своих возможностей. Излишне говорить об экологических проблемах. Согласно неофициальным оценкам, около 7% ВВП Китая уничтожается из-за отсутствия должного контроля загрязнения окружающей среды. Легкая фаза китайской экспансии уходит в прошлое. Если к 2020 г. станет реальностью заметное падение уровня ВВП, а государственно-политическая система сохранит черты нынешней косности, будущее страны не представляется безоблачным. Не бывает экспоненциального экономического роста несколько десятилетий подряд.
На этот счет нет недостатка в перспективных расчетах, например, таких, какие в 2003 г. были представлены компанией Goldman Sachs. Подобные кривые роста вызывают улыбку, потому что знакомы мне еще с 1960-х годов. Был тогда в Западной Германии физик по имени Вильгельм Фукс, любитель футурологии. Он издал книгу «Формулы для власти», в которой подсчитал экономический потенциал различных стран. К рубежу 2000 г. Китаю предстояло стать ведущей мировой экономической державой. За Поднебесной, согласно Фуксу, следовал Советский Союз, который, как мы помним, к тому времени уже минимум два десятка лет должен был жить при коммунизме. Приведенная в книге Фукса экстраполяция показателей развития оперировала реальными цифрами. Результат налицо.
– В какой степени прогресс в науке и технике необходим простому человеку? Прежде считалось, что научно-технический прогресс ведет к прогрессу социально-политическому. Но так ли это? И не пролегает ли новая граница между меньшинством, пользующимся все более фантастическими благами технологий, и большинством, живущим в относительно примитивном и традиционном обществе?
– Я бы не стал сваливать вину за пропасть между богатыми и бедными на последствия научно-технического прогресса. В последние три десятилетия господства неолиберализма богатые не считали нужным сдерживать аппетиты и, выражаясь старомодным языком, не стеснялись присваивать все большую долю общественного богатства. Благодаря развитию очевиден рывок в сфере коммуникации и обмена информацией, что делает жизнь удобной. Менее заметно влияние, оказываемое на продолжительность жизни. В Германии ожидаемая продолжительность жизни новорожденных увеличивается ежегодно на два-три месяца. Это невероятный прогресс. Возникает вопрос: насколько устойчив тренд и существуют ли границы этого роста? Предполагаю, что мы столкнемся с социальным расколом: продолжительность жизни более бедных людей, питание и жизненные условия которых хуже, будет отставать.
Благодаря науке мы можем жить дольше, наш быт, по крайней мере здесь, в Германии, все больше обрастает сложной и полезной домашней техникой – однако с насыщением домашних хозяйств высокими технологиями последнего поколения уровень удовлетворения людей отнюдь не становится выше. Очевидно, что показатель индивидуального счастья не возрастает с достижением очередного уровня благосостояния. На этот счет есть исследования, в какой мере материальные обстоятельства влияют на достижение индивидуального счастья, внутреннего ощущения удовлетворения, благополучия. Появилось даже научное направление под названием «фелицитология» (лат. felicitas – счастье). И звучат призывы заменить нынешнюю ориентацию на валовой национальный продукт показателем продукта счастья. Потому что людям нужен не валовой продукт общего пользования, а скорее индивидуальный продукт, выражающий их стремление к гармоничному внутреннему самоощущению. Существуют реальные попытки подсчета такого «валового национального счастья» (Gross National Happiness), комплексной меры качества жизни. Она включает моральные и психологические ценности. Наиболее счастливые люди, как выясняется, живут в королевстве Бутан, где уровень валового национального счастья, как считается, самый высокий в мире. Такой показатель определяется социологическими методами – путем опросов, которые, скажем, физику покажутся сомнительными. Существуют, правда, и объективные параметры, такие как индекс депрессий, самоубийств, психических расстройств и т.п. Примечательно, что США занимают в рейтинге стран со счастливым населением далеко не передовые позиции.
– А Германия?
– Индекс счастья в Германии существенно выше, чем это представляется самим немцам. Большинство на вопросы о счастье и благополучии отвечают в том смысле, что, дескать, да, мои дела идут хорошо, пожаловаться не могу, но вот что вокруг творится...
– Кажется, что человеческое сознание не успевает за техническими переменами. Может ли это привести к нарастанию напряженности? Проще говоря, не получается ли так, что люди не готовы ответственно использовать технические новации?
– Инновации «продаются» обществу так, будто они непременно несут пользу. Для функционирования существующей экономической модели необходим перманентный оборот товаров, со стороны членов общества требуется наличие постоянного – по возможности, неуклонно возрастающего – потребления, в противном случае система не будет стабильной. Некоторые эксперты утверждают, что, дескать, нет нужды внедрять иную систему экономики, необходимо лишь отсутствие роста. Подобный подход обозначается английским термином dеgrowth, или французским dОcroissance. Во Франции сформировалось даже целое движение в пользу такого подхода. Удовлетворять потребности человека подобным образом можно, поддерживать жизнеспособность экономики – нет. Ведь когда показатель экономического роста падает ниже определенного уровня, происходит неизбежное дальнейшее сползание вниз. И появление все новых технологий и производств на их основе как раз и является фактором, способным реанимировать обесценившийся капитал путем замены потребительских товаров на новые. Тем самым экономическая система поддерживается в рабочем состоянии.
Дискуссия о том, что нынешнее развитие происходит слишком быстро, а люди перегружены новшествами, непостижимыми для человеческого мозга, ведется по меньшей мере 100 лет. Историки утверждают, что процесс ускорения начался приблизительно в 1750 году. Около 1900 г. сокрушались о том, что автомобили, которых становится все больше, движутся с «огромными» скоростями (30–40 км/час), и человеку трудно ко всему этому приспособиться. Заговорили и о новых болезнях, в частности, неврастении, вызванной нервными перегрузками. В немецком языке чисто музыкальный термин «das Tempo» («темп») вошел в повседневный язык. Кстати, взгляните на обертки российских шоколадок времен 1890–1910 гг., на которых изображен Санкт-Петербург будущего. Уже тогда в них можно было найти проявление неосознанного страха: для нас всего становится слишком много.
Еще лет 15–20 назад мы жили в аналоговом мире, который большинству представлялся совершенным и потому, видимо, вечным. Сегодня нас окружают цифровые технологии, значительно изменившие и людей. Насколько реальна перспектива «постцифрового» века? Мы не достигли предела цифровых возможностей. В течение 10–15 или больше лет можно производить новые продукты цифровых технологий – совершеннее, миниатюрнее, быстрее, мощнее... Обладающие интеллектом изделия, сенсоры и т.п., все то, что объединяется понятием ambient intelligence («внешний интеллект»), займут прочное место в нашей среде обитания. Может быть, предстоит сосуществовать с определенными видами роботов. Это будут, разумеется, не известные нам человекоподобные бытовые роботы из электроники и жести с мигающими разноцветными лампочками. Для одиноких пожилых людей появятся роботы-собеседники, с которыми можно будет пообщаться, поговорить на определенные темы.
– Подобное общение с бездушной электроникой окажется еще хуже одиночества и тем самым усугубит проблему.
– Посмотрите, пожилые люди, чтобы не быть одинокими, заводят собаку. Но почему это непременно должна быть биологическая собака, а не механическая? Вы возразите, что никакая искусственно созданная собака не способна к такой широте эмоций, как ее природный собрат. Но ведь современный научный мир как раз и занят созданием эмоционального искусственного интеллекта. Робот-собеседник не будет ограничиваться заложенными в него стандартными наборами вопросов-ответов. Машина окажется в состоянии симулировать эмоции, будет распознавать душевное состояние собеседника и воспроизводить что-то схожее с человеческими чувствами. Например, как я себе представляю собственное будущее. Подхожу к своему видавшему виды автомобилю и говорю: «Открывай двери, старая жестяная посудина». А машина отвечает: «У тебя сегодня, похоже, опять настроение ни к черту». Мы с машиной поняли друг друга. Подобные технологические преобразования по воздействию на общество сравнимы разве что с последствиями одомашнивания диких животных.
С особыми ожиданиями связано развитие биотехнологий, изучение и моделирование биохимических процессов человеческого организма. Предсказателям в этой отрасли знаний представляется возможным массовый переход народного хозяйства с физико-механических технологий на биотехнологии в сочетании с нанотехнологиями. Появится возможность «выращивания» определенных вещей. Частично это происходит уже сегодня, когда генетически измененные микроорганизмы создают химические продукты. Такой подход может далеко завести, ведь уже сегодня мы говорим о синтетической биологии, когда живые существа можно создавать по определенному производственному плану. Широкомасштабные исследования не прекращаются, темпы продвижения сравнимы с динамикой развития коммуникационных и информационных технологий.
Прекрасным примером может служить картирование генов. Когда 20 лет назад ученые приступили к картированию генома человека, ожидалось, что потребуются многомиллиардные инвестиции и не меньше 15 лет, пока будут завершены исследования. Работы в целом закончились приблизительно к 2000 году. Сегодня говорят о том, что якобы за сумму немногим выше 10 тыс. долл. можно заказать картирование собственного генома, на которое уйдет около двух недель. То есть за какой-то десяток лет сроки картирования генов сократились с десяти лет до двух недель, а финансовые затраты – с миллиардов долларов до тысяч.
– Насколько реально прогнозировать международные военные угрозы, с которыми вероятнее всего столкнется человечество? Ядерное оружие по своей разрушительной силе не имеет аналогов, но не будет ли придумано нечто еще более сокрушительное?
– Существующие угрозы частично обострятся. В этой связи я думаю в первую очередь о проблеме дальнейшего распространения ядерного оружия. К сожалению, у нас отсутствуют надежные механизмы для обуздания этой застарелой проблемы. Но мы сталкиваемся с реальной перспективой появления принципиально новых видов оружия – биологического, в частности. На межгосударственном уровне существуют регулирующие конвенции относительно биологического оружия, которые худо-бедно функционируют. Но есть негосударственные акторы, обладающие значительным влиянием и немалыми финансовыми ресурсами. Речь в первую очередь о мегабизнесе – организованной преступности на глобальной сцене, контролирующей не менее 3–5% мировой экономики. Международное сообщество сталкивается с различного рода террористическими организациями. К счастью, они пока не в состоянии создавать и использовать оружие массового поражения, хотя время от времени предпринимают попытки это сделать. Сюда же можно отнести разного рода хакеров, действующих, как правило, в серой зоне. Из среды хакеров сформировалось опасное звено организованной преступности, действующее в сети. В данном случае речь может идти о порой строго организованных структурах, способы защиты от которых пока лишь весьма условны.
– Иными словами, наступает цифровое будущее глобальной организованной преступности?
– Совершенно верно – это по-настоящему большое цифровое будущее, руку к которому в неофициальном порядке приложили и спецслужбы. Ведь налицо полное размывание границ между кибервойнами, которые разыгрывают они, и киберпреступностью, преступлениями в сфере информационных технологий. В обоих случаях чаще всего не знаешь, с каким «киберагрессором» имеешь дело. У нас нет ни соответствующего глобального законодательства, ни эффективных сил быстрого реагирования для интернета.
Абсолютно новым и пока малоизученным феноменом являются «генетические» хакеры. В США для студентов в продаже имеется нечто вроде биотехнологических конструкторов. Помнится, в детстве мне дарили набор «Юный химик», из-за которого в доме начиналась страшная вонь, и мама всегда по этому поводу ругалась. Биотехнологические игрушки не пахнут, но кто знает, на что они окажутся способны? Сейчас как на легальном, так и на сером рынках «увлекательной биотехнологии» можно встретить самые невероятные предложения. Не так давно в одном уважаемом общественном фонде проходила дискуссия об опасностях, порождаемых биотехнологией. На первый план вышли две угрозы – одна из них связана с тем, что исследователи могут оказаться сумасшедшими и сконструировать нечто крайне опасное, другая – что государства-изгои смогут такими методами создать новый вид оружия массового поражения. В конце концов мы сошлись на том, что наибольшую опасность представляют генетические хакеры – сумасшедшие граждане, экспериментирующие в том или ином направлении биотехнологии. Но как поставить под контроль эти опасные игры? Вот вам еще один пример совершенно новых проблем.
– Куда движется собственно индустрия вооружений?
– Много лет назад Станислав Лем, знаменитый польский писатель-фантаст, размышлял о системах вооружения в XXI веке. Он утверждал, что к тому времени – т.е. времени, в котором мы теперь живем, – люди забудут о ядерном оружии, которое, по мнению Лема, было оружием ХХ века. В новом веке, считал он, системы вооружений будут миниатюризованы. Нельзя не вспомнить польского фантаста, когда думаешь о нынешних цифровых системах управления или, скажем, беспилотных летательных аппаратах (БПЛА). Сегодня они в состоянии нести лишь несколько килограммов груза, поэтому доставка поражающих веществ с их помощью ограниченна. Но это вопрос времени, БПЛА – настоящее оружие XXI века. Частично здесь мы сталкиваемся и со шпионской техникой, которая была на вооружении агента 007. Например, существуют идеи использования в боевых целях управляемых жуков со встроенными чипами. Такие миниатюрные средства нападения имеют существенные преимущества по сравнению с БПЛА, т.к. лучше интегрируются в воздушные потоки и потому управлять ими существенно легче.
Некоторое время назад мне пришлось участвовать в европейском международном проекте «Фестос». Нам предстояло установить, с какими опасностями может быть сопряжена разработка новых технологий. Проблема большинства новых технологий в возможности их двойного использования – как в мирных, так и военных целях. Например, мы разработали сценарий до 2030 г., отталкиваясь от реально существующей проблемы – исчезновения пчел во многих регионах. Но пчелы необходимы – они способствуют опылению растений. Возникла идея замены природных пчел на искусственных. Это должны быть биологические организмы, содержащие механические или электронные компоненты, которых именуют кибернетическими организмами или киборгами. Но этих дистанционно управляемых пчел, на которых возложена функция опыления полезных растений, вполне можно было бы переориентировать с мирного труда в сельском хозяйстве на решение военных задач.
– Нынешнее развитие высоких технологий, граничащее с самой смелой фантастикой недавнего времени, очевидно, изменит характер или даже сгладит политические вызовы?
– Скорее наоборот. Добавит новые. Иммануилу Канту 200 лет назад не приходилось задумываться, скажем, о биоэтике. Сегодня парламенты спорят о допустимости предимплантационной генетической диагностики, когда устанавливаются генетические заболевания у эмбриона перед имплантацией в полость матки, то есть до начала беременности.
В Германии принимается отдельный закон, разбирательства по которому дойдут до Конституционного суда. Складывается ситуация, когда Германия по этой проблеме располагает одним правовым актом, Нидерланды – другим, Великобритания – также собственным, в России, видимо, не существует никакого, Израиль издает собственный акт, не похожий на все остальные, т.к. иудаизм в данном направлении допускает более либеральный подход, чем христианство, а китайцев эта проблематика вообще не волнует. Подобная ситуация может привести к возникновению «предимплантационного туризма», когда заинтересованные в результатах подобной диагностики будут отправляться туда, где юридические гайки на этот счет закручены слабее. Это означает, что страны должны приступить к поискам совместной законодательной основы. Либо – они принимают решение не делать этого, настаивая на незыблемости классического суверенитета.
Сегодня растет число сфер, где предстоит принятие подобных решений – от космического права до разработки и применения нанотехнологий. Политики постоянно сталкиваются с новыми общественными темами, и потребность в регулирующей роли резко возрастет. Речь идет об экспоненциальном росте, который не идет в сравнение с регулированием в интернете, где, кстати, уже сегодня юристам не так просто пробираться через законодательные лабиринты. Впору говорить о «правовой вселенной», находящейся в состоянии взрывного роста.
Таким образом, задачи политики смещаются от разрешения различного масштаба конфликтов к национальному и международному регулированию в области новых технологий. Интересно, как найти баланс между компетентностью экспертов и демократическими процессами так, чтобы слово могли сказать и дилетанты, которые и составляют подавляющее большинство населения. Ведь их также нельзя ставить перед свершившимися фактами.
– Это подводит к вопросу, как изменится демократия.
– В Германии, да и в ряде других стран есть так называемая Пиратская партия, которая отстаивает концепцию «текучей демократии» (liquid democracy). Граждане по определению не могут хорошо разбираться одновременно во всем. «Текучая демократия» предполагает возможность делегировать свои голоса другим участникам голосования, в том числе экспертам-специалистам или политикам от разных партий. Избиратель не выбирает депутата, который будет голосовать от его имени во всех ситуациях. По каждой отдельной проблеме он имеет возможность делегировать свой голос специальному эксперту, если, конечно, сам не намерен голосовать. Происходит слияние элементов репрезентативной и прямой демократии – таким образом, как каждому избирателю наиболее удобно участвовать в голосовании. Все это не лишено смысла, хотя я не уверен, что именно такова политическая модель будущего.
– На каких основаниях может приниматься международное законодательство в будущем?
– Некоторые технологии отменяют то, что было установлено природой. В биотехнологиях это относится, например, к толкованию терминов начала и конца жизни, включающего такие понятия, как искусственное оплодотворение, предимплантационная диагностика, пересадка органов и т.п. На этом уровне национальные законодательные правила еще могут действовать. Иное дело, когда речь заходит о технологиях, с помощью которых преодолеваются не границы человеческой жизни и смерти, а пространственные рубежи, интернет, например. В таких случаях страны не только могут, но и непременно должны стремиться к договоренностям по противодействию киберпреступности. В свое время нечто подобное существовало в рамках основанного еще в 1865 г. Международного союза электросвязи, определяющего рекомендации в области телекоммуникаций и радио, а также регулирующего вопросы международного использования радиочастот. Эта организация, ныне действующая в рамках ООН, может служить примером международного консенсуса в выработке правовых норм.
Очевидная угроза будущего – опасность кибервойны, которая в интернете – или в том, что придет ему на смену – размоет границу между холодным и горячим конфликтом. Будут атаки и контратаки, но ни агрессора, ни жертву в лицо знать не будут. В отношении сухопутных войн были приняты определенные правила в рамках Вестфальского мирного договора 1648 г., или в XIX веке на Гаагской конференции – выработаны необходимые правила. А таких норм для акций в интернете, которые могут иметь многие признаки войны, не существует. Не берусь предположить, как это возможно – ведь решение кроется в огромном массиве технических деталей.
Необходимо создание универсального международного космического права. Когда в результате падения старого спутника Земли причинен ущерб – кто должен нести ответственность? Или, скажем, искусственное космическое тело на орбите не используется, но еще не полностью пришло в негодность – кто имеет право собирать этот космический металлолом?
Стоит обратить внимание на позицию США. Эта страна де-факто следует многим международным договоренностям, однако юридических обязательств путем подписания договоров на себя не берет. То есть возникают правовые «формы вежливости» или «формы общения». И такой подход мог бы стать моделью – некая смягченная правовая система, у которой больше шансов быть признанной всеми. Коллективное взаимопонимание становится выше подписей под документами. По крайней мере до тех пор, пока человечество не придет к необходимости международно-правовых основ отношений в новых сферах.

География китайской мощи
Как далеко может распространиться влияние Китая на суше и на море?
Роберт Каплан – старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности и автор книги «В тени Европы: две холодные войны и тридцатилетние скитания по Румынии и за ее пределами».
Резюме Китай очень выгодно расположен на карте мира. Благодаря этому он имеет возможность широко распространить свое влияние на суше и на море: от Центральной Азии до Южно-Китайского моря, от российского Дальнего Востока до Индийского океана.
Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 3 (май – июнь) за 2010 г. © Council on Foreign Relations, Inc.
В конце своей статьи «Географическая ось истории», опубликованной в 1904 г. и получившей мировую известность, сэр Халфорд Макиндер выразил особое беспокойство в отношении Китая. Объяснив, почему Евразия является силовым геостратегическим центром мира, он высказал предположение, что китайцы, если они смогут распространить влияние далеко за пределы своей страны, «способны превратиться в желтую опасность для мировой свободы. И как раз по той причине, что они соединят с ресурсами громадного континента протяженную океанскую границу – козырь, которого была лишена Россия, хозяйничавшая в этом осевом регионе прежде».
Вынося за скобки расистские настроения, обычные для начала XX века, а также истерическую реакцию, которую всегда вызывает на Западе появление могучей внешней силы, можно сказать, что Макиндер тревожился не зря. Если такой евразийский исполин, как Россия, был и до сих пор остается главным образом сухопутной державой, чья океанская граница блокирована арктическими льдами, то Китай сочетает в себе признаки державы и сухопутной, и морской. Его береговая линия протянулась на девять тысяч миль, изобилует удобными естественными гаванями и пролегает в зоне умеренного климата. (Макиндер даже предупреждал о том, что Китай когда-нибудь завоюет Россию.) Потенциальная зона влияния Китая простирается от Центральной Азии с ее богатейшими запасами полезных ископаемых и углеводородного сырья до основных морских путей, пересекающих Тихий океан. Позже в книге «Демократические идеалы и реальность» Макиндер предсказывал, что в конечном счете Китай будет править миром наряду с Соединенными Штатами и Великобританией, «построив для четверти человечества новую цивилизацию, не вполне восточную и не вполне западную».
Выгодное географическое положение Поднебесной настолько очевидно, что о нем не всегда вспоминают, говоря о стремительном экономическом прогрессе этой страны и напористом национальном характере китайцев. И все же это не следует забывать, поскольку рано или поздно география обеспечит Китаю ключевую роль в геополитике, каким бы извилистым ни был его путь к статусу мировой державы. (В течение последних 30 лет годовой прирост китайского ВВП превышал 10 %, но в следующие три десятилетия едва ли можно ожидать таких же темпов.) Китай сочетает в себе элементы предельно модернизированной экономики западного образца с унаследованной от древнего Востока «гидравлической цивилизацией» (термин историка Карла Виттфогеля, используемый применительно к обществам, практикующим централизованный контроль над орошением почвы).
Благодаря управлению из единого центра китайский режим способен, например, вербовать миллионные трудовые армии на строительство крупнейших объектов инфраструктуры. Это и сообщает Китаю неуклонное поступательное развитие – подобных темпов попросту нельзя ожидать от демократических государств, которые привыкли неторопливо согласовывать интересы своих граждан. Китайские лидеры формально считаются коммунистами. Но в том, что касается заимствования западных технологий и практики, они – преемники примерно 25 императорских династий, правивших в стране на протяжении четырех тысяч лет и встраивавших западный опыт в жесткую и развитую культурную систему, которая обладает, помимо всего прочего, уникальным опытом навязывания вассальных отношений другим государствам. «Китайцы, – сказал мне в начале этого года один сингапурский чиновник, – умеют добиваться своего и пряником, и кнутом, систематически чередуя оба метода».
Внутреннее развитие Китая питает его внешнеполитические амбиции. Империи редко строятся по готовому проекту, их рост происходит органически. Становясь сильнее, государство культивирует новые потребности и, как это ни парадоксально, новые опасения, побуждающие его так или иначе расширяться. Так, даже под руководством самых бесцветных президентов конца XIX века – Резерфорда Хейза, Джеймса Гарфилда, Честера Артура, Бенджамина Гаррисона – экономика Соединенных Штатов устойчиво и ровно развивалась. По мере того как страна увеличивала объем торговли с внешним миром, у нее возникали разносторонние экономические и стратегические интересы в самых отдаленных уголках света. Иногда – как, например, в Южной Америке и в Тихоокеанском регионе, – этими интересами оправдывалось военное вмешательство. В это время американская администрация еще и потому могла сосредоточиться на внешней политике, что внутри страны положение было прочным, – последнее крупное сражение индейских войн датируется 1890 годом.
Сегодня КНР укрепляет сухопутные границы и направляет свою активность вовне. Внешнеполитические амбиции эта страна проводит в жизнь столь же агрессивно, как столетием раньше – США, но по совершенно иным причинам. Пекин не практикует миссионерский подход к внешней политике, не стремится утвердить в других странах собственную идеологию или систему правления. Нравственный прогресс в международной политике – цель, которую преследует Америка; китайцев эта перспектива не привлекает. Поведение Срединного царства по отношению к другим странам целиком продиктовано его потребностью в поставках энергоносителей, металлов и стратегического сырья, необходимых для поддержания постоянно растущего жизненного уровня гигантского населения, которое составляет примерно одну пятую населения земного шара.
Чтобы решить эту задачу, Китай построил выгодные для себя сырьевые отношения и с соседними, и с удаленными странами, – со всеми, кто обладает ресурсами, в которых он нуждается для подпитывания роста. Во внешней политике Китай не может не исходить из основополагающего национального интереса – экономического выживания, и поэтому мы вправе охарактеризовать эту страну как сверхреалистичную, сверхпрагматичную державу. Отсюда стремление упрочить присутствие в различных частях Африки, где находятся большие запасы нефти и полезных ископаемых, обезопасить транспортные пути в Индийском океане и Южно-Китайском море, связывающие побережье страны с арабо-персидским миром, который столь богат углеводородным сырьем. По существу лишенный выбора в своих действиях на международной арене, Пекин не особенно заботится о том, с какими режимами ему приходится иметь дело; в партнерах ему нужна стабильность, а не добропорядочность, как ее понимает Запад. А поскольку некоторые из этих режимов – скажем, Иран, Мьянма (известная также как Бирма) и Судан, – погружены во мрак отсталости и авторитаризма, неустанный поиск поставщиков сырья, который Китай ведет по всему свету, порождает конфликты между ним и Соединенными Штатами с их миссионерской ориентацией. Существуют трения и с такими странами, как Индия и Россия, в чьи сферы влияния Пекин пытается проникнуть.
Разумеется, он никак не угрожает существованию этих государств. Вероятность войны между Китаем и США незначительна; китайская армия представляет для Соединенных Штатов лишь косвенную опасность. Речь здесь идет главным образом о вызове географического свойства – несмотря на принципиальные разногласия по вопросам внешнего долга, структуры товарообмена или глобального потепления. Зона китайского влияния, формирующаяся в Евразии и Африке, постоянно растет, причем не в том поверхностном, чисто количественном смысле, какой придавали этому понятию в XIX веке, а в более глубоком, отвечающем эпохе глобализации. Преследуя простую цель – надежно удовлетворить свои экономические потребности, Китай сдвигает политическое равновесие в сторону Восточного полушария, и это не может не затрагивать самым серьезным образом интересы Соединенных Штатов. Пользуясь удобным положением на карте мира, Китай распространяет и расширяет свое влияние везде и всюду – от Центральной Азии до Южно-Китайского моря, от российского Дальнего Востока до Индийского океана. Эта страна превращается в мощную континентальную державу, а политику таких государств, согласно знаменитому изречению Наполеона, нельзя отделить от их географии.
Пограничный болевой синдром
Синьцзян и Тибет – два наиболее значимых региона в пределах китайского государства, чьи жители смогли сохранить самобытность, устояв перед преимущественным положением китайской цивилизации. В известном смысле именно самобытный характер и той и другой области делает Китай похожим на империю. Кроме того, этническая напряженность в обоих регионах осложняет отношения Пекина с прилегающими к ним государствами.
«Синьцзян» означает «новое владение»; так называется китайский Туркестан, самая западная китайская провинция, в два раза превосходящая по площади Техас и отделенная от центральных районов страны пустыней Гоби. Хотя государственность Поднебесной в той или иной форме насчитывает тысячелетия, Синьцзян официально стал ее частью лишь в конце XIX века. С тех пор история этой провинции, как заметил еще в прошлом веке английский дипломат сэр Фицрой Маклин, «была исключительно неспокойной»; Синьцзян то и дело восставал и временами добивался полной независимости от Пекина. Так продолжалось вплоть до 1949 г., когда коммунистические войска Мао Цзэдуна вторглись в Синьцзян и силой присоединили провинцию. И тем не менее сравнительно недавно, в 1990 г., и в прошлом, 2009 г., ее тюркское население – уйгуры, потомки тюркских племен, правивших в VII–VIII вв. Монголией, – восставало против пекинского режима.
Уйгуров в Китае насчитывается лишь около восьми миллионов – менее одного процента от общей численности населения, однако в Синьцзяне их 45 %, почти половина. Основной этнос Китая, народность хань, населяет плодородные низменные регионы в центре страны и на побережье Тихого океана, тогда как засушливые плоскогорья на западе и юго-западе являются историческими местами обитания уйгурского и тибетского меньшинств. Подобное распределение населения остается источником постоянной напряженности, поскольку Пекин считает, что современное китайское государство должно осуществлять в горных районах жесткий и безраздельный контроль. Стремясь прочно привязать к себе обе области – вместе с запасами нефти, природного газа, медной и железной руды, которые находятся в их недрах, – Пекин на протяжении нескольких десятилетий целенаправленно переселял туда ханьцев из центральных областей. Кроме того, он усердно заигрывал с независимыми тюркскими республиками в Центральной Азии – отчасти для того, чтобы лишить мятежных синьцзянских уйгуров всякого потенциального тыла.
Налаживая связи с правительствами центральноазиатских республик, китайское руководство преследовало и другую цель – расширить зону своего влияния. Китай глубоко проник в Евразию уже сейчас, но этого все еще недостаточно для удовлетворения его потребности в природных ресурсах. Влияние Пекина в Центральной Азии символизируют два крупных трубопровода, строительство которых близится к завершению: один пролегает через Казахстан и предназначен для снабжения Синьцзяна нефтью, добываемой в Каспийском море; по другому, проходящему через Казахстан и Узбекистан, в Синьцзян будет поступать природный газ из Туркмении. Мало того: острая нужда в природных ресурсах заставляет Пекин пускаться в довольно рискованные предприятия. В истерзанном войной Афганистане он ведет разработку месторождения меди, находящегося к югу от Кабула, и давно присматривается к запасам железа, золота, урана и драгоценных камней (одни из последних в мире нетронутых залежей). Пекин рассчитывает проложить в Афганистане и в Пакистане дороги и трубопроводы, которые свяжут многообещающий центральноазиатский регион, где он утверждает свое господство, с портовыми городами на берегу Индийского океана. Так что в стратегическом плане географическое положение Китая только улучшится, если Соединенным Штатам удастся стабилизировать ситуацию в Афганистане.
Тибет, как и Синьцзян, играет принципиальную роль для государственного самосознания китайцев, и, подобно Синьцзяну, осложняет взаимоотношения Китая с другими государствами. Скалистое Тибетское нагорье, богатое железной и медной рудой, занимает колоссальное пространство. Именно поэтому Пекин испытывает все большую тревогу в связи с возможностью автономии Тибета, не говоря уже о полной его независимости, и с таким усердием строит шоссе и железные дороги, связывающие этот регион с другими частями страны. Если бы Тибет отделился, от Китая осталось бы лишь куцее охвостье; к тому же Индия в этом случае резко усилилась бы на субконтиненте за счет присоединения северной зоны (речь идет о спорных районах в принадлежащем Китаю Кашмире, а также об индийском штате Аруначал-Прадеш, которые по площади составляют почти 150 кв. км. – Ред.).
Индия с ее более чем миллиардным населением уже сейчас рассекает тупым клином зону китайского влияния в Азии. Это особенно хорошо видно на карте «Великого Китая», помещенной в книге Збигнева Бжезинского «Большая шахматная доска» (1997). В известной степени географическое положение Китая и Индии действительно обрекает их на соперничество: страны-соседи с гигантским населением, богатейшими и древнейшими культурами давно притязают на одни и те же территории (например, индийский штат Аруначал-Прадеш). Проблема Тибета только осложняет ситуацию. Индия предоставила убежище правительству далай-ламы, с 1957 г. находящемуся в изгнании. Даниель Твайнинг, старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла, считает, что недавние инциденты на китайско-индийской границе «могут объясняться беспокойством Китая по поводу преемника далай-ламы». Ведь вполне вероятно, что следующий далай-лама окажется родом из тибетского культурного пояса, включающего северную Индию, Непал и Бутан, а значит, более склонным к проиндийской и, соответственно, антикитайской ориентации. Китаю и Индии предстоит сыграть между собой «по-крупному» не только в этих регионах, но также в Бангладеш и Шри-Ланке. Синьцзян и Тибет, как и раньше, остаются внутри официально признанных границ Китая, но, принимая во внимание натянутые отношения между китайским правительством и жителями обеих провинций, можно ожидать, что в будущем попытки Пекина распространить свое влияние за пределы ханьского этнического большинства встретят серьезное противодействие.
Ползучее влияние
Даже на тех отрезках границы, где Китаю ничто не угрожает, сама форма страны выглядит пугающе незавершенной, как если бы в этих местах были изъяты части некогда существовавшего Великого Китая. Северная граница Китая охватывает Монголию, громадную территорию, которая выглядит словно клок, выдранный из его «спины». Плотность населения Монголии – среди самых низких в мире, и близость городской китайской цивилизации представляет для нее несомненную демографическую угрозу. Завоевав некогда Внешнюю Монголию, чтобы получить доступ к более пригодным сельскохозяйственным землям, ныне Китай готов покорить ее вновь, но уже на современный лад – поставив себе на службу запасы нефти, угля, урана, а также роскошные пустующие пастбища. Поскольку неконтролируемая индустриализация и урбанизация превратила Китай в крупнейшего мирового потребителя алюминиевой, медной, свинцовой, никелевой, цинковой, оловянной и железной руды (его доля в мировом потреблении металлов за последнее десятилетие подскочила с 10 до 25 %), китайские горнорудные компании откровенно делают ставку на разработку богатых недр соседней страны. Взаимоотношения с Монголией лишний раз показывают, как широко простираются империалистические замыслы Пекина, – особенно если вспомнить, что ранее Китай уже поставил под контроль Тибет, Макао и Гонконг.
К северу от Монголии и трех северо-восточных китайских провинций лежит российский Дальний Восток – обширнейшая, в два раза превосходящая Европу по площади депрессивная область с крайне немногочисленным и постоянно убывающим населением. Русское государство окончательно включило в себя эти территории в XIX – начале XX века, когда Китай был крайне обессилен. В настоящее время он окреп, а власть российского правительства нигде так не слаба, как в этой восточной трети России. При этом совсем рядом с семимиллионным русским населением Дальнего Востока (к 2015 году его численность может сократиться до 4,5 млн), в трех приграничных провинциях Китая, проживает около 100 млн человек. По плотности они превосходят российский Дальний Восток в 62 раза. Китайские мигранты просачиваются в Россию, наводняя Читу к северу от монгольской границы, а также другие города региона. Доступ к ресурсам остается главной целью китайской внешней политики в любом регионе мира, и малонаселенный российский Дальний Восток, располагающий огромными запасами природного газа, нефти, строевого леса, алмазов и золота, не является исключением. «Москва с подозрением взирает на хлынувшие в этот регион потоки многочисленных китайских поселенцев, следом за которыми тянутся лесозаготовительные и горнорудные компании», – писал минувшим летом Дэвид Блэр, корреспондент лондонской Daily Telegraph.
Как и в случае с Монголией, никто не опасается, что китайская армия когда-нибудь завоюет или формально аннексирует российский Дальний Восток. Страх внушает другое: все более заметное ползучее демографическое и экономическое влияние Пекина в этом регионе (частью которого Китай кратковременно владел в эпоху правления династии Цин). В период холодной войны пограничные споры Китая и Советского Союза привели к тому, что в прилегающих районах Сибири были размещены мощные войсковые части, насчитывавшие сотни тысяч человек; временами напряженность на границе выливалась в прямые столкновения. В конце 1960-х периодические трения привели к разрыву отношений между КНР и СССР. Географический фактор и сейчас вполне способен стать причиной размолвки Китая и России, поскольку нынешний их союз носит чисто тактический характер. Это может быть выгодно Соединенным Штатам. В 1970-х гг. администрация президента Никсона оказалась в выигрыше в результате столкновения между Пекином и Москвой и положила начало новым отношениям с Китаем. В будущем, когда последний станет по-настоящему великой державой, Соединенные Штаты, по-видимому, могли бы заключить стратегический союз с Россией, чтобы уравновесить влияние Срединного царства.
Южные перспективы
Влияние Китая распространяется также на юго-восток. Здесь, в сравнительно слабых государствах Юго-Восточной Азии, строительство будущего Великого Китая встречает наименьшее сопротивление. Существует не так уж много серьезных географических преград, отделяющих Китай от Вьетнама, Лаоса, Таиланда и Мьянмы. Естественным центром сферы влияния, которая охватывает бассейн реки Меконг и связывает все страны Индокитая сетью наземных и водных транспортных путей, должен стать город Куньмин, находящийся в китайской провинции Юньнань.
Самая большая страна материковой части Юго-Восточной Азии – Мьянма. Если Пакистан, постоянно находящийся под угрозой распада, можно назвать азиатскими Балканами, то Мьянма скорее напоминает Бельгию начала XX века, так как над ней постоянно нависает угроза быть захваченной могущественными соседями. Подобно Монголии, российскому Дальнему Востоку и другим территориям, прилегающим к сухопутным границам Китая, Мьянма – слабое государство, весьма богатое природными ресурсами, в которых крайне нуждается Китай. Китай и Индия борются за право заняться модернизацией глубоководного порта Ситуэ на мьянманском побережье Индийского океана, причем обе страны питают надежду проложить в будущем газопровод к месторождениям на шельфе Бенгальского залива.
Если говорить о регионе в целом, то Пекин применяет здесь, в несколько обновленном виде, известный стратегический принцип «разделяй и властвуй». В прошлом он вел сепаратные переговоры с каждой страной – членом Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но никогда не вступал в контакты с этим блоком как единым целым. Даже недавно вступившее в силу соглашение о зоне свободной торговли, которое он заключил со странами АСЕАН, показывает, как искусно Китай развивает выгодные для себя связи с южными соседями. Он использует эту организацию в качестве рынка сбыта дорогостоящих китайских товаров, покупая в странах АСЕАН дешевую сельскохозяйственную продукцию. Отсюда неизменное активное сальдо торгового баланса с китайской стороны, тогда как страны АСЕАН постепенно превращаются в свалку для промышленных товаров, произведенных дешевой рабочей силой в городах Китая.
Все это происходит на фоне утраты Таиландом прежнего значения регионального лидера и естественного противовеса Китаю. Еще в недавнем прошлом весьма сильное государство, Таиланд в последнее время испытывает серьезные внутриполитические затруднения. Тайская правящая фамилия с болезненным королем во главе уже не может, как прежде, выполнять стабилизирующую функцию, а тайская армия поражена фракционными раздорами. (Китай активно развивает двустороннее военное сотрудничество и с Таиландом, и с другими странами Юго-Восточной Азии, используя то обстоятельство, что США уделяют не слишком много внимания военно-стратегическому положению этого региона, так как им приходится тратить силы главным образом на операции в Афганистане и Ираке.)
Две страны к югу от Таиланда – Малайзия и Сингапур – вовлечены в ответственный процесс перехода к демократической форме правления, между тем как их прежние лидеры, Махатхир Мохамад и Ли Куан Ю, – сильные личности, перестроившие свои государства, – сходят со сцены. В экономическом плане Малайзия все больше втягивается в сферу влияния Китая, несмотря на то, что живущие в ней этнические китайцы чувствуют постоянную угрозу со стороны мусульманского большинства. Что же касается Сингапура, населенного в основном этническими китайцами, то его правительство боится оказаться в вассальной зависимости от Поднебесной; в последние годы оно завязало тесные отношения с Тайванем и проводит с ним совместные военные учения. Ли Куан Ю открыто призвал Соединенные Штаты, как и прежде, участвовать в жизни региона, оказывая ему военную и дипломатическую поддержку. Положение Индонезии также противоречиво: с одной стороны, она нуждается в присутствии американского флота, чтобы чувствовать себя защищенной от возможной китайской угрозы, с другой – опасается, что в других странах исламского мира ее видимое союзничество с США может вызывать раздражение.
Поскольку американское влияние в Юго-Восточной Азии миновало зенит и идет на убыль, а влияние Китая постоянно растет, государства региона все чаще объединяют усилия, чтобы противостоять стратегии «разделяй и властвуй», которую стремится реализовать Пекин. Так, например, Индонезия, Малайзия и Сингапур заключили союз для борьбы с морским пиратством. Чем больше эти государства будут уверены в собственных силах, тем меньшую опасность для них будет представлять дальнейшее укрепление Китая.
Ситуация в армии
Центральная Азия, Монголия, российский Дальний Восток и Юго-Восточная Азия – естественные зоны китайского влияния. Однако политические границы этих зон в будущем едва ли изменятся. Принципиально иной выглядит ситуация на Корейском полуострове: в этом месте карта Китая предстает в особенно урезанном виде, и здесь политические границы еще вполне могут сместиться.
Наглухо отгородившийся от мира северокорейский режим неустойчив в самой своей основе, и его крушение грозит затронуть весь регион. Как бы «свисая» с Маньчжурии, Корейский полуостров занимает положение, которое позволяет полностью контролировать морские торговые пути, ведущие в северо-восточный Китай. Разумеется, никто всерьез не думает, что Китай аннексирует какую-либо часть полуострова, но нет сомнений в том, что его по-прежнему раздражает, когда другие страны слишком явно осуществляют свой суверенитет в этом регионе, особенно на севере. И хотя Пекин поддерживает сталинистский режим Северной Кореи, он явно вынашивает в отношении Корейского полуострова определенные планы на будущее – по завершении царствования Ким Чен Ира. Похоже, сразу после этого китайцы намерены отправить обратно тысячи перебежчиков из КНДР, нашедших пристанище в Китае, и создать с их помощью благоприятную политическую основу для постепенного экономического овладения регионом в бассейне реки Тумыньцзян (Туманная). Там соседствуют три страны – Китай, Северная Корея и Россия, и существуют благоприятные условия для развития морской торговли с Японией, а через нее – с Тихоокеанским регионом в целом.
Это одна из причин, по которой Пекин хотел бы создать на месте теперешней Северной Кореи государство пусть и авторитарного типа, но гораздо более модернизированное. Именно такое государство могло бы стать буфером между Китаем и динамичной южнокорейской демократией, опирающейся на средний класс. Впрочем, возможное объединение Корейского полуострова также может оказаться выгодным для КНР. После воссоединения Корея скорее всего будет националистическим образованием, в известной степени враждебным и по отношению к Китаю, и к Японии – странам, в прошлом пытавшимся ее оккупировать. Но корейская неприязнь к Японии значительно сильнее, нежели к Китаю. (Япония оккупировала полуостров с 1910 по 1945 г., и Сеул и Токио продолжают вести спор о статусе островков Токдо/Такешима.) Экономические отношения нового государства с Китаем наверняка окажутся более прочными, чем с Японией: объединенная страна будет в большей или меньшей степени находиться под контролем Сеула, а Китай уже сейчас самый крупный торговый партнер Южной Кореи. Важно, наконец, и то, что объединенная Корея, отчасти тяготеющая к Пекину и, напротив, не приемлющая Японию, не будет видеть смысла в том, чтобы и дальше сохранять на своей территории американские войска. Иными словами, нетрудно представить себе будущее Кореи в составе Великого Китая и то время, когда военное присутствие США в Северо-Восточной Азии начнет сокращаться.
Как показывает пример Корейского полуострова, на сухопутных границах китайцы вправе ожидать скорее благоприятное, чем опасное для себя развитие событий. Еще Макиндер полагал, что Китай сможет со временем стать великой сухопутной и морской державой, которая как минимум затмит Россию в Евразии. Политолог Джон Миршеймер писал в своей книге «Трагедия великодержавной политики», что «самыми опасными государствами в системе международных отношений являются континентальные державы с большими армиями». И по мере того как Китай приближается к статусу континентальной державы, возникают все основания опасаться его влияния. Однако КНР лишь отчасти отвечает определению Миршеймера: ее вооруженные силы, насчитывающие 1,6 млн человек, – крупнейшие в мире, но в ближайшие годы Пекину не под силу создать современные экспедиционные войска. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проявила себя во время землетрясения в Сычуани в 2008 г., недавних этнических беспорядков в Тибете и Синьцзяне, пекинской олимпиады 2008 г., проведение которой требовало особых мер безопасности. Однако, как заметил Абрахам Денмарк, сотрудник Центра разработки новой стратегии национальной безопасности США, это доказывает лишь способность НОАК перебрасывать войска из одной части материкового Китая в другую. Но вовсе не говорит о том, что она в состоянии перемещать тяжелое вооружение и ресурсы, необходимые для развертывания войсковых частей в ходе масштабных военных операций. Впрочем, даже если такая возможность появится, это, по-видимому, мало что изменит: маловероятно, что подразделения НОАК будут пересекать границы Китая по каким-либо иным причинам, нежели серьезный политический просчет (если, например, дело дойдет до новой войны с Индией) или необходимость заполнить внезапно возникшие пустоты на карте (если рухнет северокорейский режим). Но Китай и без того вполне способен заполнить возможные области силового вакуума вблизи любого участка своих протяженных границ с помощью такого оружия, как демографическое и экономическое давление: у него попросту нет нужды опираться при этом на экспедиционные войска.
Беспрецедентная мощь Китая на суше отчасти объясняется успехами китайских дипломатов, которые в последние годы приложили немало стараний, чтобы урегулировать многочисленные пограничные споры с республиками Центральной Азии, Россией и другими соседями (Индия в этом ряду является бросающимся в глаза исключением). Значение этой перемены трудно переоценить. Отныне границы Маньчжурии не испытывают колоссального военного давления извне, а ведь в годы холодной войны из-за этой постоянной угрозы Мао Цзэдун был вынужден расходовать львиную долю оборонного бюджета на сухопутные войска и пренебрегать военно-морскими силами. Великая Китайская стена лучше всего свидетельствует о том, что, начиная с глубокой древности и по наши дни, Китай неизменно тревожила угроза внешней агрессии на суше. Теперь он может вздохнуть свободно.
Обретение возможности стать морской державой
Благодаря сложившейся ситуации на суше Китай может в спокойной обстановке заняться укреплением своего флота. В то время как для прибрежных городов-государств или островных стран стремление наращивать военно-морскую мощь представляется чем-то самоочевидным, для держав, которые подобно Китаю на протяжении всей своей истории были замкнуты в пределах материка, это выглядит роскошью. В данном случае, однако, подобное состояние легко достижимо, поскольку береговая линия, которой природа наделила Поднебесную, не уступает по своим качествам ее внутренним областям. Китай занимает господствующее положение на тихоокеанском побережье Восточной Азии в зоне умеренного и тропического климата, а южная граница страны находится в непосредственной близости к Индийскому океану, и в будущем ее можно связать с побережьем сетью дорог и трубопроводов. В XXI веке Пекин будет проецировать вовне «жесткую силу» прежде всего с помощью своего военно-морского флота.
Нельзя не отметить, что на море Китай сталкивается с гораздо более враждебным окружением, чем на суше. Проблемной зоной для китайского флота является так называемая «первая островная гряда»: Корейский полуостров, Курильские острова, Япония (включая острова Рюкю), Тайвань, Филиппины, Индонезия и Австралия. Любое звено в этой цепи, за исключением Австралии, в будущем может стать горячей точкой. Китай уже сейчас вовлечен в споры о принадлежности различных участков дна Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, богатых энергоносителями: с Японией предметом дискуссии являются острова Дяоюйтай/Сэнкаку, с Филиппинами и Вьетнамом – острова Спратли. Подобные распри помогают Пекину подогревать националистические настроения внутри страны, но китайским военно-морским планировщикам от этого не легче: положение дел на театре потенциального противоборства представляется им крайне безрадостным.
Первая островная гряда, по мнению сотрудников Колледжа ВМФ США Джеймса Холмса и Тоши Йошихары, представляет собой нечто вроде «Великой Китайской стены, развернутой против Китая». Это эффективно организованный оборонительный рубеж, выстроенный союзниками Соединенных Штатов наподобие сторожевых вышек, позволяющих наблюдать за Китаем и, если понадобится, воспрепятствовать его проникновению в воды Тихого океана. Реакция Пекина на своеобразную блокаду временами была агрессивной. Морская мощь обычно не проявляется столь жестко, как сухопутная: как таковые корабли не могут занимать большие пространства и предназначены для проведения операций, которые, вообще говоря, сами по себе более важны, чем морские сражения, а именно для обороны торговых путей.
Казалось бы, можно было ожидать, что Китай станет не менее снисходительной державой, чем великие морские нации прошлого – Венеция, Великобритания и Соединенные Штаты, – и будет, как они, заботиться в первую очередь о сохранении мира на морях, что предполагает среди прочего и свободу торговли. Однако он не столь уверен в себе. По-прежнему сознавая свою неполную защищенность на море, Пекин задействует по отношению к Мировому океану чисто территориальный подход. Сами по себе понятия «первая островная гряда» и «вторая островная гряда» (последняя включает остров Гуам, принадлежащий США, и Северные Марианские острова) подразумевают, что в глазах китайцев эти архипелаги представляют собой не что иное, как отроги материкового Китая. Глядя на прилегающие к их стране моря сквозь призму мышления в терминах «игры с нулевой суммой», китайские адмиралы выступают наследниками агрессивной философии американского военно-морского стратега начала XX века, Альфреда Тайера Мэхэна, который отстаивал концепции «контроля над морями» и «решающего сражения». Однако в настоящее время они не располагают достаточно мощным флотом для решения своих задач, и это расхождение между обширными притязаниями и реальными возможностями привело в последние несколько лет к ряду нелепых инцидентов.
В октябре 2006 г. китайская подводная лодка вела слежение за американским авианосцем Kitty Hawk, после чего всплыла на поверхность вблизи от него, на расстоянии торпедного выстрела. В ноябре 2007 г. китайцы не разрешили Kitty Hawk и его ударной группе, искавшей укрытия от надвигавшегося шторма, войти в гонконгскую гавань Виктория. (В 2010 г. Kitty Hawk все же нанес визит в Гонконг.) В марте 2009 г. группа кораблей НОАК помешала работе американского судна дальнего гидроакустического наблюдения Impeccable, когда оно открыто проводило операции за пределами 12-мильной территориальной зоны КНР в Южно-Китайском море. Китайцы преградили путь американскому кораблю и совершали угрожающие маневры, как если бы намеревались его таранить. Все это говорит не столько о серьезной силе, сколько о недостаточной развитости китайского флота, которую пока не удалось преодолеть.
О твердом желании Китая обеспечить свои позиции на море свидетельствуют и крупные приобретения последних лет. Пекин стремится использовать не реализованные до сих пор асимметричные возможности, чтобы перекрыть американскому флоту доступ в Южно-Китайское море и в китайские прибрежные воды. Китай модернизировал свои эсминцы и намерен обзавестись одним-двумя авианосцами, но действует точечно и не склонен скупать военные суда без особого разбора. Он предпочел сосредоточить усилия на строительстве дизельных, атомных и ракетных подводных лодок нового типа. Как считают Сет Кропси, бывший помощник заместителя министра военно-морских сил США, и Рональд О'Рурк, сотрудник Исследовательской службы Конгресса США, Китай способен в течение 15 лет создать флот подводных лодок, который превзойдет американский аналог, насчитывающий в настоящее время 75 боеготовных подводных лодок. Более того, китайские военно-морские силы, по словам Кропси, намереваются ввести в действие систему наведения противокорабельных баллистических ракет, используя в ней загоризонтные радиолокаторы, космические спутники, донные гидролокационные сети и оборудование для компьютерных войн. В сочетании с формирующимся подводным флотом такая система в будущем должна помешать беспрепятственному доступу военно-морских сил США в наиболее значимые области Тихого океана.
Пытаясь установить контроль над прибрежной зоной в Тайваньском проливе и Восточно-Китайском море, Пекин также совершенствует группу морских тральщиков, покупает у России истребители четвертого поколения и развернул вдоль побережья около полутора тысяч российских ракет класса «земля-воздух». Даже вводя в действие систему подземных оптико-волоконных кабелей далеко на западе страны, вне пределов досягаемости морских ракет потенциального противника, китайцы исходят из агрессивной стратегии, предполагающей поражение символов американской мощи – авианосцев.
Разумеется, в обозримом будущем Китай не собирается атаковать американские авианосцы, и он по-прежнему крайне далек от того, чтобы бросить Соединенным Штатам прямой военный вызов. Однако налицо стремление нарастить на своих берегах необходимый потенциал устрашения, чтобы американцы не смели вводить свои корабли, когда и где им того захочется, в пространство между первой островной грядой и китайским побережьем. Поскольку способность влиять на поведение противника составляет самую суть любой державы, эта стратегия лишний раз доказывает, что планы строительства Великого Китая реализуются не только на суше, но и на море.
На очереди – Тайвань
Для создания Великого Китая особенно важно будущее Тайваня. Тайваньская проблема часто обсуждается в терминах нравственности: Пекин настаивает на необходимости восстановить целостность национального наследия и объединить Китай ради блага всех этнических китайцев; Вашингтон печется о сохранении образцовой демократии, какой является Тайвань. Однако подлинную проблему следует искать в другом. Как говорил американский генерал Дуглас Макартур, Тайвань – это «непотопляемый авианосец», занимающий позицию ровно посередине береговой линии Китая. Именно отсюда, по мнению военно-морских планировщиков Холмса и Йошихары, такая держава как США может «проецировать силу» в сторону китайского побережья и прилегающих к нему районов. Если Тайвань вернется в лоно материкового Китая, то китайский флот не только внезапно окажется в стратегически выгодной позиции по отношению к первой островной гряде, но и будет в состоянии свободно, в беспрецедентных масштабах, проецировать свою мощь за пределы этой гряды. Очень часто, говоря о будущем мировом порядке, употребляют слово «многополярный», – но только слияние Тайваня с материковым Китаем ознаменовало бы возникновение в Восточной Азии действительно многополярной военной ситуации.
Согласно результатам исследования, проведенного в 2009 г. RAND Corporation, к 2020 г. Соединенные Штаты не смогут, как раньше, защитить Тайвань в случае нападения Китая. Китайцы, говорится в отчете, к этому времени будут в состоянии нанести США поражение в возможной войне в Тайваньском проливе, даже если американцы будут иметь в своем распоряжении истребители пятого поколения F-22, две авианосных ударных группы и сохранят доступ к авиабазе Кадена на японском острове Окинава. В отчете делается акцент на боях в воздухе. Здесь же указывается, что китайцы по-прежнему будут стоять перед необходимостью высаживать на острове многотысячный пехотный десант, а их транспортные суда останутся уязвимыми для американских подлодок. Освещая ситуацию с разных сторон, отчет, однако, не может скрыть тревожной тенденции. Китай отделяют от Тайваня всего-навсего сто миль, тогда как Соединенным Штатам придется доставлять свои войска с другого конца планеты, причем действовать в условиях более ограниченного доступа к иностранным базам, чем в период холодной войны. Стратегия создания препятствий на пути перемещения американских военных кораблей в определенных морских зонах не просто преследует цель держать их подальше от китайских берегов, но и в особенности направлена на то, чтобы упрочить доминирующее положение Китая в акватории Тайваня.
Пекин делает все, чтобы взять Тайвань в тесное кольцо не только в военном, но и в экономическом и социальном плане. Примерно 30 % тайваньского экспорта приходятся на Китай. Еженедельно между Тайванем и материковым Китаем совершается 270 коммерческих авиарейсов. В последние пять лет две трети тайваньских компаний осуществили инвестиции в китайскую экономику. Ежегодно остров посещают около полумиллиона туристов с материка, а 750 тысяч тайваньцев проживают в Китае, проводя там каждый год по шесть месяцев. Углубляющаяся интеграция выглядит весьма привлекательно, но вот чем этот процесс разрешится, пока сказать трудно. Так или иначе, его исход будет иметь ключевое значение для политики великих держав в этом регионе. Если Соединенные Штаты попросту отдадут Тайвань Пекину, то Япония, Южная Корея, Филиппины, Австралия и другие американские союзники в Тихоокеанском регионе, а также Индия и даже некоторые африканские государства начнут сомневаться в прочности обязательств, которые берет на себя Вашингтон. Это может побудить некоторые страны к сближению со Срединным царством, и тогда формирующийся Великий Китай охватит едва ли не все Восточное полушарие.
В этом заключается одна из причин, по которым Вашингтон и Тайбэй должны искать асимметричные ответы на военную угрозу со стороны Пекина. Им следует стремиться не к тому, чтобы нанести Пекину поражение в возможной войне в Тайваньском проливе, а к тому, чтобы тот ясно осознал: подобная война обойдется для него недопустимо дорого. Если эта цель будет достигнута, американцам удастся сохранять функциональную независимость Тайваня до тех пор, пока Китай не станет более либеральным обществом, – тем самым они смогут сохранить и доверие союзников. В этом смысле действия администрации Обамы, заявившей в начале 2010 г. о намерении продать Тайваню вооружений на общую сумму 6,4 млрд долларов, имеют принципиальное значение для политики США в отношении Китая и, шире, всей Евразии. Кстати, нельзя сказать, что трансформация Китая изнутри – несбыточная мечта: миллионы туристов, прибывающих на Тайвань с материка, видят тамошние оживленные политические ток-шоу и крамольные заголовки в книжных магазинах, и это наверняка оказывает на них влияние. Тем не менее, хотя это звучит несколько парадоксально, демократический Китай может оказаться еще более динамичной великой державой в экономическом и, как следствие, в военном плане, чем Китай репрессивный.
Концентрируя военно-морские силы на тайваньском направлении, Пекин не забывает укреплять присутствие своего флота и в Южно-Китайском море, которое служит для него воротами в Индийский океан и обеспечивает доступ к мировым путям транспортировки энергоносителей. На этом направлении основные проблемы создают пираты, радикальные исламисты и крепнущий морской флот Индии, в том числе и вблизи труднодоступных морских зон, через которые вынуждены проходить китайские нефтяные танкеры и торговые суда. В геостратегическом плане Южно-Китайское море, как говорят многие, может стать «вторым Персидским заливом». Еще в первой половине XX века Николас Спайкмен, специалист по геополитике, заметил, что на протяжении всей истории государства желавшие утвердить свой контроль над прилегающими морями втягивались в «периферическую наземную и морскую экспансию». Греция стремилась подчинить Эгейское море, Соединенные Штаты – Карибское, и вот теперь Китай – Южно-Китайское. Спайкмен называл Карибское море «Средиземным морем Америки», чтобы подчеркнуть его значение для Соединенных Штатов. Южно-Китайское море в ближайшие десятилетия может стать «Средиземным морем Азии» и подлинным средоточием политической географии.
Высоколиквидные угрозы
Впрочем, попытки Китая проецировать силу в «Средиземное море Азии» противоречивы по самой своей сути. С одной стороны, Китай вроде бы полон решимости максимально осложнить доступ американских судов в прибрежные моря. С другой, он по-прежнему не способен защитить свои морские коммуникации, что, вообще говоря, делает любое нападение на американский военный корабль бессмысленным, поскольку в этом случае флот США может попросту отрезать Китай от поставок энергоносителей, перекрыв для китайских судов выход в Тихий и в Индийский океаны. Зачем же планировать что-то, если в действительности не собираешься осуществить намеченное? Как считает советник по вопросам обороны Жаклин Ньюмайер, Пекин хочет добиться «столь благоприятного соотношения сил», что «на деле ему и не придется прибегать к оружию для защиты своих интересов». Недаром он устраивает выставки новых видов оружия, строит портовые сооружения и оборудует станции подслушивания в Тихом и Индийском океане, предоставляет военную помощь приморским государствам, находящимся между китайской территорией и Индийским океаном. Все эти ходы делаются открыто и являются сознательной демонстрацией силы. Китайцы не столько ввязываются в непосредственную схватку с Соединенными Штатами, сколько стремятся повлиять на поведение американцев таким образом, чтобы избежать возможной конфронтации.
Вместе с тем активность Китая на море обнаруживает и более грозные аспекты. В самом центре Южно-Китайского моря, на южной оконечности острова Хайнань, китайцы строят мощную морскую базу с подземными доками, позволяющими разместить до 20 атомных и дизельных подводных лодок. Они как бы реализуют на практике доктрину Монро, утверждая свое господство над близлежащими международными водами. В настоящее время и в обозримом будущем у Китая едва ли появится намерение затеять войну с Америкой, но позже мотивации могут измениться. Лучше заранее оценить возможные варианты.
Ситуация на границах Евразии выглядит сейчас гораздо более сложной, чем в первые годы после Второй мировой войны. По мере того как американская гегемония пойдет на убыль, мощь военно-морских сил США будет уменьшаться или оставаться прежней, а экономическое и военное могущество Китая – крепнуть, расклад сил в Азии начнет все заметнее приобретать многополярный характер. Соединенные Штаты поставляют Тайваню 114 противовоздушных ракет Patriot и десятки ультрасовременных систем военной связи. Китай строит подземные доки для подлодок на острове Хайнань и запасается противокорабельными ракетными установками. Продолжают модернизацию своего флота Япония и Южная Корея. Мощные военно-морские силы создает Индия. Каждое из государств стремится сдвинуть равновесие сил в свою сторону.
Именно поэтому отказ государственного секретаря США Хиллари Клинтон от политики равновесия сил, будто бы являющейся реликтом прошлого, представляется либо актом лицемерия, либо заблуждением. В Азии продолжается гонка вооружений, и Соединенные Штаты неизбежно столкнутся с суровой реальностью, как только существенно сократят свои войска в Афганистане и Ираке. Притом что ни одно из азиатских государств не имеет побудительных причин для войны, с течением времени и по мере накапливания сухопутных и морских вооружений в регионе (даже если говорить только о Китае и Индии) риск неверной оценки соотношения сил будет возрастать. Из-за напряженности на суше грозит усилиться и напряженность на море: зоны силового вакуума, в которые сейчас проникает Китай, станут через некоторое время яблоком раздора в его отношениях с соседними странами – как минимум с Индией и Россией. Некогда пустые пространства заполнятся множеством людей, дорог, трубопроводов, кораблей и ракетных установок. Политолог из Йельского университета Пол Брэкен в 1999 г. предупреждал, что Азия становится обособленным географическим регионом и что на нее надвигается кризис «жизненного пространства». С тех пор этот процесс только усугублялся.
Так как же Соединенным Штатам сохранять стабильность в Азии, защищать в этой части света своих союзников и препятствовать возникновению Великого Китая, избегая в то же время открытого конфликта с Пекином? Перевес, который они имеют на море, рискует оказаться недостаточным. Как сказал мне в начале этого года один высокопоставленный индийский чиновник, основные союзники США в Азии (Индия, Япония, Сингапур и Южная Корея) хотят, чтобы американский флот и авиация координировали свои действия с вооруженными силами этих стран. Именно так Соединенные Штаты и в будущем останутся неизымаемой частью азиатского военного ландшафта на суше и на море, а не превратятся в абстрактную угрозу, таящуюся где-то в отдалении. Между пререканиями с американским правительством по поводу прав на размещение военных баз, которые недавно затеяла Япония, и желанием полностью удалить войска США из региона лежит дистанция огромного размера.
Один из планов, циркулирующих в Пентагоне, предполагает, что Соединенные Штаты способны «противостоять китайской стратегической мощи... без прямой военной конфронтации», опираясь на военный флот, насчитывающий 250 кораблей (а не 280, как было раньше), и на урезанный на 15 % оборонный бюджет. Этот план, составленный полковником ВМФ в отставке Пэтом Гарретом, весьма интересен, поскольку включает в евразийское уравнение такую стратегическую величину, как Океания. В самом деле, Гуам, Каролинские, Маршалловы, Северные Марианские и Соломоновы острова являются либо американскими территориями, либо республиками, имеющими военные соглашения с США, либо независимыми государствами, которые, вероятно, будут готовы заключить подобные соглашения. Значение Океании будет расти, поскольку она находится, с одной стороны, сравнительно близко к Восточной Азии, а с другой – вне той зоны, из которой Китай хотел бы вытеснить американский флот. От Гуама всего четыре часа лета до Северной Кореи и два дня плавания до Тайваня. Держать базы в Океании для Соединенных Штатов удобнее, чем, как это было и остается, сохранять воинские части в Японии, Южной Корее и на Филиппинах.
Авиабаза Андерсен на Гуаме уже сейчас играет роль господствующей высоты, с которой Соединенные Штаты могут проецировать «жесткую силу» в любом направлении. Это самая мощная стратегическая авиабаза США в мире, обеспечивающая скоростную заправку самолетов; здесь хранится сто тысяч авиаснарядов и 66 млн галлонов авиационного топлива. Взлетные полосы базы заполнены длинными рядами транспортных самолетов C-17 Globemaster и истребителями F/A-18 Hornet. Кроме того, на Гуаме размещена эскадра американских подводных лодок; здешняя военно-морская база в настоящее время расширяется. Гуам и соседние Северные Марианские острова находятся на почти равном расстоянии от Японии и Малаккского пролива. А юго-западная оконечность Океании, выглядывающая из-под Индонезийского архипелага, – группки принадлежащих Австралии островов Ашмор и Картье и близлежащий западный берег самой Австралии (от Дарвина до Перта), – держит под прицелом Индийский океан. Таким образом, согласно плану Гаррета, флот и авиация США способны использовать географические преимущества Океании, чтобы поддерживать «региональную боеготовность» (regional presense in being), локализуемую «непосредственно за горизонтом» Великого Китая (в его неофициальных границах) и той акватории, где проходят основные евразийские морские пути. (Понятие «региональная боеготовность» – отголосок известного выражения «флот в боевой готовности», fleet in being, сто лет назад его предложил английский военно-морской историк сэр Джулиан Корбетт. Подразумевались стоящие в различных портах корабли, способные при необходимости быстро объединяться в мощную армаду. Словосочетание «непосредственно за горизонтом» отражает и равновесие сил на море, которое США будут поддерживать самостоятельно, и американское участие в концерте азиатских держав).
Укрепляя присутствие американского флота и авиации в Океании, США могли бы реализовать компромиссный подход: не сопротивляться возникновению Великого Китая любой ценой и одновременно не соглашаться пассивно с возможным переходом первой островной гряды под контроль китайского флота. Такой подход заставил бы Китай заплатить высокую цену в случае любой военной авантюры против Тайваня. Кроме всего прочего, это позволило бы Соединенным Штатам постепенно сворачивать свое непосредственное присутствие в акватории первой островной гряды (так называемое наследие военных баз), но вместе с тем сохранять возможность воздушного и морского патрулирования в этом регионе.
План Гаррета предусматривает также резкое усиление активности американского военно-морского флота в Индийском океане. Впрочем, Гаррет не предлагает расширять существующие здесь военные базы; он рассчитывает опираться на уже имеющийся костяк таких баз на Андаманских островах, Коморах, Мальдивах, Маврикии, Реюньоне и Сейшелах (некоторые из них прямо или косвенно управляются Францией и Индией), а также на военные соглашения с Брунеем, Малайзией и Сингапуром. Это обеспечило бы свободу мореплавания и беспрепятственное движение потоков энергоносителей во всей Евразии. Кроме того, такой план, не настаивая более на важности существующих американских баз в Японии и Южной Корее и в то же время разнообразя сферу присутствия США в Океании, положил бы конец основным базам, представляющим собой удобную цель для поражения.
Железная хватка, которой Соединенные Штаты до сих пор держали первую островную гряду, в любом случае начинает ослабевать под давлением новых обстоятельств. Местное население стало менее терпимо к присутствию иностранных баз на своей территории. А укрепление Китая делает его одновременно и отталкивающим, и привлекательным. Подобное смешанное чувство способно осложнить двусторонние отношения Вашингтона с тихоокеанскими союзниками. Все дело лишь в том, когда это произойдет. Теперешний кризис в американо-японских отношениях – возникший из-за того, что неопытное правительство Хатоямы хочет переписать соглашения о двустороннем сотрудничестве в свою пользу и вдобавок говорит о желании углублять связи с Китаем, – мог случиться и несколькими годами раньше. (Премьер-министр Хатояма ушел в отставку в июне 2010 г. из-за кризиса, связанного с неспособностью кабинета выполнить обещание о выводе американской базы с Окинавы. – Ред.) Все еще сохраняющаяся ситуация абсолютного превосходства Соединенных Штатов в Тихом океане есть не что иное, как анахронизм, унаследованный от Второй мировой войны, отголосок того краха, который пережили в результате глобального конфликта Китай, Япония и Филиппины. Не может бесконечно сохраняться и американское присутствие на Корейском полуострове – побочный продукт другой войны, закончившейся более полувека назад.
Центральная Азия, Индийский океан, Юго-Восточная Азия, западная часть Тихого океана – таковы обширные регионы, которые рискуют оказаться под политическим, экономическим и военным контролем возникающего у нас на глазах Великого Китая. Однако вдоль границ этого громадного царства будет курсировать американский флот, дислоцированный, как можно ожидать, по большей части в Океании и тесно сотрудничающий с военно-морскими силами Индии, Японии и других демократических государств. А со временем, когда возрастет доверие Китая к внешнему миру, а его военная доктрина уже не будет опираться на сугубо территориальный подход, китайский флот и сам сможет влиться в этот широкий региональный альянс морских держав.
Пока же стоит отметить, что с исключительно военной точки зрения, как указал в 1999 г. политолог Роберт Росс, отношения между Соединенными Штатами и Китаем останутся более стабильными, чем были в свое время отношения между США и Советским Союзом. Причина этого – географические особенности Восточной Азии. В период холодной войны одного только американского подводного флота было недостаточно, чтобы устрашать Советский Союз, – для этого требовалось держать многочисленные сухопутные войска в Европе. Но размещения подобных сил вдоль пределов Евразии никогда не понадобится: как бы сильно ни сокращалось присутствие сухопутных войск у границ Великого Китая, американский флот и в будущем останется сильнее китайского.
Так или иначе, в ближайшие годы сам факт укрепления экономической и военной мощи Китая усугубит напряженность в американо-китайских отношениях. Перефразируя Миршеймера, можно сказать, что Соединенные Штаты, гегемон Западного полушария, приложат все возможные усилия, чтобы помешать Китаю сделаться гегемоном большей части полушария Восточного. И не исключено, что это станет самой потрясающей драмой нашей эпохи.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























