Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Империя на хозрасчёте: что делает Трамп с американским могуществом. И чего не делает
Святослав Каспэ
Доктор политических наук, профессор департамента политики и управления факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный редактор журнала «Полития».
Для цитирования:
Каспэ С.И. Империя на хозрасчёте: что делает Трамп с американским могуществом. И чего не делает // Россия в глобальной политике. 2025. Т. 23. № 3. С. 10–34.
I’ll be back.
T-800, Terminator
I’m back.
T-800, Terminator III:
Rise of the Machines
Кутерьма, учинённая Дональдом Трампом в международной политике в первые же недели и месяцы его второго президентского срока (аналогичная кутерьма в политике внутренней здесь не обсуждается), вызвала две противоречащих друг другу спонтанных реакции. Эмоций в обеих гораздо больше, чем рефлексии, что не помешало им самим тоже моментально стать политическим фактом.
Первая реакция идеально описывается языком советской пропаганды: «Американский империализм сбросил маску и показал своё истинное лицо» (вар.: «звериный оскал»). Так интерпретируются хамские выпады и неприкрытый шантаж, мишенями которых стал целый ряд вообще-то суверенных государств. Причем, как выяснилось, от слов к делу Трамп переходит очень быстро – и быстро же добивается результатов, по крайней мере некоторых. И право, и правила отброшены; отныне будет править сила. Американская сила, о чём честно предупредил государственный секретарь США Марко Рубио в программном заявлении на сенатских слушаниях ещё до инаугурации Трампа (тут необходимо обширное цитирование). «Что внешнюю политику, подчинённую национальному интересу, можно заменить той, которая обслуживает “либеральный мировой порядок”, было не просто фантазией, но опасным заблуждением». «Послевоенный глобальный порядок не просто устарел; он стал оружием, используемым против нас». «Президент Трамп возвращается в офис с несомненным мандатом от избирателей. Им нужна сильная Америка. Вовлечённая в мировые дела. Но руководствующаяся ясной целью: повсюду продвигать мир, а своему дому обеспечивать безопасность и процветание». И это никакой «не изоляционизм. Это основанное на здравом смысле понимание, что основанная на нашем национальном интересе внешняя политика – не пережиток прошлого». «Как Америка сможет продвигать дело “мира во всём мире”, не будучи в безопасности у себя дома?»[1] Трамп – классический, старой школы империалист, а «мир во всём мире» – циничное прикрытие шкурных интересов[2]. Американское могущество укрепляется.
Вторая реакция: Трамп разрушает ключевой элемент американской привлекательности, американского влияния и, согласно распространённой точке зрения, американского империализма – знаменитую «мягкую силу». Тут главные доказательства – ужесточение миграционной политики, разгром USAID, USAGM, ещё нескольких гуманитарных агентств, постановка на паузу и ревизия других программ международной помощи и сотрудничества. А как же статуя Свободы и посвящённые ей, прочно входящие в её расширенный символический образ знаменитые строки Эммы Лазарус[3]? А как же «величайшая сила в мире», которая станет «примером свободы и маяком надежды для тех, кто свободы не имеет»[4], «ярчайший маяк свободы и возможностей», обязавшийся «защищать всё благое и справедливое в нашем мире»[5]? А как же миллионы и миллионы поверивших в эти обещания? Всё поругано и предано. Американское могущество слабеет.
Обе точки зрения по-своему основательны. Но по выводам они противоположны, следовательно, не могут быть верны одновременно. Значит, нужна третья. Прежде чем её формулировать, следует сделать важную оговорку. Речь пойдёт не о том, чего хочет Трамп, каков его план и существует ли такой план вообще. А исключительно о том, к каким объективно наблюдаемым последствиям его действия могут привести, независимо от их субъективных мотивов и без каких-либо спекулятивных психологизаций.
Причём к последствиям относительно отдалённым. Трамп, мягко говоря, кипуч, а современный мир и без Трампа сверхволатилен. За то незначительное время, в течение которого эта статья обдумывалась, писалась и готовилась к публикации, произошло многое, ещё больше произойдёт в следующие месяцы и годы. В режиме реального времени строить сколько-нибудь устойчивые интерпретации невозможно. Сова Минервы не обязательно вылетает в сумерках, к тому же нет уверенности, что благоприятствующие спокойному размышлению сумерки вообще когда-нибудь настанут. Но чтобы охватить взглядом ландшафт в целом, она в любом случае должна набрать достаточную высоту. Кстати, настоящие совы именно дальнозорки.
Таким образом, предмет обсуждения стоит рассматривать в нескольких контекстах. Все они расширяют временной горизонт анализа.
Тени прошлого
Первый контекст, самый простой. Как будто забыто, что мы на самом деле довольно много узнали о Трампе и его стиле (а ведь, как заметил Жорж-Луи Леклерк де Бюффон, «стиль – это сам человек») ещё перед и во время его предыдущего президентского срока. Тогда бизнес-бэкграунд Трампа стал предметом пристальных реконструкций и разборов. Трамп бурей налетает на контрагентов (не делая особого различия между союзниками, партнёрами и противниками), ошеломляя их валом безапелляционных обвинений, грубых претензий, диких угроз и нелепых требований, подкреплённых ещё и кое-какими решениями – впрочем, нередко сразу же откладываемыми или корректируемыми. В ход идут грязные приёмы: дезинформация, газлайтинг, троллинг, флудинг, сталкинг, виктимблейминг, эйджизм, эйблизм etc.
Грань между правдой и ложью, между фактом и фейком, между логикой и абсурдом, между возможным и невозможным в сознании контрагента стирается.
Когда же в этом мутном водовороте вдруг появляется некое сравнительно (со всем остальным) разумно или хотя бы не совсем безумно выглядящее предложение, контрагент с высокой степенью вероятности цепляется за него как за спасательный круг – в первую очередь желая, чтобы весь этот кошмар скорее закончился. Трамп потирает руки, его контрагент с облегчением выдыхает, обе стороны довольны, хотя и по разным причинам. Игра с ненулевой суммой, сделка. По крайней мере, иногда. Если контрагент слишком упирается, его прогоняют – чтобы тот вернулся, когда будет готов. Бывает, что и возвращается. Странно, что сейчас столько вроде бы серьёзных людей принимает все словесные (а также играющие вспомогательную роль несловесные) интервенции Трампа за чистую монету, более того, за fait accompli. Тем, кто оказывается прямой их мишенью, это простительно. Экспертам – нет.
Второй контекст. Человек с таким стилем находится в позиции главы американской империи. Главы не значит самодержавного хозяина (об этом позже), но тем не менее. Что Соединённые Штаты Америки суть империя – пусть не официально, не de jure, но de facto, что именно империей они предстают в многочисленных самоописаниях и внешних оценках, отнюдь не секрет. Томас Джефферсон заговорил о будущем союзе как об «империи»[6], не дожидаясь победы в Войне за независимость и принятия Конституции, и неоднократно возвращался к этому видению до, во время и по окончании своего президентства. Другой «отец-основатель», Александр Гамильтон, назвал США «империей, во многих отношениях самой интересной в мире»[7],, в 1787 г., в первых же строках первого же письма «Федералиста»[8]. Правда, в 1795 г. союз в его представлении вдруг превратился в пока ещё только «эмбрион великой империи»[9]; но эмбрион, надо признать, оказался вполне жизнеспособным и способным к развитию[10].
В течение всего XIX века определение США как империи находилось в активном обороте, ни у кого не вызывая ни сомнений, ни смущения. В 1861 г. одну из лестниц в здании Капитолия украсила (и украшает до сих пор) гигантская фреска работы Эмануэля Готлиба Лёйце «Путь Империи ведёт на Запад». В 1900 г. бешеный успех возымела пламенная речь сенатора-республиканца от Индианы Альберта Бевериджа, широко распубликованная под названием «В поддержку Американской Империи». В ней, среди прочего, находится такой замечательный пассаж: «Наши отцы-основатели вписали в Конституцию слова о росте, об экспансии, об империи, если угодно, не ограниченной географией, климатом и вообще ничем, кроме жизненных сил и возможностей Американского народа»[11]. Или: Бог «сотворил нас господами и устроителями мира, водворяющими порядок в царстве хаоса. Он осенил нас духом прогресса, сокрушающим силы реакции по всей земле. Он сделал нас сведущими в управлении, чтобы мы могли править дикими и дряхлыми народами. Кроме нас, нет иной мощи, способной удержать мир от возвращения во тьму варварства. Из всех рас Он сделал Американский народ Своим избранным народом, поручив нам руководить обновлением мира. Такова божественная миссия Америки»[12].
Правда, в ХХ веке применение к США термина «империя» почти прекратилось – из-за стремления отмежеваться, отстроиться от старых европейских империй и противопоставить их приёмам собственные (сперва в Китае, далее везде): свободная торговля, «открытые двери», «равные возможности» и влияние на формально суверенные, на деле более или менее подконтрольные правительства вместо военных захватов и открытого завладения теми или иными территориями, хотя и с опорой на местные элиты и административные кадры. Разница действительно была, и Найалл Фергюсон убедительно описал американскую манеру словами «продвигаться мягко» (“going soft”)[13]; но и тот, и другой modus operandi вполне укладывается в рамочное определение специфики имперского господства как «непрямого правления», данное Чарльзом Тилли: «1) сохранение либо установление особых, различающихся условий управления каждым отдельным сегментом; 2) отправление власти через посредников, пользующихся в своих доменах значительной автономией в обмен на повиновение, принесение дани и военное сотрудничество с центром»[14]. Так или иначе, настал период, названный Фергюсоном «отрицанием империи»[15]; но, что примечательно, не её «упразднением» или «демонтажем». А Майкл Кокс ещё и добавил к этой констатации, что «отрицание империи» стало вполне действенным способом её поддержания и утверждения[16].
Впрочем, табу понемногу снималось. В 1986 г. норвежец Гейр Лундестад опубликовал резонансную и, что существеннее, не вызвавшую никакого возмущения статью «Империя по приглашению? Соединённые Штаты и Западная Европа, 1945–1952»[17]. В 1993 г. первый том «Кембриджской истории американской внешней политики», подготовленный Брэдфордом Перкинсом, получил название «Сотворение республиканской империи, 1776–1865»[18]. Победа Америки в холодной войне и распад Советского Союза вместе со всем «социалистическим лагерем», возникновение однополярного мира, атака на его символический центр, предпринятая 11 сентября 2001 г., и реакция на неё (не только собственно США, но и всего Запада, а также многих других стран, включая Россию)… всё это вместе взятое окончательно сняло табу на применение к Соединённым Штатам имени империи. Примеров тому несчётное множество, как в академическом, так и в широком публичном дискурсе. Инерция «отрицания империи» и в первой четверти XXI века даёт о себе знать, хотя, пожалуй, всё реже и реже. Эндрю Бейсевич в 2002 г. жёстко заявил: «Нравится оно кому-то или нет, Америка сегодня – это Рим, необратимо обязавшийся поддерживать и, в меру возможности, расширять империю… Тут особенно нечему радоваться; но и отрицать факты недопустимо»[19]. А Майкл Игнатьефф добавил: «Американцы могут не думать о Всемирном Торговом Центре или о Пентагоне как о символических штабах мировой империи, но люди, вооружённые резаками для картона[20], так думали, как и бесчисленные миллионы тех, кто восхвалял и пропагандировал их ужасающее деяние». И, отнюдь не симпатизируя террористам и их поклонникам, задал резонный вопрос: «Как же ещё, если не “империей”, можно назвать то потрясающее нечто, которым стала Америка?»[21]
Что ж, теперь это «потрясающее нечто» возглавляет «потрясающий некто».
Третий контекст. Структурно-функциональный каркас американской империи – её федеративный институциональный дизайн. Именно он обеспечил и само её образование как союза тринадцати колоний, и её дальнейшее расширение. Ещё в сорок третьем письме «Федералиста» Джеймс Мэдисон настаивал на необходимости предоставить федеральным властям право на приём в состав союза новых штатов, считая крупным недостатком Статей Конфедерации то, что ими этот вопрос вообще не был урегулирован[22]. И в п. 3 ст. 4 Конституции США такая норма появилась: «Новые штаты могут приниматься Конгрессом в настоящий Союз»[23]. Примечательно, что ни в самой американской Конституции (в отличие, например, от российской), ни в поправках к ней не содержится ни закрытого, ни даже открытого перечня штатов. Приём нового штата осуществляется одним только актом Конгресса, то есть сравнительно простой процедурой, – разумеется, при наличии надлежащим образом подтверждённого консенсуса внутри новой единицы[24] и инициативы с её стороны, односторонняя аннексия не подразумевается. Предусмотрительно; кто ж его знает, что может случиться в будущем? А добавить на флаг ещё одну звезду – дело нехитрое.
Более того, ведь все федерации Нового времени создавались уже с учётом американского опыта. Надежды на то, что федерализм станет для других политий таким же источником силы, в общем, не оправдались. Однако сама возможность расширения федерации путём образования и присоединения к ней новых единиц эксплицитно предусмотрена конституциями и законами по меньшей мере Австрии, Австралии, Индии, России[25]; существует ли эта опция имплицитно и в других федерациях, a priori сказать трудно, но и исключить нельзя.
Другой вопрос – не гипотетическая, а практическая осуществимость подобных сценариев. Так, чтобы всерьёз… – нет, даже не всерьёз, а хотя бы удерживаясь от гомерического смеха, – обсуждать перспективы вхождения в состав США Канады и Мексики на правах штатов, неплохо бы вспомнить, что обе страны вообще-то федерации сами по себе (10 провинций и три «территории» в первой, 31 штат и один федеральный округ во второй). Соответственно, в обеих странах пришлось бы либо ещё до поглощения ликвидировать федеративное устройство как таковое (нет шансов), либо предоставлять права американского штата каждой из их нынешних политических единиц по отдельности – и что бы в этом случае произошло с составом обеих палат Конгресса (особенно сената), да и вообще электоральной картой Соединённых Штатов? Это уж если не вспоминать, во-первых, о вольнолюбивом франкофонном Квебеке, во-вторых, о том, что Канада вообще-то конституционная монархия, во главе которой стоит британский суверен – в то время как, согласно той же ст. 4 Конституции США (п. 4), «Соединённые Штаты гарантируют каждому штату в настоящем Союзе республиканскую форму правления»[26]… Нет, удержаться от смеха всё-таки не получается. Остаётся поместить эти словесные интервенции Трампа в первый контекст и рассматривать как дымовую завесу, прикрывавшую (причём недолго) настоящие предметы дискуссий с ближайшими соседями (пограничный контроль, наркотрафик, тарифы).
Четвёртый контекст. Пределы расширения, экспансии американской империи никак и никем не установлены непреложно и навсегда. Как и любой другой – таково общее место всех исследований имперской политической формы. Единственное указание на какую бы то ни было географическую рамку содержится в самом наименовании Соединённых Штатов – «Америки». Целая часть света – уже немало. Впрочем, эта весьма просторная рамка была с совершенной лёгкостью преодолена в 1959 г., когда права штата получили Гавайи – находящиеся, между прочим, никак не в Америке, а в Океании. Но ведь «соединены» совсем не только штаты. Американская империя, как и всякая другая (а также – как и немало федераций), многослойна и асимметрична – ср. цитированное выше указание Тилли на «особые, различающиеся условия управления каждым отдельным сегментом» империи. Не стоит сейчас разбирать случай округа Колумбия, во многих отношениях, вплоть до примерно квадратных очертаний территории, весьма напоминающего римский священный участок (templum), с которого и начался Вечный город (равно как и его аналоги в других федерациях, последовавших американскому примеру). Но есть ещё и «ассоциированные территории» различного статуса, значительная часть которых тоже расположена не в собственно Америке, а пара – даже и не в Западном полушарии («этом полушарии», если быть точнее), двести лет назад объявленном президентом Джеймсом Монро сферой эксклюзивных интересов США[27]. С одной стороны, открыто заявленные Трампом территориальные притязания – на Канаду, Мексику, зону Панамского канала, Гренландию – относятся именно к Западному полушарию и потому вполне укладываются в заданную доктриной Монро традицию, причём два последних варианта, учитывая опцию «ассоциированных территорий», выглядят несколько менее абсурдно, чем два первых. К той же традиции можно отнести и сообщения о требовании Трампа, дабы ЦРУ «больше сфокусировалось на Западном полушарии»[28]. С другой стороны, что именно имел в виду Трамп, выразив намерение «взять» (“take over”) сектор Газа и «владеть» (“own”) им[29], понять невозможно, во всяком случае пока. То есть можно понимать как угодно.
Но и Западным полушарием, как бы его ни определять, «фон и смысловой горизонт»[30] американской империи не ограничивается и в нём не замыкается. «Американцы, по крайней мере многие, несомненно, были экспансионистами и до, и после обретения независимости; и даже до него большинство их считало, что “Америка” – нечто большее, чем географическое понятие»[31]. Симон Боливар, относившийся к США без большой любви, но с большим уважением, в 1826 г. предупредил собранный им в Панаме конгресс из нескольких недавно образованных независимых государств Латинской Америки, что в будущем североамериканцы «станут, может быть, единственной нацией всемирного, вселенского охвата (cubriendo el universo, в английском переводе – covering the universe), – федерацией»[32]. А в 1893 г. эксцентричный конгрессмен-демократ от Висконсина Лукас М. Миллер и впрямь предложил конституционную поправку (естественно, отклонённую; но осадочек-то остался) о переименовании страны в «United States of the Earth»[33] – объяснив это примерно так, что раз оно всё равно неизбежно, то почему бы и нет?[34]
Ни всемирной нации, ни всемирной федерации не случилось. Случилось другое, хотя и близкое. США превратились в центр глобальной империи Запада, причём претензия именно на центральную позицию была декларирована президентом Джеймсом Картером ещё до начала ползучей реабилитации применения к ним термина «империя» и, соответственно, без его эксплицитного использования: «По меркам истории 200 лет существования нашей нации коротки; наше восхождение к мировым высотам ещё короче. Оно началось в 1945 г., когда и Европа, и старый международный порядок лежали в руинах. До этого момента Америка большей частью находилась на периферии мировых дел. После него мы непреклонно встали в их центре»[35].
Империи Запада, но глобальной. Империи глобальной, но Запада. В том смысле, что и ценности, и институты, и практики этой империи имеют неоспоримо западное происхождение (не восточное же). Б?льшая часть её элит и функционеров, а также основные локусы их размещения также сосредоточены на Западе. Да, ядро[36] глобальной империи не сводимо ни к Соединённым Штатам, ни к включающему ещё и Европу Западу в расширенно географическом, то есть трансатлантическом, и культурном, в том числе религиозном и лингвистическом, плане. Особенно выделяется случай Японии; однако есть ещё и такие совсем специфические аванпосты имперского ядра, как Южная Корея, Тайвань, Израиль[37]. А уж концентрические круги власти и влияния глобальной империи Запада охватывают orbis terrarum целиком.
Все без исключения её оппоненты, в том числе Китай и Россия, не говоря уж о её сателлитах и клиентах, находятся в мощном силовом поле империи и не в состоянии его игнорировать.
Да, в последнее время эта империя трещит и шатается. Гораздо меньше стало (в том числе из-за неуклюжих действий самой империи, но далеко не только поэтому) готовых признаваться в принадлежности и присягать на верность ей. Под облетевшими весь мир словами главного редактора Le Monde Жана-Мари Коломбани: «Мы все американцы»[38] сегодня, в отличие от того самого чёрного дня 9/11, подписалось бы гораздо меньше индивидов, народов и государств. Трансатлантическая солидарность, казавшаяся самым прочным связующим звеном глобальной империи, и та нарушена. Показательна скорость, с которой из российских официозных нарративов испарился клишированный, стократ повторенный оборот «коллективный Запад».
Однако кризис и полная гибель всерьёз – не одно и то же. Кризисы переживали все империи; и по меньшей мере некоторые империи некоторые кризисы сопоставимой, да и превосходящей степени драматизма пережили. Такое случалось и с Первым Римом, и со Вторым, и с Третьим. Кстати, и распад СССР был очень и очень многими (в том числе мной) воспринят как окончательный крах, бесповоротно и навсегда завершающий историю Северной Евразии как имперского пространства. И напрасно – политические конфигурации меняются, но ни само пространство, ни его операторы ещё далеко не стали и в обозримом будущем не станут постимперскими. Да и станут ли?
Тени прошлого: попытка к бегству
Таким образом, в том, что делает Трамп с американской империей и её могуществом, много неожиданного, заметно меньше принципиально нового и нет почти ничего прямо-таки несусветного. Причина почти повального недоумения в том, что некоторые уникальные особенности американской политии долго было принято не принимать в расчёт (в том числе в самой Америке), как будто они давно устарели, как будто это что-то несерьёзное, как будто Америка – просто государство в ряду других государств. Нет, они не устарели. Нет, это серьёзно. Нет, Америка – не просто государство (если её политическую форму вообще можно считать государством, в чём не раз высказывались небезосновательные сомнения[39]).
В том, что делает Трамп с американской империей и её могуществом, по-настоящему неожиданно, ново и даже несусветно только одно. Он вышибает из-под империи (а значит, и из-под всей империи Запада) её ценностное, идейное, идеалистическое… да что там, выражаясь без обиняков, сакральное основание. Не тот комплект принципов и требований, который в последние десятилетия собравшаяся вокруг Демократической партии США прогрессивная общественность превратила в догму и доксу (не исключено, что он и впрямь представляет собой преходящую флуктуацию, если не аберрацию), а нечто намного более глубокое и значительное. Столп и утверждение всего проекта.
Достаточно определённые ценности руководили им всегда (надо учитывать, что США, в отличие от политий с более глубокой историей, не самовозникли как равнодействующая разнонаправленных векторов и факторов, а были именно спроектированы и сконструированы). Ценности – то есть «неэмпирические… представления о желаемом, используемые в моральном дискурсе и… особым образом влияющие на поведение»[40], причём «более или менее независимо от какой бы то ни было конкретной инструментальной “выгоды”»[41]. Ценности присутствуют во всех обсуждавшихся выше контекстах (кроме первого – потому-то он и стал поводом для всего этого размышления).
Уже в знаменитой[42] проповеди «Образец Христианского Милосердия» (1630) первого губернатора Массачусетса Джона Уинтропа, прочитанной ещё до пересечения океана, успех всего рискованного предприятия и надежда на то, что «Господь станет нашим Богом, и с радостью поселится среди нас как Его собственного народа, и благословит нас на всех наших путях», поставлены в жёсткую зависимость от способности будущих колонистов «действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим»[43]. Тогда и только тогда «будем мы подобны Граду на Холме, взоры всех народов будут устремлены на нас. Если же мы нарушим завет с Богом нашим в деле, за которое взялись, и вынудим Его отказать нам в помощи, которую Он оказывает нам ныне, мы станем притчей во языцех всему миру. Мы отверзнем уста врагов, хулящих пути Господа и всех его исповедников. Мы посрамим многих достойных слуг Бога, и их молитвы за нас обратятся в проклятия, которые будут преследовать нас до тех пор, пока не исчезнем мы с лица той доброй земли, в которую направляемся»[44].
Американский федерализм тоже построен на ценностном фундаменте. Он произрос из «федеральной теологии» (она же «теология завета»), из той версии пуританского богословия, которая считала легитимными лишь формы социально-политической организации, созданные по модели Завета между Богом и Израилем, то есть обязательства религиозного, морального, социального и политического свойства одновременно и нераздельно[45]. Процедурно и технически это было так: «Первоначально, в масштабах городов и конгрегаций, ковенанты заключали индивиды и семьи. Параллельно им развивалась сеть добровольных ассоциаций – коммерческих, общественных, церковных и гражданских, – представлявших собой негосударственный компонент гражданского общества, основанный на принципах свободной договорённости. С самого начала сети сообществ соединялись в колонии, впоследствии штаты. Наконец, сеть штатов была связана федеральным союзом, с которым опять же соседствовала аналогичная сеть добровольных ассоциаций»[46]. Главное же свойство ковенанта как моделирующего образца политической формы – то, что его «морально обязывающее измерение имеет приоритет над правовым»[47]. Да, даже над ним. Потому что второе генеалогически вторично.
В конце XVIII века, когда Джефферсону стало ясно, что именно нарождается в Северной Америке, он почти во всех случаях писал и говорил не об империи вообще, но об «империи свободы» (а когда обходился без этого уточнения, то, видимо, потому что считал его и так очевидным). Продолжающая джефферсоновскую линию известная идеологема «Явного Предназначения»[48] тоже про ценности. Автор самой формулы публицист Джон О’Салливан сперва определил её просто как само собой разумеющуюся необходимость «заполнить (overspread) континент, отведённый Провидением для свободного развития наших умножающихся от года к году миллионов (граждан)»[49], но спустя всего несколько месяцев пояснил: «Демократии должны основывать свои приобретения на моральных соображениях. Если они недостаточны, приобретение есть грабёж»[50]. А в том же 1845 г. конгрессмен-республиканец от Алабамы Джеймс Белзер ещё развернул аргументацию: «Давно наша страна утверждает себя как убежище для угнетённых. Пусть её учреждения и её народ распространятся вдаль и вширь, и когда воды деспотизма затопят другие части земного шара, когда приверженцы свободы будут вынуждены спасаться на ковчегах, пусть это правительство станет тем Араратом, которым оно обязано быть»[51].
Ценностный компонент со временем проявился и в «доктрине Монро» – не в её начальной версии, сухо и кратко, всего в четырёх абзацах изложенной в президентском послании к Конгрессу 2 декабря 1823 г., а в королларии к ней, сделанном президентом Теодором Рузвельтом в аналогичном выступлении 6 декабря 1904 года. Тогда было объявлено, что «постоянство злодеяний или бессилие, влекущее за собой полное расслабление уз цивилизованного общества, в Америке так же, как где-либо ещё, безусловно, требует вмешательства какой-либо цивилизованной нации»[52] – то есть был предложен общий, не ограниченный одним лишь Западным полушарием принцип международной политики, фундированный именно ценностным императивом пресечения зла и указывающий на ответственных за его осуществление.
Наконец, американская «мягкая сила» – понятие гораздо более глубокое и широкое, чем программы USAID и им подобные. Она – отнюдь не только политические технологии, «она исходит от сияющего “Града на холме”»[53], от «манящего нового Иерусалима экономической и политической свободы»[54] и лишь затем получает то или иное инструментальное обеспечение.
Разумеется, речь не о том, чтобы идеализировать американскую политическую традицию – в ней и без того более чем достаточно идеалов. Да, во всех экспликациях и интерпретациях «миссии Америки» так или иначе фигурируют категории бремени, долга и жертвенности. Но с идеалами и ценностями соседствует прагматика, и в немалом количестве. Она также присутствует во всех исследовавшихся контекстах, на этот раз включая первый (поэтому его лучше обсуждать последним).
Колонисты Новой Англии совершенно не собирались питаться «акридами и диким мёдом» и весьма заботились о своём материальном благополучии. То же относится и к «федеральной теологии», в которой «протестантская этика», строго по Максу Веберу, производила «дух капитализма», весьма способствовавший расширению федерального Союза. Первая статья О’Салливана, в которой появилась формула «Явного Предназначения», вообще-то требовала отобрать у Мексики Техас, да и называлась коротко и ясно: «Аннексия». Прагматические интересы США горячо отстаивали и конгрессмен Белзер, и особенно сенатор Беверидж, с особенным энтузиазмом рассуждавший не просто об империи, но об империи торговой (собственно, в своей цитированной выше речи он требовал завладения Филиппинами не во имя какого-либо умозрительного принципа или, наоборот, иррационального инстинкта, а для извлечения из этого захвата максимальных коммерческих выгод). Как много было прагматики в прикладном осуществлении «доктрины Монро» (например, в художествах United Fruit Company), да и в применении «мягкой силы», слишком известно.
Но в том-то и дело, что ценности и прагматика способны оборачиваться друг другом, более того, сливаться до неразличимости, до амальгамы – в том числе в сознании и подсознании самих их носителей.
Лаконичнее и точнее, чем классик ревизионистской школы в историографии американской дипломатии Уильям Эпплмен Уильямс, об этом туго затянутом узле, пожалуй, не скажешь: «Многие империалисты верят, что американская империя должна быть гуманистической, и многие гуманисты верят, что поступать хорошо хорошо для бизнеса»[55]. «Американская империя порождена не злыми намерениями или иррациональным поведением. Она создана людьми, точно знавшими, что они делают, и считавшими это необходимым и для их собственного блага, и для благополучия других»[56]. «Расширение рынков расширяет пространство свободы. Расширение пространства свободы расширяет рынки»[57]. Отсюда «грандиозная иллюзия», «соблазнительная вера в то, что Соединённые Штаты могут извлекать выгоды из империи, не оплачивая её издержек и вообще не признавая себя империей»[58].
И вот явился Трамп, отказывающийся измерять и сравнивать выгоды и издержки в чём-то ещё, кроме твердой валюты. Миссия, ценности, идеалы, доверие, репутация, честь… всё это взвешено и сочтено очень лёгким[59]. Всё это переводится в деньги и переописывается как сделки – с предсказуемым результатом. В своей инаугурационной речи Трамп вдруг прямо заговорил о «Явном Предназначении»[60], да ещё и расширив его аж до межпланетного масштаба. И в то же время сузив, потому что ценности упомянуты не были: «Соединённые Штаты снова будут считать себя растущей нацией, увеличивающей наше богатство, расширяющей наши территории, отстраивающей наши города, повышающей наши ожидания и возносящей наш флаг к новым и прекрасным горизонтам. И мы будем следовать нашему явному предназначению до самых звёзд, отправляя американских астронавтов, дабы водрузить Звёзды и Полосы на Марсе»[61]. Желание добиться если не полной, то хотя бы большей окупаемости американских вложений в том или ином объёме обнаруживается даже в тех пунктах мировой повестки, где его раньше то ли не было, то ли о нём было стыдно заговаривать открыто. В отношениях с ближайшими, самыми преданными союзниками (прежде всего Европой, но также Канадой, Австралией, Японией, Южной Кореей), в которых тарифный и торговый дисбаланс вдруг обесценил (буквально) все клятвы в вечной верности. В поддержке Израиля (идея создания «ближневосточной Ривьеры» в секторе Газа или, лучше сказать, на месте сектора Газа). В поддержке Украины (сделка по ископаемым ресурсам неопределённой номенклатуры, к которой, кажется, добавились ещё и атомные электростанции, – украинский президент Владимир Зеленский, первым предложивший нечто подобное осенью 2024 г., ещё до избрания Трампа, нашёл верный способ привлечь его интерес, но вряд ли ожидал, во что выльется его инициатива). Да и первая же заметная военная операция, осуществлённая по приказу Трампа (серия ударов по йеменским хуситам в марте 2025 г.), была объяснена исключительно необходимостью прекратить причинение ими многомиллиардного ущерба американской и мировой морской торговле, а также американским ВМС. О хуситских атаках на Израиль не было сказано ни слова.
Может показаться, что этой «генеральной линии» противоречит нашумевшее выступление на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президента США Джей Ди Вэнса 14 февраля 2025 г., в котором он настойчиво говорил о демократических ценностях и укорял европейцев (а также, разумеется, администрацию президента Джо Байдена) в отступлении от них. Противоречие кажущееся, потому что речь, по сути, шла только об одной ценности – о том, что нельзя «бояться голосов, мнений и сознания вашего собственного народа» и «в страхе бежать от ваших собственных избирателей»[62]. Что это главнейшая, первая демократическая ценность, неоспоримо. Но первая – не значит единственная. Что происходит, когда именем и во имя её отвергаются все прочие элементы демократического ценностного пакета, достаточно известно. Более того, Вэнс неприкрыто использовал этот аргумент, чтобы заступиться за те европейские политические силы и партии, которые в самой же Европе, согласно результатам выборов, почти везде находятся в меньшинстве и, к слову, получают гораздо более слабую электоральную поддержку, чем Демократическая партия в Соединённых Штатах. Только поэтому их и удаётся изолировать всякого рода брандмауэрами. Что результаты таких сил постепенно растут, ничего принципиально не меняет – большинство остается большинством, меньшинство меньшинством. Между прочим, на последних перед назначением Адольфа Гитлера рейхсканцлером выборах в рейхстаг 6 ноября 1932 г. НСДАП набрала лишь 33,1 процента голосов. Ещё занимательнее, что культ меньшинств, идеологию и практики их позитивной дискриминации трампистам вроде бы положено осуждать – а тут пропагандируется нечто обратное. Если же дело в ставке на то, что с европейскими силами и партиями крайних взглядов администрации Трампа будет проще иметь дело, то преобладание прагматических соображений оказывается шито белыми нитками.
Почему всё так? Сколько ни обзывай Трампа – эгоманьяком, нарциссом, циником, болваном или ещё хлеще – к пониманию того, что он делает с американским могуществом, это не приблизит. Можно строить и более содержательные предположения – например, то, что Трамп вдохновляется примером Китая, эффективность экспансии которого прямо связана с отсутствием в ней ценностной составляющей и, соответственно, предъявляемых к партнёрам ценностно окрашенных требований. Да и неполезных для экономики войн Китай не затевает – туманных опасений много, а на горизонте хотя бы теоретически возможного ничего, кроме Тайваня да нескольких спорных островов в Южно- и Восточно-Китайском морях.
Китай могуч, и мощь его растёт. Но Китай – не империя в том смысле, в каком этот термин возник и используется в западном мире, не исключая Россию, а что-то другое.
Хотя бы потому, что Китай, в отличие от Первого Рима и всех его многочисленных реплик, не инклюзивен. Подданным, гражданином любой западной империи (да и любой исламской, кстати говоря), а также культурно «своим» для неё мог стать, становился и становится, при выполнении определённых условий и ценой определённых изменений в себе, кто угодно. Китайцем стать нельзя, и точка. Не завидует ли обременённый империей Трамп Китаю? Не считает ли он, что избавленным от имперского бремени США будет проще с Китаем конкурировать? Гипотеза имеет право на существование, тем более что Трамп явно считает инклюзивность США, да и всего Запада, зашедшей слишком далеко. Но тут начинается та самая зыбкая почва ненадёжных спекуляций, вступать на которую не хотелось. Да и какая разница, почему всё так, если всё так?
Тени будущего
Что дальше? Дальше нужно подключить ещё один, пятый контекст – уже не столько ретро-, сколько проспективный. Да, у Трампа много власти, причём не все знают или помнят, почему. Потому что республиканский институт президентства возник в США (и уже оттуда, с теми или иными модификациями, распространился по миру) как специфическая вариация монархии – не любой, конечно, а британской. Против островной модели правления американские колонисты ничего не имели, более того, считали её наилучшей – их не устраивало то приниженное место в ней, которое им отводилось. «Президент, пусть президент республики, пусть в течение ограниченного времени, представляет собой наш субститут британского монарха, не только в понимании ХХ века – как глава государства, но и в понимании XVII века – как глава правительства… Наш президент – конституционный монарх»[63]. С тех пор реально располагаемые полномочия британских монархов значительно сократились (но, между прочим, остались «дремлющие», а значит, гипотетически способные пробудиться). В Америке – наоборот, и даже расширились, нередко «явочным порядком». В силу той же исторической генеалогии особенно велика власть американских президентов во внешнеполитическом измерении, что дало основание Артуру Шлезингеру-мл. ещё полвека назад написать книгу «Имперское президентство»[64] – с подразумеваемой аллюзией на римский imperium militiae, затем развившийся в общее представление об императорском праве верховного, безусловного повелевания чем угодно.
Власти у Трампа много. А вот времени мало.
Слова Ричарда Нойштадта «в течение ограниченного времени» важны критически и круциально. Соединённые Штаты – не монархия[65]. Предложенная конгрессменом-республиканцем от Теннесси Энди Оглсом поправка к двадцать второй поправке к Конституции США, придуманная, по его собственному признанию, специально для Трампа и позволяющая кандидату в президенты баллотироваться на третий срок в том случае, если между двумя первыми его сроками имел место перерыв[66], никаких шансов быть принятой, тем более принятой вовремя, не имеет – чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить, насколько сложна и продолжительна сама процедура принятия конституционных поправок. Так что, перефразируя поражающий своей безграничной смелостью прогноз председателя Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Володина[67], после Трампа точно будет не Трамп. Даже если Демократическая партия так и не выберется из той лужи, в которую сама себя усадила, и следующее президентство останется за республиканцами. Даже если президентом будет избран Вэнс – некоторые из выдающихся президентов США до того побывали вице-президентами (Джефферсон, Теодор Рузвельт), но ни одному из напарников выдающихся президентов не удавалось стать таковым самому. Джон Адамс был не Вашингтон, Эндрю Джонсон – не Авраам Линкольн, Гарри Трумэн – не Франклин Делано Рузвельт, Ричард Никсон – не Дуайт Эйзенхауэр, Линдон Джонсон – не Джон Кеннеди, Джордж Буш-старший – не Рональд Рейган. Да и Джо Байден, прямо сказать, не Барак Обама. Так же и Вэнс (если это будет он, что покамест очень гадательно) будет не Трамп. В каком именно смысле Трамп выдающийся президент, в хорошем или плохом, выяснится со временем. Но в любом смысле он неповторим. Наконец, обнаружиться, что Трамп «уже не тот», может совсем скоро. Ведь весьма значительная доля его нынешней политической силы обусловлена наличием республиканского большинства в обеих палатах Конгресса. А следующие выборы в Конгресс пройдут в ноябре 2026 г. – на кону будет стоять треть состава Сената и весь состав палаты представителей. Какого градуса достигнет к тому времени ярость, в которую Трамп каждым словом и действием приводит своих оппонентов, и насколько увеличится их общее количество, сейчас предсказать невозможно; но риски для него велики и растут с каждым днём.
Трамп сделает только то, что успеет сделать, – поэтому он так торопится сократить расходы, государственный долг, бюджетный дефицит, торговые дисбалансы и бюрократический аппарат, взбодрить экономику и военно-промышленный комплекс, вернуть вооружённым силам былую брутальность и маскулинность, придушить наркотрафик etc. Не всё у него получится – не бывает так, чтобы удавалось всё. Но что-нибудь да получится (может, и немало) – так, чтобы не удавалось вообще ничего, тоже не бывает. А потом ценностная составляющая американской империи, «изрядно ощипанная, но не побеждённая», начнёт восстанавливаться, причём независимо от того, какая партия окажется у власти. Дело вообще не в партиях, а в чём-то намного более глубоком и сущностном. Легко и быстро разделаться с ценностной составляющей нельзя – это означало бы отмену всего грандиозного проекта и переучреждение политии, то есть радикальный пересмотр (хотя не обязательно полное упразднение) наиболее фундаментальных рамок политического действия, репертуара его сценариев, легитимных поведенческих стереотипов, стратегий и тактик. Для этого, в свою очередь, понадобится уничтожить независимость судов, права штатов, оппозиционные негосударственные медиа и много чего ещё вплоть до самой Конституции. Возможно, ещё и выиграть гражданскую войну. Чтобы такое великое дело состоялось, и целого Трампа мало.
Если не рухнут небеса, империя вернётся – чтобы её развалить окончательно и бесповоротно, Трампа опять же маловато будет. Но будет она уже другой. В 1856 г. министр иностранных дел Российской империи князь Александр Горчаков в циркулярной депеше, доведённой через посольства до сведения иностранных правительств[68], констатировал: «Россию упрекают в самоизоляции и молчании перед лицом фактов, не согласующихся ни с правом, ни со справедливостью». И возразил: «Россия не сердится: Россия сосредотачивается»[69]. На самом деле Россия после поражения в Крымской войне, конечно, сердилась. Но и сосредотачивалась. И сосредоточилась. Американская империя сейчас тоже сердится (примечательно, что нынешние упреки в её адрес очень похожи на те). Но и сосредотачивается.
То, что делает с ней и её могуществом Трамп (независимо от его мотивов и степени их осознанности), можно сравнить с практикуемой атлетами «сушкой мускулов», требующей постановки на паузу участия в соревнованиях. Подобно такому атлету, сосредоточившаяся империя вновь выйдет на мировую арену – в лучшей форме, более мускулистая, с новыми амбициями. И, скорее всего, весьма разозлённая тем, что успеют натворить в её отсутствие. Так что, глядя на происходящее прямо сейчас, никому – ни противникам американской империи, ни её поклонникам – не стоит ни заламывать руки, ни ликовать. Готовиться надо. Готовиться.
Автор: Святослав Каспэ, доктор политических наук, профессор департамента политики и управления факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный редактор журнала «Полития»
Сноски
[1] Rubio M. Secretary-Designate Marco Rubio SFRC Confirmation Hearing Opening Remarks // United States Senate Committee on Foreign Relations. 15.01.2025. URL: https://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/6df93f4b-a83c-89ac-0fac-9b586715afd8/011525_Rubio_Testimony.pdf (дата обращения: 01.04.2025).
[2] А вот тут выбрать какую-то одну подтверждающую цитату в подобном духе решительно невозможно – их уже несметное множество и с каждым днём всё больше.
[3] Вам, земли древние, – кричит она, безмолвных
Губ не разжав, – жить в роскоши пустой,
А мне отдайте из глубин бездонных
Своих изгоев, люд забитый свой,
Пошлите мне отверженных, бездомных,
Я им свечу у двери золотой! (пер. Владимира Лазариса)
[4] Inaugural Address 1981 // Ronald Reagan: Presidential Library & Museum. 20.01.1981. URL: https://www.reaganlibrary.gov/archives/speech/inaugural-address-1981 (дата обращения: 01.04.2025).
[5] Statement by the President in His Address to the Nation // The White House: George W. Bush. 11.01.2001. URL: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2001/09/20010911-16.html (дата обращения: 01.04.2025).
[6] Letter from Thomas Jefferson to George Rogers Clark, 25 December 1780 // Founders Online. URL: https://founders.archives.gov/documents/Jefferson/01-04-02-0295 (дата обращения: 01.04.2025).
[7] О, как это верно! И чем дальше, тем вернее, Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея. М.: Весь мир, 2000. С. 29.
[8] Всего в корпусе «Писем Федералиста» Гамильтон использовал тот же термин применительно к Союзу тринадцать раз; однажды к нему прибегнул и Джеймс Мэдисон.
[9] Hamilton A. The Defence No. II, 25 July 1795 // Founders Online. URL: https://founders.archives.gov/documents/Hamilton/01-18-02-0310 (дата обращения: 01.04.2025).
[10] Подробнее см.: Tucker R.W., Hendrickson D.C. Empire of Liberty: The Statecraft of Thomas Jefferson. N.Y., Oxford: Oxford University Press, 1990. 360 p.; Weeks W.E. Building the Continental Empire: American Expansion from the Revolution to the Civil War. Chicago: Ivan R. Dee, 1996. 189 p.; Wood G.S. Empire of Liberty: A History of the Early Republic, 1789–1815. N.Y., Oxford: Oxford University Press, 2009. 778 p.
[11] Congressional Record. 56th Congress, 1st Session, 1900. Vol. XXXIII. P. 708. Где именно в Конституции Беверидж вычитал эти слова, опять-таки будет сказано позже.
[12] Congressional Record, 1900. P. 711. Как похоже на эталонную формулировку имперской миссии и программы, данную в своё время Публием Вергилием Мароном: «Ты же, о римлянин, помни – державно народами править; / В том твои будут искусства, вводить чтоб обычаи мира, / Милость покорным давать и войною обуздывать гордых (Eneida: VI, 847–853). Сходство не случайно.
[13] Ferguson N. Colossus: The Rise and Fall of the American Empire. N.Y.: Penguin Books, 2004. P. 19.
[14] Tilly C. How Empires End. In: K. Barkey, M. von Hagen (Eds.), After Empire: Multiethnic Societies and Nation-Building. N.Y., L.: Westview Press, 1997. P. 3.
[15] Ferguson N. Op. cit. P. 3–7.
[16] Cox M. The Empire’s Back in Town: Or America’s Imperial Temptation – Again // Millennium. 2003. Vol. 32. No. 1. P. 1–29. См. также: Cox M. Empire by Denial? Debating US Power // Security Dialogue. 2004. Vol. 35. No. 2. P. 228–236.
[17] Lundestad G. Empire by Invitation? The United States and Western Europe, 1945–52 // Journal of Peace Research. 1986. Vol. 23. No. 3. P. 263–277. Позже он развил ту же линию в других ценных работах, см.: Lundestad G. Empire By Integration: The United States And European Integration, 1945–1997. Oxford, N.Y.: Oxford University Press, 1998. 200 p.; Lundestad G. The United States and Western Europe Since 1945. From Empire by Invitation to Transatlantic Drift. Oxford, N.Y.: Oxford University Press, 2003. 331 p.; Lundestad G. The Rise and Decline of the American «Empire»: Power and its Limits in Comparative Perspective. Oxford, N.Y.: Oxford University Press, 2012. 222 p.
[18] Perkins B. The Creation of a Republican Empire, 1776–1865. Cambridge, N.Y.: Cambridge University Press, 1993. 272 p.
[19] Bacevich A.J. American Empire: The Realities and Consequences of U.S. Diplomacy. Cambridge: Harvard University Press, 2002. P. 244.
[20] Имеются в виду террористы, захватившие те самые самолеты в день 9/11. Такие подробности постепенно забываются.
[21] Ignatieff M. The Burden // The New York Times. 05.01.2003. URL: https://www.nytimes.com/2003/01/05/magazine/the-american-empire-the-burden.html (дата обращения: 01.05.2025).
[22] Федералист. Указ. соч. С. 292.
[23] Именно в этой статье, в том же п. 3, во фразе «Конгресс имеет право распоряжаться принадлежащей Соединённым Штатам территорией или иной собственностью и принимать все необходимые правила и установления в отношении их; и ни одно положение настоящей Конституции не должно толковаться в ущерб каким-либо притязаниям Соединённых Штатов или какого-либо отдельного штата», Беверидж обнаружил «слова о росте, об экспансии, об империи, если угодно», весьма вольно толкуя как выражение «принадлежащей Соединённым Штатам территорией или иной собственностью», так и слово «притязания» (“claims”), более того, провозгласив фактом принадлежность США не то что Филиппин (завладение которыми и стало поводом для его пламенной речи), но и самого Тихого океана: «Тихий океан наш» (Congressional Record, 1900. P. 704). Риторическое воспаление в духе гоголевского Ноздрева («всё, что ни видишь по эту сторону, всё это моё, и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон синеет, и всё, что за лесом, всё моё») способно завести далеко, и Трамп тут далеко не первопроходец.
[24] Термин «субъект» используется в этом смысле только в России, причём по довольно забавным причинам. Подробнее см.: Каспэ С.И. Против автономного субъекта: как нельзя и как можно исправить политическую форму // Полития. 2015. No. 3. С. 16–17.
[25] А до неё СССР – если считать его подлинной, не фиктивной федерацией. Что, учитывая фактическое всевластие коммунистической партии, трудно. Но подлинной империей, для нужд которой (псевдо)федеративный дизайн отлично подошёл, его можно считать с гораздо бóльшими основаниями.
[26] Спустя восемь лет, в 1795 г., Иммануил Кант воспроизвёл ту же норму в трактате «К вечному миру» (см.: Кант И. К вечному миру / И. Кант // Собрание сочинений в восьми томах. Т. 7. М.: Чоро, 1994. С. 5–56.) как conditio sine qua non своего проекта идеальной федерации, и она действительно стала таковой почти во всех не идеальных, зато реальных федерациях. Впрочем, Малайзия и Объединённые Арабские Эмираты без неё обходятся, и ничего – неплохо себя чувствуют. В кантовском проекте был ещё один любопытный нюанс, о котором будет сказано в другом примечании.
[27] President James Monroe’s Seventh Annual Message to Congress, December 2, 1823 // The Miller Center’s Governing Council. URL: https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/december-2-1823-seventh-annual-message-monroe-doctrine (дата обращения: 01.05.2025). Разные версии относительно того, где именно проходит граница полушарий, существуют до сих пор. Если проводить её, как чаще всего поступают географы, по Гринвичскому меридиану, то к западу от него оказывается почти вся Великобритания, вся Ирландия, часть Франции, вся Португалия и почти вся Испания. Как виделась эта граница самому Монро, доподлинно неизвестно; но наверняка как-то не так.
[28] Schectman J., Volz D. CIA Offers Buyout to Entire Workforce as Part of Trump Makeover // The Wall Street Journal. 04.02.2025. URL: https://www.wsj.com/politics/national-security/the-cia-is-about-to-get-a-trump-makeover-16fc0cbf?mod=hp_lead_pos4 (дата обращения: 01.04.2025).
[29] Trump Says U.S. Will Take Over Gaza Strip // Reuters. 05.02.2025. URL: https://www.reuters.com/world/trump-says-us-will-take-over-gaza-strip-2025-02-05/ (дата обращения: 01.04.2025).
[30] Филиппов А.Ф. Наблюдатель империи (Империя как социологическое понятие и политическая проблема) // Вопросы социологии. 1992. Т. 1. No. 1. С. 105.
[31] Perkins B. Op. cit. P. 7.
[32] Цит. по: Pagden A. Lords of All the World. Ideologies of Empire in Spain, Britain and France, c. 1500 – c. 1800. New Haven, L.: Yale University Press. P. 195.
[33] Bomboy S. Five “Unusual” Amendments That Never Made It into the Constitution // National Constitution Center. 23.02.2018. URL: https://constitutioncenter.org/blog/five-unusual-amendments-that-never-made-it-into-the-constitution (дата обращения: 01.04.2025). Текст поправки ещё до внесения был опубликован здесь: Cowdon J.S. Pantocracy; Or, The Reign of Justice. Princeton: Princeton University Press, 1892. P. 51. За сообщение об этом замечательном во всех отношениях факте я благодарю моего тринадцатилетнего сына Якова Каспэ.
[34] Между прочим, ещё одним conditio sine qua non грезившейся Канту федерации республик и, соответственно, вечного мира был как раз её всемирный характер. См.: Кант И. Указ. соч.
[35] President Carter’s Address to the University of Notre Dame, May 22, 1977 // The Miller Center’s Governing Council. URL: https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/may-22-1977-university-notre-dame-commencement (дата обращения: 01.04.2025).
[36] О полезности различения в анализе имперской структуры и динамики категорий «центра» и «ядра» см.: Каспэ С.И. Теоретические заметки о структуре и динамике империй // Мировая экономика и международные отношения. 2022. Т. 66. No. 11. С. 115–125.
[37] Подобно тому, как Римская империя не сводилась ни к городу Риму, ни к Италии, ни даже к Средиземноморью (Британия, Германия, Армения… вплоть до островов Фарасан в южной части Красного моря и, по некоторым предположениям, торговой фактории Арикамеду на юго-востоке Индии).
[38] Colombani J.-M. Nous sommes tous Américains // Le Monde. 11.01.2001. URL: https://www.lemonde.fr/idees/article/2011/09/09/nous-sommes-tous-americains_1569503_3232.html (дата обращения: 01.05.2025).
[39] «В американской федеральной теории… отсутствует понятие государства как такового. Политически полновластный народ (как правило, о нём говорят как о политически полновластном волей Божьей) учреждает всевозможные правительства и передаёт им столько власти, сколько считает нужным. Ни одно правительство не является полностью суверенным, оно обладает только теми полномочиями, которые делегированы ему суверенным народом, и потому возможно одновременное существование – рядом друг с другом – нескольких правительств сразу» (Elazar D. International and Comparative Federalism // Political Science and Politics. 1993. Vol. 26. No. 2. P. 192). Более того, и именно поэтому, «нет никакой верховной власти; любая власть оспариваема» (Ostrom V. The Meaning of American Federalism: Constituting a Self-Governing Society. San Francisco: ICS Press, 1994. P. 254).
[40] Deth J.W. van, Scarbrough E. The Concept of Values. In: J.W. van Deth, E. Scarbrough (Eds.), The Impact of Values. Oxford: Oxford University Press, 1998. P. 22.
[41] Parsons T. The Social System. L.: Routledge, 2005. P. 26.
[42] Правда, таковой она стала лишь в ХХ веке, послужив источником вдохновения для президентов Джона Кеннеди и Рональда Рейгана, причём для последнего неоднократно. Справедливости ради нужно отметить, что Уинтропа вспомнил и Трамп – в своей речи на Национальном молитвенном завтраке National Prayer Breakfast 6 февраля 2025 г. (см.: President Donald Trump’s Inaugural Address // The White House. 20.01.2025. URL: https://www.whitehouse.gov/remarks/2025/01/the-inaugural-address (дата обращения: 01.05.2025)). Той же справедливости ради нужно добавить, что из этого на редкость бессвязного и бессодержательного выступления можно понять лишь то, что веру в Бога Трамп всячески одобряет и «глубоко в душе каждого патриота находится то знание, что у Бога есть для Америки специальный план и великая миссия» – но не то, в чём, собственно, этот план и эта миссия состоят.
[43] Уинтроп дословно цитировал ветхозаветную книгу пророка Михея (6:8).
[44] Цит. по адаптированному переложению на современный английский язык: Winthrop J. A Model of Christian Charity (1630) // Gilder Lehrman Institute of American History. URL: https://www.gilderlehrman.org/sites/default/files/inline-pdfs/A%20Model%20of%20Christian%20Charity_Full%20Text.pdf (дата обращения: 01.04.2025). Оригинальный текст см. здесь: Winthrop J. A Modell of Christian Charity (1630) // Massachusetts Historical Society. URL: https://www.masshist.org/publications/winthrop/index.php/view/PWF02d270 (дата обращения: 01.04.2025).
[45] См.: Weir D. The Origins of the Federal Theology in Sixteenth-Century Reformation Thought. Oxford: Clarendon Press, 1990. 244 p.; Kendall W., Carey G. The Basic Symbols of the American Political Tradition. Washington: Catholic University of America, 1995. 168 p.; Moots G.A. Politics Reformed: The Anglo-American Legacy of Covenant Theology. Columbia: University of Missouri Press, 2010. 240 p.
[46] Elazar D. Covenant & Constitutionalism: The Great Frontier and the Matrix of Federal Democracy. The Covenant Tradition in Politics. Vol. III. New Brunswick: Transaction Publishers, 1998. P. 16.
[47] Ibid. P. 5.
[48] См.: Merk F. Manifest Destiny and Mission in American History: A Reinterpretation. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1995. 278 p.; Stephanson A. Manifest Destiny: American Expansion and the Empire of Right. N.Y.: Hill and Wang, 1995. 144 p.
[49] O’Sullivan J. Annexation // United States Magazine and Democratic Review. 1845. Vol. 17. No. 35. P. 6.
[50] O’Sullivan J. Territorial Aggrandizement // United States Magazine and Democratic Review. 1845. Vol. 17. No. 38. P. 247.
[51] Congressional Globe, 1845. Vol. 14. Twenty-Eighth Congress, Second Session // UNT Digital Library. P. 43. URL: https://digital.library.unt.edu/ark:/67531/metapth2366 (дата обращения: 01.04.2025).
[52] President Theodore Roosevelt’s Fourth Annual Message to Congress, December 6, 1904 // The Miller Center’s Governing Council. URL: https://millercenter.org/the-presidency/presidential-speeches/december-6-1904-fourth-annual-message (дата обращения: 01.04.2025).
[53] Nye J.S. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone. Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 2002. P. 141.
[54] Ferguson N. Op. cit. P. 20.
[55] Williams W.A. The President and His Critics // The Nation. 1963. No. 196. P. 227.
[56] Williams W.A. A Natural History of the American Empire // Canadian Dimension. 1967. No. 4. P. 12.
[57] Williams W.A. America Confronts a Revolutionary World, 1776–1976. N.Y.: William Morrow & Co, 1976. P. 43.
[58] Williams W.A. Empire as a Way of Life. N.Y.: Oxford University Press, 1980. P. 170. Сам он, будучи крайне левым, относился к тому, что описывал, с резким неодобрением. Но какая разница, если диагноз точен и обоснован? Так и Карл Маркс «ужасы» и «язвы» капитализма совсем не выдумал. А для цитированного выше правоконсервативного исследователя американского империализма Эндрю Бейсевича острые наблюдения Уильямса стали чуть ли не главным источником вдохновения.
[59] Даниил 5:27.
[60] Чего не делал никто из его предшественников, даже считающийся самым рьяным поборником этой доктрины президент (с 1845 по 1849 г.) Джеймс Полк. При нём к территории США добавились штаты Аризона, Юта, Невада, Калифорния, Орегон, Айдахо, Вашингтон, б?льшая часть Нью-Мексико, а также некоторые фрагменты Вайоминга, Монтаны и Колорадо – весьма убедительная манифестация «Явного Предназначения».
[61] President Donald Trump’s Inaugural Address // The White House. 20.01.2025. URL: https://www.whitehouse.gov/remarks/2025/01/the-inaugural-address (дата обращения: 01.05.2025).
[62] JD Vance’s Full Speech on the Fall of Europe // The Spectator. 14.02.2025. URL: https://www.spectator.co.uk/article/jd-vance-what-i-worry-about-is-the-threat-from-within/?fbclid=IwY2xjawIc9_ZleHRuA2FlbQIxMAABHXyq8U76RljcylXAf-9Aj66q2zI7OpAnfuyf9mjrBirRE0sHQmMo08MwpA_aem_LHHlxIzVQJdM_L8cHCPnzA (дата обращения: 01.04.2025).
[63] Neustadt R. Presidential Power and the Modern Presidents: The Politics of Leadership from Roosevelt to Reagan. N.Y.: Free Press, 1990. P. 10.
[64] Schlesinger A.M. The Imperial Presidency. Boston: Houghton Mifflin, 1973. 505 p.
[65] Хотя интересно было бы пофантазировать о том, что было бы, отнесись Джордж Вашингтон более благосклонно к идее установления королевской власти (с прозрачным намёком на то, что он и мог бы стать идеальным претендентом на корону), высказанной ему в 1782 г. полковником Льюисом Никола (см.: Fitzpatrick J.C. (Ed.) The Writings of George Washington, from the Original Sources, 1745–1799. Vol. XXIV. Washington: Government Printing Office, 1938. P. 272–273). Но интерес этот сугубо досужий.
[66] Rep. Ogles Proposes Amending the 22nd Amendment to Allow Trump to Serve a Third Term // Congressman Andy Ogles. 23.01.2025. URL: https://ogles.house.gov/media/press-releases/rep-ogles-proposes-amending-22nd-amendment-allow-trump-serve-third-term (дата обращения: 01.04.2025).
[67] «После Путина будет Путин»: эксклюзивное интервью Вячеслава Володина // Газета.ru. 18.06.2020. URL: https://www.gazeta.ru/politics/2020/06/18_a_13121443.shtml (дата обращения: 01.04.2025).
[68] Документ, известный в России, не раз цитированный президентом Владимиром Путиным, но почти совершенно забытый за её пределами. И напрасно.
[69] Циркулярная депеша в Российско-императорские миссии, 21 августа 1856 года. В кн.: Сборник, изданный в память двадцатипятилетия управления Министерством иностранных дел государственного канцлера светлейшего князя Александра Михайловича Горчакова, 1856–1881. СПб.: Тип. 2 Отд-ния Собств. е. и. в. канцелярии, 1881. С. 125.

Империя на хозрасчёте: что делает Трамп с американским могуществом. И чего не делает
Святослав Каспэ
Доктор политических наук, профессор департамента политики и управления факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный редактор журнала «Полития».
Для цитирования:
Каспэ С.И. Империя на хозрасчёте: что делает Трамп с американским могуществом. И чего не делает // Россия в глобальной политике. 2025. Т. 23. № 3. С. 10–34.
I’ll be back.
T-800, Terminator
I’m back.
T-800, Terminator III:
Rise of the Machines
Кутерьма, учинённая Дональдом Трампом в международной политике в первые же недели и месяцы его второго президентского срока (аналогичная кутерьма в политике внутренней здесь не обсуждается), вызвала две противоречащих друг другу спонтанных реакции. Эмоций в обеих гораздо больше, чем рефлексии, что не помешало им самим тоже моментально стать политическим фактом.
Первая реакция идеально описывается языком советской пропаганды: «Американский империализм сбросил маску и показал своё истинное лицо» (вар.: «звериный оскал»). Так интерпретируются хамские выпады и неприкрытый шантаж, мишенями которых стал целый ряд вообще-то суверенных государств. Причем, как выяснилось, от слов к делу Трамп переходит очень быстро – и быстро же добивается результатов, по крайней мере некоторых. И право, и правила отброшены; отныне будет править сила. Американская сила, о чём честно предупредил государственный секретарь США Марко Рубио в программном заявлении на сенатских слушаниях ещё до инаугурации Трампа (тут необходимо обширное цитирование). «Что внешнюю политику, подчинённую национальному интересу, можно заменить той, которая обслуживает “либеральный мировой порядок”, было не просто фантазией, но опасным заблуждением». «Послевоенный глобальный порядок не просто устарел; он стал оружием, используемым против нас». «Президент Трамп возвращается в офис с несомненным мандатом от избирателей. Им нужна сильная Америка. Вовлечённая в мировые дела. Но руководствующаяся ясной целью: повсюду продвигать мир, а своему дому обеспечивать безопасность и процветание». И это никакой «не изоляционизм. Это основанное на здравом смысле понимание, что основанная на нашем национальном интересе внешняя политика – не пережиток прошлого». «Как Америка сможет продвигать дело “мира во всём мире”, не будучи в безопасности у себя дома?»[1] Трамп – классический, старой школы империалист, а «мир во всём мире» – циничное прикрытие шкурных интересов[2]. Американское могущество укрепляется.
Вторая реакция: Трамп разрушает ключевой элемент американской привлекательности, американского влияния и, согласно распространённой точке зрения, американского империализма – знаменитую «мягкую силу». Тут главные доказательства – ужесточение миграционной политики, разгром USAID, USAGM, ещё нескольких гуманитарных агентств, постановка на паузу и ревизия других программ международной помощи и сотрудничества. А как же статуя Свободы и посвящённые ей, прочно входящие в её расширенный символический образ знаменитые строки Эммы Лазарус[3]? А как же «величайшая сила в мире», которая станет «примером свободы и маяком надежды для тех, кто свободы не имеет»[4], «ярчайший маяк свободы и возможностей», обязавшийся «защищать всё благое и справедливое в нашем мире»[5]? А как же миллионы и миллионы поверивших в эти обещания? Всё поругано и предано. Американское могущество слабеет.
Обе точки зрения по-своему основательны. Но по выводам они противоположны, следовательно, не могут быть верны одновременно. Значит, нужна третья. Прежде чем её формулировать, следует сделать важную оговорку. Речь пойдёт не о том, чего хочет Трамп, каков его план и существует ли такой план вообще. А исключительно о том, к каким объективно наблюдаемым последствиям его действия могут привести, независимо от их субъективных мотивов и без каких-либо спекулятивных психологизаций.
Причём к последствиям относительно отдалённым. Трамп, мягко говоря, кипуч, а современный мир и без Трампа сверхволатилен. За то незначительное время, в течение которого эта статья обдумывалась, писалась и готовилась к публикации, произошло многое, ещё больше произойдёт в следующие месяцы и годы. В режиме реального времени строить сколько-нибудь устойчивые интерпретации невозможно. Сова Минервы не обязательно вылетает в сумерках, к тому же нет уверенности, что благоприятствующие спокойному размышлению сумерки вообще когда-нибудь настанут. Но чтобы охватить взглядом ландшафт в целом, она в любом случае должна набрать достаточную высоту. Кстати, настоящие совы именно дальнозорки.
Таким образом, предмет обсуждения стоит рассматривать в нескольких контекстах. Все они расширяют временной горизонт анализа.
Тени прошлого
Первый контекст, самый простой. Как будто забыто, что мы на самом деле довольно много узнали о Трампе и его стиле (а ведь, как заметил Жорж-Луи Леклерк де Бюффон, «стиль – это сам человек») ещё перед и во время его предыдущего президентского срока. Тогда бизнес-бэкграунд Трампа стал предметом пристальных реконструкций и разборов. Трамп бурей налетает на контрагентов (не делая особого различия между союзниками, партнёрами и противниками), ошеломляя их валом безапелляционных обвинений, грубых претензий, диких угроз и нелепых требований, подкреплённых ещё и кое-какими решениями – впрочем, нередко сразу же откладываемыми или корректируемыми. В ход идут грязные приёмы: дезинформация, газлайтинг, троллинг, флудинг, сталкинг, виктимблейминг, эйджизм, эйблизм etc.
Грань между правдой и ложью, между фактом и фейком, между логикой и абсурдом, между возможным и невозможным в сознании контрагента стирается.
Когда же в этом мутном водовороте вдруг появляется некое сравнительно (со всем остальным) разумно или хотя бы не совсем безумно выглядящее предложение, контрагент с высокой степенью вероятности цепляется за него как за спасательный круг – в первую очередь желая, чтобы весь этот кошмар скорее закончился. Трамп потирает руки, его контрагент с облегчением выдыхает, обе стороны довольны, хотя и по разным причинам. Игра с ненулевой суммой, сделка. По крайней мере, иногда. Если контрагент слишком упирается, его прогоняют – чтобы тот вернулся, когда будет готов. Бывает, что и возвращается. Странно, что сейчас столько вроде бы серьёзных людей принимает все словесные (а также играющие вспомогательную роль несловесные) интервенции Трампа за чистую монету, более того, за fait accompli. Тем, кто оказывается прямой их мишенью, это простительно. Экспертам – нет.
Второй контекст. Человек с таким стилем находится в позиции главы американской империи. Главы не значит самодержавного хозяина (об этом позже), но тем не менее. Что Соединённые Штаты Америки суть империя – пусть не официально, не de jure, но de facto, что именно империей они предстают в многочисленных самоописаниях и внешних оценках, отнюдь не секрет. Томас Джефферсон заговорил о будущем союзе как об «империи»[6], не дожидаясь победы в Войне за независимость и принятия Конституции, и неоднократно возвращался к этому видению до, во время и по окончании своего президентства. Другой «отец-основатель», Александр Гамильтон, назвал США «империей, во многих отношениях самой интересной в мире»[7],, в 1787 г., в первых же строках первого же письма «Федералиста»[8]. Правда, в 1795 г. союз в его представлении вдруг превратился в пока ещё только «эмбрион великой империи»[9]; но эмбрион, надо признать, оказался вполне жизнеспособным и способным к развитию[10].
В течение всего XIX века определение США как империи находилось в активном обороте, ни у кого не вызывая ни сомнений, ни смущения. В 1861 г. одну из лестниц в здании Капитолия украсила (и украшает до сих пор) гигантская фреска работы Эмануэля Готлиба Лёйце «Путь Империи ведёт на Запад». В 1900 г. бешеный успех возымела пламенная речь сенатора-республиканца от Индианы Альберта Бевериджа, широко распубликованная под названием «В поддержку Американской Империи». В ней, среди прочего, находится такой замечательный пассаж: «Наши отцы-основатели вписали в Конституцию слова о росте, об экспансии, об империи, если угодно, не ограниченной географией, климатом и вообще ничем, кроме жизненных сил и возможностей Американского народа»[11]. Или: Бог «сотворил нас господами и устроителями мира, водворяющими порядок в царстве хаоса. Он осенил нас духом прогресса, сокрушающим силы реакции по всей земле. Он сделал нас сведущими в управлении, чтобы мы могли править дикими и дряхлыми народами. Кроме нас, нет иной мощи, способной удержать мир от возвращения во тьму варварства. Из всех рас Он сделал Американский народ Своим избранным народом, поручив нам руководить обновлением мира. Такова божественная миссия Америки»[12].
Правда, в ХХ веке применение к США термина «империя» почти прекратилось – из-за стремления отмежеваться, отстроиться от старых европейских империй и противопоставить их приёмам собственные (сперва в Китае, далее везде): свободная торговля, «открытые двери», «равные возможности» и влияние на формально суверенные, на деле более или менее подконтрольные правительства вместо военных захватов и открытого завладения теми или иными территориями, хотя и с опорой на местные элиты и административные кадры. Разница действительно была, и Найалл Фергюсон убедительно описал американскую манеру словами «продвигаться мягко» (“going soft”)[13]; но и тот, и другой modus operandi вполне укладывается в рамочное определение специфики имперского господства как «непрямого правления», данное Чарльзом Тилли: «1) сохранение либо установление особых, различающихся условий управления каждым отдельным сегментом; 2) отправление власти через посредников, пользующихся в своих доменах значительной автономией в обмен на повиновение, принесение дани и военное сотрудничество с центром»[14]. Так или иначе, настал период, названный Фергюсоном «отрицанием империи»[15]; но, что примечательно, не её «упразднением» или «демонтажем». А Майкл Кокс ещё и добавил к этой констатации, что «отрицание империи» стало вполне действенным способом её поддержания и утверждения[16].
Впрочем, табу понемногу снималось. В 1986 г. норвежец Гейр Лундестад опубликовал резонансную и, что существеннее, не вызвавшую никакого возмущения статью «Империя по приглашению? Соединённые Штаты и Западная Европа, 1945–1952»[17]. В 1993 г. первый том «Кембриджской истории американской внешней политики», подготовленный Брэдфордом Перкинсом, получил название «Сотворение республиканской империи, 1776–1865»[18]. Победа Америки в холодной войне и распад Советского Союза вместе со всем «социалистическим лагерем», возникновение однополярного мира, атака на его символический центр, предпринятая 11 сентября 2001 г., и реакция на неё (не только собственно США, но и всего Запада, а также многих других стран, включая Россию)… всё это вместе взятое окончательно сняло табу на применение к Соединённым Штатам имени империи. Примеров тому несчётное множество, как в академическом, так и в широком публичном дискурсе. Инерция «отрицания империи» и в первой четверти XXI века даёт о себе знать, хотя, пожалуй, всё реже и реже. Эндрю Бейсевич в 2002 г. жёстко заявил: «Нравится оно кому-то или нет, Америка сегодня – это Рим, необратимо обязавшийся поддерживать и, в меру возможности, расширять империю… Тут особенно нечему радоваться; но и отрицать факты недопустимо»[19]. А Майкл Игнатьефф добавил: «Американцы могут не думать о Всемирном Торговом Центре или о Пентагоне как о символических штабах мировой империи, но люди, вооружённые резаками для картона[20], так думали, как и бесчисленные миллионы тех, кто восхвалял и пропагандировал их ужасающее деяние». И, отнюдь не симпатизируя террористам и их поклонникам, задал резонный вопрос: «Как же ещё, если не “империей”, можно назвать то потрясающее нечто, которым стала Америка?»[21]
Что ж, теперь это «потрясающее нечто» возглавляет «потрясающий некто».
Третий контекст. Структурно-функциональный каркас американской империи – её федеративный институциональный дизайн. Именно он обеспечил и само её образование как союза тринадцати колоний, и её дальнейшее расширение. Ещё в сорок третьем письме «Федералиста» Джеймс Мэдисон настаивал на необходимости предоставить федеральным властям право на приём в состав союза новых штатов, считая крупным недостатком Статей Конфедерации то, что ими этот вопрос вообще не был урегулирован[22]. И в п. 3 ст. 4 Конституции США такая норма появилась: «Новые штаты могут приниматься Конгрессом в настоящий Союз»[23]. Примечательно, что ни в самой американской Конституции (в отличие, например, от российской), ни в поправках к ней не содержится ни закрытого, ни даже открытого перечня штатов. Приём нового штата осуществляется одним только актом Конгресса, то есть сравнительно простой процедурой, – разумеется, при наличии надлежащим образом подтверждённого консенсуса внутри новой единицы[24] и инициативы с её стороны, односторонняя аннексия не подразумевается. Предусмотрительно; кто ж его знает, что может случиться в будущем? А добавить на флаг ещё одну звезду – дело нехитрое.
Более того, ведь все федерации Нового времени создавались уже с учётом американского опыта. Надежды на то, что федерализм станет для других политий таким же источником силы, в общем, не оправдались. Однако сама возможность расширения федерации путём образования и присоединения к ней новых единиц эксплицитно предусмотрена конституциями и законами по меньшей мере Австрии, Австралии, Индии, России[25]; существует ли эта опция имплицитно и в других федерациях, a priori сказать трудно, но и исключить нельзя.
Другой вопрос – не гипотетическая, а практическая осуществимость подобных сценариев. Так, чтобы всерьёз… – нет, даже не всерьёз, а хотя бы удерживаясь от гомерического смеха, – обсуждать перспективы вхождения в состав США Канады и Мексики на правах штатов, неплохо бы вспомнить, что обе страны вообще-то федерации сами по себе (10 провинций и три «территории» в первой, 31 штат и один федеральный округ во второй). Соответственно, в обеих странах пришлось бы либо ещё до поглощения ликвидировать федеративное устройство как таковое (нет шансов), либо предоставлять права американского штата каждой из их нынешних политических единиц по отдельности – и что бы в этом случае произошло с составом обеих палат Конгресса (особенно сената), да и вообще электоральной картой Соединённых Штатов? Это уж если не вспоминать, во-первых, о вольнолюбивом франкофонном Квебеке, во-вторых, о том, что Канада вообще-то конституционная монархия, во главе которой стоит британский суверен – в то время как, согласно той же ст. 4 Конституции США (п. 4), «Соединённые Штаты гарантируют каждому штату в настоящем Союзе республиканскую форму правления»[26]… Нет, удержаться от смеха всё-таки не получается. Остаётся поместить эти словесные интервенции Трампа в первый контекст и рассматривать как дымовую завесу, прикрывавшую (причём недолго) настоящие предметы дискуссий с ближайшими соседями (пограничный контроль, наркотрафик, тарифы).
Четвёртый контекст. Пределы расширения, экспансии американской империи никак и никем не установлены непреложно и навсегда. Как и любой другой – таково общее место всех исследований имперской политической формы. Единственное указание на какую бы то ни было географическую рамку содержится в самом наименовании Соединённых Штатов – «Америки». Целая часть света – уже немало. Впрочем, эта весьма просторная рамка была с совершенной лёгкостью преодолена в 1959 г., когда права штата получили Гавайи – находящиеся, между прочим, никак не в Америке, а в Океании. Но ведь «соединены» совсем не только штаты. Американская империя, как и всякая другая (а также – как и немало федераций), многослойна и асимметрична – ср. цитированное выше указание Тилли на «особые, различающиеся условия управления каждым отдельным сегментом» империи. Не стоит сейчас разбирать случай округа Колумбия, во многих отношениях, вплоть до примерно квадратных очертаний территории, весьма напоминающего римский священный участок (templum), с которого и начался Вечный город (равно как и его аналоги в других федерациях, последовавших американскому примеру). Но есть ещё и «ассоциированные территории» различного статуса, значительная часть которых тоже расположена не в собственно Америке, а пара – даже и не в Западном полушарии («этом полушарии», если быть точнее), двести лет назад объявленном президентом Джеймсом Монро сферой эксклюзивных интересов США[27]. С одной стороны, открыто заявленные Трампом территориальные притязания – на Канаду, Мексику, зону Панамского канала, Гренландию – относятся именно к Западному полушарию и потому вполне укладываются в заданную доктриной Монро традицию, причём два последних варианта, учитывая опцию «ассоциированных территорий», выглядят несколько менее абсурдно, чем два первых. К той же традиции можно отнести и сообщения о требовании Трампа, дабы ЦРУ «больше сфокусировалось на Западном полушарии»[28]. С другой стороны, что именно имел в виду Трамп, выразив намерение «взять» (“take over”) сектор Газа и «владеть» (“own”) им[29], понять невозможно, во всяком случае пока. То есть можно понимать как угодно.
Но и Западным полушарием, как бы его ни определять, «фон и смысловой горизонт»[30] американской империи не ограничивается и в нём не замыкается. «Американцы, по крайней мере многие, несомненно, были экспансионистами и до, и после обретения независимости; и даже до него большинство их считало, что “Америка” – нечто большее, чем географическое понятие»[31]. Симон Боливар, относившийся к США без большой любви, но с большим уважением, в 1826 г. предупредил собранный им в Панаме конгресс из нескольких недавно образованных независимых государств Латинской Америки, что в будущем североамериканцы «станут, может быть, единственной нацией всемирного, вселенского охвата (cubriendo el universo, в английском переводе – covering the universe), – федерацией»[32]. А в 1893 г. эксцентричный конгрессмен-демократ от Висконсина Лукас М. Миллер и впрямь предложил конституционную поправку (естественно, отклонённую; но осадочек-то остался) о переименовании страны в «United States of the Earth»[33] – объяснив это примерно так, что раз оно всё равно неизбежно, то почему бы и нет?[34]
Ни всемирной нации, ни всемирной федерации не случилось. Случилось другое, хотя и близкое. США превратились в центр глобальной империи Запада, причём претензия именно на центральную позицию была декларирована президентом Джеймсом Картером ещё до начала ползучей реабилитации применения к ним термина «империя» и, соответственно, без его эксплицитного использования: «По меркам истории 200 лет существования нашей нации коротки; наше восхождение к мировым высотам ещё короче. Оно началось в 1945 г., когда и Европа, и старый международный порядок лежали в руинах. До этого момента Америка большей частью находилась на периферии мировых дел. После него мы непреклонно встали в их центре»[35].
Империи Запада, но глобальной. Империи глобальной, но Запада. В том смысле, что и ценности, и институты, и практики этой империи имеют неоспоримо западное происхождение (не восточное же). Б?льшая часть её элит и функционеров, а также основные локусы их размещения также сосредоточены на Западе. Да, ядро[36] глобальной империи не сводимо ни к Соединённым Штатам, ни к включающему ещё и Европу Западу в расширенно географическом, то есть трансатлантическом, и культурном, в том числе религиозном и лингвистическом, плане. Особенно выделяется случай Японии; однако есть ещё и такие совсем специфические аванпосты имперского ядра, как Южная Корея, Тайвань, Израиль[37]. А уж концентрические круги власти и влияния глобальной империи Запада охватывают orbis terrarum целиком.
Все без исключения её оппоненты, в том числе Китай и Россия, не говоря уж о её сателлитах и клиентах, находятся в мощном силовом поле империи и не в состоянии его игнорировать.
Да, в последнее время эта империя трещит и шатается. Гораздо меньше стало (в том числе из-за неуклюжих действий самой империи, но далеко не только поэтому) готовых признаваться в принадлежности и присягать на верность ей. Под облетевшими весь мир словами главного редактора Le Monde Жана-Мари Коломбани: «Мы все американцы»[38] сегодня, в отличие от того самого чёрного дня 9/11, подписалось бы гораздо меньше индивидов, народов и государств. Трансатлантическая солидарность, казавшаяся самым прочным связующим звеном глобальной империи, и та нарушена. Показательна скорость, с которой из российских официозных нарративов испарился клишированный, стократ повторенный оборот «коллективный Запад».
Однако кризис и полная гибель всерьёз – не одно и то же. Кризисы переживали все империи; и по меньшей мере некоторые империи некоторые кризисы сопоставимой, да и превосходящей степени драматизма пережили. Такое случалось и с Первым Римом, и со Вторым, и с Третьим. Кстати, и распад СССР был очень и очень многими (в том числе мной) воспринят как окончательный крах, бесповоротно и навсегда завершающий историю Северной Евразии как имперского пространства. И напрасно – политические конфигурации меняются, но ни само пространство, ни его операторы ещё далеко не стали и в обозримом будущем не станут постимперскими. Да и станут ли?
Тени прошлого: попытка к бегству
Таким образом, в том, что делает Трамп с американской империей и её могуществом, много неожиданного, заметно меньше принципиально нового и нет почти ничего прямо-таки несусветного. Причина почти повального недоумения в том, что некоторые уникальные особенности американской политии долго было принято не принимать в расчёт (в том числе в самой Америке), как будто они давно устарели, как будто это что-то несерьёзное, как будто Америка – просто государство в ряду других государств. Нет, они не устарели. Нет, это серьёзно. Нет, Америка – не просто государство (если её политическую форму вообще можно считать государством, в чём не раз высказывались небезосновательные сомнения[39]).
В том, что делает Трамп с американской империей и её могуществом, по-настоящему неожиданно, ново и даже несусветно только одно. Он вышибает из-под империи (а значит, и из-под всей империи Запада) её ценностное, идейное, идеалистическое… да что там, выражаясь без обиняков, сакральное основание. Не тот комплект принципов и требований, который в последние десятилетия собравшаяся вокруг Демократической партии США прогрессивная общественность превратила в догму и доксу (не исключено, что он и впрямь представляет собой преходящую флуктуацию, если не аберрацию), а нечто намного более глубокое и значительное. Столп и утверждение всего проекта.
Достаточно определённые ценности руководили им всегда (надо учитывать, что США, в отличие от политий с более глубокой историей, не самовозникли как равнодействующая разнонаправленных векторов и факторов, а были именно спроектированы и сконструированы). Ценности – то есть «неэмпирические… представления о желаемом, используемые в моральном дискурсе и… особым образом влияющие на поведение»[40], причём «более или менее независимо от какой бы то ни было конкретной инструментальной “выгоды”»[41]. Ценности присутствуют во всех обсуждавшихся выше контекстах (кроме первого – потому-то он и стал поводом для всего этого размышления).
Уже в знаменитой[42] проповеди «Образец Христианского Милосердия» (1630) первого губернатора Массачусетса Джона Уинтропа, прочитанной ещё до пересечения океана, успех всего рискованного предприятия и надежда на то, что «Господь станет нашим Богом, и с радостью поселится среди нас как Его собственного народа, и благословит нас на всех наших путях», поставлены в жёсткую зависимость от способности будущих колонистов «действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим»[43]. Тогда и только тогда «будем мы подобны Граду на Холме, взоры всех народов будут устремлены на нас. Если же мы нарушим завет с Богом нашим в деле, за которое взялись, и вынудим Его отказать нам в помощи, которую Он оказывает нам ныне, мы станем притчей во языцех всему миру. Мы отверзнем уста врагов, хулящих пути Господа и всех его исповедников. Мы посрамим многих достойных слуг Бога, и их молитвы за нас обратятся в проклятия, которые будут преследовать нас до тех пор, пока не исчезнем мы с лица той доброй земли, в которую направляемся»[44].
Американский федерализм тоже построен на ценностном фундаменте. Он произрос из «федеральной теологии» (она же «теология завета»), из той версии пуританского богословия, которая считала легитимными лишь формы социально-политической организации, созданные по модели Завета между Богом и Израилем, то есть обязательства религиозного, морального, социального и политического свойства одновременно и нераздельно[45]. Процедурно и технически это было так: «Первоначально, в масштабах городов и конгрегаций, ковенанты заключали индивиды и семьи. Параллельно им развивалась сеть добровольных ассоциаций – коммерческих, общественных, церковных и гражданских, – представлявших собой негосударственный компонент гражданского общества, основанный на принципах свободной договорённости. С самого начала сети сообществ соединялись в колонии, впоследствии штаты. Наконец, сеть штатов была связана федеральным союзом, с которым опять же соседствовала аналогичная сеть добровольных ассоциаций»[46]. Главное же свойство ковенанта как моделирующего образца политической формы – то, что его «морально обязывающее измерение имеет приоритет над правовым»[47]. Да, даже над ним. Потому что второе генеалогически вторично.
В конце XVIII века, когда Джефферсону стало ясно, что именно нарождается в Северной Америке, он почти во всех случаях писал и говорил не об империи вообще, но об «империи свободы» (а когда обходился без этого уточнения, то, видимо, потому что считал его и так очевидным). Продолжающая джефферсоновскую линию известная идеологема «Явного Предназначения»[48] тоже про ценности. Автор самой формулы публицист Джон О’Салливан сперва определил её просто как само собой разумеющуюся необходимость «заполнить (overspread) континент, отведённый Провидением для свободного развития наших умножающихся от года к году миллионов (граждан)»[49], но спустя всего несколько месяцев пояснил: «Демократии должны основывать свои приобретения на моральных соображениях. Если они недостаточны, приобретение есть грабёж»[50]. А в том же 1845 г. конгрессмен-республиканец от Алабамы Джеймс Белзер ещё развернул аргументацию: «Давно наша страна утверждает себя как убежище для угнетённых. Пусть её учреждения и её народ распространятся вдаль и вширь, и когда воды деспотизма затопят другие части земного шара, когда приверженцы свободы будут вынуждены спасаться на ковчегах, пусть это правительство станет тем Араратом, которым оно обязано быть»[51].
Ценностный компонент со временем проявился и в «доктрине Монро» – не в её начальной версии, сухо и кратко, всего в четырёх абзацах изложенной в президентском послании к Конгрессу 2 декабря 1823 г., а в королларии к ней, сделанном президентом Теодором Рузвельтом в аналогичном выступлении 6 декабря 1904 года. Тогда было объявлено, что «постоянство злодеяний или бессилие, влекущее за собой полное расслабление уз цивилизованного общества, в Америке так же, как где-либо ещё, безусловно, требует вмешательства какой-либо цивилизованной нации»[52] – то есть был предложен общий, не ограниченный одним лишь Западным полушарием принцип международной политики, фундированный именно ценностным императивом пресечения зла и указывающий на ответственных за его осуществление.
Наконец, американская «мягкая сила» – понятие гораздо более глубокое и широкое, чем программы USAID и им подобные. Она – отнюдь не только политические технологии, «она исходит от сияющего “Града на холме”»[53], от «манящего нового Иерусалима экономической и политической свободы»[54] и лишь затем получает то или иное инструментальное обеспечение.
Разумеется, речь не о том, чтобы идеализировать американскую политическую традицию – в ней и без того более чем достаточно идеалов. Да, во всех экспликациях и интерпретациях «миссии Америки» так или иначе фигурируют категории бремени, долга и жертвенности. Но с идеалами и ценностями соседствует прагматика, и в немалом количестве. Она также присутствует во всех исследовавшихся контекстах, на этот раз включая первый (поэтому его лучше обсуждать последним).
Колонисты Новой Англии совершенно не собирались питаться «акридами и диким мёдом» и весьма заботились о своём материальном благополучии. То же относится и к «федеральной теологии», в которой «протестантская этика», строго по Максу Веберу, производила «дух капитализма», весьма способствовавший расширению федерального Союза. Первая статья О’Салливана, в которой появилась формула «Явного Предназначения», вообще-то требовала отобрать у Мексики Техас, да и называлась коротко и ясно: «Аннексия». Прагматические интересы США горячо отстаивали и конгрессмен Белзер, и особенно сенатор Беверидж, с особенным энтузиазмом рассуждавший не просто об империи, но об империи торговой (собственно, в своей цитированной выше речи он требовал завладения Филиппинами не во имя какого-либо умозрительного принципа или, наоборот, иррационального инстинкта, а для извлечения из этого захвата максимальных коммерческих выгод). Как много было прагматики в прикладном осуществлении «доктрины Монро» (например, в художествах United Fruit Company), да и в применении «мягкой силы», слишком известно.
Но в том-то и дело, что ценности и прагматика способны оборачиваться друг другом, более того, сливаться до неразличимости, до амальгамы – в том числе в сознании и подсознании самих их носителей.
Лаконичнее и точнее, чем классик ревизионистской школы в историографии американской дипломатии Уильям Эпплмен Уильямс, об этом туго затянутом узле, пожалуй, не скажешь: «Многие империалисты верят, что американская империя должна быть гуманистической, и многие гуманисты верят, что поступать хорошо хорошо для бизнеса»[55]. «Американская империя порождена не злыми намерениями или иррациональным поведением. Она создана людьми, точно знавшими, что они делают, и считавшими это необходимым и для их собственного блага, и для благополучия других»[56]. «Расширение рынков расширяет пространство свободы. Расширение пространства свободы расширяет рынки»[57]. Отсюда «грандиозная иллюзия», «соблазнительная вера в то, что Соединённые Штаты могут извлекать выгоды из империи, не оплачивая её издержек и вообще не признавая себя империей»[58].
И вот явился Трамп, отказывающийся измерять и сравнивать выгоды и издержки в чём-то ещё, кроме твердой валюты. Миссия, ценности, идеалы, доверие, репутация, честь… всё это взвешено и сочтено очень лёгким[59]. Всё это переводится в деньги и переописывается как сделки – с предсказуемым результатом. В своей инаугурационной речи Трамп вдруг прямо заговорил о «Явном Предназначении»[60], да ещё и расширив его аж до межпланетного масштаба. И в то же время сузив, потому что ценности упомянуты не были: «Соединённые Штаты снова будут считать себя растущей нацией, увеличивающей наше богатство, расширяющей наши территории, отстраивающей наши города, повышающей наши ожидания и возносящей наш флаг к новым и прекрасным горизонтам. И мы будем следовать нашему явному предназначению до самых звёзд, отправляя американских астронавтов, дабы водрузить Звёзды и Полосы на Марсе»[61]. Желание добиться если не полной, то хотя бы большей окупаемости американских вложений в том или ином объёме обнаруживается даже в тех пунктах мировой повестки, где его раньше то ли не было, то ли о нём было стыдно заговаривать открыто. В отношениях с ближайшими, самыми преданными союзниками (прежде всего Европой, но также Канадой, Австралией, Японией, Южной Кореей), в которых тарифный и торговый дисбаланс вдруг обесценил (буквально) все клятвы в вечной верности. В поддержке Израиля (идея создания «ближневосточной Ривьеры» в секторе Газа или, лучше сказать, на месте сектора Газа). В поддержке Украины (сделка по ископаемым ресурсам неопределённой номенклатуры, к которой, кажется, добавились ещё и атомные электростанции, – украинский президент Владимир Зеленский, первым предложивший нечто подобное осенью 2024 г., ещё до избрания Трампа, нашёл верный способ привлечь его интерес, но вряд ли ожидал, во что выльется его инициатива). Да и первая же заметная военная операция, осуществлённая по приказу Трампа (серия ударов по йеменским хуситам в марте 2025 г.), была объяснена исключительно необходимостью прекратить причинение ими многомиллиардного ущерба американской и мировой морской торговле, а также американским ВМС. О хуситских атаках на Израиль не было сказано ни слова.
Может показаться, что этой «генеральной линии» противоречит нашумевшее выступление на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президента США Джей Ди Вэнса 14 февраля 2025 г., в котором он настойчиво говорил о демократических ценностях и укорял европейцев (а также, разумеется, администрацию президента Джо Байдена) в отступлении от них. Противоречие кажущееся, потому что речь, по сути, шла только об одной ценности – о том, что нельзя «бояться голосов, мнений и сознания вашего собственного народа» и «в страхе бежать от ваших собственных избирателей»[62]. Что это главнейшая, первая демократическая ценность, неоспоримо. Но первая – не значит единственная. Что происходит, когда именем и во имя её отвергаются все прочие элементы демократического ценностного пакета, достаточно известно. Более того, Вэнс неприкрыто использовал этот аргумент, чтобы заступиться за те европейские политические силы и партии, которые в самой же Европе, согласно результатам выборов, почти везде находятся в меньшинстве и, к слову, получают гораздо более слабую электоральную поддержку, чем Демократическая партия в Соединённых Штатах. Только поэтому их и удаётся изолировать всякого рода брандмауэрами. Что результаты таких сил постепенно растут, ничего принципиально не меняет – большинство остается большинством, меньшинство меньшинством. Между прочим, на последних перед назначением Адольфа Гитлера рейхсканцлером выборах в рейхстаг 6 ноября 1932 г. НСДАП набрала лишь 33,1 процента голосов. Ещё занимательнее, что культ меньшинств, идеологию и практики их позитивной дискриминации трампистам вроде бы положено осуждать – а тут пропагандируется нечто обратное. Если же дело в ставке на то, что с европейскими силами и партиями крайних взглядов администрации Трампа будет проще иметь дело, то преобладание прагматических соображений оказывается шито белыми нитками.
Почему всё так? Сколько ни обзывай Трампа – эгоманьяком, нарциссом, циником, болваном или ещё хлеще – к пониманию того, что он делает с американским могуществом, это не приблизит. Можно строить и более содержательные предположения – например, то, что Трамп вдохновляется примером Китая, эффективность экспансии которого прямо связана с отсутствием в ней ценностной составляющей и, соответственно, предъявляемых к партнёрам ценностно окрашенных требований. Да и неполезных для экономики войн Китай не затевает – туманных опасений много, а на горизонте хотя бы теоретически возможного ничего, кроме Тайваня да нескольких спорных островов в Южно- и Восточно-Китайском морях.
Китай могуч, и мощь его растёт. Но Китай – не империя в том смысле, в каком этот термин возник и используется в западном мире, не исключая Россию, а что-то другое.
Хотя бы потому, что Китай, в отличие от Первого Рима и всех его многочисленных реплик, не инклюзивен. Подданным, гражданином любой западной империи (да и любой исламской, кстати говоря), а также культурно «своим» для неё мог стать, становился и становится, при выполнении определённых условий и ценой определённых изменений в себе, кто угодно. Китайцем стать нельзя, и точка. Не завидует ли обременённый империей Трамп Китаю? Не считает ли он, что избавленным от имперского бремени США будет проще с Китаем конкурировать? Гипотеза имеет право на существование, тем более что Трамп явно считает инклюзивность США, да и всего Запада, зашедшей слишком далеко. Но тут начинается та самая зыбкая почва ненадёжных спекуляций, вступать на которую не хотелось. Да и какая разница, почему всё так, если всё так?
Тени будущего
Что дальше? Дальше нужно подключить ещё один, пятый контекст – уже не столько ретро-, сколько проспективный. Да, у Трампа много власти, причём не все знают или помнят, почему. Потому что республиканский институт президентства возник в США (и уже оттуда, с теми или иными модификациями, распространился по миру) как специфическая вариация монархии – не любой, конечно, а британской. Против островной модели правления американские колонисты ничего не имели, более того, считали её наилучшей – их не устраивало то приниженное место в ней, которое им отводилось. «Президент, пусть президент республики, пусть в течение ограниченного времени, представляет собой наш субститут британского монарха, не только в понимании ХХ века – как глава государства, но и в понимании XVII века – как глава правительства… Наш президент – конституционный монарх»[63]. С тех пор реально располагаемые полномочия британских монархов значительно сократились (но, между прочим, остались «дремлющие», а значит, гипотетически способные пробудиться). В Америке – наоборот, и даже расширились, нередко «явочным порядком». В силу той же исторической генеалогии особенно велика власть американских президентов во внешнеполитическом измерении, что дало основание Артуру Шлезингеру-мл. ещё полвека назад написать книгу «Имперское президентство»[64] – с подразумеваемой аллюзией на римский imperium militiae, затем развившийся в общее представление об императорском праве верховного, безусловного повелевания чем угодно.
Власти у Трампа много. А вот времени мало.
Слова Ричарда Нойштадта «в течение ограниченного времени» важны критически и круциально. Соединённые Штаты – не монархия[65]. Предложенная конгрессменом-республиканцем от Теннесси Энди Оглсом поправка к двадцать второй поправке к Конституции США, придуманная, по его собственному признанию, специально для Трампа и позволяющая кандидату в президенты баллотироваться на третий срок в том случае, если между двумя первыми его сроками имел место перерыв[66], никаких шансов быть принятой, тем более принятой вовремя, не имеет – чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить, насколько сложна и продолжительна сама процедура принятия конституционных поправок. Так что, перефразируя поражающий своей безграничной смелостью прогноз председателя Государственной думы Российской Федерации Вячеслава Володина[67], после Трампа точно будет не Трамп. Даже если Демократическая партия так и не выберется из той лужи, в которую сама себя усадила, и следующее президентство останется за республиканцами. Даже если президентом будет избран Вэнс – некоторые из выдающихся президентов США до того побывали вице-президентами (Джефферсон, Теодор Рузвельт), но ни одному из напарников выдающихся президентов не удавалось стать таковым самому. Джон Адамс был не Вашингтон, Эндрю Джонсон – не Авраам Линкольн, Гарри Трумэн – не Франклин Делано Рузвельт, Ричард Никсон – не Дуайт Эйзенхауэр, Линдон Джонсон – не Джон Кеннеди, Джордж Буш-старший – не Рональд Рейган. Да и Джо Байден, прямо сказать, не Барак Обама. Так же и Вэнс (если это будет он, что покамест очень гадательно) будет не Трамп. В каком именно смысле Трамп выдающийся президент, в хорошем или плохом, выяснится со временем. Но в любом смысле он неповторим. Наконец, обнаружиться, что Трамп «уже не тот», может совсем скоро. Ведь весьма значительная доля его нынешней политической силы обусловлена наличием республиканского большинства в обеих палатах Конгресса. А следующие выборы в Конгресс пройдут в ноябре 2026 г. – на кону будет стоять треть состава Сената и весь состав палаты представителей. Какого градуса достигнет к тому времени ярость, в которую Трамп каждым словом и действием приводит своих оппонентов, и насколько увеличится их общее количество, сейчас предсказать невозможно; но риски для него велики и растут с каждым днём.
Трамп сделает только то, что успеет сделать, – поэтому он так торопится сократить расходы, государственный долг, бюджетный дефицит, торговые дисбалансы и бюрократический аппарат, взбодрить экономику и военно-промышленный комплекс, вернуть вооружённым силам былую брутальность и маскулинность, придушить наркотрафик etc. Не всё у него получится – не бывает так, чтобы удавалось всё. Но что-нибудь да получится (может, и немало) – так, чтобы не удавалось вообще ничего, тоже не бывает. А потом ценностная составляющая американской империи, «изрядно ощипанная, но не побеждённая», начнёт восстанавливаться, причём независимо от того, какая партия окажется у власти. Дело вообще не в партиях, а в чём-то намного более глубоком и сущностном. Легко и быстро разделаться с ценностной составляющей нельзя – это означало бы отмену всего грандиозного проекта и переучреждение политии, то есть радикальный пересмотр (хотя не обязательно полное упразднение) наиболее фундаментальных рамок политического действия, репертуара его сценариев, легитимных поведенческих стереотипов, стратегий и тактик. Для этого, в свою очередь, понадобится уничтожить независимость судов, права штатов, оппозиционные негосударственные медиа и много чего ещё вплоть до самой Конституции. Возможно, ещё и выиграть гражданскую войну. Чтобы такое великое дело состоялось, и целого Трампа мало.
Если не рухнут небеса, империя вернётся – чтобы её развалить окончательно и бесповоротно, Трампа опять же маловато будет. Но будет она уже другой. В 1856 г. министр иностранных дел Российской империи князь Александр Горчаков в циркулярной депеше, доведённой через посольства до сведения иностранных правительств[68], констатировал: «Россию упрекают в самоизоляции и молчании перед лицом фактов, не согласующихся ни с правом, ни со справедливостью». И возразил: «Россия не сердится: Россия сосредотачивается»[69]. На самом деле Россия после поражения в Крымской войне, конечно, сердилась. Но и сосредотачивалась. И сосредоточилась. Американская империя сейчас тоже сердится (примечательно, что нынешние упреки в её адрес очень похожи на те). Но и сосредотачивается.
То, что делает с ней и её могуществом Трамп (независимо от его мотивов и степени их осознанности), можно сравнить с практикуемой атлетами «сушкой мускулов», требующей постановки на паузу участия в соревнованиях. Подобно такому атлету, сосредоточившаяся империя вновь выйдет на мировую арену – в лучшей форме, более мускулистая, с новыми амбициями. И, скорее всего, весьма разозлённая тем, что успеют натворить в её отсутствие. Так что, глядя на происходящее прямо сейчас, никому – ни противникам американской империи, ни её поклонникам – не стоит ни заламывать руки, ни ликовать. Готовиться надо. Готовиться.
Автор: Святослав Каспэ, доктор политических наук, профессор департамента политики и управления факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный редактор журнала «Полития»

Томас Джефферсон и корни апокалиптизма неоконсерваторов
Радикализм самого известного отца-основателя и будущая ядерная катастрофа
Дэниел Декарло
Публицист и комментатор американской политической сцены, старший редактор журнала Landmarks: A Journal of International Dialogue, который является издательским подразделением Центра политической философии Симоны Вайль.
Для цитирования:
Декарло Д. Томас Джефферсон и корни апокалиптизма неоконсерваторов // Россия в глобальной политике. 2025. Т. 23. № 2. С. 93–100.
После эскалационных шагов администрации Джозефа Байдена на Украине угроза тотальной ядерной войны впервые за десятилетия стала реальностью. Фактически это, возможно, первый случай с начала 1960-х гг., когда мир оказался так близок к масштабному обмену ядерными ударами.
Однако никто этого не заметил бы, будь единственным источником информации и мнений основные американские медиа, на страницах которых (если они вообще удосуживаются освещать мировые события) доминируют неоконсерваторы разных политических взглядов. А когда речь заходит о ядерном балансировании между НАТО и российским лидером Владимиром Путиным, вердикт их ясен и единодушен: нам (коллективному Западу) просто всё равно!
Аргумент, как правило, звучит примерно следующим образом. Скудная сила, которую Россия (она, в конце концов, является разлагающимся геополитическим трупом, обречённым быть выброшенным на свалку истории) способна проецировать за границу, – исключительно результат её доктрины ядерного шантажа. Только он смог остановить длань могучих американских военных – тех, кто, если их наконец вывести из спячки, могли бы использовать свои почти непобедимые самолёты-невидимки, чтобы прорваться сквозь евразийские орды с их ржавеющим и устаревшим оборудованием за считанные дни, если не часы. И это своего рода историческая несправедливость, так как предотвращает окончательное и неизбежное поражение России, как и отсталой фундаменталистской христианской тирании и азиатского деспотизма, которые она представляет, и окончательную победу сил человеческой свободы, которую воплощают Соединённые Штаты.
Более того, российская военная коррупция и некомпетентность (которые предполагаются априорно) таковы, что большая часть стареющего ядерного арсенала может вообще не действовать, а это означает, что США в состоянии «выиграть» ядерный обмен с Россией, понеся лишь приемлемые потери (так сказать, «немножко растрепав волосы»).
Последовательность неоконсерваторов
Бредовость подобных оценок не снижает их привлекательности для подавляющего большинства правящего класса Америки, состоящего из полуграмотных городских специалистов. Ведь такая картина создаёт эмоционально убедительный фон, на котором они могут сформулировать историю своей собственной жизни, придавая ей смысл, которого бы в противном случае не хватало. Это позволяет оправдать разрозненные, грубые события индивидуальной жизни внутри организованного забвения современной Америки через их связь с более широкой «дугой истории», которая, как знают все приверженцы американской религии, неизбежно склоняется к справедливости.
Однако этот нарратив, который одновременно и убедителен, и безумен, ни в коем случае не является просто недавней причудой вашингтонской партии «пробуждения» (woke). Его нельзя полностью приписать и неоконсерваторам (которые стали козлом отпущения и на которых сваливают все патологические тенденции американской политики последнего времени, как внешней, так и всякой другой). Нападки на неоконсерваторов, хотя во многом заслужены, часто бывают несправедливыми, особенно когда исходят от консерваторов эпохи Дональда Трампа.
Последние имеют обыкновение относиться к неоконсервативной тенденции как к отклонению в американской жизни в лучшем случае, или в худшем – как к своего рода иностранному патогену, распространяемому евреями-троцкистами начиная с 1960-х годов.
В своих самых откровенных высказываниях «новые правые» Трампа иногда говорят о роли прогрессизма начала XX века (упоминаются имена Вудро Вильсона и Оливера Уэнделла Холмса), но на самом деле очень немногое выходит за рамки этого базового признания. В конце концов, современное консервативное движение основано на особом почитании американских отцов-основателей, граничащем с поклонением. Почитании, которое повлекло за собой создание серии глубоко нечестных агиографий. Сегодняшние консерваторы узнали секрет создания эффективных риторических призывов к миллионам американских граждан-потребителей, который, как заметил Гор Видал в своём романе «Вице-президент Бэрр», заключается в том, чтобы не предлагать им никаких фактов: «Если хочешь завоевать внимание читателя, надо ему льстить. Разделять его предрассудки. Говорить ему о вещах, о которых он давно знает. И он оценит твою мудрость».
Хотя, безусловно, эти истории об основателях США хорошо послужили политическим интересам консерваторов, они помешали им ясно и глубоко осмыслить реальную основу разрушительных и апокалиптических тенденций неоконсервативной мысли.
Неоконсерваторы (по крайней мере, в этом отношении) часто были более честными и внутренне последовательными. В 2008 г. Роберт Кейган, возможно, самый влиятельный неоконсерватор за последние тридцать лет, написал страстное эссе под названием «Нация неоконсерваторов: неоконсерватизм, ок. 1776 года». Он защищал свой неоконсервативный проект после войны в Ираке, попутно опровергая, что неоконсерватизм был недавним импортом, навязанным американскому народу крипто-троцкистскими евреями. Кейган легко разрушает эту идею, приводя длинный список примеров, начиная с периода перед Первой мировой войной и вплоть до самого основания США. Кейган замечает: «Для всех основателей Соединённые Штаты были “Геркулесом в колыбели”, могущественным в традиционном, а также в особом, нравственном смысле, потому что их убеждения, которые освободили человеческий потенциал и сделали возможным трансцендентное величие, должны были захватить воображение всего человечества и заставить его следовать за ними. Эти убеждения, закреплённые в Декларации независимости, не были ни исключительно англосаксонскими, ни бёрковскими (Эдмунд Бёрк, 1729–1797, британский политический деятель и публицист, родоначальник идеологии консерватизма. – Прим. ред.) наслоениями веков, но, по словам Гамильтона, были “вписаны, как солнечным лучом, в весь объём человеческой природы рукой самого божества”. И эти идеалы должны были революционизировать весь мир. Гамильтон даже в 1790-е гг. с нетерпением ждал дня, когда Америка будет достаточно могущественна, чтобы помочь народам в “мрачных областях деспотизма” восстать против “тиранов”, которые их угнетали».
Конечно, Кейган был совершенно прав, как бы неудобно это ни было для сегодняшних активистов движения MAGA, находящихся под влиянием палеоконсерваторов. Большинство американских либералов и консерваторов неохотно признают факт, что основатели были радикальными деистами эпохи Просвещения, использовавшими насильственные методы для достижения революционных целей (хотя это совершенно очевидно). Но фактическая степень этого радикализма, как правило, преуменьшается в различных биографиях основателей, часто вплоть до полного сокрытия.
Апология террора
Это особенно верно, когда речь идёт о, возможно, самом важном и влиятельном основателе Америки – Томасе Джефферсоне. Конечно, некоторые «грехи» Джефферсона относительно хорошо известны: его роман с Салли Хеммингс, склонность к расточительству, приверженность рабству и глубокое презрение к чернокожим в целом, неприятие христианства, заигрывание с Французской революцией и т.д. «Заигрывание» – так обычно описываются связи Джефферсона с французским революционным проектом в подавляющем большинстве агиографий, особенно консервативных. Однако называть такие трактовки в описании Джефферсона «вводящими в заблуждение» само по себе было бы ещё одной мистификацией. На самом деле, это просто ложь.
Сведения, как Джефферсон принимал и пропагандировал чрезвычайное насилие Французской революции и считал своё дело и дело якобинцев, по существу, едиными, хорошо документированы, даже если они в значительной степени и замалчиваются или неубедительно оправдываются во многих американских источниках. На эту тему существует множество историй, которыми можно было бы заполнить целую книгу. Суть же того, что справедливо было бы назвать апокалиптическим безумием Джефферсона, можно найти в полном объёме в его печально известном письме своему секретарю Уильяму Шорту. Документ стоит процитировать подробно: «Тон ваших писем некоторое время причинял мне боль из-за чрезвычайной горячности, с которой вы осуждали действия якобинцев Франции. Я считал эту секту той же, что и партию республиканских патриотов, а фельянов – монархическими патриотами, хорошо известными в начале революции и не слишком далёкими в своих взглядах; и те, и другие имели целью установление свободной конституции и расходились только в вопросе о том, должен ли глава государства наследовать власть или нет…
В необходимой борьбе многие виновные пали без формальности суда, а вместе с ними и некоторые невиновные. Я сожалею об этих случаях не меньше, чем другие, и буду сожалеть о некоторых из них до дня своей смерти. Но я сожалею о них так же, как сожалел бы, если бы они пали в бою. Необходимо было использовать руку народа, машину не столь слепую, как ядра и бомбы, но слепую в определённой степени. Некоторые сердечные друзья народа пали от его рук как враги. Но правда и время спасут и сохранят нетленной память этих людей, а их потомки будут наслаждаться той самой свободой, за которую они, ни минуты не колеблясь, отдали бы свою жизнь. Свобода всей земли зависела от исхода этой борьбы и была ли когда-либо такая награда завоевана столь малым количеством невинной крови? Моим собственным чувствам нанесла глубокую рану смерть некоторых мучеников этого дела, но вместо того, чтобы оно потерпело неудачу, я предпочёл бы увидеть половину земли опустошённой. Если бы в каждой стране остались только Адам и Ева, и они были бы свободны, это было бы лучше, чем то, что есть сейчас».
Важно прояснить, что именно Джефферсон говорит в этом письме: явное одобрение крайнего и безумного революционного насилия, включая убийство невинных людей (которое Джефферсон рассматривает как своего рода досадный, но, вероятно, неизбежный сопутствующий ущерб). Это также признание того, что потенциально нет почти никаких пределов такому насилию (вплоть до апокалиптических опустошений целых стран), при условии, что конечным результатом будет «свобода».
Очевидный ответ на это приверженцев современной американской гражданской мифологии – просто стараться приуменьшить значение его мнения, попытавшись переосмыслить его как слова, обронённые между делом, которые следует просто игнорировать.
Это трусливая отговорка, ведь Джефферсон сделал данное замечание не в пьяном угаре на коктейльной вечеринке, а в важном дипломатическом коммюнике, которое не демонстрирует никаких признаков того, что оно было составлено бездумно.
Более того, это записи не импульсивного молодого человека и не озлобленного и старого склеротика, Джефферсону было 49 лет, расцвет сил. Более того, насилие, о котором идёт речь, не было для автора просто абстрактной материей: он только что провёл годы во Франции в качестве посла США и видел революцию своими глазами. Возможно, самое шокирующее, что он также знал многих людей, которые стали жертвами террора, включая его близкого друга Луи Александра де Ларошфуко, которого революционная толпа забила камнями.
Джефферсон, по существу, так и не отказался от своих взглядов, высказанных Шорту, хотя прожил ещё несколько десятилетий и смог получить полное представление о бойне, устроенной его революционными союзниками на практике.
Жажда насилия
Мало кто из американских деятелей более значителен, чем Джефферсон; действительно, нетрудно доказать, что он, по сути, является наиболее важной и влиятельной фигурой становления американского государства.
Декларация Джефферсона с её возвышенной риторикой и бессодержательными утверждениями, возможно, самый американский документ, когда-либо написанный.
Несомненно, это и самый важный документ в истории страны: его слова цитировались почти при каждом крупном кризисе, начиная с Гражданской войны. Ведь Декларация, в отличие от Конституции, не может быть изменена поправками.
Также нетрудно увидеть влияние Джефферсона на сегодняшних (и вчерашних) неоконсерваторов, а также на их «неолиберальных» кузенов. И, конечно, нет ничего загадочного в том, почему так происходит, поскольку логика самого Джефферсона элегантно проста (хотя и бесхитростна): если «все люди» действительно «наделены определёнными неотчуждаемыми правами» и эти права на самом деле «самоочевидны», напрашивается вывод, что, следовательно, долг всех свободных людей помогать тем, кто всё ещё находится в рабстве. В конце концов, как подразумевает письмо Джефферсона Шорту, в его мысли заложен следующий смысл: никто не свободен по-настоящему, пока все не свободны. И именно эти идеи двигали большую часть внешней политики Америки вплоть до сегодняшнего дня, а вытекающее отсюда следствие заключается в том, что жизнь без максимальной свободы в принципе не стоит того. А это означает, что жизни «несвободных» – всего лишь расходный материал, и даже жизни «свободных», тех, кого Джефферсон называет «невинной кровью», стоят того, чтобы ими пожертвовать, если это способствует делу свободы, вплоть до и после точки апокалиптического, сокрушительного для мира насилия, если это необходимо. Идеи, которые мы постоянно видим в действиях американских внешнеполитических деятелей.
Маловероятно, что эта тенденция изменится в ближайшее время, поскольку джефферсоновское мировоззрение прочно укоренилось в популярных американских мифах и психике. Хотя существуют или, по крайней мере, существовали альтернативные интерпретации основания американского государства, но они давно исчезли. Более того, ни одна из них не была особенно привлекательной или жизнеспособной, а наиболее выдающейся и интересной (хотя и одной из самых порочных) из всех трактовок были идеи Джона Кэлхуна. Позже они послужили основой недолговечного конфедеративного эксперимента, который, по сути, состоял в том, чтобы создать жестокое и извращённое рабовладельческое общество по образцу Древней Спарты.
Таким образом, жажда апокалиптического насилия, разделяемая правящим классом Америки, вряд ли исчезнет в ближайшее время, кто бы ни оказался в Белом доме. Факт, который лучше просто принять и честно обсудить, независимо от того, насколько неловко это может быть поначалу.
Это не совет отчаяния и не призыв заниматься глупым или, что ещё хуже, углублённым теоретизированием (ностальгией по монархии, рефлексивным антиамериканизмом и т.д.), а скорее приглашение наконец начать ясно и честно думать о реальных нарративах, которые лежат в основе современного американского мира.
Проще говоря, Кейган и ему подобные во многом правы относительно происхождения своей идеологии, а также относительно её перспектив. Принятие этой реальности – первый шаг к началу её отмены, миссия, которая неизбежно должна выпасть либо на нашу долю, либо на долю нашего потомства. Последнее, если мы потерпим неудачу, скорее всего, будет исчисляться только однозначными числами. Как и хотел бы Джефферсон.
Автор: Дэниел Декарло, публицист и комментатор американской политической сцены, старший редактор журнала Landmarks: A Journal of International Dialogue, который является издательским подразделением Центра политической философии Симоны Вайль. Данная статья опубликована в этом журнале в декабре 2024 года

Быть эхом Вашингтона: изменится ли внешнеполитическая стратегия Лондона при лейбористах
РИЧАРД САКВА
Почётный профессор российской и европейской политики Кентского университета.
ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВЛЕНО СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» (РОССИЯ 24)
В Великобритании завершилось правление консерваторов. В чём причина провала тори? Есть ли у лейбористов план вывода страны из внутриполитического кризиса? Останется ли Лондон военно-идеологической опорой Киева? Что изменится в Англии, если в США к власти снова придёт Дональд Трамп? Об этом Фёдору Лукьянову рассказал Ричард Саква, почётный профессор Университета Кент, в интервью для передачи «Международное обозрение».
Фёдор Лукьянов: В чём основная причина провала консерваторов – это личностный фактор или концептуальное исчерпание?
Ричард Саква: Сочетание и того, и другого. Идеология исчерпана. Они по-прежнему оглядываются на старые добрые времена госпожи Тэтчер, ничего иного тори с тех пор внятно так и не смогли сформулировать. Она, конечно, была крупным лидером, одна из трёх политиков, наиболее повлиявших на страну за полвека. Кроме неё это Тони Блэр и Найджел Фарадж, который, не будучи в Консервативной партии, смог парадоксальным образом навязать ей свою повестку Брекзита. По сути, консерваторы сегодня – смесь разных фракций, которые колошматят друг друга, и это проявилось уже в процессе выхода из Евросоюза.
Было два представления о Брекзите. Одно – превратить Соединённое Королевство в подобие Сингапура на Темзе – остров свободной торговли, отсутствие интереса к промышленности, развитие финансового центра и так далее. Второе – его представлял Борис Джонсон и в определённой степени Тереза Мэй, своего рода современная версия индустриального меркантилизма, который когда-то предлагал один из отцов-основателей США Александр Гамильтон.
Ни то, ни другое не реализовалось, естественно. Ну и, конечно, череда катастрофически дурных лидеров. Сначала Дэвид Кэмерон, потом Тереза Мэй, которая выбрала самый жёсткий из возможных вариантов выхода из ЕС, не понимая, что она вообще делает, затем Борис Джонсон – не политик, а циничный шоумен-оппортунист. 49 дней Лиз Трасс, вошедшие в историю как провал небывалого масштаба. Риши Сунак, неспособный определить хоть какую-то политическую линию – неолиберальный финансист, он не понимает, какой страной довелось управлять.
Это идеальный провал: идеологии, лидерства, политики, всего сразу.
Фёдор Лукьянов: А у лейбористов есть представление, что делать?
Ричард Саква: Кир Стармер – интересный человек, но ещё интереснее люди вокруг него. В особенности Морган Максуини, один из главных стратегических советников. Команда Стармера ведёт борьбу по многим фронтам. И один из них – это противодействие идеологии Тони Блэра, так называемому «новому лейборизму», с которым он пришёл в 1997 году. В его основе лежал отказ от классового подхода в пользу лейбористской партии как представителя разных изолированных сообществ с прежде маргинальной постмодернистской самоидентификацией. Максуини и его единомышленники от этого отказываются. Они сохраняют идею так называемого «третьего пути», но не в интерпретации сторонников Блэра. Их не привлекает так называемый «прогрессистский альянс», на который при Блэре ориентировались лейбористы, – сейчас его вариациями являются Джастин Трюдо в Канаде и Эммануэль Макрон во Франции.
Лейбористы пытаются вернуться к классовому подходу. Одновременно они решительно отвергают радикально левый крен, который был при прежнем лидере лейбористов Джереми Корбине. Короче говоря, это довольно специфический политический проект, детали которого нам пока неведомы. Лейбористы не спешат их раскрывать, поскольку в нынешней крайне правой медиасреде это сделало бы их лёгкой мишенью. С точки зрения программ, это самые бессодержательные выборы – нет дискуссии по содержательным вопросам, только по личностям. Проект Стармера, если его так можно назвать, станет понятен не сразу, но мне кажется, что это будет довольно серьёзная программа преобразования британского государства.
Фёдор Лукьянов: По вопросу украинского конфликта лейбористы не отличались от правительства – позиция всегда была жёсткая. Изменений не ждать?
Ричард Саква: Они столкнутся с ураганом внутренних проблем, скопившихся за четырнадцать лет правления консерваторов, – нет ни одной сферы, где не наблюдалась бы катастрофа, будь то здравоохранение, пенитенциарная система, юриспруденция, состояние дорог, школы, университеты, всё, что угодно, всеобъемлющий кризис.
Не так много останется сил и энергии, чтобы бороться против старого доброго врага России.
Ну и сам конфликт вступает в другую фазу, предстоят выборы в США. Новый министр иностранных дел у лейбористов – Дэвид Лэмми. И его подход – прогрессивный реализм. Он, конечно, всё равно очень тесно связан с НАТО и Америкой, но, если снова придёт Дональд Трамп, у Британии возникнет проблема.
Единственная внешняя политика, которая есть у нас – это быть эхом Вашингтона, пусть иногда и в даже более агрессивной форме, чтобы показать свою лояльность. Но, если в США начнётся неразбериха, младшим партнёрам придётся туго.
Стармер говорит о сближении с ЕС, не о возвращении, конечно, но новые таможенные и торговые договорённости не исключены. Во внешней политике будет преемственность, однако внутриполитическое вопросы станут доминировать.

Глобальный стасис как партийная система,
или Добро пожаловать на Первую мировую гражданскую войну
СВЯТОСЛАВ КАСПЭ
Доктор политических наук, профессор департамента политики и управления факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный редактор журнала «Полития».
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Каспэ С.И. Глобальный стасис как партийная система // Россия в глобальной политике. 2024. Т. 22. № 2. С. 97–130.
Для человечества, принявшего идею равенства всех людей, всегда и повсюду, любая война становится гражданской войной.
Ойген Розеншток-Хюсси, 1938 год
Предлагаемое рассуждение устроено как серия последовательных импликаций, то есть логических связок «если…, то…». Каждую из них можно и нужно проверять на прочность, критиковать, уточнять и опровергать. Однако если признать их основательными, то заключительный вывод придётся признать основательным тоже. Если он окажется малоприятным, то… ничего не поделаешь.
Отправная точка рассуждения – тезис Майкла Хардта и Антонио Негри: «Сегодня по всему миру вспыхивают бесчисленные вооружённые конфликты, иногда краткие и ограниченные определённым местом действия, а порой – длительные и захватывающие всё более обширные пространства. Такие конфликты, вероятно, точнее всего воспринимать как случаи не войны вообще, а войны гражданской»[1].
Они спорят с Джорджо Агамбеном, (якобы) заявившим, что выражение «глобальная гражданская война» присутствовало ещё в работах Ханны Арендт и Карла Шмитта «О революции» и «Теория партизана» соответственно, по случайному (или нет?) совпадению опубликованных в одном и том же 1963 г.: «…в то время гражданская война была “мировой”, но ещё не “глобальной”. В сущности, эти авторы мыслили в категориях гражданской войны между капиталистическим и социалистическим миром, которая носила форму противостояния Советского Союза сначала со странами Западной Европы (включая фашистские государства), а затем и с Соединёнными Штатами»[2]. Разногласие мнимое. Да, слова “global civil war” есть в английском переводе «Чрезвычайного положения»[3], но в итальянском оригинале на этом месте значится «мировая гражданская война», “guerra civile mondiale”[4], что совсем не одно и то же. Между прочим, русский перевод, выполненный с итальянского оригинала, безошибочен: «гражданская война в мировом масштабе»[5]. Арендт называла «своего рода гражданской войной, охватившей всю землю»[6] только Вторую мировую войну, к борьбе капитализма и социализма никак не сводимую, причём эпитета “global” вовсе не употребляя. Что до Шмитта, тут та же история, что с Агамбеном. Словосочетание “global civil war” использовано в английском переводе «Теории партизана»[7] вместо немецкого “Weltbürgerkrieges”, то есть опять-таки «мировой гражданской войны», или «всемирной», как в русском переводе[8], начало которой Шмитт связывает ещё с русской революцией 1917 г. (зато действительно с «революционной классовой враждой» и только с ней).
Вся эта путаница оказалась полезна тем, что помогла Хардту и Негри ясно сформулировать главное отличие их собственных построений от более ранних, приблизительных, к тому же не полностью совпадающих друг с другом аналогов. И Шмитт, и Арендт исходили из реалий ХХ века. В XXI веке Хардт и Негри предлагают считать гражданской войной не какой-то отдельно взятый конфликт, хоть бы и грандиозный. Гражданская война только одна; её фронты и сражения – все современные конфликты без исключения, независимо от их причин, содержания и пространственно-временных масштабов. Более того, само различение состояний мира и войны в условиях состоявшейся глобализации утрачивает смысл, причём в результате асимметричного смещения, а не равномерного смешения: не столько война становится похожей на мир, сколько мир – похожим на войну. «Поскольку сходит на нет локальный и временный характер боевых действий, который был присущ ограниченным конфликтам между суверенными государствами, война, как видно, просочилась обратно и затопила всю общественную сферу»[9]. Чего и следовало ожидать; ведь речь идёт об одном из аспектов более широкого процесса: «политическое в глобальном столетии не вымерло, но переселилось… Мировая политика превратилась во внутреннюю мировую политику»[10].
Если верен общий диагноз, то верно и следствие – какая политика, такая и война. Потому что война есть квинтэссенция политического.
Однако предложенное Хардтом и Негри определение гражданской войны (даже не предложенное, а поданное как само собой разумеющееся, не подлежащее обсуждению) сомнительно. «Вооружённый конфликт между суверенными и/или несуверенными комбатантами в пределах единой суверенной территории»[11]. Под это определение не подходят такие кейсы, как, например, римские гражданские войны (хотя именно они подтолкнули Марка Аннея Лукана (39–65), автора эпической поэмы “Bellum civile sive Pharsalia”, к изобретению самой формулы «гражданская война») или российская Гражданская война 1917–1922 годов. В первом случае – потому что понятие суверенитета рождается только в начале Нового времени и неприменимо к более ранним реалиям. Во втором – потому что не только о каком-либо суверенитете (и о ком бы то ни было как о его признанном носителе), но и о «единой суверенной территории» как чётко очерченной арене военных действий (кстати, как территория, будучи географическим понятием, может быть суверенна сама по себе?) тогда, в условиях почти полной деградации, уничтожения и распада прежнего политического единства, не было и речи.
Конкурирующих определений гражданской войны много[12]. Вникать в специализированные дискуссии для целей настоящего рассуждения не обязательно; вместо этого можно ограничиться определением простейшим, экономным, интуитивно понятным, буквалистским и потому соответствующим здравому смыслу, что всегда полезно. Гражданская война – это война, ведущаяся (хотя бы с одной стороны и независимо от общего количества таких сторон) гражданами. Не рабами, не подданными, не родами, племенами, кланами и кликами, не разбойничьими бандами, в конце концов, а гражданами.
Вопрос о том, что, собственно, такое гражданство и чем оно отличается от других политически референтных видов и подвидов солидарности, ещё более запутан (потому что более глубок), чем вопрос о природе гражданской войны[13]. Пусть бритва Оккама поработает ещё раз. Гражданин – это тот, кто связан с неким политическим образованием двусторонними отношениями обоюдной ответственности, включающими некоторые права и некоторые обязательства. Всё остальное вариативно, и в очень широких пределах. Такие отношения могут быть более или менее симметричными, более или менее конкретизированными в обычае, морали и юридических нормах, более или менее аскриптивными либо добровольно принятыми, более или менее интериоризованными либо экстериоризованными. Само политическое образование может иметь или не иметь форму государства (известны и другие политические формы), равно как и точно очерченную территорию. Оно может существовать здесь и сейчас, или в прошлом (как правило, относительно недавнем), или в ещё только чаемом будущем. Принципиальное значение имеет только двусторонний характер связи между человеческим и политическим, тем самым побуждающий граждан к политическим взаимодействиям как между собой, так и с действующей властью (точнее, властями предержащими), а этих последних – к политическим взаимодействиям с гражданами. И те, и другие взаимодействия выражаются в перераспределении властных ресурсов (также разнообразных) или в недопущении такого перераспределения. Цели и интенсивность таких взаимодействий, участники которых считают своим правом и долгом в них вступать, опять-таки широко варьируются, бывая как вполне созидательными, так и вполне разрушительными, как ненасильственными, так и насильственными etc.
Тогда что может означать распространяющееся всё шире ощущение, будто весь мир, по сути, охвачен одной и той же глобальной гражданской войной? Мечтающееся некоторым уже не первый век мировое гражданство[14] как опорная конструкция космополитического космополиса так и не возникло ни de facto, ни тем более de jure. Мирового гражданского общества тоже нет – только некоторые его зачатки, однако их институциональное и ресурсное обеспечение настолько слабо, что всерьёз конкурировать с государствами они не способны[15]. Но, похоже, возникло нечто другое: мировая гражданственность, то есть интериоризованная часть гражданства, опять-таки в очень разной степени рефлексируемая и рационализируемая, представляющая собой контингентный конгломерат представлений, эмоций и соображений, но всё чаще мотивирующая политическое действие.
Именно поэтому теперь любой конфликт, особенно в фазе вооружённого насилия, рассматривается и его непосредственными участниками, и стейкхолдерами (круг которых раз за разом оказывается неожиданно широк, всё менее завися от географической, исторической и культурной дистанции от арены основных событий) как затрагивающий – подрывающий, укрепляющий или меняющий – мироустройство в целом, а иногда и самые его основы, будь то законы или правила. Каждое его содрогание отзывается во всём мире – и рикошетом возвращается к тем, кто содрогание учинил, часто вопреки их ожиданиям и намерениям. Никто, даже Северная Корея, не может вовсе игнорировать других, разве что коренные жители Андаманских островов (да и тем удаётся лишь постольку, поскольку позволяется). Любые войны, и идущие давно, и только начинающиеся, вплетаются в контекст глобальной гражданской войны – потому что всем, причём и элитам, и массам, есть дело до всего. И это гражданское дело.
Если так, то различение войн «внутренних» и «внешних», уже давно зыбкое (по подсчётам Патрика Ригана, около двух третей гражданских войн, имевших место между 1945 и 2000 гг., сопровождались внешним вмешательством[16], а дальше этот показатель только рос), окончательно утрачивает смысл. Но дело не сводится к неограниченному (буквально) увеличению размеров шахматной доски войны, а также количества (в том числе количества цветов) участвующих в игре фигур. Размывается другое, более глубокое различение – модусов самой войны, проведённое ещё древними греками, но в последние полвека вспоминаемое всё чаще. Речь идёт о несовпадающей семантике терминов «полемос» (π?λεµ?ς) и «стасис» (στ?σις)[17]. Оба они обычно переводятся как «война», после чего их принимают за эквивалентные, и во многих контекстах это вполне допустимо. Но не в том, где применительно к войнам в качестве аналитического инструмента используется дихотомия «внутреннего» и «внешнего».
Греки думали, говорили и писали вовсе не о «внутригосударственных» и «межгосударственных» конфликтах – хотя бы потому, что не имели никакого представления о государстве как политической форме. Греки не в государствах жили, а в полисах.
На первый взгляд всё просто. Стасис – распря, раздор, смута. Он разделяет граждан полиса на враждебные группировки и сталкивает их в смертельной схватке. Естественно, он воспринимается и описывается во множестве источников как страшнейшее зло, угрожающее самому существованию солидарного политического сообщества[18]. Тут, правда, есть парадокс: в тех же источниках слово «стасис» нередко означает политическую стабильность, устойчивость, равновесие или, по крайней мере, способ их достижения и поддержания. Этому парадоксу[19] есть объяснения, и даже не одно. Агамбен, опираясь на книгу Николь Лоро «Разделённый город»[20], но прежде всего на её же малоизвестную и труднодоступную статью 1987 г. «Война в семье», в книгу почему-то не вошедшую, резюмирует её мысль о стасисе так:
«1) Прежде всего, stasis ставит под вопрос общее место, согласно которому греческая политика была решительным преодолением oikos[21] в полисе.
2) Stasis, или гражданская война, по своей сути является “войной внутри семьи”, происходящей из oikos, а не откуда-то извне. Именно потому, что она соприродна семье, stasis функционирует в качестве её проявителя, она свидетельствует о нестираемом присутствии семьи в полисе[22].
3) Oikos сущностно амбивалентно: с одной стороны, оно является движущей силой разделения и конфликтов, с другой – это парадигма, позволяющая примириться тому, что было разделено»[23].
Сам Агамбен ещё больше усложняет дело: стасис «образует зону неразличимости между неполитическим пространством семьи и политическим пространством города. Пересекая этот порог, oikos политизируется, а polis, наоборот, “экономизируется”, то есть редуцируется к oikos. Это означает, что в системе греческой политики гражданская война функционирует как порог политизации или деполитизации, через который дом прорывается в город, а город деполитизируется в семье»[24]. «Стасис функционирует как реагент, проявляющий политическую материю в экстремальном случае, как порог политизации, который сам определяет политический или неполитический характер того или иного сущего»[25]. Любопытно, что стабилизирующая ипостась и функция стасиса здесь как-то затуманивается, отступает на второй план[26].
Другое объяснение (не альтернативное, просто другое, но более удобопонятное, потому что выраженное на более конвенциональном для социальных наук языке) предложено Моше Берентом: в условиях «относительно эгалитарного, не стратифицированного сообщества, в котором отсутствуют аппараты принуждения, то есть использование насилия не монополизировано каким-либо учреждением или правящим классом, способность применить силу более или менее равномерно распределена среди вооружённого или способного вооружиться населения. Страх stasis прямо связан с отсутствием публичных инструментов, пригодных для обуздания подрывной, крамольной партии. Stasis осуждали; но не элиминировали напрочь, потому что единственным способом сдержать такую партию было противопоставить ей другую. Следовательно, stasis оказывался полулегальным средством конституционных реформ (metabole politeias)»[27], а также, очевидно, и поддержания политической стабильности в более рутинном режиме.
Однако в стасисе есть ещё один парадокс, гораздо реже привлекающий внимание исследователей. Это понятие – не всегда, но нередко – применялось греками не только к внутриполисным, но и к межполисным конфликтам. Особенно подробно и отчётливо такая установка выражена Платоном[28]: «…есть два названия – война и раздор. Это два разных проявления, зависящих от двух видов разногласий. Двумя я считаю их вот почему: одно – среди своих и близких, другое – с чужими, с иноземцами. Вражда между своими была названа раздором, а с чужими – войной <…> Я утверждаю, что все эллины – близкие друг другу люди и состоят между собою в родстве, а для варваров они – иноземцы и чужаки <…> если эллины сражаются с варварами, а варвары с эллинами, мы скажем, что они воюют, что они по самой своей природе враги и эту их вражду надо называть войной. Когда же нечто подобное происходит между эллинами, надо сказать, что по природе своей они друзья, но Эллада в этом случае больна и в ней царит междоусобица, и такую вражду следует именовать раздором»[29].
Более того, чуть выше и чуть ниже Платон описывает серьёзные ограничения, которым в силу вышеизложенного подлежит межполисный стасис: «нашим гражданам нельзя иметь рабом эллина и другим эллинам надо советовать то же самое <…> надо отказаться от ограбления мёртвых и не препятствовать уборке трупов <…> мы будем опасаться осквернить святилища, принеся вещи, отнятые у наших родичей <…> Своих противников они будут благожелательно вразумлять, не порабощая их в наказание и не доводя до гибели <…> они не станут опустошать Элладу или поджигать там дома; они не согласятся считать в том или ином государстве своими врагами всех – и мужчин, и женщин, и детей, а будут считать ими лишь немногих – виновников распри <…> распрю они будут продолжать лишь до тех пор, пока те, кто невинно страдает, не заставят её виновников наконец понести кару»[30].
Разумеется, Платон, как это ему свойственно, описывает здесь не наблюдаемое, а идеальное положение вещей, и «наши граждане» суть граждане воображаемого города, идеальные, весьма отличающиеся от настоящих греков из плоти и крови. Он хорошо отдаёт себе отчёт в зазоре между должным и сущим: «наши граждане должны относиться к своим противникам именно таким образом, а к варварам – так, как теперь относятся друг к другу эллины»[31]. Но трудно предположить, чтобы его проект был полностью, исключительно спекулятивен, вымышлен, умозрителен, что он не имел никаких оснований, опор, отправных точек в греческом социальном и политическом праксисе (примечательно, что идеальный город мыслится Платоном как эллинский и только эллинский, а не составленный из каких-то абстрактных человеческих существ без роду и племени). В этом своём проективном представлении, как и в других, Платон конструирует должное из подручного материала, оспаривая сущее и отталкиваясь от него, но отнюдь не игнорируя (некоторые подтверждения тому, что платоновский образ межполисного стасиса не был ни вовсе беспочвенным, ни вовсе бесплодным, что он был извлечён из реальных практик и в них же находил не единичные отклики, собрал Эмилиано Буис[32]).
Таким образом, огонь стасиса пылал, то едва тлея, то разгораясь до небес, не только непосредственно в полисах (которых историки насчитали около 1500 – конечно, за всё время существования греческого мира, а не в какой-либо определённый момент), но и во всей Элладе как некоем… не сообществе, не целом, тем более не единстве, а гетерогенном, пронизанном напряжениями, амбициями, претензиями и конфликтами множестве, multitude – «открытой и расширяющейся сети, в которой все различия могут быть выражены свободно и равно»[33]. Но каков был политический компонент той нежёсткой связи, благодаря которой эта сеть вообще существовала? Факторы языка, религии, культуры, торговли очевидны, но они не дают исчерпывающего объяснения межполисному стасису как политическому состоянию.
Естественно, это та самая гражданственность – не отношение конкретного человека с конкретным полисом, а свойственный всем эллинам и эллинским полисам, неведомый и недоступный варварам (как диким племенам, так и вполне развитым деспотиям) тип такого отношения. Подразумевающий, как уже говорилось, двустороннюю ответственность человека и политического образования, тот или иной объём прав и обязанностей обеих сторон – а значит, определённую степень свободы первой стороны по отношению ко второй. Греки свободны, варвары – рабы[34]; эта оппозиция настолько часто встречается в источниках, что в видах экономии места вполне можно обойтись без иллюстрирующих её примеров.
Полемос же, то есть война stricto sensu, жестокость которой не ограничена никакими рамками и нормами, где хороши все средства, ведущие к победе, – это, в идеале и идеальном типе, только война эллинских полисов (хоть одного, хоть в составе коалиции) с варварами, с чужаками, с Другими. Война граждан с негражданами, свободных с несвободными. Собственно, именно Полемос[35], согласно 29-му (53-му в нумерации Дильса-Кранца) фрагменту Гераклита, «одних творит рабами, других – свободными».
Однако преувеличивать жёсткость оппозиции «стасис – полемос» не стоит. Скажем, в некоторых текстах, в частности в раннем платоновском диалоге «Менексен», встречается формулировка ο?κε?ος π?λεµος[36], буквально «семейная» или «домашняя война». В переводах на современные языки на этом месте – просто «гражданская война», без нюансов и пояснений. Впрочем, Агамбен полагает, что Платон здесь выражается «иронически»[37], что в контексте диалога в целом выглядит вполне правдоподобно[38]. Греки, и Платон в том числе, не столько противополагали, сколько, различая, тем не менее сополагали полемос и стасис, считая то и другое величайшими бедствиями. В «Законах» Платон делает это недвусмысленно, указывая, что идеал политического совершенства, пусть и отнесённый им, как положено, в невозвратимое прошлое, состоит в «совершенном исчезновении междоусобий и войн»[39].
Аналогия между древнегреческим и современным положением дел кажется убедительной – с той оговоркой, что сейчас совершенно чуждых, абсолютно Других варваров не осталось.
Даже самые непримиримые враги существующего миропорядка вроде исламистских террористических сетей действуют не извне, а изнутри его, грезя о полном его упразднении и замене всемирным халифатом лишь в самой отдалённой перспективе, а пока лишь пытаясь выгородить в нём какие-то собственные автономные зоны, причём без особого успеха. Полемос в чистом виде возможен (если не брать в расчёт тех же коренных жителей Андаманских островов) только между землянами in toto и инопланетянами или осознавшим себя Skynet. Аналогию можно дополнительно укреплять – например, сопоставив гипотезу Лоро и Агамбена о происхождении стасиса из семьи или из зоны неразличимости между пространствами семьи и города с ещё недавно весьма распространённым дискурсом «семьи цивилизованных[40] народов». В последние годы он выходит из употребления и осуждается как колониалистский[41], но «осадочек остался» – прежде всего у тех, кто так и не успел побывать признанным членом этой замечательной семьи, в лучшем случае только приёмышем. Но зачем эта аналогия нужна, в чём её польза? Так ли важно, что внутренних и внешних войн больше нет, что стасис и полемос перепутались друг с другом?
Важно. Потому что обычно в этом смешении обращают внимание на его негативные последствия – на то, что стасис и полемос обмениваются худшими своими свойствами. Относительно умеренный (ощущением родственной или квазиродственной связи с противником) стасис приобретает черты необузданного в своей дегуманизирующей жестокости полемоса, ведущегося вне морали, без милости и чести. Полемос, вместо того чтобы остаться в пределах холодного, бесчеловечного, тем и страшного расчёта выгод и издержек, когда людские жизни выступают как всего лишь один из учитываемых и располагаемых ресурсов, получает особую страстность стасиса, присущую распре между «своими» (и особенно между бывшими «своими», разрывающими узы «семейной» созависимости). Всё это правда. Но не вся.
Контаминацию двух модусов войны не обязательно полагать только пагубной – мембрана бывает проницаема в обе стороны. Западная политическая традиция вырабатывала (с тех же греческих времён начиная) и выработала некоторые способы придания стасису ограниченного, управляемого и даже – при некотором везении и только в конечном счёте – направляемого к общему благу характера. Если так, то не применимы ли подобные способы в ситуации стасиса глобального?
Чтобы описать один из таких способов, необходимо вернуться чуть назад. Кто такие субъекты, акторы, стороны стасиса? Кто в нём противоборствует? Ба, да это же партии!
То, что представители политической науки почти поголовно считают политические партии, сам феномен партийности и партийных разделений принадлежащим исключительно эпохе модерна, не должно смущать. Эта установка может быть поставлена под сомнение даже в тех же дисциплинарных рамках. Кеннет Джанда, стремясь максимально приспособить различные определения партий к нуждам сравнительного анализа, ранжировал их от более узких к более широким и в конце концов предложил собственное: партия есть «организация, преследующая цель замещения правительственных должностей своими признанными представителями»[42]. Но слово «организация» недвусмысленно отсылает к веберовскому идеальному типу рациональной бюрократии – притом что устроенные таким образом партии встречаются довольно редко. Институционализация партии – процесс с вариативным, не гарантированным и часто довольно слабым результатом[43]. Если так, если заменить слово «организация», например, словом «команда»[44], то партиями придётся признать и афинских демократов с аристократами, и римских популяров с оптиматами, и итальянских гвельфов с гибеллинами, и французских лигистов с гугенотами, и французских же фрондёров с мазаринистами, и английских «кавалеров» с «круглоголовыми» (с их собственными подразделениями), и английских же тори с вигами (тут, правда, сомнений нет уже ни у кого) etc. Историки ровно так и поступают, без оговорок и смущения описывая досовременные реалии при помощи слова «партия» (или “faction”, почти неизменно на протяжении веков, а нередко и сейчас выступающее его синонимом). Делают это и исследователи стасиса – Лоро, Агамбен, Берент (а также другие, здесь не упоминавшиеся).
Важнее другое сужение определения, у Джанды отсутствующее: партии кардинально отличаются от всевозможных дворцовых и околодворцовых камарилий (президенты, премьеры и диктаторы тоже обитают во дворцах), устраивающих интриги, комплоты и перевороты, однако стремящихся только к более или менее решительному пересмотру состава правящей элиты и к сопровождающему его перераспределению ресурсов – земель, богатств, титулов, должностей и прочих объектов вожделения. То же относится и к чисто династическим сварам вроде войны Алой и Белой розы. Потому что «обычное заблуждение современного социологизма – представлять себе партию как организацию, выражающую какие-то интересы. Любая партия – часть не только политического мира в узком смысле слова, но и общества в целом. В этом смысле она первична по отношению к любому интересу, в отстаивании которого её подозревают»[45]. Ещё раз: партии суть именно и буквально части (partes) общества, но не любые, а в силу тех или иных причин имеющие и отстаивающие свои взгляды на власть и по поводу власти – именно путём «замещения правительственных должностей своими признанными представителями»[46]. Это и позволяет им быть «одной из форм вертикальной организации общества и, в частности, одним из каналов вертикальной мобильности»[47], что, несомненно, относится ко всем перечисленным выше, а также многим иным случаям[48].
И само существование партий как акторов стасиса, и исходящая от них угроза политическому образованию веками воспринимались как зло, в том числе и в начале эпохи модерна. Томас Гоббс: «Лиги подданных… в большинстве случаев не нужны государству… и скрывают в себе противозаконные цели. Они поэтому противозаконны и обычно считаются крамолой (factions) и заговором»[49]. Дэвид Юм: партии – «сорняки», которые «подрывают систему правления, делают бессильными законы и порождают самую яростную вражду среди людей одной и той же нации», так что «дело редко кончается чем-либо иным, кроме полного распада той системы правления, при которой они были посеяны»[50]. Генри Сент-Джон Болингброк (один из немногих, усматривавших какую-то разницу между “party” и “faction”, но только количественную и, прямо сказать, небольшую): «Faction относится к партии как превосходная степень к положительной: партия есть политическое зло, faction – худшая из всех партий»[51]. Джеймс Мэдисон в принадлежащем его перу десятом письме Федералиста: «Под партией… я разумею группу граждан… которые объединились и движимы либо общим побуждением страсти, либо интересом, который ущемляет права других граждан или постоянные и совокупные интересы всей общины»; отсюда та «мутная накипь, которой дух партийной склоки покрыл наши правительственные институты»[52]. Джордж Вашингтон, прощальное послание к нации 1796 г. – документ, который вообще следовало бы цитировать страницами, но приходится ограничиться только самыми выдающимися пассажами: «…любые альянсы и ассоциации, созданные под каким-либо уважительным предлогом, но с действительным намерением осуществлять руководство или контроль над конституционными властями, разрушительны… Они способствуют возникновению faction, приданию ей чрезвычайной роли, замене делегированной воли нации волей партии… Чередующееся преобладание одной faction над другой, обострённое естественным для партийных расколов чувством мстительности, которое в разные времена и в разных странах влекло за собой наиболее чудовищные преступления, само является ужасным деспотизмом. А в конечном счёте это ведёт к деспотизму ещё более прочному и постоянному. Нарастающие разброд и лишения склоняют людей к тому, чтобы искать защиты и покоя в наделении одного лица абсолютной властью, и рано или поздно глава победившей faction, более умелый или более удачливый, чем его соперники, использует такое положение вещей для своего собственного возвышения на руинах общественной свободы»[53]. И Алексис де Токвиль: «Партии – это зло, свойственное демократическому правлению[54]… Великие партии потрясают общество, малые его будоражат; первые раздирают его на части, вторые его развращают»[55].
Вывод ясен. Партии и есть акторы стасиса. Партийные противоборства и есть стасис. Так было веками. На протяжении этих веков партийная политика, как и положено стасису, отнюдь не была жёстко отмежёвана от политического насилия, в том числе вооружённого и прямо смертоносного[56].
Прежде чем сделать следующий шаг, к рассуждению необходимо добавить ещё одну констатацию. Уже отмечалось, что в Древней Греции ареной стасиса могли оказываться не только взаимодействия внутри полисов, но и между ними. (Далее вместо термина «полис» лучше использовать термин «полития» – он шире, он входит в современный политический язык и потому применим не только к античным реалиям.) Соответственно, и партии как акторы стасиса бывали как внутри-, так и межполитийными. Демократическая и аристократическая (со временем ставшая скорее олигархической) партии действовали во всей Элладе, обычно ассоциируясь с проафинской или проспартанской ориентациями. Такой же межполитийный характер носили и профиванская партия, и проперсидская с антиперсидской, и промакедонская с антимакедонской, и проримская с антиримской – внешний референт как носитель того или иного политического проекта вполне может стать основанием для партийных разделений. Весьма современно звучит рассказ Полибия: «В наше время… во всех народных государствах есть две партии, из которых одна учит, что необходимо подчиняться идущим от римлян указаниям и почитать превыше законов, договоров и всего подобного волю римлян. Другая партия выдвигает вперёд законы, клятвы, договоры и убеждает народ не нарушать их без крайней нужды»[57]. Папская и императорская партии, получившие в Италии имена гвельфов и гибеллинов, действовали во всём пространстве Священной Римской империи. Затем, по мере консолидации в ходе процесса «территориализации пространства, которая стала предварительным условием современной политики как таковой»[58] современных государств, «почти истерически блюдущих собственные пределы»[59], функционирование межполитийных партий до крайности затруднилось. А потом они вернулись – в виде многочисленных Интернационалов разного толка, Партии арабского социалистического возрождения (Баас) или транснациональных партий Европарламента. В большинстве случаев структурными элементами межполитийных партий становились не только настроенные тем или иным образом, объединённые теми или иными ценностями, продвигающие тот или иной проект вертикально интегрированные (от элит до массовых слоев) политические группировки, но и те политии, над которыми им удавалось приобрести власть и контроль. Подобные альянсы также оказывались в той или иной степени вертикально интегрированными, иерархически организованными, со своими ведущими и ведомыми.
Теперь яснее, к чему направляется рассуждение. Упомянутые выше «способы придания стасису ограниченного, управляемого и даже… направляемого к общему благу характера» вырабатывались именно, так сказать, на партийном материале. Они состояли в усмирении партийной розни и ограничении её губительных эффектов, в укрощении, секьюритизации и «цивилизации» партий. Причём делалось это не только внепартийными и надпартийными силами, но и самими же партиями – скорее всего, в целях самосохранения ценой отказа от наиболее крайних своих амбиций и методов их осуществления. «Война всех против всех» оказалась слишком рискованной почти для всех. В выигрыше оказывалось и политическое целое – потому что тем самым его части, акторы стасиса, действующие по метонимической формуле pars pro toto и стремящиеся к узурпации pars власти над toto, принуждались к обоюдному сдерживанию. Столкновение частных пороков становилось, таким образом, на службу общему благу.
Первые признаки того, что восприятие партий делается менее негативным, стали заметны уже в XIX веке. Тот же Вашингтон в том же документе вдруг делает оговорку: «существует мнение, что в свободных странах партии представляют собой полезный инструмент контроля за отправлением власти и способствуют сохранению духа свободы. В каком-то смысле это, возможно, верно… Но в правительствах народного толка, в избранных правительствах такого рода дух не следует поощрять. Можно с уверенностью утверждать, что в каждой партии, естественно, будет всегда достаточно такого духа; а в условиях наличия постоянной опасности проявления крайностей общественное мнение должно использовать своё влияние для того, чтобы смягчить и умерить его. Чтобы поддерживать огонь, необходима всеобщая бдительность для предотвращения того, что он разгорится в пламя, иначе огонь не согреет, а поглотит»[60]. Тот же Токвиль в той же «Демократии в Америке» допускает, что хотя бы «великие партии, потрясая общество, тем самым нередко его спасают»[61]. Гарольд Ласки в 1925 г., перечислив все обычные претензии к партиям и согласившись с ними, пишет: «И всё же, несмотря на весь критицизм в отношении партий, услуги, оказываемые ими демократическому государству, неоценимы. Они предотвращают проникновение народных причуд и прихотей в законодательство[62]. Они суть главная наша защита от угрозы цезаризма»[63]. Далее перечисление преимуществ партийности продолжается; но в высшей степени важно, что начинается оно с указания на второе измерение (или ипостась) партийного стасиса – его способность быть ресурсом и гарантией стабильности политического порядка, причём уже демократического. Эта его функция постепенно выходит из тени, и вскоре после Второй мировой войны Морис Дюверже окончательно фиксирует совершившуюся перемену: «свобода совпадает с режимом партий»; «только рост партий… открыл возможность реального и активного сотрудничества всего народа с политическими институтами»; «если бы демократия и в самом деле была несовместима с партиями, это, бесспорно, означало бы, что она несовместима с условиями нашей эпохи»[64]. Затем убеждение в благотворности партий (и, что то же самое, партийного стасиса, только должным образом ограниченного) превратилось в общепринятый стандарт и отождествилось с политической свободой per se – до такой степени, что даже во многих странах социалистического лагеря завелась некая декоративная многопартийность, а требование многопартийности реальной стало одним из главных лозунгов освободительного движения в том же лагере (собственно, с ним и покончившего) на рубеже 1980–1990-х годов.
Важнейшим предохранителем от угрозы, порождаемой «мутной накипью партийной склоки» внутри той или иной политии (притом что с некоторого времени практически все они почти в обязательном порядке приняли вид государств), вполне основательно принято считать возникновение партийной системы. То есть – консистентного набора относительно устойчивых, предсказуемых, однако преимущественно неформальных паттернов, определяющих отношения и сценарии взаимодействия партий между собой (в том числе партий, находящихся на периферии системы либо вовсе в неё не входящих), а также с государством, различными его институтами, неполитическими элитами, церквями, гражданскими структурами etc. Корпус посвящённых партийным системам исследований необозрим, и обозревать его здесь совершенно излишне. Важно отметить лишь два обстоятельства.
Во-первых, выявлено множество факторов, оказывающих влияние на формат той или иной партийной системы. Однако среди них нет ни одного решающего, и даже избирательный порядок (см. знаменитый «закон Дюверже»: «…мажоритарная система в один тур ведёт к двухпартийности. И наоборот: мажоритарное голосование в два тура и система пропорционального представительства приводят к многопартийности»[65]) таковым не является, о чём со всей ясностью писал сам же Дюверже в той же главе «Политических партий» – отнюдь не возводя своё наблюдение в ранг непреложного «закона»[66]. Отсюда следует крайняя затруднительность (скорее невозможность) конструирования партийных систем с заданными параметрами «на заказ» – конструкторы просто не располагают инструментами, гарантирующими получение того или иного желаемого результата[67]. Даже использование очень схожих избирательных порядков порождает весьма разнородные эффекты, даже британская и американская двухпартийные системы функционируют по-разному (к тому же первую можно считать двухпартийной не без некоторых оговорок). Потому что в конечном счёте партийная система образуется (или так и не образуется) самими же партиями – в результате приводящей (или не приводящей) к относительному динамическому равновесию игры своевольных сил. «Партии образуют “систему” только в том случае, если они суть части (во множественном числе); строго говоря, партийная система есть… результирующая межпартийного соревнования. Вид конкретной системы определяется взаимосвязью партий, тем, что каждая партия есть функция (в математическом смысле) других партий»[68]. И равновесие это всегда колеблемо, временно или, по крайней мере, продолжительность его сохранения невозможно предсказать. Сеймур Липсет и Стейн Роккан констатировали состоявшееся в 1910–1920-х гг. «замораживание» большинства западных партийных систем, отметив, что даже те из них, которые подверглись во второй четверти века тяжёлым испытаниям, затем восстановились в виде, очень близком к исходному[69]. Однако в 1985 г. Липсет допустил возможность «размораживания» и переформатирования даже этих систем под влиянием новых социальных сдвигов[70], что вскоре и воспоследовало – кроме как в США и, с оговорками, в Великобритании.
Во-вторых, именно поэтому все партийные системы уникальны. Единственная их внутренне связная, внятно обоснованная, убедительная типология предельно примитивна, поскольку строится на одном и только одном критерии – количество партий, по каким угодно причинам оказавшихся включёнными в систему. Число акторов само по себе в некоторой (неполной) мере задаёт структуру взаимодействий внутри системы и поведение системы в целом. Как с велосипедами – их разновидностей множество, но навыки езды и прогнозируемое поведение в дорожном потоке принципиально различны только для велосипедов двух- и трёхколёсных (есть ещё вырожденный случай велосипедов одноколёсных, встречающихся, впрочем, только в цирке). Аналогичным образом выделяются системы однопартийные (тоже вырожденный случай), системы с доминирующей партией, или квазимногопартийные, двухпартийные, трёхпартийные, четырёхпартийные… и тут ряд заканчивается. «Никакая классификация уже невозможна там, где насчитывается свыше четырёх партий»[71].
Теперь пора свести все поочерёдно вводившиеся выше импликации к одной, предпоследней. Если глобальный мир находится в состоянии глобальной гражданской войны, то есть стасиса; если различение войн внутренних и внешних утрачивает смысл, а стасис и полемос обмениваются своими чертами, и не только худшими; если акторы стасиса могут быть с полным основанием названы партиями; если как сам стасис, так и его акторы способны иметь межполитийный характер; если признаком перехода партийного стасиса в контролируемый, предсказуемый режим и превращения его в средство обеспечения политической стабильности является возникновение партийной системы, то… нельзя ли в порядке мысленного эксперимента применить сложившийся в науке язык описания партийности и партийных систем к глобальной политической динамике последнего столетия?
За отправную точку разумно принять Interbellum (1918–1939 гг.). Первая мировая война, она же Великая – ещё полемос как он есть. Яростный, необузданный, бесчеловечный (одни отравляющие газы чего стоят), срывающий тонкие покровы цивилизованности со всех его участников, – хотя все они защитниками цивилизации и тщились себя представить. Попытки исключить повторение пережитого цивилизацией кошмара (Лига Наций, пакт Бриана-Келлога) с треском провалились. Не в последнюю очередь потому, что всё это время осуществлялся выдвинутый Владимиром Лениным ещё осенью 1914 г. лозунг «превращения современной империалистской войны в гражданскую войну»[72], причём войну интернациональную, которую «против буржуазии как “своей” страны, так и “чужих” стран»[73] поведут наконец-то соединившиеся пролетарии опять же всех стран. К одной лишь классовой борьбе дело не свелось, констелляции конфликтующих сил, государственных и негосударственных, оказались намного сложнее. Но пламя «интернациональной гражданской войны», “internationalen Bürgerkrieg”, как выразился внимательно читавший Ленина Шмитт в 1938 г.[74], – Эрнст Нольте в 1997 г. назвал её «европейской гражданской»[75] – разгоралось неуклонно.
Вторая мировая война – тоже полемос, несомненно. Но в ней уже начинают проступать черты стасиса как войны своих против своих же.
Братоубийственная война чудовищна, здесь нет и не может быть никаких смягчений; но происходить она, по определению, может только между братьями, знающими о собственном родстве и признающими его. А значит, происходит она особенным образом – в кружащем всех вихре беспощадности внимательному наблюдателю становятся видны области… чего-то иного.
Главное, что позволяет обнаружить во Второй мировой не только полемос, но и стасис, – появление в составе антигитлеровской коалиции Советского Союза, собственно, и внёсшего решающий вклад в победу союзников. Соответственно, в 1941 г. из публичного пространства «свободного мира» моментально исчезают весьма популярные до тех пор, глубоко укоренённые образы диких, кровожадных bolsheviks (ранее – cossacks). Сам дискурс «цивилизация против варваров» практикует только приверженная расовой теории нацистская Германия (а также, в менее радикальных формах и со своей спецификой, Италия и Япония), да и та применяет его к своим врагам с Востока (славянам, «азиатам» и т.п.), не с Запада. Со своей стороны, Уинстон Черчилль в знаменитой речи «Их звёздный час» (1940 г., сразу после дюнкеркской катастрофы) говорит о новых Тёмных веках, которые неизбежно наступят, если Британия падёт. Но описывает он их не как победу варварской архаики, наоборот: они окажутся ещё «более мрачными и, возможно, более долгими благодаря извращённой [нацистской] науке» – угроза исходит не извне, а изнутри цивилизации. Впрочем, сколько-нибудь массированного применения такого плода «извращённой науки», как химическое оружие, неожиданным образом не случилось, ни на полях сражений, ни против тыловых целей. В сопоставимой степени цивилизованные «братья» предпочли истреблять друг друга иными способами[76].
Первая серьёзная попытка переключить весь мир из режима ничем не умеренного полемоса в режим умеренного стасиса путём создания чего-то похожего на партийную систему – образование ООН. Точнее, Совета Безопасности ООН, закрытого картеля вето-игроков, по отношению к которому все прочие «объединённые нации» стоят ступенью ниже и которому субординированы[77]. Его постепенное превращение ещё и в единственно легитимный «ядерный клуб» изначально не планировалось, но привилегированный статус пяти постоянных членов дополнительно закрепило. Трудно сказать, верил ли кто-нибудь летом 1945 г., что отношения внутри этого картеля будут равноправными и гармоничными, – разве что завзятые мечтатели. Так и не заработав сообразно прекраснодушному замыслу, он переродился в биполярную, т.e. двухпартийную систему – Советский Союз с одной стороны, Соединённые Штаты, Британия и Франция (а также, до 1971 г., Китайская республика) – с другой. Оба полюса окружили себя сателлитами (партийный эквивалент – «младшие партнёры по коалиции», не имеющие права решающего голоса), оба соревновались в умножении их числа, перетягивая их из лагеря в лагерь. Количественный перевес одного из полюсов значения не имел – любое количество вето-игроков не сильнее одного, на то оно и вето. По той же причине передача места в Совете Безопасности от тайваньского правительства материковому Китаю мало что изменила; к тому же китайские коммунисты уже успели испортить отношения с советскими и заняли в биполярной системе позицию tertius gaudens, «третьего радующегося». Радоваться-то он, может, и радовался, но сколько-нибудь заметного влияния на ход глобальной (уже глобальной) «Большой Игры» не оказывал.
Тем не менее свою главную миссию ООН исполнять начала, и не без успехов; уже Корейская война (1950–1953) была самым настоящим стасисом, и не только во внутрикорейском измерении, но и по формату весьма ограниченной вовлечённости в неё США (под флагом той же ООН), СССР и КНР. Наиболее очевидное тому подтверждение – категорический отказ Гарри Трумэна удовлетворить настойчивые требования Дугласа Макартура о нанесении ядерных ударов (даже не по Северной Корее, а прямо по Китаю) и жёсткое увольнение легендарного полководца за инициативу, чреватую обратным сваливанием в полемос. И в дальнейшем всё происходило примерно так же. Иногда враждующие партии подходили к самому краю пропасти «взаимного гарантированного уничтожения», но так в неё и не сорвались, разделяя и признавая (то молчаливо, то открыто) общую ответственность за судьбу человеческой цивилизации. Иммануил Валлерстайн довольно сильно идеализировал ситуацию, заявив однажды, будто «“холодная война” была не игрой, которую следовало выиграть, а скорее менуэтом, который необходимо было протанцевать»[78]. Нет, эта война походила не столько на танец, сколько на бокс – кровь-то лилась, и немало. Но на бокс в перчатках, подчинённый определённым правилам, не только писаным. Как и партийный стасис.
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. биполярность закончилась. Двухпартийная система распалась по причине деградации и самоликвидации одной из партий. На некоторое время мир стал однополярным. Но это была не однопартийная система, а полуторапартийная, или квазимногопартийная, или система с доминантной партией, или с гегемонистской, или с «естественной партией власти» (natural governing party) – в исследованиях партийности существует много определений таких режимов, расходящихся в нюансах, но сходящихся в главном. Партий в подобной системе может быть сколько угодно. Они не являются безвольными марионетками, в отличие от некоммунистических партий, существовавших в некоторых социалистических странах (Болгарии, Венгрии, ГДР, Польше, Чехословакии) и существующих в современном Китае. Однако значение имеет только одна партия, выступающая ядром любых коалиций (в тех случаях, когда их образование вообще оказывается необходимым), определяющая политический курс и раз за разом подтверждающая своё лидерство. Какими и насколько благородными методами оно обеспечивается, другой вопрос. Обычно разными. В одном лишь ХХ веке такие системы десятилетиями функционировали в Австрии, Италии, Ирландии, Люксембурге, Финляндии, Швеции (самые известные примеры за пределами Европы – Индия, Мексика, Япония). Объём и качество политических свобод в перечисленных странах весьма разнились, но ни одна из них не была полностью несвободной.
США, разумеется, с восторгом приняли свалившийся на них подарок судьбы, так хорошо согласовавшийся со старой, уже начавшей забываться идеей “Manifest Destiny”, «явного предназначения» Америки к мировому первенству, достигаемому путём распространения определённых ценностей и принципов политической организации[79]. Будто возродился – век спустя – дух сенатора Альберта Бевериджа, в 1900 г. произнёсшего речь «В поддержку Американской империи» (“In Support of American Empire”), в которой сама Конституция интерпретировалась как прямой «призыв к росту, к экспансии, если угодно, к империи, не ограниченной географией, климатом и вообще ничем, кроме жизненных сил и возможностей американского народа»[80]. То был именно подарок: Советский Союз вместе со всем своим лагерем рухнул сам, под грузом внутренних дефицитов и напряжений, а не под воздействием внешних шоков[81]. Американский политический класс такого поворота не ожидал и не был к нему готов. Соединённые Штаты (и Запад в целом) просто заполняли, действуя спонтанно и ситуативно, освободившиеся места, причём под бурные аплодисменты огромного большинства обитателей этих мест, в том числе России. Предложенная Гейром Лундестадом применительно к периоду между 1946 и 1952 гг. формула «империя по приглашению»[82] приобрела новую актуальность[83].
Безмятежное (хорошее слово, ёмкое) доминирование США продолжалось недолго. События 11 сентября 2001 г. и всё то, что за ними последовало в отношениях с глобальной исламской уммой, неуклонное восхождение Китая, движимое острым ресентиментом российское «вставание с колен», подъём антиамериканских настроений в Латинской Америке и Европе (чаще на левом, но иногда и на правом фланге), да ещё и быстро появившиеся у самих же американцев сомнения в соответствии национальным интересам единоличного принятия на себя столь тяжкого бремени[84]… эти и другие вызовы пока не сокрушили американскую гегемонию (может, и не сокрушат), но, не получая адекватных ответов, накапливаются и подрывают её всё больше. Глобальная квазимногопартийность в кризисе.
Чаще всего её противники пишут на своих знамёнах слово «многополярность». Не исключено, что некоторые из них на самом деле подразумевают возвращение к старым добрым биполярным временам (в той же или иной конфигурации), но заявлять об этом прямо себе не позволяют – чтобы не растерять союзников. Логика элементарна и привлекательна: раз не однопартийность (различия между однопартийными и квазимногопартийными системами адепты многополярности не проводят), тогда многопартийность. Точно так же, как уже упоминалось, многопартийность была основным лозунгом освободительного движения конца 1980-х – начала 1990-х годов. Какая многопартийность, тогда важным не казалось. Любая. Так и хочется сказать, перефразируя Владимира Соловьёва (не журналиста, а поэта и философа): «Полицентризм! Хоть слово дико, / Но мне ласкает слух оно, / Как бы предвестием великой / Судьбины божией полно».
Однако лозунг – ещё не программа. Сколько именно предполагается центров/полюсов в новом мироустройстве? Если больше четырёх, как тогда быть с предупреждением Дюверже о невозможности в таком случае какой-либо классификации, то есть о непредсказуемости предстоящих взаимодействий внутри настолько фрагментированной системы и их последствий? Да и можно ли будет назвать чаемое состояние системой? Какие именно силы (государства, альянсы) станут центрами/полюсами, какими будут критерии их отбора и признания? Откуда следует, что их отношения непременно окажутся взаимно уважительными? С какой стати и каким образом смягчатся, не говоря уж разрешатся, многочисленные нынешние конфликты между такими очевидными, непременными кандидатами в центры/полюса, как та же Америка, Европа, полный отрыв которой от США более чем сомнителен, Россия, Китай, Индия, Япония, исламская умма (сама по себе полицентричная, раздираемая противоречиями и не имеющая шансов на полную консолидацию)? Не превратится ли многополярный мир в арену войны если не всех против всех, то многих против многих? Глобальной войны, которая, подобно нынешнему противоборству Израиля и ХАМАС, будет вестись опять не как стасис, а как полемос – на уничтожение, с тем же расчеловечиванием врага и с тем же её представлением, по меньшей мере одной из сторон, как битвы цивилизации с варварами? Можно ли институционализировать многополярную конструкцию, закрепить её хоть каким-то правовым, обязывающим способом? Почему такая институционализация окажется более эффективной, чем первоначальный идеалистический замысел ООН и её Совета Безопасности? И куда, кстати, денется ООН, реформируемая лишь теоретически и только в частностях, но не принципиально – до тех пор, пока постоянные члены Совета Безопасности обладают правом вето, а отказываться от него дураков нет и не предвидится? Главная загадка даже не в том, какими окажутся ответы на эти вопросы, а в том, кто способен их дать.
Если вся предыдущая цепочка импликаций имеет право на существование, то полезно было бы вспомнить ещё об одной особенности по крайней мере некоторых известных партийных систем. Бывает так, что стабильность системы и предсказуемость происходящего в её рамках достигаются даже за пределами «порога Дюверже» – за счёт фиксации качественно неравного статуса отдельных партий, его непропорциональности их количественному весу. Такие системы могут быть названы изолирующими. Стабильность и предсказуемость обеспечиваются в них методом «все на одного» – подавляющее большинство акторов, и крупных, и мелких, делает всё, чтобы не допустить одного из них к процессу принятия решений, во всяком случае затрагивающих всю политию. Так поступали в своё время с коммунистическими партиями Италии и Франции, которые набирали «от одной четвёртой до одной трети всех голосов на выборах. Однако в течение прошедших 25 лет их коалиционный потенциал практически равнялся нулю»[85]. Так поступают уже давно и до сих пор в ФРГ с «Альтернативой для Германии» и «Левой», во Франции – с «Национальным фронтом»[86]. Как это делается, отлично видно по знаменитым выборам президента Франции 2002 г., когда во втором туре сошлись Жак Ширак и Жан-Мари Ле Пен. Ширак получил 82 процента голосов против 20 процентов в первом туре, Ле Пен – 18 процентов против 17 процентов, причём в межтуровой агитации за Ширака использовались такие выразительные призывы, как «Голосуйте в перчатках» и «Голосуйте за мошенника, не за фашиста». Показательными выдались и выборы 2017 г.: Ле Пен (уже Марин) – 34 процента во втором туре против 21 процента в первом, Эмманюэль Макрон – 66 процентов против 24 процентов. Буквально в прямом эфире тот же сценарий можно наблюдать, следя за попытками лидера нидерландской «Партии за свободу» Герта Вилдерса, опередившей все прочие партии на парламентских выборах 2023 г., сформировать дееспособное правительство.
Тут есть несколько весьма поучительных аспектов. Во-первых, стратегия (или инстинкт) изоляции успешна при двух условиях: а) претензии к изолируемому актору имеют не только политическую stricto sensu, но и метаполитическую, моральную природу; б) изолируемый актор должен быть достаточно велик (ещё одно хорошее, ёмкое слово), чтобы его изоляция оказала на остальных участников политического процесса сплачивающий эффект требуемой мощности, перевешивающий их собственные разногласия, но достаточно невелик, чтобы процесс без его участия мог бы в целом идти своим чередом.
Во-вторых, изоляция отличается и от официального запрета, под который подпадают экстремистские, прежде всего неонацистские партии, и от новомодной отмены[87]. Изолируемый актор отнюдь не поражается в правах, не окружается стеной молчания, игнорирования и невидимости. Он обладает и пользуется теми же или почти теми же легальными и легитимными возможностями для выражения и продвижения своей позиции, что и другие; его вполне замечают, информируют общественность о его заявлениях и действиях, полемизируют (sic!) с ним. Просто с ним, выражаясь по-детски, не хотят дружить, не принимают в компанию. Он может получать некоторую долю власти и влияния на местном, муниципальном или региональном, уровне. Его руки совершенно развязаны для критики совершаемых ошибок и разоблачения творящихся несправедливостей (не только по отношению к нему самому), в чём есть свои удобства – риск, что ответственность за положение страны когда-нибудь придётся принять на себя, минимален. Но в настоящую, высшую власть такого актора не берут – и точка.
В-третьих, обычная реакция изолируемого актора – опять же напоминающая детскую раздражённая обида. «За что? Как вы смеете? Такую партию, как наша, не просто организацию, но значимую, многочисленную часть общества[88] нельзя изолировать!» Напрашивающаяся ответная реплика «Почему, собственно, нельзя? Вот же, всё получается, хотим и изолируем» повисает в воздухе – потому что нечем крыть.
В-четвёртых, прецеденты выхода в неповреждённом виде изолированного актора из этого положения – ни в результате добровольного снятия бойкота другими акторами, ни в результате преодоления блокады им самим, своими силами, – отсутствуют. Возможно, пока; всё возможно; следим за Нидерландами. Но в данный момент их нет.
Эта любопытная стратегия уже тестировалась в глобальном масштабе. Первым кандидатом на роль того одного, против которого объединяются все или почти все остальные (не прекращая находиться в стасисе, но тем самым делая его умеренным, ограниченным, регулируемым), стал в начале 2000-х гг. «международный терроризм». Кое-что удалось – под эгидой США возникла грандиозная антитеррористическая коалиция, в неё по собственной инициативе, и не проформы ради, не с пустыми руками вошла даже Россия, режим талибов был снесён почти мгновенно, отношения России с Западом заметно улучшились. Россия извлекла тогда из ситуации и другую пользу, сумев доказать факт широкого присутствия международных террористов, в том числе самой «Аль-Каиды»[89], в мятежной Республике Ичкерия и резко снизив таким образом градус осуждения второй чеченской кампании. Но довольно скоро стало понятно, что в долгосрочной перспективе решение не работает. Потому что в XXI веке, в отличие от 1960–1970-х гг., «международный терроризм» на 99 процентов представляет собой, прямо говоря, терроризм исламский. Отделить исламских радикалов от глобальной уммы оказалось невозможно, повторить опыт сплачивания не получилось ни через «Исламское государство»[90], ни через ХАМАС (и даже талибы[91] по той же причине вернулись к власти в Афганистане). А умма в целом слишком велика, чтобы стать объектом изоляции.
Многих, особенно в Америке, обрадовала бы изоляция Китая. Но она заведомо неосуществима – Китай опять-таки слишком велик, его экономика слишком интегрирована с большинством других экономик мира, он использует слишком изощрённую и потому эффективную стратегию налаживания отношений с другими акторами, не предполагающую, в частности, выдвижения каких-либо политических или гуманитарных условий.
В последнее время роль и функция объекта изоляции всё активнее примеряются к России. Оба условия успешности стратегии – моральная окрашенность претензий и достаточная, но не чрезмерная величина – в её случае выполняются. Голоса, предостерегающие от какого-либо доверия к «этим русским» и от ведения с ними “business as usual”, раздавались давно. Действия России на Украине и её категорический, эксплицитный отказ принимать «миропорядок, основанный на правилах» (что представляет собой просто-напросто другое наименование для ограниченного, контролируемого стасиса) мощно стимулировали процесс, придав ему лавинообразный характер. Дело усугубляется тем, что со многих сторон звучат призывы перестать рассматривать российско-украинский вооружённый конфликт как стасис, как «спор славян между собою» и превратить его в подлинный, бескомпромиссный полемос, как по методам ведения боевых действий, так и по их целям, да ещё и непосредственно вовлечь туда же страны Запада, сейчас вовлечённые опосредованно. Высказываются в этом духе преимущественно маргиналы. С той же оговоркой – пока.
Тем временем изоляция России продвигается – медленно, но неуклонно. Каналы обхода санкций перекрываются один за другим. Обходиться без российских рынков и ресурсов большинство западных экономик научилось или продолжает учиться. Сплачивающий эффект налицо: ещё недавно немыслимый отказ Финляндии от нейтралитета и её вступление в НАТО состоялись, на подходе Швеция (и та задержалась лишь по недоразумению), не менее немыслимый дрейф в сторону от России Армении и даже (хотя и гораздо более осторожный) Казахстана происходит на глазах. Да, многие акторы (как страновые, так и субнационального уровня), в том числе отдельные члены НАТО и Европейского союза, занимают по отношению к тренду на изоляцию России фрондирующую позицию; но делают они это крайне осторожно и не скрывают, что преследуют исключительно собственные интересы, выторговывая для себя более выгодные условия присоединения к мейнстриму или – китайский вариант – надеясь сформировать собственный. Конечно, ядерный потенциал и постоянное членство в Совете Безопасности ООН делают полную, глухую изоляцию России неосуществимой; но только они. Основных своих целей изолирующая стратегия достигает и так. Она настолько удобна и эффективна, что нет никаких оснований рассчитывать на отказ от неё даже в случае вполне вероятного в ближайшем будущем перехода российско-украинского вооружённого конфликта – каким бы то ни было образом – в менее горячую фазу. Зачем ломать то, что совсем недавно наладилось и неплохо работает? Логически возможны только два сценария, предполагающие такой отказ. Первый – появление нового кандидата на роль изолируемого объекта, причём такого, что для его изоляции потребуется реабилитировать и привлечь самоё Россию. Что это может быть за актор, какой силы шок и какими средствами он должен произвести, a priori вообразить нельзя. И страшновато. Второй – изобретение нового метода сплачивания фрагментированной глобальной системы, превосходящего стратегию изоляции по балансу выгод и издержек. Гадать опять-таки a priori бесполезно.
Глобальный стасис может прекратиться только кардинальной переменой человеческой природы или полной деглобализацией мира.
Первое невероятно, по крайней мере в пределах рационального сознания. Второе гипотетически возможно, но без той же перемены человеческой природы гарантирует возвращение в полемос. Почти ничего утешительного тем в России или за её пределами, кому не нравится изоляция и кто всё же не хочет попробовать, каков настоящий полемос на вкус, прямо сейчас сказать нечего. Кроме разве что одного: ничто не навсегда, и даже то, что будто бы навсегда, однажды кончается. В фильме Джеймса Кэмерона «Терминатор 2» рефреном звучит фраза: «Будущее не предопределено». Я пытался завершить это рассуждение как-нибудь иначе. Не получилось.
Автор: Святослав Каспэ, доктор политических наук, профессор департамента политики и управления факультета социальных наук Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный редактор журнала «Полития».
СНОСКИ
[1] Хардт М., Негри А. Множество: война и демократия в эпоху империи / Пер. с англ. В.Л. Иноземцева. М.: Культурная революция, 2006. С. 13.
[2] Там же. С. 433.
[3] Agamben G. State of Exception. Translated from Italian by K. Atell. Chicago: The University of Chicago Press, 2005. P. 3.
[4] Agamben G. Homo sacer. Stato di eccezione. Torino: Bollati Boringhieri, 2003. P. 4.
[5] Агамбен Дж. Homo sacer. Чрезвычайное положение / Пер. с итал. М. Велижева, И. Левиной, О. Дубицкой, П. Соколова. М.: Европа, 2011. С. 10.
[6] Арендт Х. О революции / Пер. с англ. И. Косича. М.: Европа, 2011. С. 14.
[7] Schmitt C. Theory of the Partisan: Intermediate Commentary on the Concept of the Political. Translated from German by G.L. Ulmen. N.Y.: Telos Press Publishing, 2007. P. 95.
[8] Шмитт К. Теория партизана. Промежуточное замечание к понятию политического / Пер. с нем. Ю.Ю. Коринца. М.: Праксис, 2007. С. 143.
[9] Хардт М., Негри А. Указ. соч. С. 18.
[10] Бек У. Власть и её оппоненты в эпоху глобализма. Новая всемирно-политическая экономия / Пер. с нем. А.Б. Григорьева, В.Д. Седельника. М.: Прогресс-Традиция; Издательский дом «Территория будущего», 2007. С. 329.
[11] Hardt M., Negri A. Multitude: War and Democracy in the Age of Empire. L.: Hamish Hamilton, 2004. P. 3. Перевод, предложенный в русском издании, неудовлетворителен. «Гражданская война – это вооружённый конфликт между суверенной властью и/или не обладающими суверенными правами повстанцами в пределах территории некоего суверенного государства» (см.: Хардт М., Негри А. Указ соч. С. 13). В оригинале между тем написано: «armed conflict between sovereign and/or nonsovereign combatants within a single sovereign territory». Легко видеть, что ни слова «власть», ни, что ещё важнее, слова «государство» здесь нет. В ситуации гражданской войны и то, и другое в хоть сколько-нибудь различимом виде может попросту отсутствовать.
[12] См., например: Mack A. Civil War: Academic Research and the Policy Community // Journal of Peace Research. 2002. Vol. 39. No. 5. P. 515–525; Sambanis N. What Is Civil War? Conceptual and Empirical Complexities of an Operational Definition // The Journal of Conflict Resolution. 2004. Vol. 48. No. 6. P. 814–858; Kalyvas S.N. Civil Wars. In: C. Boix, S.C. Stokes (Eds.), Oxford Handbook of Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press, 2007. P. 416–434; Cederman L.-E., Vogt M. Dynamics and Logics of Civil War // Journal of Conflict Resolution. 2017. Vol. 61. No. 9. P. 1992–2016; Florea A. Theories of Civil War Onset: Promises and Pitfalls. In: W. Thompson (Ed.), The Oxford Encyclopedia of Empirical International Relations Theory. Oxford University Press, 2017. DOI: 10.1093/acrefore/9780190228637.013.325
[13] Даже общие, обзорные работы могут быть перечислены лишь выборочно: Turner B.S. Citizenship and Social Theory. L.: SAGE Publications, 1993. 194 p.; Shafir G. (Ed.) The Citizenship Debates: A Reader. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1998. 316 p.; Heater D. A Brief History of Citizenship. N.Y.: New York University Press, 2004. 155 p.; Bellamy R. Citizenship: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2008. 152 p.
[14] См.: Heater D. World Citizenship and Government: Cosmopolitan Ideas in the History of Western Political Thought. N.Y.: St. Martin’s Press, 1996. 259 p.; Carter A. The Political Theory of Global Citizenship. N.Y.: Routledge, 2001. 277 p.; Isin E.F., Nyers P. Routledge Handbook of Global Citizenship Studies. N.Y.: Routledge, 2014. 644 p.; Reysen S., Katzarska-Miller I. The Psychology of Global Citizenship: A Review of Theory and Research. Lanham, Boulder, N.Y., L.: Lexington Books, 2018. 200 p.
[15] Kaspe S. Life, Death, and the State // Russia in Global Affairs. 2021. Vol. 19. No. 3. P. 178.
[16] Regan P. Civil Wars and Foreign Powers: Outside Intervention in Intrastate Conflict. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000. 172 p.
[17] Впервые темы стасиса я коснулся в статье «“Любовь во время войны”: против автономии политического» (см.: Каспэ С.И. «Любовь во время войны»: против автономии политического // Философия. Журнал Высшей школы экономики. Т. 7. No. 1. С. 13–61). Когда публикуемая сейчас работа о глобальном стасисе уже была в основном написана, в журнале «Социологическое обозрение» состоялась публикация текста Владимира Бродского (см.: Бродский В.И. Война во время любви: размышление над статьей С.И. Каспэ в свете различения частной и публичной вражды в учении Карла Шмитта // Социологическое обозрение. Т. 22. No. 3. С. 147–171). Это блистательное, многоплановое исследование, обладающее самостоятельной ценностью. Его значение далеко выходит за пределы реакции на мои рассуждения. К сожалению, должным образом поддержать дискуссию я уже не успевал. Да и нужно ли это? Бродский пишет: «Реагируя на аргумент Каспэ, автор делает попытку предположить, как на него мог бы ответить один из главных «анти/героев “Любви во время войны” – немецкий мыслитель Карл Шмитт». Никаких возражений; очень возможно и даже вероятно, что примерно так Шмитт и ответил бы.
[18] См.: Lintott A. Violence, Civil Strife and Revolution in the Classical City, 750–330 BC. L., Canberra: Croom Helm, 1982. 289 p.; Finley M.I. The Athenian Demagogues. In: Finley M.I. Democracy Ancient and Modern. New Brunswick: Rutgers University Press, 1985. P. 38–75.
[19] Вообще-то и не очень парадоксальному: противостояние – это тоже стояние, то есть занятие и удержание определённых позиций, причём второе логически предшествует первому и является условием его возникновения.
[20] Лоро Н. Разделённый город. Забвение в памяти Афин / Пер. с франц. С. Ермакова. М.: Новое литературное обозрение, 2021. 360 с.
[21] Семьи прежде всего как домохозяйства, то есть не только кровнородственной, но и социально-экономической единицы.
[22] В переводе С. Ермакова учитывается, что в греческом языке слово «стасис» женского рода – как и, например, слово «кризис». Я не иду по этому пути, чтобы избежать способных вызвать ненужный комический эффект словесных конструкций вроде «город находится в состоянии стасисы и порождённой ею кризисы».
[23] Агамбен Дж. Stasis. Гражданская война как политическая парадигма / Пер. с итал. С. Ермакова. СПб.: Владимир Даль, 2017. С. 18.
[24] Там же. С. 24.
[25] Там же. С. 25–26.
[26] Мало внимания уделяется ей и в блестящей, ставшей одним из важнейших источников вдохновения для этого текста статье Артура Третьяка (см.: Третьяк А.Р. Stasis и политическая философия современной войны // Полития. 2023. No. 3. С. 6–22). Третьяк пишет в ней о том же предмете, что и я; но в отличающемся ракурсе и с иным фокусом, отчего и рассуждение его ведёт в другую точку. Сам тот факт, что проблематика стасиса в последнее время выходит в политических исследованиях на первый план, весьма показателен.
[27] Berent M. “Stasis”, Or the Greek Invention of Politics // History of Political Thought. 1998. Vol. 19. No. 3. P. 333. См. также: Berent M. Anthropology and the Classics: War, Violence, and the Stateless Polis // The Classical Quarterly. 2000. Vol. 50. No. 1. P. 257–289.
[28] «Война» и «раздор» в классическом переводе Андрея Егунова – π?λεµ?ς и στ?σις соответственно.
[29] Πολιτε?α. 470b, 470c.
[30] Ibid. 469c, 471a, 471b.
[31] Ibid. 471b.
[32] Buis E.J. Taming Ares: War, Interstate Law, and Humanitarian Discourse in Classical Greece. Leiden, Boston: Brill, 2018. P. 172.
[33] Hardt M., Negri A. Op. cit. P. 3. Имеющийся русский перевод здесь вновь неточен.
[34] Точнее, по выражению Еврипида, в деспотиях «свободен лишь один» (см.: ?λ?νη. 276).
[35] С прописной буквы, так как вообще-то в греческих мифах и литературе Полемос – имя одного из божков, или, скорее, демонов войны, самого из них беспощадного. Примечательно, что никакого его культа не было – о нём знали, но ему не поклонялись.
[36] Μεν?ξενος. 243e.
[37] Агамбен Дж. Stasis… С. 12.
[38] Не раз высказывалось предположение, что политической мысли Платона в целом вовсе не была свойственна та звериная серьёзность, которую ей веками приписывают последователи и интерпретаторы, что доля иронии в них достаточно велика. Для ученика Сократа это вполне вероятно.
[39] Ν?µοι. 628с.
[40] NB! От латинского слова «civis» – гражданин.
[41] См.: Kleinschmidt H. The Family of Nations as an Element of the Ideology of Colonialism // Journal of the History of International Law. 2016. Vol. 18. No. 2. P. 278–316; Schabas W.A. “Civilized Nations” and the Colour Line. In: Schabas W.A. The International Legal Order’s Colour Line: Racism, Racial Discrimination, and the Making of International Law. N.Y.: Oxford Academic, 2023. DOI: 10.1093/oso/9780197744475.003.0001
[42] Джанда К. Сравнение политических партий: исследования и теория. В кн.: Г.В. Голосов, Л.А. Галкина (Ред.), Современная сравнительная политология. М.: Московский общественный научный фонд, 1997. С. 92.
[43] Panebianco A. Political Parties: Organization and Power. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. 318 p.
[44] Downs A. An Economic Theory of Democracy. N.Y.: Harper & Row, 1957. P. 25.
[45] Салмин А.М. Современная демократия: очерки становления и развития. М.: Форум, 2009. С. 255.
[46] Стоит попутно отметить, что такие части общества могут оформляться и в отсутствие формально-юридического института гражданства. Обязательным условием тут является гражданственность как дух, возникающий до (негарантированной, эвентуальной) институционализации гражданства и, собственно, являющийся её пререквизитом.
[47] Там же. С. 256.
[48] Более подробно этот взгляд на природу партий и сам феномен партийности изложен и обоснован здесь: Каспэ С.И. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная политическая форма. М.: Московская школа политических исследований, 2007. С. 187–202; Его же. Политическая теология и nation-building: общие положения, российский случай. М.: РОССПЭН, 2012.С. 84–97; Его же. Политическая форма и политическое зло. М.: Школа гражданского просвещения, 2016. С. 155–159.
[49] Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть государства церковного и гражданского / Т. Гоббс // Сочинения. Т. 2. М.: Наука, 1991. С. 184.
[50] Юм Д. О партиях вообще / Д. Юм // Сочинения. Т. 2. М.: Мысль, 1996. С. 512.
[51] Bolingbroke H. The Idea of a Patriot King. In: The Works of the Late Right Honorable Henry St. John, Lord Viscount Bolingbroke. Vol. III. L.: David Mallet, 1754. P. 83.
[52] Американские федералисты: Гамильтон, Мэдисон, Джей. Избранные статьи / Пер. с англ. Г. Фрейдина. N.Y.: Chalidze Publications, 1990. С. 66. Цитируется чрезвычайно редкий русский перевод «Федералиста», выполненный Григорием Фрейдиным. Потому что в самом распространённом его переводе (Марии Шерешевской) вместо слова «faction» везде значится «крамольное сообщество», что тоже по-своему верно, но для неискушённого читателя затуманивает смысл текста и суть обсуждаемой Мэдисоном угрозы. См.: Федералист. Политические эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея / Пер. с англ. М. Шерешевской. М.: Весь мир, 2000. С. 78–86.
[53] Washington’s Farewell Address to the People of the United States, 1796 // U.S. Government Publishing Office. URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-CDOC-106sdoc21/pdf/GPO-CDOC-106sdoc21.pdf (дата обращения: 08.01.2024).
[54] Вновь неточный перевод. В оригинале – «gouvernements libres», буквально «свободные правления». Свобода и демократия – не синонимы.
[55] Токвиль А. де. Демократия в Америке / Пер. с франц. В.Т. Олейника. М.: Весь мир, 2000. С. 144–145.
[56] Трудно отказать себе в удовольствии процитировать слова Атоса из романа Александра Дюма «Двадцать лет спустя»: «Мне снова приходится начать скитальческую, полную опасностей жизнь участника политической партии. С завтрашнего дня я пускаюсь в рискованное предприятие и могу быть убит». Действие романа отнесено к 1648 г.; но Дюма-то написал это в 1854 году. И перо его не дрогнуло.
[57] ?στορ?αι. XXIV, 8, 2–4.
[58] Balibar E. Europe as Borderland // Environment and Planning D: Society and Space. 2009. Vol. 27. No. 2. P. 192.
[59] Хабермас Ю. Европейское национальное государство: его достижения и пределы. О прошлом и будущем суверенитета и гражданства / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. // Нации и национализм. М.: Праксис, 2002. С. 377.
[60] Washington’s Farewell Address to the People of the United States, 1796 // U.S. Government Publishing Office. URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/GPO-CDOC-106sdoc21/pdf/GPO-CDOC-106sdoc21.pdf (дата обращения: 08.01.2024).
[61] Токвиль А. де. Указ. соч. С. 145.
[62] А оказывается, не способствуют ему, как считали прежде.
[63] Laski H. A Grammar of Politics. L., New Haven: Allen & Unwin, Yale University Press, 1925. P. 313.
[64] Дюверже М. Политические партии / Пер. с франц. Л.А. Зиминой. М.: Академический проект, 2000. С. 512–514.
[65] Там же. С. 300.
[66] См. также: Colomer J.M. It’s Parties that Choose Electoral Systems (or Duverger’s Law Upside Down) // Political Studies. 2005. Vol. 53. No. 1. P. 1–21; Benoit K. Electoral Laws as Political Consequences: Explaining the Origins and Change of Electoral Institutions // Annual Review of Political Science. 2007. Vol. 10. No. 1. P. 363–390.
[67] Ср., например, провальные попытки создания в России двухпартийной системы волею верховной власти и средствами политического администрирования – по Борису Ельцину: «Мы двинемся двумя колоннами!» (1995 г.) и по Владиславу Суркову: «Нет у общества “второй ноги”, на которую можно переступить, когда затекла первая. В России нужна вторая крупная партия» (2006 г.). Забавно, что образ «второй ноги» присутствовал ещё в направленной Ельцину записке Сергея Шахрая, с которой начался проект 1995 года. См.: Батурин Ю.М., Ильин А.Л., Кадацкий В.Ф. и др. Эпоха Ельцина. Очерки политической истории. М.: Вагриус, 2001. С. 536.
[68] Sartori G. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Vol. I. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. P. 44.
[69] Lipset S.M., Rokkan S. Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments. In: S.M. Lipset, S. Rokkan (Eds.), Party Systems and Voter Alignments: Cross-National Perspectives. N.Y.: Free Press, 1967. P. 50.
[70] Lipset S.M. Consensus and Conflict: Essays in Political Sociology. New Brunswick: Transaction Books, 1985. P. 115.
[71] Дюверже М. Указ соч. С. 298.
[72] Ленин В.И. Манифест ЦК РСДРП «Война и российская социал-демократия» / В.И. Ленин // Полное собрание сочинений. Т. 26. М.: Издательство политической литературы, 1969. С. 22.
[73] Там же. С. 17.
[74] Schmitt C. Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff. Berlin: Duncker & Humblot, 1938. S. 42–58. (Я благодарен Александру Ф. Филиппову и Владимиру Башкову – они пояснили мне, о чём думал Шмитт в те годы. И о чём не думал, что ещё важнее). Впрочем, в том же 1938 г. Ойген Розеншток-Хюсси увидел больше, взглянул глубже и дальше, чем Шмитт, уместив очень многое в одной фразе, ставшей эпиграфом к этой статье (см.: Розеншток-Хюсси О. Великие революции. Автобиография западного человека. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002. С. 58). К сожалению, абсолютная неконвенциональность его способа мыслить и манеры изъясняться привела к тому, что этот незаурядный автор как остался незамеченным в своё время, так и остаётся игнорируемым до сих пор.
[75] Нольте Э. Европейская гражданская война (1917–1945). Национал-социализм и большевизм / Пер. с нем. А. Антоновского. М.: Логос, 2003. 527 с.
[76] Газовые камеры в «лагерях смерти», как и Холокост в целом, – отдельная история о борьбе с «абсолютным Чужим», но тоже по-своему, альтернативно цивилизованным, что и делает его, с нацистской точки зрения, смертельной опасностью для арийской расы, подлежащей только тотальной аннигиляции. Придуманная Филиппом Ленардом и Йоханнесом Штарком «еврейская физика» – полный функциональный аналог черчиллевской «извращённой науки».
[77] См. подробнее: Bosco D. Five to Rule Them All: The UN Security Council and the Making of the Modern World. Oxford: Oxford University Press, 2009. 310 p.
[78] Валлерстайн И. После либерализма / Пер. с англ. М.М. Гурвица. М.: Эдиториал УРСС, 2003. C. 181.
[79] См.: Merk F. Manifest Destiny and Mission in American History: A Reinterpretation. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1995. 278 p.; Stephanson A. Manifest Destiny: American Expansion and the Empire of Right. N.Y.: Hill and Wang, 1995. 160 p.
[80] Beveridge A. In Support of an American Empire. January 9, 1900. In: Congressional Record (56th Cong., 1st Session). Vol. 33. P. 708.
[81] Так, кстати, бывает и с доминантными партиями. Итальянская христианско-демократическая партия, полвека не имевшая конкурентов на политической сцене, в конце концов сгнила изнутри и в 1994 г. самораспустилась.
[82] Lundestad G. Empire by Invitation? The United States and Western Europe, 1945–1952 // Journal of Peace Research. 1986. Vol. 23. No. 3. P. 263–277.
[83] Lundestad G. The United States and Western Europe since 1945. From Empire by Invitation to Transatlantic Drift. Oxford: Oxford University Press, 2003. 344 p.
[84] Nye J.S. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone. Oxford; N.Y.: Oxford University Press, 2002. 240 p.
[85] Sartori G. Op. cit. P. 123.
[86] С 2018 г. – «Национальное объединение». Каковое переименование, впрочем, никого не обмануло и не особенно прижилось.
[87] См. о ней: Каспэ С.И. Не по Шмитту: политическая теология современных войн // Россия в глобальной политике. 2023. Т. 21. No. 5. С. 96–107.
[88] Что совершенно верно.
[89] Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.
[90] Террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ.
[91] Движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Фатальная ошибка
Роль произраильского лобби в политике США
Редакция Завтра
В октябре 2023 года мы наблюдаем беспрецедентные меры поддержки в отношении Израиля со стороны США. По свидетельству американских учёных, в прошлом подобные действия оборачивались провалами во внешней политике Штатов, приводили к потере влияния на Ближнем Востоке и гигантским финансовым убыткам для простых американцев (только расходы на войну в Ираке оцениваются в пять триллионов долларов).
Редакция "Завтра" представляет вниманию читателей фрагменты выступления двух известных американских учёных по теме влияния израильского лобби на внешнюю политику США. Стивен Уолт — профессор Гарвардского университета, специалист по международным отношениям, политолог. Джон Миршаймер — профессор Чикагского университета, автор теории наступательного реализма.
Ещё в 2007 году Стивен Уолт и Джон Миршаймер опубликовали книгу "Израильское лобби и внешняя политика США", которая стала бестселлером по версии The New York Times. Учёные часто делают доклады на политологических конференциях, одно из таких выступлений Университет Чикаго опубликовал на своём ютюб-канале. Стивен Уолт рассказывает о системе лоббирования, которая уже выстроена в США, а также о позициях и влиянии израильских лоббистских организаций. При этом Джон Миршаймер делает попытку анализа израильского влияния на развитие терроризма и на ход военной оккупации Ирака. Несмотря на то, что оба высказывания были сделаны задолго до трагических событий октября 2023 года, они помогают понять, почему США не могут проводить самостоятельную и независимую политику в ближневосточном регионе, почему конфликт между Палестиной и Израилем до сих пор остаётся не урегулированным.
Стивен УОЛТ: Покойный Ицхак Рабин однажды сказал, что американская поддержка Израиля не имеет себе равных в современной истории. И он был прав. Это крупнейший получатель экономической и военной помощи США, хотя сейчас Израиль входит в топ-20 стран мира по доходам на душу населения. Израиль получает экономическую поддержку даже тогда, когда его действия не согласуются с официальной позицией США. Например, он продолжает строительство новых поселений на оккупированных территориях.
Израиль получает постоянную дипломатическую поддержку от США; мы почти всегда принимаем его сторону в региональных спорах. Кандидаты, которые сейчас баллотируются в президенты США, будут расходиться во мнениях по многим вопросам, но все они идут на многое, чтобы показать, насколько лично преданы Израилю, который редко, если вообще когда-либо, подвергается критике со стороны официальных лиц США. И, конечно, президентские выборы прекрасно это иллюстрируют.
Почему так? Обычный ответ таков, что Израиль является нашим (Ред. — США) жизненно важным стратегическим активом и страной, которая разделяет наши ценности. Но даже если сделать шаг назад и посмотреть на эти два довода, всё равно достаточно сложно объяснить, почему мы оказываем Израилю такую большую помощь и почему делаем это так безоговорочно. Во-первых, действительно, во время холодной войны Израиль был стратегическим активом США, но сейчас холодная война закончилась. Второй аргумент заключается в том, что Израиль является демократией, разделяющей американские ценности. Это совершенно верно, Израиль имеет аналогичную систему ценностей, но есть много других демократических государств с такими же замечательными качествами. При этом ни одно из них не получает такого уровня поддержки. К тому же отношение Израиля к своему собственному арабскому населению и, в частности, к палестинцам резко расходится с американскими ценностями. Я не буду вдаваться здесь в подробности, но любой достаточно объективный взгляд на историю региона, включая более поздние истории, написанные израильскими историками, показывает, что обе стороны в этом конфликте были жестоки друг к другу. Обратите внимание, я не говорю, что Израиль ведёт себя хуже, чем другие страны. Я говорю, что он никогда не вёл себя лучше, и поэтому нельзя оправдать или объяснить безоговорочную американскую поддержку тем, что Израиль ведёт себя как-то образцово.
На мой взгляд, основной причиной произраильской политики США является действующее в стране израильское лобби — разнородная коалиция из отдельных лиц и групп, которые открыто работают над тем, чтобы влиять на американскую политику в произраильском направлении. В состав лобби входят такие организации, как Американо-израильский комитет по общественным связям (AIPAC), Конференция президентов ведущих американских еврейских организаций, Антидиффамационная лига, христианские сионистские группы, такие как "Христиане, объединённые для Израиля" (CUFI), аналитические центры, такие как Вашингтонский институт ближневосточной политики, Американский институт предпринимательства, пресса — "Еженедельный стандарт" или "Новая Республика". Как видите, это широкое определение.
Большинство лоббистских групп с особыми интересами в Америке также имеют множество различных элементов. Возьмём, например, экологическое движение. Это не только "Гринпис"* и "Сьерра-клуб", в него также входят исследовательские группы, сочувствующие местные отделения, учёные, занимающиеся экологическими темами, журналисты, пишущие об окружающей среде. Точно так же это делает произраильское движение. Это не централизованная организация, и входящие в неё группы не однородны, порой имеют разногласия по отдельным вопросам. Ключевой момент, который я хочу здесь подчеркнуть: израильское лобби не является синонимом американским евреям. Опросы показывают, что около четверти американских евреев не интересуются израильской политикой, многие другие не поддерживают позицию крупных организаций в лобби, а некоторые из групп, которые работают от имени Израиля, такие как христианские сионисты, не являются евреями. Лобби определяется политической повесткой, а не этнической или религиозной принадлежностью. Так же лобби не включает в себя всех, кто благосклонно относится к Израилю. Чтобы быть частью лобби, нужно активно работать и пытаться повлиять на американскую политику. Очевидно, что некоторые группы и отдельные лица будут более активными и влиятельными, чем другие.
Итак, как же работают лобби в США? Как и другие группы интересов, израильское лобби работает двумя основными способами. Во-первых, они действуют "внутри кольца" (Ред. — "внутри кольца" — американская идиома, образ трассы на Вашингтон, используемая для характеристики взаимодействия с топ-федеральными чиновниками, правительством, конгрессменами в Вашингтоне); во-вторых, работа на американских выборах, чтобы попытаться добиться избрания или назначения на ключевые посты сочувствующих им людей. В результате политикам даются чёткие стимулы занять те позиции, которые являются предпочтительными для лоббистов. Такие еврейские организации, как AIPAC, работают круглосуточно и без выходных, чтобы убедить политиков поддержать те правила игры, которые им нужны. Между прочим, эта организация очень активна на Капитолийском холме, помогает разрабатывать законы, предоставляет темы для обсуждения, пишет письма для подписания конгрессменами, а также продвигает кандидатов на должности различными способами и помогает направлять взносы в предвыборную кампанию от отдельных лиц и произраильских комитетов политического действия. Подобных комитетов в США тоже немало, примерно 30–40 организаций.
Мы сравнили историческую статистику спонсорской помощи. Произраильские политические комитеты выделили около 55 миллионов долларов различным кандидатам на посты за несколько лет, начиная с 1992 года. Это были просто деньги AIPAC, а не индивидуальные взносы. Для сравнения, арабо-американские комитеты за тот же период времени выделили около 800 тысяч долларов. Итак, 55 миллионов против 800 тысяч.
За последние тридцать лет AIPAC и другие организации помогли сместить с поста ряд американских политиков, в том числе Пола Финли, Пита Макклоски, Чарльза Перси, Синтию Маккинни, Роджера Джепсена и Линкольна Чейфи. Эти политики открыто говорили о силе произраильских лобби в США. Я хочу прояснить, что лобби или AIPAC не побеждают на всех выборах, на которые влияют, но всё же теперь складывается ситуация, когда все в Конгрессе знают, что вы играете с огнём, если спрашиваете о причинах поддержки США Израиля.
Конечно, это также касается кандидатов в президенты. И именно поэтому Стив Розен, чиновник AIPAC, которому сейчас предъявлено обвинение в передаче секретной информации, однажды положил перед журналистом из The New Yorker салфетку и сказал: "За двадцать четыре часа мы могли бы получить на этой салфетке подписи семидесяти сенаторов".
Приведу ещё один пример. Когда сенатора Дэниела Иноуэ спросили, почему он подписал спонсируемое AIPAC письмо президенту Форду в 1975 году, он объяснил: "Легче подписать одно письмо, чем ответить на пять тысяч". С тех пор в США ничего не изменилось.
В 2003 году AIPAC занял второе место среди лобби на Капитолийском холме в рейтинге National Journal, а в 1997 году — второе место в опросе журнала Forbes. Билл Клинтон сказал, что AIPAC, цитирую: "Лучше, чем кто-либо другой, лоббирует в этом городе (Ред.- имеется в виду Вашингтон)". Ньют Гингрич, который во многом не согласен с Клинтоном, сказал: "Это самая эффективная группа по лоббированию на всей планете". Не могу не привести и цитату бывшего сенатора Фрица Холлингса. Уходя со своего поста, он сказал: "У вас не может быть другой политики в отношении Израиля, кроме той, которую вам даёт здесь AIPAC". Или, как выразился Ли Гамильтон, проработавший в Белом доме около тридцати четырёх лет: "Никто не может сравниться с этой группой интересов, им нет равных". Хочу подчеркнуть ещё раз, что с политическим истэблишментом работает не только AIPAC, но и ряд других групп и отдельных лиц, включая христианских евангелистов. Так что это один широкий набор инструментов, который используется, чтобы влиять на политику США.
Стратегия израильского лоббизма заключается в попытке сформировать общественное мнение и восприятие таким образом, чтобы большинство американцев относились к Израилю благосклонно. Основные СМИ в США, как правило, настроены произраильски. Особенно это видно в редакционных комментариях, а также в отношении обозревателей и экспертов: по сравнению с Европой, в большинстве крупных СМИ США более узкий диапазон мнений об Израиле. В Штатах просто отсутствуют такие авторы, как британцы Роберт Фиск или Патрик Сил. Опять же, моя точка зрения не в том, что эти критики израильской политики всегда правы, а произраильские комментаторы всегда ошибаются, я хочу сказать, что здесь, в США, голоса критики в адрес Израиля, как правило, отсутствуют в основных СМИ вообще. И при этом всё равно существуют такие наблюдательные группы, как АДЛ (Антидиффамационная лига) и CAMERA ("Комитет за точность освещения в Америке событий на Ближнем Востоке"), которые отслеживают всю информацию. Удивительно, но эти наблюдательные группы мгновенно организуют бойкоты и демонстрации против информационных агентств, которые публикуют хоть что-либо с критикой Израиля. Или такие группы, как КАМПУС, которые наблюдают за кампусами (Ред. — студенческие города) и пытаются оказывать давление на университеты. Поэтому, когда Джимми Картер опубликовал свою книгу "Палестина: мир, а не апартеид", АДЛ и CAMERA оплатили рекламные объявления в крупных газетах, в которых был указан номер телефона издателя, и предложили всем желающим звонить и протестовать.
Часто говорят, что власти США оказывает поддержку Израилю потому, что граждане США поддерживают Израиль. То есть политики якобы просто делают то, чего хотят люди, и такие группы, как AIPAC, не играют здесь никакой роли. Этот аргумент не убедителен по нескольким причинам. Правда, что американцы имеют в целом благоприятный образ Израиля, но они не думают, что США должны оказывать ему безоговорочную или одностороннюю поддержку. Опрос, проведённый для Антидиффамационной лиги, показал: 78% американцев считают, что США не должны поддерживать ни одну из сторон в израильско-палестинском конфликте. Другое исследование, проведённое организацией "Американцы за мир" показало, что 87% американцев еврейского происхождения выступают за создание двух государств (Израиль и Палестина). И, наконец, опрос, проведённый Университетом Мэриленда, показал, что более 70% тех, кого они называли политически активными американцами, поддерживают сокращение помощи Израилю, если он откажется урегулировать конфликт. Так что у американцев есть благоприятный образ Израиля, и они хотят, чтобы это государство было в безопасности, но граждане не настаивают на том, чтобы США поддерживали Израиль не смотря ни на что. А это и есть американская политика, и причина кроется в политическом влиянии израильского лобби.
Джон МИРШАЙМЕР: Стивен дал определение лобби и рассказал, какое влияние оно оказывает на политику США в отношении Ближнего Востока. Я хотел бы пойти дальше в нашем анализе и показать, что это влияние имеет большой негативный эффект. Мой аргумент состоит в том, что лобби, работающее напрямую с Израилем, подтолкнуло нас к такой ближневосточной политике, которая не отвечает американским национальным интересам. И я хотел бы добавить, что это даже не в интересах Израиля. Сегодня я сосредоточусь на двух примерах: во-первых, как поддержка США политики Израиля в отношении палестинцев и оккупированных территорий усугубила нашу проблему терроризма; во-вторых, какую роль Израиль и лобби сыграли в подготовке к войне в Ираке, и какое влияние они оказывали в этих событиях.
Позвольте мне начать с проблемы терроризма в Америке. Общепринятое мнение среди сторонников Израиля заключается в том, что отношение Израиля к палестинцам никак не относится к тому, почему в арабском и исламском мире так ненавидят США, и что более важно, это не относится к нашей проблеме терроризма. Конечно, Израиль считается ценным союзником Америки в борьбе с терроризмом, даже самым важным на всём Ближнем Востоке. Однако эта приобретённая мудрость неверна. Существует масса фактов, полученных из опросов и неофициальных свидетельств, которые показывают, что США поддерживают жестокое обращение Израиля с палестинцами в Газе и на западном берегу реки Иордан. Поддержка США усилий Израиля по колонизации этих территорий возмущает, если не приводит в ярость, огромное количество людей в арабском и исламском мире. Госдеп, например, создал консультативную Группу по публичной дипломатии в арабских и исламских странах, которая сообщила в 2006 году, что "граждане этих стран искренне обеспокоены бедственным положением палестинцев и той ролью, которую, по их мнению, играют Соединённые Штаты".
Неудивительно, что этот гнев помогает разжигать терроризм против США. Позвольте мне подчеркнуть: я не утверждаю, что поддержка политики Израиля в отношении палестинцев является единственной причиной нашей проблемы с терроризмом. Я просто говорю, что это основная причина. В частности, это мотивирует некоторых людей нападать на США, служит мощным инструментом вербовки для террористических организаций и в целом вызывает сочувствие и поддержку террористов среди огромного числа людей в арабском мире. Враждебность по отношению к Соединённым Штатам, порождённая политикой Израиля на оккупированных территориях, была признана американскими президентами начиная с 1967 года, с того момента, когда Израиль впервые завоевал сектор Газа и западный берег. Вот почему официальная политика каждого президента США, начиная с Линдона Джонсона, заключалась в противодействии строительству поселений на оккупированных территориях. Но ни один президент не смог оказать значимого давления на Израиль, чтобы он прекратил строительство этих поселений. Конечно, причина — это лобби.
Теперь поговорим об Ираке. Большинству американцев совершенно ясно, что война в Ираке является одной из величайших стратегических ошибок в американской истории. Наш аргумент состоит в том, что Израиль и особенно его лобби были двумя основными движущими силами решения о вторжении в Ирак. Мы утверждаем, что при их отсутствии трудно было бы представить, что война возможна. Израиль был единственной страной, кроме Кувейта, где и власти, и большинство населения выступали за войну. Израильское правительство, в том числе премьер-министр Шарон, оказывало сильное давление на администрацию Буша, чтобы они не передумали за несколько месяцев до вторжения. Другие влиятельные израильтяне, такие как бывшие премьер-министры Эхуд Барак и Биньямин Нетаньяху, также умоляли Соединённые Штаты свергнуть Саддама.
На самом деле, Израиль так сильно настаивал на войне, что лоббисты в США предупредили израильских официальных лиц, чтобы они умерили свою риторику. В 2006 году бывший президент Билл Клинтон сказал, что все израильские политики, которых он знал, выступили бы за войну против Ирака, даже если бы у Саддама не было ОМП (оружия массового поражения). Израильская общественность также решительно продвигала войну: согласно опросу, проведённому в феврале 2003 года, за месяц до начала войны, 77,5% израильтян заявили, что хотят, чтобы США напали на Ирак. Иногда можно услышать аргумент, и я уверен, многие его слышали, что Израиль выступал против войны в Ираке и за нападение на Иран. Нет никаких сомнений в том, что в начале 2002 года, когда израильтяне впервые узнали о планах администрации Буша по нападению на Ирак, израильские ключевые официальные лица отправились в Вашингтон и ясно дали понять, что считают Иран более опасным врагом. Они утверждали, что администрации Буша следует сосредоточиться на Тегеране, а не на Багдаде. Однако важно подчеркнуть, что Израиль не был против того, чтобы США свергли режимы в Ираке или Сирии, в странах, которые Иерусалим считает заклятыми врагами. Израиль просто хотел, чтобы Штаты сначала разобрались с Ираном. Но как только они поняли, что партия войны намеревалась иметь дело с Ираном после того, как она закончит работу в Ираке, то с энтузиазмом восприняли идею вторжения в Ирак. Таким образом, с начала 2002 года по март 2003 года израильтяне оказали значительное давление на администрацию Буша, чтобы она обязательно выбрала войну вместо дипломатии в отношении Ирака. Добавлю, нет доказательств, что Израиль предупреждал о превращении Ирака в "глубокое болото" для Америки.
Поговорим теперь о лобби. Без сомнения, неоконсерваторы (одна из основных групп в лобби) были главной движущей силой этой войны, и их поддерживали ключевые организации в лобби, такие как AIPAC. Когда война в Ираке пошла наперекосяк, сторонники Израиля начали говорить, что основные организации в лобби не подталкивали к войне. Но это не так. Этот момент проясняется в статье, опубликованной в мае 2004 года в еврейской еженедельной газете в Нью-Йорке. Я зачитаю вам отрывок из этой редакционной статьи: "Когда президент Буш пытался протолкнуть войну в Ираке, самые важные еврейские организации Америки сплотились как одна в его защиту. В потоке заявлений лидеры общин подчёркивали необходимость избавить мир от Саддама Хусейна и его оружия массового поражения. Забота о безопасности Израиля справедливо учитывалась в дискуссиях основных еврейских групп".
Неоконсерваторы, конечно, были главной силой, продвигающей войну. Они выдвинули идею силового свержения Саддама в двух письмах, написанных президенту Клинтону в начале 1998 года. В течение следующих пяти лет и особенно после 11 сентября они неустанно настаивали на войне против Ирака, никакая другая группа или организация в США не была столь серьёзно настроена на вторжение в Ирак за этот пятилетний период. Но даже после 11 сентября в США существовало противодействие вторжению в Ирак: в Госдепе, разведывательном сообществе и Вооружённых силах. Неоконсерваторы, по их собственному признанию, глубоко привержены Израилю, многие из них связаны с ключевыми организациями в лобби, такими как Американский институт предпринимательства и Вашингтонский институт ближневосточной политики. Здесь следует подчеркнуть, что наш аргумент заключается не в том, что неоконсерваторы или лидеры основных организаций в лобби продвигали войну для национальных интересов Израиля, но против национальных интересов Америки, напротив, они считали, что вторжение в Ирак отвечает как американским, так и израильским национальным интересам. Для неоконсерваторов то, что хорошо для Израиля, хорошо для США и наоборот. К сожалению, в случае с Ираком они были трагически неправы.
В заключение хочу кратко рассказать о том, какими, по нашему мнению, должны быть американо-израильские отношения. Для начала США следует прекратить особое отношение к Израилю и относиться к нему, как к обычной стране, как, например, к Великобритании, Франции, Германии и Индии. На практике это означает, что, когда Израиль действует в соответствии с американскими национальными интересами, Вашингтон должен поддерживать еврейское государство, но когда действия Израиля наносят ущерб интересам США, Вашингтон должен дистанцироваться от Израиля и использовать свои рычаги воздействия, чтобы заставить Израиль изменить поведение. Что касается конфликта Израиля с палестинцами, Соединённые Штаты должны выступить в качестве честного посредника. Другими словами, Вашингтон должен проводить беспристрастную политику по отношению к обеим сторонам. В частности, США следует дать понять Израилю, что он должен покинуть оккупированные территории и согласиться на создание жизнеспособного палестинского государства".
* Нежелательная в РФ организация

Британии вопреки
Русский фактор американского успеха
Наше Завтра
Эрет Мэттью. Столкновение двух Америк. Незаконченная симфония / Мэттью Эрет при особом вкладе Синтии Чанг ; перевод с английского. — М. : Наше Завтра, 2023. — 873 с. : ил.
Проблема заключается не в том, что США сейчас говорят миру какие-то лживые и отвратительные слова, внедряют смертельно опасные для человеческой цивилизации ценности. Проблема в том, что словам США, какими бы те ни были, уже никто не верит, поскольку опыт как минимум последних ста лет показывает: целью в любом случае является подчинение и ограбление всех остальных. Проблема усугубляется тем обстоятельством, что многие американцы искренне продолжают верить, что их общество — напротив, светоч свободы и прогресса для всего мира. Во всяком случае, таким оно было задумано "отцами-основателями", таким стремилось быть на протяжении большей части своей истории, а значит — способно снова таким стать, точнее, вернуться к утраченному (по разным причинам) идеалу.
К числу таких американских идеалистов-консерваторов, несомненно, относится и автор этой книги (первое издание — "The Clash of the Two Americas: The Unfinished Symphony", 2021, вышло в свет ещё до начала Специальной военной операции России на Украине) Мэттью Эрет, главный редактор канадского журнала Patriot Review, и его единомышленники из базирующегося в Монреале фонда Rising Tide Foundation. В официальной презентации данной некоммерческой организации отмечается, что её название исходит из речи 35-го президента США Джона Кеннеди "Прилив поднимает все лодки", произнесённой осенью 1963 года, а цель её деятельности — укрепление межкультурного взаимопонимания и диалога Запада с Востоком. При этом продолжателем "правильной" линии Франклина — Линкольна — Кеннеди в нынешних условиях автор книги называет "красный" Китай во главе с Си Цзиньпином, который провозгласил концепцию "Сообщества единой судьбы человечества" в связке с реализацией проекта "Пояс и путь". Однако глобальная "сила зла" в лице Британской империи всё время существования Соединённых Штатов пыталась подчинить их своей воле и в немалой степени, хотя и далеко не до конца, преуспела в этом. "Столкновение двух Америк", кульминацией которого стала Гражданская война 1861–1865 годов, продолжается и поныне в виде конфликта между трампистами и антитрампистами.
Здесь налицо прямая связь воззрений Мэттью Эрета с идеологией позднего Линдона Ларуша и созданного им Шиллеровского института. И неслучайно он выступает против системы однополярного мира, "с её устаревшей логикой мышления нулевой суммы", и "античеловеческой программы Great Reset, продвигаемой такими порождениями Давоса, как Джордж Сорос*, Билл Гейтс, Марк Карни, Майкл Блумберг, принц Чарльз (Ныне король Карл III. — Ред.) и др.", в пользу "забытой парадигмы, более достойной человеческой цивилизации и естественного права".
Представленная в книге "Столкновение двух Америк" концепция истории США в контексте мировой истории последних трёх столетий использует большой массив информации, которая закрывалась, изгонялась, а потому "не очень хорошо известна даже знающим читателям". Эта концепция "бросает вызов упрощённым взглядам на Соединённые Штаты и их историю", "с точностью и поразительными подробностями описывает как триумфы уникального вклада Америки в мировую цивилизацию, так и упущенные возможности", а также читается как детективный роман "за исключением того, что это правдивая история", но главное — она действительно даёт основу для "потенциального выхода из сегодняшнего глобального конфликта между возглавляемым Америкой Западом и Россией с Китаем".
"Соединённые Штаты являются одновременно большим, чем многие считают, и меньшим, чем они должны были стать… В мечтах таких "людей эпохи Возрождения", как Франклин, Американская революция должна была стать не локальным событием, определяемым тринадцатью восставшими колониями, а скорее новой эпохой разума для всего человечества…"
Джеймс Фенимор Купер в своём политическом эссе "Американский демократ", впервые опубликованном в 1838 году, писал: "Когда правительство Соединённых Штатов распадётся, это, вероятно, будет следствием ложного направления, данного общественному мнению. Это слабое место нашей обороны и та часть, на которую враги системы направят все свои атаки. Мнение может быть настолько извращено, что ложь покажется правдой, враг — другом, а друг — врагом. Наилучшие интересы нации кажутся незначительными и мимолётными. Одним словом, правильное — неправильным, а неправильное — правильным. В стране, где господствует общественное мнение, ухватиться за него — значит захватить власть. Это правило человечества, согласно которому честные и благонамеренные люди сравнительно пассивны, в то время как коварные, нечестные и эгоистичные наиболее неутомимы в своих усилиях. Поэтому опасность того, что общественное мнение получит ложное направление, возрастает в четыре раза, так как немногие люди думают сами за себя…"
В 1861 году царём Александром II был принят указ об освобождении крестьян: более 23 миллионов крепостных получили свободу. Это была отнюдь не простая задача. Она встретила большое сопротивление и потребовала высокого уровня государственной мудрости, чтобы довести её до конца. В речи, произнесённой перед представителями дворянства в 1856 году, царь Александр II заявил: "Вы сами можете понять, что нынешний порядок владения душами не может оставаться неизменным. Лучше отменить крепостное право сверху, чем ждать того времени, когда оно начнёт само себя отменять снизу. Я прошу вас подумать о том, как лучше всего это осуществить". Успех этого указа вошёл в историю как одно из величайших достижений во имя свободы человека, а царь Александр II стал известен как Великий Освободитель, за что его любили во всем мире.
Вскоре после этого, в 1863 году, президент Авраам Линкольн издал Прокламацию об освобождении рабов, в которой говорилось, что "все лица, удерживаемые в качестве рабов" в мятежных штатах, "являются и впредь будут свободными". Сегодня вокруг этого на удивление много цинизма. Считается, что это никогда не было подлинным, поскольку Линкольн не объявил об этом в начале войны. Однако он всегда выступал за отмену рабства. Причина задержки заключалась в том, что в стране были распри, по этому вопросу не было единства. Линкольн должен был противостоять дальнейшему расколу страны.
Бывший раб и союзник Линкольна Фредерик Дуглас тоже был разочарован задержкой с равными правами. Но после встречи и обсуждения этих проблем с Линкольном он понял, что сохранение страны было на первом месте. Он заявил: "Это было великое дело — добиться независимости Америки, когда нас насчитывалось три миллиона (рабов), но ещё важнее было спасти эту страну от расчленения и разорения, когда в ней насчитывалось 30 миллионов. Он единственный из всех наших президентов должен был иметь возможность уничтожить рабство и возвысить миллионы своих соотечественников, которых до сих пор держали в качестве движимого имущества и причисляли к полевым зверям".
Кроме того, есть много речей, которые Линкольн произнёс, когда был адвокатом. В них он чётко и прозрачно высказывался против рабства. В речи в Пеории, штат Иллинойс (16 октября 1854 г., за 7 лет до президентства), Линкольн заявил: "Это декларируемое безразличие, но, как мне кажется, скрытое реальное рвение к распространению рабства я не могу не ненавидеть. Я ненавижу это из-за чудовищной несправедливости самого рабства. Я ненавижу это, потому что это лишает наш республиканский пример справедливого влияния в мире, позволяет врагам свободных институтов правдоподобно насмехаться над нами как над лицемерами, заставляет настоящих друзей свободы сомневаться в нашей искренности. И особенно потому, что это заставляет многих действительно хороших людей вступать в открытую войну с фундаментальным принципом гражданской свободы — критиковать Декларацию независимости и настаивать на том, что нет правильного принципа действий, кроме личных интересов".
Во время гражданской войны лорд Роберт Сесил (позже названный маркизом Солсбери, трёхкратный премьер-министр Великобритании) выразил свою точку зрения по этому вопросу в британском парламенте: "Северные штаты Америки никогда не смогут быть нашими верными друзьями, потому что мы соперники и политически, и коммерчески… С Южными штатами дело обстоит совершенно иначе. Население — сельскохозяйственный народ. Они поставляют сырьё для нашей промышленности и потребляют продукты, которые мы производим из него. С ними все интересы должны вести нас к развитию дружественных отношений. Когда началась война, они сразу же обратились к Англии как своей естественной союзнице".
К 1840 году хлопок составлял более половины американского экспорта. Более 75% рабского хлопка экспортировалось в Великобританию. Американский рабский хлопок был центральным элементом мировой системы дешёвой рабочей силы Британской империи.
Осень 1862 года должна была ознаменовать первую критическую фазу Гражданской войны. Линкольн направил срочное письмо министру иностранных дел России А.М. Горчакову, сообщив ему, что Франция готова к военному вмешательству и ожидает Англию. Таким образом, спасение Союза зависело исключительно от решения России действовать.
Министр иностранных дел Горчаков написал в ответ на просьбу Линкольна: "Вы знаете, что у правительства Соединённых Штатов мало друзей среди держав. Англия радуется тому, что с вами происходит, она жаждет и молится о вашем свержении. Франция менее активно враждебна: результат в меньшей степени повлиял бы на её интересы, но она не против этого. Она вам не друг. Ваше положение становится всё хуже и хуже. Шансы на сохранение Союза становятся всё более отчаянными. Неужели ничего нельзя сделать, чтобы остановить эту ужасную войну? Надежды на воссоединение становится всё меньше и меньше. Я хочу внушить вашему правительству, что разделение, которое, как я боюсь, должно произойти, будет рассматриваться Россией как одно из величайших несчастий. Только Россия поддерживала вас с самого начала и будет продолжать поддерживать вас. Мы очень, очень обеспокоены тем, что должны быть приняты какие-то меры, что следует придерживаться любого курса, который предотвратит разделение, которое сейчас кажется неизбежным. За одним разделением последует другое, вы разобьётесь на фрагменты".
Заявленная Россией в её письмах поддержка Линкольна будет подвергнута испытанию летом 1863 года. К тому времени вторжение Юга на Север потерпело неудачу в Геттисберге. Антивоенные беспорядки в Нью-Йорке также потерпели неудачу. В результате Британия подумывала о прямом военном вмешательстве при поддержке Франции. Дальнейшие события станут одним из величайших проявлений поддержки суверенитета другой страны, когда-либо имевших место в современной истории.
Российский флот прибыл и к восточному, и к западному побережьям Соединённых Штатов в конце сентября — начале октября 1863 года. Время было тщательно согласовано на основе сообщений разведки о том, когда Великобритания и Франция намеревались начать свои военные действия. Российский военно-морской флот должен был находиться вдоль побережья США в поддержку Союза в течение семи месяцев. Он никогда не вмешивался в Гражданскую войну в Америке, а скорее оставался в её водах по распоряжению Линкольна на случай вмешательства иностранной державы. Если бы Россия этого не сделала, Великобритания и Франция, несомненно, вмешались бы от имени Конфедеративных Штатов — они ясно дали это понять.
В тот момент Соединённые Штаты, несомненно, раскололись бы надвое. Именно прямая военно-морская поддержка России позволила Соединённым Штатам остаться едиными. Царь Александр II, обладавший единоличной властью объявить вступление России в войну, заявил в интервью американскому банкиру Уортону Баркеру 17 августа 1879 года (опубликовано в The Independent 24 марта 1904 г.): "Осенью 1862 года правительства Франции и Великобритании предложили России формальным, но не официальным способом совместное признание европейскими державами независимости Конфедеративных Штатов Америки. Мой немедленный ответ был: "Я не буду сотрудничать в таких действиях, и я не соглашусь. Напротив, я приму признание независимости Конфедеративных Штатов Францией и Великобританией как повод для России вступить в войну". И для того чтобы правительства Франции и Великобритании могли понять, что это не пустая угроза, я пошлю Тихоокеанский флот в Сан-Франциско и Атлантический флот в Нью-Йорк… Всё это я сделал из любви к моей родной дорогой России, а не из любви к Американской республике. Я действовал так, потому что понимал: перед Россией стояла бы более серьёзная задача, если бы Американская республика с развитым промышленным развитием была распущена, а большинство отраслей современного промышленного развития остались бы под контролем Великобритании".
Что имел в виду царь Александр II, говоря о передовом промышленном развитии Американской республики? Он говорил о Гамильтоновой экономической системе. Примечательно, что издание доклада Александра Гамильтона 1791 года о пользе мануфактур для торговли и сельского хозяйства, опубликованное в Санкт-Петербурге в 1807 году, спонсировалось министром финансов России Д.А. Гурьевым. Именно Гамильтон стал пионером новой системы политической экономии — вместо той, которая возникла в результате Войны за независимость и привела Америку к банкротству, неразвитости и аграрности. Гамильтон решил эту проблему путём федерализации государственных долгов и преобразования их в производительный кредит, направленный национальными банками на крупномасштабные внутренние улучшения с акцентом на рост производства.
Во введении к переведённой брошюре Гамильтона русский педагог В.Ф. Малиновский писал: "Сходство американских Соединённых Провинций с Россией проявляется как в обширности территории, климате и природных условиях, в численности населения, непропорциональной пространству, так и в общей молодости различных общеполезных учреждений. Поэтому все предлагаемые здесь правила, замечания и средства подходят нашей стране". Царь Александр II признал американскую систему единственной экономической моделью, успешно бросившей вызов системе империи, которую он считал корнем рабства. Неэффективный и дорогостоящий труд рабов не мог конкурировать со станкостроительной промышленностью, о чём свидетельствовал Фредерик Дуглас. Строительство железных дорог, ставшее возможным благодаря развитию станкостроительной промышленности, освободило страны от морского господства Великобритании.
В 1842 году царь Николай I нанял американского инженера Джорджа Вашингтона Уистлера для надзора за строительством железной дороги Санкт-Петербург — Москва, первой крупной железной дороги в России. В 1860-х годах экономика Генри Чарльза Кэри продвигалась в университетском образовании Санкт-Петербурга под покровительством посла США в России Кассиуса Клея. Кэри был ведущим экономическим советником Линкольна и гамильтонианцем своего времени.
Сергей Витте (министр финансов России в 1892–1903 гг., премьер-министр в 1905–1906 гг.) опубликовал в 1889 году невероятно влиятельную статью под названием "Национальная экономия и Фридрих Лист", приведшую к принятию Россией в 1891 году нового таможенного закона и экспоненциальному росту российской экономики. Фридрих Лист публично приписывал своё влияние в экономике Александру Гамильтону.
Начальник Тихоокеанской железной дороги Линкольна генерал Гренвилл Додж консультировал Россию по Транссибирской железной дороге, построенной из пенсильванской стали с использованием американских локомотивов в 1890–1905 годах. В своём отчёте о бюджете на 1890 год Сергей Витте, предвосхищая разворачивающуюся сегодня китайскую инициативу "Пояс и путь", написал: "Железная дорога подобна закваске, которая создаёт культурное брожение среди населения. Даже если бы на своём пути она прошла через абсолютно диких людей, то за короткое время подняла бы их до уровня, необходимого для её работы". Сергей Витте прямо заявил о своём следовании американской модели политической экономии, когда описал реорганизацию российских железных дорог: "Столкнувшись с серьёзной нехваткой локомотивов, я разработал и применил систему движения, которая долгое время применялась на практике в Соединённых Штатах и которая теперь известна как американская".
К 1906 году российский царь Николай II поддержал план строительства американо-российского туннеля через Берингов пролив, официально утвердив команду американских инженеров для проведения технико-экономического обоснования. Россия завершила строительство Транссибирской магистрали в 1905 году под руководством последователя американской системы графа Сергея Витте. В своём первом рейсе по Транссибирской железной дороге вагоны, изготовленные в Филадельфии, пересекли центральную часть России. И неслучайно все ключевые игроки, участвовавшие в покупке Аляски, также участвовали и в российской программе континентальных железных дорог по обе стороны океана.
В 1876 году Генри Чарльз Кэри организовал "выставку столетия" в Филадельфии. 10 миллионов человек из 37 стран приехали, чтобы увидеть достижения Соединённых Штатов в области станкостроения, которые вывели их экономику на первое место в мире. Всего три года спустя Отто фон Бисмарк разрушил систему свободной торговли Германии, внедрив в своей стране тарифную политику в американском стиле. Родство между Германией и Соединёнными Штатами стало настолько сильным в это время, что речь Отто фон Бисмарка в парламенте (1879 г.) была процитирована Уильямом Мак-Кинли в Конгрессе США: "Успех Соединённых Штатов в материальном развитии является самым выдающимся достижением современности. Американская нация не только успешно развязала и подавила самую гигантскую и дорогостоящую войну за всю историю, но сразу же после этого распустила свою армию, нашла работу для всех своих солдат и морских пехотинцев, выплатила большую часть своих долгов, предоставила работу и жильё всем безработным в Европе так быстро, как они могли прибыть на её территорию. И всё ещё с помощью системы налогообложения, настолько косвенной, что её не воспринимали, а тем более не ощущали… Процветание Америки, по моему глубокому убеждению, обусловлено в основном её защитными законами, поэтому я настоятельно призываю Германию достичь той точки, когда необходимо подражать тарифной системе Соединённых Штатов".
Отто фон Бисмарк активно занимался организацией строительства железной дороги Берлин — Багдад, которую после многочисленных задержек должны были завершить только в 1940 году. Если бы это было сделано при жизни Отто фон Бисмарка, Ближний Восток мог бы избежать разделения Сайкса — Пико, которое произошло в дальнейшем.
В 1869 году японские модернизаторы, работавшие непосредственно со стратегами — последователями Линкольна и Кэри, провели Реставрацию Мэйдзи. Это привело к индустриализации Японии. В 1880–1890-х годах промышленники в стиле Линкольна и Кэри из Филадельфии заключали контракты на крупные инфраструктурные и государственные проекты в Китае. Гавайский христианский миссионер Фрэнк Деймон, участвовавший в стратегиях группы Кэри на очень высоком уровне, помог создать организацию Сунь Ятсена, которая дала начало современному Китаю.
Сунь Ятсен упомянул о своём восхищении США Линкольна в качестве основы для новой многополярной системы: "Мир получил огромную пользу от развития Америки как индустриальной и коммерческой нации. Таким образом, развитый Китай с его четырёхсотмиллионным населением станет ещё одним Новым Миром в экономическом смысле. Нации, которые примут участие в этом развитии, получат огромные преимущества. Кроме того, международное сотрудничество такого рода не может не способствовать укреплению Братства людей".
Против экономической системы империи объединились значительные силы. На сотрудничество и защиту общих интересов по всему миру были затрачены огромные ресурсы. Поэтому возникает очевидный вопрос: "Что пошло не так? Как мы пришли к нынешнему положению?"
Чтобы получить представление о причине этого, давайте рассмотрим некоторые из крупных убийств и "мягких" переворотов сторонников американской системы конца XIX и начала XX века.
Президент Авраам Линкольн убит 15 апреля 1865 года (через 6 недель после второй инаугурации).
Царь Александр II убит 13 марта 1881 года.
Президент Джеймс Абрам Гарфилд убит 19 сентября 1881 года (Умер после ранения при покушении, состоявшемся 2 июля. — Ред.).
Отто фон Бисмарк свергнут 18 марта 1890 года.
Президент Франции Сади Карно убит 25 июня 1894 года.
Царь Александр III, скорее всего, отравлен 1 ноября 1894 года.
Президент Уильям Мак-Кинли убит 14 сентября 1901 года (Умер после ранения при покушении, состоявшемся 6 сентября. — Ред.).
Вячеслав фон Плеве, министр внутренних дел России, убит 15 июля 1904 года (28 июля по новому стилю. — Ред.).
Великий князь России Сергей Александрович убит 17 февраля 1905 года.
Министр внутренних дел России Пётр Столыпин (премьер-министр в 1906–1911 гг.) убит 18 сентября 1911 года (Умер после ранения при покушении, состоявшемся 14 сентября. — Ред.).
Царь Николай II убит 17 июля 1918 года.
Президент Китая Сунь Ятсен вынужден уйти в отставку менее чем через год (с 1 января по 10 марта 1912 г.).
Генри Чарльз Кэри лучше всего выразил это, описав ситуацию в своей "Гармонии интересов" (1851 г.): "Перед миром стоят две системы… Одна смотрит на нищету, невежество, депопуляцию и варварство, другая — на увеличение богатства, комфорта, интеллекта, сочетания действий и цивилизации. Одна смотрит на всеобщую войну, другая — на всеобщий мир. Одна из них — английская система. Другую мы можем с гордостью назвать американской системой, поскольку она единственная из когда-либо созданных, тенденция которой заключалась в повышении и одновременном выравнивании условий жизни людей во всём мире".
Нам ещё предстоит одержать победу в противоборстве двух этих систем. Борьба ещё не закончена, и было бы глупо сдаваться на финишной прямой. То, что мы делаем сегодня, определит ход вещей в будущем. Будем ли мы жить в условиях истинного признания свободы и процветания, или нами будут управлять, а наши свободы будут рассматриваться как "привилегии", которые могут быть предоставлены или отняты на основе суждения правящего класса, — ещё предстоит выяснить.

КЕСТХЕЙ. БАЛАТОН. ВЕСНА.
Самый оптимистичный сезон года на Балатоне начинается уже в конце февраля - начале марта. Почти южное солнце выхватывает перед нашими глазами из пожухлой прошлогодней травы зеленые пятна, россыпи подснежников, веселый золотой дождь вдоль дорог, розово-белые гирлянды на плантациях миндаля...
В начале весны берега венгерского моря становятся местом притяжения для всех, кто смог хоть на день вырваться из надоевшей зимы в столице. Кестхей - наиболее удаленный от Будапешта город Балатона в это время особенно популярен. Потому что Кестхей - не только курорт на берегу бескрайнего бирюзового озера, а еще и настоящий город-музеев. Очень важное добавление в программе загородного отдыха на случай капризов весенней погоды. Интереснейшие музеи и уютные кафе - отличные места для времяпровождения в дождь после прогулок по невероятно чистому воздуху и кормления водоплавающих.
Главным в музейной копилке Кестхея, конечно же, считают Дворец графов Фештетичей, расположенный в самом сердце древнего города (Кестхей впервые упоминается в 1247 году). Известная в Европе аристократическая фамилия, представители которой в 17-19 столетиях занимали ведущие посты при дворе Габсбургов.
Но прославил на века имя Фештетич «отщепенец», «белая ворона» в именитой семье - граф Дьёрдь Фештетич (1755-1819). Он нарушил семейную традицию благонадежности, примкнув к якобинцам. После подавления революционного движения его сослали в родовое имение.
Граф навсегда остался на берегах Балатона и посвятил жизнь науке прогрессивного ведения сельского хозяйства. Передовой в этой отрасли была тогда Англия.
Вот граф Дьёрдь и выписал из островной империи к себе в Кестхей породистых английских рысаков, стал их разводить.
А еще он основал первый в Европе сельскохозяйственный колледж (впоследствии
университет) Георгикон в 1797 году, ежегодно проводил во дворце встречи интеллектуального общества Геликон, спонсировал наиболее талантливых представителей Трансданубии, построил в городе больницу и гимназию.
Кестхейский дворец создан в середине 18 века в стиле, пожалуй даже не венского, а какого-то очень европейского барокко.
В течение следующих ста лет к нему пристроили изысканное крыло в стиле рококо и высокую башню со скульптурами коней, напоминая об одном из страстных семейных увлечений. Получилось пышное, совершенно неожиданное для уютного провинциального Балатона сооружение. Такой дворец мог бы украсить любую европейскую столицу.
И еще дворцу графов Фештетичей повезло. Последняя война его не тронула. Владельцы покинули имение в конце 40-х прошлого века. Новая власть в Кестхее очень внимательно относилась к памятникам архитектуры. Так что, все прекрасно сохранилось. Прогулка по 18 (всего их 100) открытым для посетителей залам настоящего музея - увлекательное путешествие в историю и страны, и искусства. Последнее представлено в широком международном аспекте. Во дворце очень много произведений живописи, графики, прикладного искусства привезенного в Кестхей из Лондона супругой одного из Фештетичей леди Мэри Гамильтон. Есть в музейной экспозиции подарки от Марии-Терезии и Марии-Антуанетты.
Гвоздь программы - уникальная библиотека, в которой хранится более 80 000 книг и обставлена она мебелью замечательного мастера Яноша Керба. Главный экспонат библиотеки - ноты, написанные самим Иосифом Гайдном. Их удалось уберечь от мародеров в конце Второй мировой войны благодаря сообразительному советскому майору Шевченко. Об этом и многом другом рассказывают гостям во время знакомства с имением замечательных венгерских меценатов.
В элегантном бальном зале дворца по сей день устраивают балы. Хотя в первую очередь сейчас - это известный на всю Западную Венгрию Концертный зал.
Даже кафе во дворце Фештетичей больше похоже на музей, чем на ресторан. На стенах и в стеллажах элегантной кофейни выставлены десятки старинных часов - грандиозная частная коллекция. Но кофе и пирожные тоже отменные.
Дворец окружает двухсотлетний английский парк со всеми сопутствующими подобному рангу деталями: гроты, искусственные пруды, тенистые аллеи, заросли пионов, скульптуры, фонтаны, музей карет и ботанический сад с пальмовым домиком.
Через роскошные (тоже в стиле барокко) ворота можно выйти из парка прямо на главную улицу старого Кестхея, названную, естественно, в честь Лайоша Кошута. Его знаменитый адъютант Шандор Ашбот родился в доме на этой улице. Волнистые ряды одно- и двухэтажных домиков по обеим сторонам пешеходной променады созданы в более спокойных, чем дворец, стилях неоклассицизма и цопф. Узкие переулки отходят от основной магистрали к крошечным музеям. Музей марципанов. Музей Кукол (около 700 фарфоровых созданий и все в национальных костюмах). Музей одного здания - Парламента Венгрии, собранного из четырех с половиной озерных ракушек. Эротический паноптикум - детям вход запрещен. Музей ужасов (история пыток). Детям можно, но не нужно. На главной улице есть еще и Музей игрушек - каких угодно. Дом, где родился композитор Карл Гольдмарк - автор оперы «Царица Савская».
И вот мы уже вышли на Главную (Фё) площадь Кестхея. Доминанта общего разновременного, но вполне гармоничного ансамбля - самое старое здание города, Францисканская церковь существует на этом месте с конца 14 столетия. В турецкую эпоху церковь превратилась в часть защитных крепостных стен. Остатки средневековых укреплений и сейчас примыкают прямо к храму с его другой стороны. На их фоне как-то особенно умиротворенно выглядит аккуратный палисадник с детской площадкой и фонтанчиками. На Главной площади возвышается обязательный чумной столб - памятник во славу Святой Троицы, установленный после окончания эпидемии чумы. Напротив красивое здание Гимназии (основано графами Фештетичами), солидная Ратуша и чуть в стороне Музей радиотехники и телевидения. В последнем выставлено около 1000 уникальных предметов, собранных его основателем и подаренных родному городу.
Если жажда к знаниям еще не угасла, стоит заглянуть в находящиеся совсем недалеко Музей кадиллаков, Музей ностальгии, Музей георгикон и, непременно, в Музей Балатона, где можно узнать все-все про флору, фауну и историю одного из самый больших теплых озер Европы.
А затем через парк спуститься вниз на берег Балатона. Яхты, колесо обозрения, пирс, уходящий в глубину водного пространства к симпатичной пристани, огромные рыбины, затаившиеся в камышах от вездесущих рыбаков, нахальные и явно перекормленные лебеди. И воздух. Предельно чистый. И покой. Весна. Кестхей. Балатон.
Автор Екатерина Вереш

Сила небесная
Глава Росавиации Александр Нерадько - о деньгах для авиации, интересах пассажиров и полетах в космос
Текст: Евгений Гайва
Цены на авиаперевозку вырастут, но временно и незначительно, а сдержать их поможет восстановление международного авиасообщения, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росавиации Александр Нерадько. Финансовая ситуация в авиаотрасли сложная, авиакомпании вынуждены внедрять дополнительные платные услуги, однако это не противоречит законодательству. Для стабильной работы авиационной отрасли нужна поддержка государства, считает руководитель Росавиации.
Александр Васильевич, агрегаторы сообщают, что стоимость перелетов по некоторым направлениям внутри страны в апреле-июне этого года выросла на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Минтранс привел доказательства обратного. Однако авиакомпаниям надо компенсировать потери. Значит, цены на авиабилеты все же будут расти?
Александр Нерадько: Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям, сопровождающееся незначительным увеличением стоимости авиабилетов. По данным авиакомпаний, прошедшие продажи на апрель-июнь 2021 года в среднем на 7% ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года. Напомню, летом прошлого года было значительное снижение цен. Авиакомпании - коммерческие организации, которые ведут свою деятельность самостоятельно. Если какой-то перевозчик поднимет стоимость авиаперевозок, это будет его коммерческое решение. Росавиация мониторит текущую ситуацию, и скажу, что авиакомпании к вопросу повышения стоимости авиабилетов подходят более чем взвешенно. Шаг за шагом мы возобновляем полеты за рубеж. Это положительно сказывается на операционной деятельности авиаперевозчиков, так что скачкообразного изменения тарифов на перевозки не ожидается.
Авиакомпании взимают дополнительную плату за провоз багажа, за выбор места в салоне при электронной регистрации на рейс, за внесение изменений в авиабилеты. Это вызывает недовольство у пассажиров. Изменения в правила перевозки пассажиров и багажа будут внесены?
Александр Нерадько: Рассматривать внесение каких-либо изменений в правила перевозки пассажиров и багажа нужно после широкого обсуждения с участниками рынка и потребителями. Сейчас Росавиация не считает необходимым вносить изменения в действующие правила перевозок.
Воздушным кодексом России определено, что плата за воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты устанавливается перевозчиками. Может быть установлено несколько пассажирских тарифов, различающихся по размеру денежной суммы, то есть по уровню тарифа или по условиям применения тарифа. Сколько мест предлагать для бронирования перевозки по уровням тарифов, определяют сами перевозчики. А пассажиры могут выбрать тот или иной тариф.
Например, обсуждается правомерность взимания оплаты за выбор места в салоне. Но пассажир может отказаться от выбора места в салоне, тогда оно будет назначено автоматически во время процесса регистрации. Так что услуга по выбору мест за дополнительную оплату нарушением воздушного законодательства не является.
Также при бронировании пассажир сообщает необходимую информацию о своих персональных данных и тем самым берет на себя ответственность за ее достоверность. Сборы за переоформление перевозочных документов и их размер воздушным законодательством не регулируются. Такие сборы устанавливаются внутренним прейскурантом агентства воздушных сообщений, то есть агентом по продаже билетов, с которым авиакомпании заключают договоры, или внутренним документом авиакомпании для своих точек продаж и продаж через свой сайт. Так вот, взимание сборов за изменения, вносимые в перевозочные документы, вполне правомерно, так как авиакомпания со своей стороны несет определенные затраты, используя в своей работе отечественные или зарубежные системы бронирования. Конечно, пассажиры заинтересованы в снижении тарифа и получении бесплатных услуг. Но авиакомпании находятся в жестких экономических условиях. Из-за этого возникает необходимость внедрять дополнительные платные услуги. Но в большинстве случаев все же они направлены на повышение качества пребывания на борту самолета.
Представители российской стороны инспектируют безопасность в египетских аэропортах. Каковы результаты проделанной египтянами работы?
Александр Нерадько: Предпринятые египетской стороной с 2015 года меры по усилению авиационной безопасности в аэропортах позволили существенно повысить уровень их защищенности. В январе-феврале этого года российские специалисты ознакомились с системами обеспечения авиационной безопасности в международных аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Решение о возобновлении полетов в эти города будет приниматься после реализации рекомендаций российской стороны по усилению мер обеспечения авиационной безопасности и при условии выполнения процедур, предусмотренных российско-египетскими договоренностями о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Также основанием для принятия решений послужит информация Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.
Авиационной отрасли помогла господдержка. Но уже в прошлом году говорили о необходимости дополнительных субсидий на 2021 год. Сейчас обсуждается возможность выделения денег?
Александр Нерадько: Пока сохраняются ограничения на международные авиаперевозки и действуют ограничения по въезду в иностранные государства. Росавиация предлагает возобновить субсидирование российских авиакомпаний для частичной компенсации их постоянных расходов, в основном на оплату труда авиаперсонала.
В качестве оценки размер господдержки рассчитывается на основании действовавших в 2020 году правил предоставления субсидий и заложенной в формулу расчета ставки в размере 685 рублей на одного "потерянного" пассажира 2019 года. Прогнозный объем господдержки российских авиакомпаний за период с января по апрель 2021 года может составить 8,2 млрд рублей.
Вопрос о государственной поддержке аэропортов на 2021 год также рассматривается. С учетом прогноза восстановления пассажиропотока в 2021 году, по предварительным расчетам, размер суммы субсидии, рассчитываемый по ставке 195,40 рубля за каждого "потерянного пассажира" 2019 года, составит за первый квартал 2021 года около 3,1 млрд рублей, на период первого полугодия 2021 года - более 5 млрд рублей.
Кроме того, Росавиация предлагает продлить сроки предоставления отсрочек или рассрочек по уплате налогов и страховых взносов для организаций отрасли. Это позволило бы сбалансировать налоговую нагрузку и поспособствовало восстановлению экономического состояния предприятий гражданской авиации.
Господдержку предоставляли еще и для расширения сети региональных маршрутов. Эту задачу удалось решить?
Александр Нерадько: Субсидирование авиаперевозок, особенно в регионы Дальнего Востока, безусловно помогло увеличить авиационную подвижность населения и избежать в 2020 году значительного сокращения пассажирских перевозок. В прошлом году в перечень субсидируемых было включено 389 региональных маршрутов, на треть больше результата 2019 года, когда таких маршрутов было 242. Перевезено более 2 млн пассажиров.
Вопрос развития перевозок, минуя Москву, решается системно. Показатели результатов федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" и государственной программы "Развитие транспортной системы" в 2020 году достигнуты. По маршрутам, минуя Москву, было перевезено 18,2 млн пассажиров. Благодаря данной мере поддержки доля регулярных авиационных рейсов составила 45,6%, в то время как в 2019 не достигала и 40%. Рост более чем на 5% в год - отличный результат, принимая во внимание экономические условия прошлого года.
Субсидируемых маршрутов может стать еще больше?
Александр Нерадько: Сейчас в перечне 266 субсидируемых маршрутов, минуя московский авиационный узел. Росавиация совместно с Минтрансом России постоянно ведет работу по пересмотру перечня. Это связано в том числе с запросами региональных властей, которые точно оценивают потребности в сети маршрутов. Возможность увеличения и расширения маршрутной сети и обоснование дополнительного финансирования постоянно в центре внимания Росавиации.
Часто говорят, что в России летают на старых самолетах. Какая доля воздушных судов у российских авиакомпаний сейчас на пределе летной годности?
Александр Нерадько: Говорить о пределе летной годности гражданских воздушных судов некорректно. Все воздушные суда проходят своевременное техническое обслуживание, получают сертификат летной годности.
Средний возраст российского парка пассажирских самолетов, включая воздушные суда иностранного производства, составляет 16,8 года. Это выше среднемирового значения - 11,4 года. Самыми молодыми являются подгруппы турбовинтовых самолётов вместимостью более 60 кресел, их средний возраст - 11,3 года и узкофюзеляжных самолетов вместимостью более 120 кресел. Средний возраст таких самолетов 11,4 года. При этом средний возраст парка "Аэрофлота" составляет около пяти лет, учитывая российские и иностранные воздушные суда. У некоторых эксплуатантов воздушных судов типа Ан-24 и Ан-26 средний возраст парка перевалил за 35-40 лет.
Нам нужно обновлять парк воздушных судов?
Александр Нерадько: Этот вопрос напрямую связан с импортозамещением иностранных воздушных судов на производимые в России типы воздушных судов, такие как "Суперджет", МС-21, Ил-114-300 и другие. Мы провели анкетирование российских эксплуатантов воздушных судов. При условии роста авиаперевозок потребность российских авиакомпаний до конца 2030 года составляет более 700 самолетов и 250 вертолетов.
Нормы летной годности - это свод обязательных требований, выполнение которых обеспечивает заданный уровень безопасности полетов. Необходимость в ужесточении норм летной годности в России отсутствует. Как это принято в российской и международной практике, авиарегулятором совместно с авиационной промышленностью на постоянной основе проводится совершенствование норм летной годности и их гармонизация с лучшей международной практикой, при необходимости издаются поправки к текущей редакции.
Для этого образована Межведомственная комиссия по нормативно-правовому и нормативно-техническому регулированию в области летной годности и сертификации авиационной техники, большое внимание данной деятельности уделяется Авиационной коллегией при правительстве России, отраслевыми научно-исследовательскими организациями и авиационными предприятиями.
Доля импортных самолетов в России снижается?
Александр Нерадько: На 1 января 2021 года коммерческий парк самолетов насчитывает почти тысячу воздушных судов. Численность самолетов зарубежного производства с 2017 года выросла на 25%, с 582 единиц до 745.
Больше всего самолетов зарубежного производства в парке магистральных пассажирских самолетов - 82%. Доля региональных воздушных судов иностранного производства составляет 41%, но ежегодно эти доли увеличиваются. Доля воздушных судов российского производства в парке пассажирских самолетов составляет 25%.
Сколько сейчас самолетов, летающих в России, зарегистрировано за рубежом?
Александр Нерадько: Из всего парка в 997 воздушных судов 725 самолетов зарегистрировано на Бермудах и в Ирландии. Это более 70%. Росавиация ведет системную работу по перерегистрации воздушных судов в российском реестре.
На территории Евразийского экономического союза более года назад было создано Международное бюро по расследованию авиационных происшествий. Оно работает?
Александр Нерадько: Соглашение о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов подписано 22 ноября 2018 г. в Москве представителями Российской Федерации и Республики Армения.
Бюро должно стать независимой международной организацией, проводящей расследования авиационных происшествий и серьезных инцидентов в соответствии с положениями стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации.
Разработано соглашение об условиях пребывания Бюро на территории России. Проект соглашения согласован МИД России. Для его заключения необходимо проведение переговоров с назначенным председателем Бюро. Для запуска работы Бюро нужно провести необходимые правовые процедуры как в России, так и на международной арене. Соглашение после его вступления в силу открыто для присоединения других государств при условии согласия всех сторон. Например, Казахстан неоднократно подтверждал намерение присоединиться к соглашению после его вступления в силу. Также вопрос присоединения рассматривают в Беларуси.
Справка "РГ"
Александр Васильевич Нерадько родился в 1961 г. В 1984 г. окончил Московский институт инженеров гражданской авиации (ныне МГТУ ГА). Работал на инженерных и руководящих должностях в предприятиях гражданской авиации, в Государственной комиссии по надзору за безопасностью полетов воздушных судов, Межгосударственном авиационном комитете, в федеральных органах гражданской авиации. В 1997 г. возглавил управление государственного надзора за безопасностью полетов Федеральной авиационной службы России, затеем Федеральной службы воздушного транспорта России. С августа 2000 г. по март 2004 г. работал в должности заместителя министра транспорта России, руководил Государственной службой гражданской авиации. С марта 2004 г. по октябрь 2005 г. возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере транспорта.
В октябре 2005 г. назначен на должность руководителя Федеральной аэронавигационной службы, в 2009 г. - руководителя Федерального агентства воздушного транспорта.

РУКОВОДИТЕЛЬ РОСАВИАЦИИ АЛЕКСАНДР НЕРАДЬКО О СИТУАЦИЯ В АВИАОТРАСЛИ, ИНТЕРВЬЮ "РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЕ"
Российская газета: Нерадько: Росавиация предлагает возобновить субсидирование российских авиакомпаний (текст Евгений Гайва)
Цены на авиаперевозку вырастут, но временно и незначительно, а сдержать их поможет восстановление международного авиасообщения, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Росавиации Александр Нерадько. Финансовая ситуация в авиаотрасли сложная, авиакомпании вынуждены внедрять дополнительные платные услуги, однако это не противоречит законодательству. Для стабильной работы авиационной отрасли нужна поддержка государства, считает руководитель Росавиации.
Александр Васильевич, агрегаторы сообщают, что стоимость перелетов по некоторым направлениям внутри страны в апреле-июне этого года выросла на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Минтранс привел доказательства обратного. Однако авиакомпаниям надо компенсировать потери. Значит, цены на авиабилеты все же будут расти?
Александр Нерадько: Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям, сопровождающееся незначительным увеличением стоимости авиабилетов. По данным авиакомпаний, прошедшие продажи на апрель-июнь 2021 года в среднем на 7% ниже, чем в аналогичном периоде 2019 года. Напомню, летом прошлого года было значительное снижение цен. Авиакомпании - коммерческие организации, которые ведут свою деятельность самостоятельно. Если какой-то перевозчик поднимет стоимость авиаперевозок, это будет его коммерческое решение. Росавиация мониторит текущую ситуацию, и скажу, что авиакомпании к вопросу повышения стоимости авиабилетов подходят более чем взвешенно. Шаг за шагом мы возобновляем полеты за рубеж. Это положительно сказывается на операционной деятельности авиаперевозчиков, так что скачкообразного изменения тарифов на перевозки не ожидается.
Авиакомпании взимают дополнительную плату за провоз багажа, за выбор места в салоне при электронной регистрации на рейс, за внесение изменений в авиабилеты. Это вызывает недовольство у пассажиров. Изменения в правила перевозки пассажиров и багажа будут внесены?
Александр Нерадько: Рассматривать внесение каких-либо изменений в правила перевозки пассажиров и багажа нужно после широкого обсуждения с участниками рынка и потребителями. Сейчас Росавиация не считает необходимым вносить изменения в действующие правила перевозок.
Воздушным кодексом России определено, что плата за воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты устанавливается перевозчиками. Может быть установлено несколько пассажирских тарифов, различающихся по размеру денежной суммы, то есть по уровню тарифа или по условиям применения тарифа. Сколько мест предлагать для бронирования перевозки по уровням тарифов, определяют сами перевозчики. А пассажиры могут выбрать тот или иной тариф.
Например, обсуждается правомерность взимания оплаты за выбор места в салоне. Но пассажир может отказаться от выбора места в салоне, тогда оно будет назначено автоматически во время процесса регистрации. Так что услуга по выбору мест за дополнительную оплату нарушением воздушного законодательства не является.
Также при бронировании пассажир сообщает необходимую информацию о своих персональных данных и тем самым берет на себя ответственность за ее достоверность. Сборы за переоформление перевозочных документов и их размер воздушным законодательством не регулируются. Такие сборы устанавливаются внутренним прейскурантом агентства воздушных сообщений, то есть агентом по продаже билетов, с которым авиакомпании заключают договоры, или внутренним документом авиакомпании для своих точек продаж и продаж через свой сайт. Так вот, взимание сборов за изменения, вносимые в перевозочные документы, вполне правомерно, так как авиакомпания со своей стороны несет определенные затраты, используя в своей работе отечественные или зарубежные системы бронирования. Конечно, пассажиры заинтересованы в снижении тарифа и получении бесплатных услуг. Но авиакомпании находятся в жестких экономических условиях. Из-за этого возникает необходимость внедрять дополнительные платные услуги. Но в большинстве случаев все же они направлены на повышение качества пребывания на борту самолета.
Представители российской стороны инспектируют безопасность в египетских аэропортах. Каковы результаты проделанной египтянами работы?
Александр Нерадько: Предпринятые египетской стороной с 2015 года меры по усилению авиационной безопасности в аэропортах позволили существенно повысить уровень их защищенности. В январе-феврале этого года российские специалисты ознакомились с системами обеспечения авиационной безопасности в международных аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха. Решение о возобновлении полетов в эти города будет приниматься после реализации рекомендаций российской стороны по усилению мер обеспечения авиационной безопасности и при условии выполнения процедур, предусмотренных российско-египетскими договоренностями о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. Также основанием для принятия решений послужит информация Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе.
Авиационной отрасли помогла господдержка. Но уже в прошлом году говорили о необходимости дополнительных субсидий на 2021 год. Сейчас обсуждается возможность выделения денег?
Александр Нерадько: Пока сохраняются ограничения на международные авиаперевозки и действуют ограничения по въезду в иностранные государства. Росавиация предлагает возобновить субсидирование российских авиакомпаний для частичной компенсации их постоянных расходов, в основном на оплату труда авиаперсонала.
В качестве оценки размер господдержки рассчитывается на основании действовавших в 2020 году правил предоставления субсидий и заложенной в формулу расчета ставки в размере 685 рублей на одного "потерянного" пассажира 2019 года. Прогнозный объем господдержки российских авиакомпаний за период с января по апрель 2021 года может составить 8,2 млрд рублей.
Вопрос о государственной поддержке аэропортов на 2021 год также рассматривается. С учетом прогноза восстановления пассажиропотока в 2021 году, по предварительным расчетам, размер суммы субсидии, рассчитываемый по ставке 195,40 рубля за каждого "потерянного пассажира" 2019 года, составит за первый квартал 2021 года около 3,1 млрд рублей, на период первого полугодия 2021 года - более 5 млрд рублей.
Кроме того, Росавиация предлагает продлить сроки предоставления отсрочек или рассрочек по уплате налогов и страховых взносов для организаций отрасли. Это позволило бы сбалансировать налоговую нагрузку и поспособствовало восстановлению экономического состояния предприятий гражданской авиации.
Господдержку предоставляли еще и для расширения сети региональных маршрутов. Эту задачу удалось решить?
Александр Нерадько: Субсидирование авиаперевозок, особенно в регионы Дальнего Востока, безусловно помогло увеличить авиационную подвижность населения и избежать в 2020 году значительного сокращения пассажирских перевозок. В прошлом году в перечень субсидируемых было включено 389 региональных маршрутов, на треть больше результата 2019 года, когда таких маршрутов было 242. Перевезено более 2 млн пассажиров.
Вопрос развития перевозок, минуя Москву, решается системно. Показатели результатов федерального проекта "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" и государственной программы "Развитие транспортной системы" в 2020 году достигнуты. По маршрутам, минуя Москву, было перевезено 18,2 млн пассажиров. Благодаря данной мере поддержки доля регулярных авиационных рейсов составила 45,6%, в то время как в 2019 не достигала и 40%. Рост более чем на 5% в год - отличный результат, принимая во внимание экономические условия прошлого года.
Субсидируемых маршрутов может стать еще больше?
Александр Нерадько: Сейчас в перечне 266 субсидируемых маршрутов, минуя московский авиационный узел. Росавиация совместно с Минтрансом России постоянно ведет работу по пересмотру перечня. Это связано в том числе с запросами региональных властей, которые точно оценивают потребности в сети маршрутов. Возможность увеличения и расширения маршрутной сети и обоснование дополнительного финансирования постоянно в центре внимания Росавиации.
Часто говорят, что в России летают на старых самолетах. Какая доля воздушных судов у российских авиакомпаний сейчас на пределе летной годности?
Александр Нерадько: Говорить о пределе летной годности гражданских воздушных судов некорректно. Все воздушные суда проходят своевременное техническое обслуживание, получают сертификат летной годности.
Средний возраст российского парка пассажирских самолетов, включая воздушные суда иностранного производства, составляет 16,8 года. Это выше среднемирового значения - 11,4 года. Самыми молодыми являются подгруппы турбовинтовых самолётов вместимостью более 60 кресел, их средний возраст - 11,3 года и узкофюзеляжных самолетов вместимостью более 120 кресел. Средний возраст таких самолетов 11,4 года. При этом средний возраст парка "Аэрофлота" составляет около пяти лет, учитывая российские и иностранные воздушные суда. У некоторых эксплуатантов воздушных судов типа Ан-24 и Ан-26 средний возраст парка перевалил за 35-40 лет.
Нам нужно обновлять парк воздушных судов?
Александр Нерадько: Этот вопрос напрямую связан с импортозамещением иностранных воздушных судов на производимые в России типы воздушных судов, такие как "Суперджет", МС-21, Ил-114-300 и другие. Мы провели анкетирование российских эксплуатантов воздушных судов. При условии роста авиаперевозок потребность российских авиакомпаний до конца 2030 года составляет более 700 самолетов и 250 вертолетов.
Нормы летной годности - это свод обязательных требований, выполнение которых обеспечивает заданный уровень безопасности полетов. Необходимость в ужесточении норм летной годности в России отсутствует. Как это принято в российской и международной практике, авиарегулятором совместно с авиационной промышленностью на постоянной основе проводится совершенствование норм летной годности и их гармонизация с лучшей международной практикой, при необходимости издаются поправки к текущей редакции.
Для этого образована Межведомственная комиссия по нормативно-правовому и нормативно-техническому регулированию в области летной годности и сертификации авиационной техники, большое внимание данной деятельности уделяется Авиационной коллегией при правительстве России, отраслевыми научно-исследовательскими организациями и авиационными предприятиями.
Доля импортных самолетов в России снижается?
Александр Нерадько: На 1 января 2021 года коммерческий парк самолетов насчитывает почти тысячу воздушных судов. Численность самолетов зарубежного производства с 2017 года выросла на 25%, с 582 единиц до 745.
Больше всего самолетов зарубежного производства в парке магистральных пассажирских самолетов - 82%. Доля региональных воздушных судов иностранного производства составляет 41%, но ежегодно эти доли увеличиваются. Доля воздушных судов российского производства в парке пассажирских самолетов составляет 25%.
Сколько сейчас самолетов, летающих в России, зарегистрировано за рубежом?
Александр Нерадько: Из всего парка в 997 воздушных судов 725 самолетов зарегистрировано на Бермудах и в Ирландии. Это более 70%. Росавиация ведет системную работу по перерегистрации воздушных судов в российском реестре.
На территории Евразийского экономического союза более года назад было создано Международное бюро по расследованию авиационных происшествий. Оно работает?
Александр Нерадько: Соглашение о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов подписано 22 ноября 2018 г. в Москве представителями Российской Федерации и Республики Армения.
Бюро должно стать независимой международной организацией, проводящей расследования авиационных происшествий и серьезных инцидентов в соответствии с положениями стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации.
Разработано соглашение об условиях пребывания Бюро на территории России. Проект соглашения согласован МИД России. Для его заключения необходимо проведение переговоров с назначенным председателем Бюро. Для запуска работы Бюро нужно провести необходимые правовые процедуры как в России, так и на международной арене. Соглашение после его вступления в силу открыто для присоединения других государств при условии согласия всех сторон. Например, Казахстан неоднократно подтверждал намерение присоединиться к соглашению после его вступления в силу. Также вопрос присоединения рассматривают в Беларуси.
Александр Нерадько: Дорога в космос часто пролегает именно через авиацию (текст Наталия Ячменникова)
У руководителя Росавиации Александра Нерадько сегодня юбилей. Он родился за несколько дней до легендарного полета первого космонавта планеты. А потому "Российская газета" просто не могла не задать Александру Васильевичу чисто "космические" вопросы.
Александр Васильевич, вы - ровесник полета Юрия Гагарина. Была ли когда-нибудь у вас мысль стать космонавтом или как-то иначе связать свою жизнь с космосом?
Александр Нерадько: Дорога в космос часто пролегает именно через авиацию. Мне посчастливилось связать свою жизнь, судьбу и карьеру с гражданской авиацией, о чем нисколько не жалею.
Какое мировое событие вы поставили бы в один ряд с началом космической эры?
Александр Нерадько: Первый полет в космос и его дальнейшее освоение человечеством не сравнить ни с чем, по моему мнению.
Самолеты и вертолеты Росавиации задействованы в службе авиационно-космического поиска и спасения возвращающихся с орбиты экипажей. Баллистики рассчитывают траектории спуска едва ли не до метра. Однако случается всякое, и корабли иногда заносит за сотни километров. Вам же и самому приходилось встречать экипажи. Какие самые сильные впечатления? Какая встреча запомнилась больше всего?
Александр Нерадько: Действительно, мне довелось руководить многими поисково-спасательными операциями по обеспечению приземления экипажей спускаемых аппаратов пилотируемых космических кораблей. Каждая такая операция отличается друг от друга. Это очень сложная и ответственная работа. Каждая запоминается навсегда.
Говорят, как только у спускаемого аппарата отстрелятся антенны, первая оперативная группа тут же специальной рукояткой открывает люк. Рукоятка сразу становится сувениром. У вас есть такой сувенир?
Александр Нерадько: Такая реликвия действительно существует и бережно хранится.
Дружите ли Вы с кем-то из космонавтов?
Александр Нерадько: Конечно!
О чем бы вы сегодня спросили Юрия Гагарина?
Александр Нерадько: Ни о чем бы не спрашивал. Предложил бы слетать в новый аэропорт Саратова, который мы построили и ввели в эксплуатацию в 2019 году недалеко от того места, где 12 апреля 1961 года приземлился первый космонавт нашей планеты, в аэропорт имени Юрия Алексеевича Гагарина.
Как вы относитесь к идее съемки на Международной космической станции художественного фильма?
Александр Нерадько: Такую идею полностью поддерживаю. Художественный фильм поможет заглянуть в особенные "уголки" работы и быта космонавтов и астронавтов на Земле и в космосе. Уверен в том, что фильм будет пользоваться огромной популярностью.
Справка "РГ"
Александр Васильевич Нерадько родился в 1961 г. В 1984 г. окончил Московский институт инженеров гражданской авиации (ныне МГТУ ГА). Работал на инженерных и руководящих должностях в предприятиях гражданской авиации, в Государственной комиссии по надзору за безопасностью полетов воздушных судов, Межгосударственном авиационном комитете, в федеральных органах гражданской авиации. В 1997 г. возглавил управление государственного надзора за безопасностью полетов Федеральной авиационной службы России, затеем Федеральной службы воздушного транспорта России. С августа 2000 г. по март 2004 г. работал в должности заместителя министра транспорта России, руководил Государственной службой гражданской авиации. С марта 2004 г. по октябрь 2005 г. возглавлял Федеральную службу по надзору в сфере транспорта.
В октябре 2005 г. назначен на должность руководителя Федеральной аэронавигационной службы, в 2009 г. - руководителя Федерального агентства воздушного транспорта.
4 апреля 2021 года Александру Нерадько исполнилось 60 лет. Поздравляем с юбилеем!
Ссылка на публикацию: https://rg.ru/2021/04/04/neradko-rosaviaciia-predlagaet-vozobnovit-subsidirovanie-rossijskih-aviakompanij.html

Театр начинается с анкеты?
Эдуард Бояков: Русофил - это не русопят, нам нужна мода на русское, как в Серебряном веке
Текст: Елена Яковлева
МХАТ им. Горького заявил о 20 премьерах в новом театральном сезоне. Репетируются "Лавр" Евгения Водолазкина, "Сказ о Петре и Февронии". При этом театр пытаются обвинить в дискриминирующих анкетах при приеме на работу. Какие идеи ищет, какую эстетику находит и чему хочет служить этот большой драматический театр, "РГ" рассказывает его художественный руководитель Эдуард Бояков.
Сегодня, когда в театре разрежен зритель, становятся редкими традиционные для вас встречи с поэтами и философами, кризис оставляет театру хоть какие-то шансы? Или несет только угрозы?
Эдуард Бояков: Кризис хоть и болезнь, но он рождает не только драмы и потери. Через кризис любой организм - социальный в том числе - растет и развивается.
Мы продолжаем работать, очень много репетируем, стараемся нарастить репертуар и обозначить в нем наши главные векторы.
Сергей Десницкий, бывший заврепертуаром МХАТа при Олеге Ефремове, рассказывает, что Ефремов, придя в театр, объявил о 10 премьерах. Это был рекорд. Мы рискнули объявить о 20. И дело не в попытках удивить количеством. А в том, что продуктом являющегося мировым достоянием русского театра является все-таки не спектакль, а репертуар. Богатый и цельный. МХАТ был придуман театром репертуарной полноты. С самого первого сезона.
Разнообразие - код МХАТа . Именно этим он отличался от "Ленкома" Захарова, Театра на Малой Бронной Эфроса, "Таганки" Любимова и "Современника" Ефремова. Это были театры одной эстетики и одного метода. А МХАТ - это множество языков. Недаром Ефремов, придя во МХАТ, сразу стал приглашать Каму Гинкаса, Анатолия Васильева, Льва Додина. Это в мхатовской природе. И благодаря этому МХАТ и воспринимался главным театром страны.
Мы сейчас ищем вослед за Ефремовым нового героя, как в недавно отыгранной премьере документальной пьесы "Некуротный роман". И при этом даем "Красного Моцарта" - музыкальный спектакль об Исааке Дунаевском. И я пытаюсь столь разные спектакли соединить в одной стратегии.
Конфликты с актерами закончились?
Эдуард Бояков: Мне кажется, что человек 10 буянивших актеров все-таки кто-то использовал. Похоже, это был конфликт не столько с реальными "протестантами", сколько с какими-то людьми, которым не нравились наши планы.
Первый год в театре у меня ушел на жесткие решения. Ситуация с дисциплиной у нас была чудовищной. Приходилось собирать в подвале бутылки с недопитым алкоголем, увольнять пьющих актеров, вывозить из подвалов мусор. Сто с лишним контейнеров мусора от разломанных и брошенных декораций!
А еще я обнаружил в подвале комнату, от которой ни у кого не было ключей. Когда их в конце концов нашли, то в ней оказалась старинная, помнящая Немировича и Станиславского, мебель. Естественно, не значившаяся на балансе.
Вот чем приходилось заниматься в первый год. Это, естественно, не могло не вызвать противодействия изнутри. Но противодействие извне, мне кажется, больше, потому что мы пытаемся строить национальный театр. Не боимся говорить о духовном векторе. О православии как стержне русской культуры.
Своего рода негативной сенсацией стала новость, что желающие у вас работать режиссеры (и серьезные управленцы) должны заполнять анкету с вопросами об отношении к религии, русской культуре и родителям?
Эдуард Бояков: Слушайте, анкеты - это практика любой серьезной компании от "Пепсико" и "Филипа Морриса" до "Газпрома" и администрации президента. Это нормально - анкетировать HR. Творческое взаимодействие с людьми - очень тонкий процесс. Работа в театре - это разговор душ. А я, принимая человека на работу, буду смотреть на его костюм, обувь и список предыдущих мест работы? Нет, я должен знать о нем главное. Поэтому мы и задаем ему 30 вопросов анкеты. Естественно, подразумевая, что человек может отказаться отвечать на них. И мы одного такого отказавшегося уже взяли на работу. А еще поступающие могут в ответ задать такие же вопросы нам. Мы открыты к диалогу.
Что вы хотите понять, спрашивая об этом?
Эдуард Бояков: Ценности человека. Его готовность служить - не мне, не труппе и даже не МХАТу, а русскому театру и русской культуре.
Но сегодня такое время, что тонкой и сильной моды на русское, как в прекрасном Серебряном веке, нет. Допустим, я сижу и плачу на вашем "Последнем сроке", но при этом хорошо чувствую, что у публики к Распутину нет никакого вкуса.
Эдуард Бояков: Да, вы правы, моды на русское сейчас, к сожалению, нет. А Серебряный век, конечно, был триумфом русской темы. Но если мы чуть внимательнее посмотрим, когда и как она возникла, то обнаружим, что с самого начала эпохи Александра III. С Московской промышленной выставки, Политехнического музея, с возникновения на Красной площади здания Московской Думы у нас появляется новорусская эстетика, которая потом плавно начнет сращиваться с русским авангардом. И Дягилев, кстати, был связан, с одной стороны, с радикальным авангардом, а с другой - с русской темой, Бакстом, Римским-Корсаковым, Стравинским. Но всему этому времени "моды на русское" дал импульс государь-батюшка Александр III.
В России возникли общества возрождения русской культуры, возник огромный интерес к русской истории, русской иконе. Возникла русская философия. И это все при участии великих князей, при внимании государства. Николай II подхватил эту линию: вспомним хотя бы его балы в русских костюмах XVI и XVII веков. А его внимание к теме раскола и фактическое прекращение гонений на старообрядческую церковь, которое автоматически дало ценнейший импульс для русской культуры. Здания Шехтеля - архитектура, связанная со старообрядчеством. А особняк Рябушинского, в котором потом жил Горький!
Эти грани невероятно богатой палитры - все русская культура. Но вначале были сознательные государственные шаги.
И думать, что сейчас нам хватит маленьких культурных кабинетиков, где все будут сидеть и в равной пропорции заниматься русской, индийской, чешской, турецкой музыкой - ну смешно. Это неверные и несправедливые пропорции. Мы - страна русской культуры, русский язык - основа нашей государственности. И надо этого не стесняться, но изучать, развивать, промотировать. Если государство не подумает об этом, через несколько десятилетий будет одна сплошная кока-кола.
Посмотрите на происходящее на Украине, на то, как там работают западные культурные центры! Как поддерживаются украинские драматурги! Пьесы про голодомор показывались в национальном театре Лондона еще задолго до Майдана. А огромное количество мастер-классов по современной историографии? Это же все область действия "мягкой силы".
Поэтому нужно бороться не с языком современного искусства, а с ситуацией отсутствия ценностей. С тем, что у нас сейчас нечего выражать хоть современным, хоть классическим языком. Поэтому мы поставили "Последний срок". Для этого я работаю с "Лавром" Водолазкина. Это важнейший для нас спектакль. А потом еще будет премьера "Петра и Февронии".
За педалированием "русской темы" обычно тянется подозрение в дискриминации - автоматическом вытеснении и подавлении всего нерусского.
Эдуард Бояков: Любители приклеивать нам такой ярлык пусть посмотрят, как мы параллельно делаем Гофмана с Шемякиным и Максимом Фадеевым. Там будет не русская, а немецкая тема. А Виктор Крамер ставит у нас "Лес" Островского с Мерзликиным и Ярмольником в ролях Счастливцева и Несчастливцева, и там нет никакого русопятства и в помине - современная радикальная декорация, сложный, совершенно европейский спектакль. Мы МХАТ, у нас будет все: и русская тема, и немецкий Гофман, и авангардный "Лес".
Часть противников наверняка перейдут на вашу сторону, если вы достигнете настоящего успеха?
Эдуард Бояков: Не сомневаюсь в этом. Потому что искусство, конечно, должно говорить само за себя.
Мне показалось, что пока вы заняты поиском диалога со зрителем. И от этого возник "Красный Моцарт" как попытка побыстрее взять зрителя при помощи музыкального спектакля. Или чопорная "Леди Гамильтон" - чтобы зацепить снобистского московского зрителя без особых глубин, что не придет на "Последний срок".
Эдуард Бояков: Реальность показывает: во МХАТ хотят приходить как в большой магазин, где можно купить и сыр, и фрукты, и вино, и посуду, и одежду.
Мы движемся в этом направлении и надеемся на то, что у зрителя возникнет к нам новое доверие. И в общем по нашим премьерам чувствуем, что оно возникает.
Но в пандемию ведь и премьера не премьера. В театр можно впустить максимум ползала, аншлаг невозможен.
Эдуард Бояков: Но и зал с правом 50-процентного заполнения может быть переполнен. Как у нас на премьере "Некурортного романа". Шахматная рассадка - это же не только покушение на аншлаг. В зале, почти как электричество, держится ощущение важности и ценности события. Год назад театр был для многих светским развлечением, а в пандемию поход в театр становится поступком. В зале я спиной чувствую солидарность с нами. То, как зрители, рискуя прийти на премьеру, хотят поддержать артистов и весь русский театр.
Да, часть билетов сдается, но у нас все равно остается зритель, и его, слава Богу, немало. Он отзывчив и благодарен.

Веники Березовского
резать бюджет или ликвидировать офшоры?
Сергей Ануреев Елизавета Пашкова
"ЗАВТРА". Сергей Владимирович, дефицит российского бюджета сейчас приблизился к 700 млрд. рублей в месяц. Но, возможно, никаких проблем с бюджетом не было бы, если бы деньги не выводились в оффшоры?
Сергей АНУРЕЕВ. Действительно, объём оттока капитала из России совпадает с размерами нашего бюджетного дефицита. По данным платёжного баланса за второй квартал наша страна заплатила 19 млрд. долларов доходов на иностранные инвестиции, то есть на такую сумму наши компании выплатили процентов по кредитам и дивидендов по акциям.
"ЗАВТРА". Выплатили иностранным компаниям?
Сергей АНУРЕЕВ. Да. К этому нужно добавить деньги, которые заплатили в погашение основной суммы долга — а это 9 млрд. долларов. При этом наши предприятия ещё и приняли дополнительные обязательства на 8 млрд., что удивительно, особенно во время карантина.
"ЗАВТРА". Опять же, взяли в кредит в зарубежных банках?
Сергей АНУРЕЕВ. Сложно сказать, кто у кого что взял. Но формально по платёжному балансу наши предприятия заняли 8 млрд. долл. При том, что финансовые рынки стояли, санкции продолжали действовать, но каким-то чудом наши предприятия смогли привлечь из зарубежья эти миллиарды долларов.
Сложив проценты и дивиденды, которые уплачивают наши предприятия за рубеж, и те деньги, которые они выплачивают в счёт погашения основной суммы долга, получим за второй квартал 28 млрд. долл. Разделив эту сумму на три месяца, получим по 700 млрд. рублей — как раз месячный дефицит российского бюджета. Мы, конечно не можем прямо развернуть эти 28 млрд. долл. в доходы бюджета, но обложить их налогами подобно налогам на внутреннее потребление или труд — было бы справедливо.
"ЗАВТРА". Но вы ни разу не произнесли слово "оффшоры". Получается, их здесь и нет?
Сергей АНУРЕЕВ. Чтобы ответить на этот вопрос, воспользуемся официальной статистикой, размещённой на сайте Банка России. За 2020 год данных пока нет, но есть за 2019-й, в соответствии с которыми за год в нашу страну поступило без малого 32 млрд. долл. иностранных инвестиций. Посмотрим, какие страны являются нашими основными кредиторами? На первом месте — Кипр, откуда поступило 8 млрд. Затем идут Нидерланды — 6 млрд., Великобритания — 5 млрд. Потом Ирландия, Гонконг и так далее. Заметим, что в первой десятке стран только у Франции и Австрии по их налоговому законодательству нет откровенно оффшорных компаний.
"ЗАВТРА". Поясните, пожалуйста, что такое оффшорная компания?
Сергей АНУРЕЕВ. Это компания, зарегистрированная на территории с заведомо низким налогообложением. Такими территориями могут быть не только отдельные государства, но и регионы, как, например, в России в 90-е и в самом начале 2000-х, когда Агинский Бурятский автономный округ нуллифицировал налог на прибыль. Или Чукотка…
"ЗАВТРА". Поэтому Роман Абрамович и был там губернатором?
Сергей АНУРЕЕВ. Да. У нас тогда из 24%-ного налога на прибыль 7,5% шло в федеральный бюджет, а 16,5% — в региональный. И крупные предприниматели договаривались с маленькими регионами о том, что они будут через них минимизировать налоги. И сейчас многие бизнесмены продолжают выдумывать, где они "реально" находятся. То есть они могут вести дела в Москве, бывать в Лондоне и быть формальным резидентом, например, Монако, поскольку налоги там значительно меньше. Таким образом, эти бизнесмены манипулируют своим налоговым резидентством, чтобы платить налоги в тех местах, где они минимальны.
"ЗАВТРА". То есть оффшор — это уход от налогов?
Сергей АНУРЕЕВ. В первую очередь, да. Можно это как угодно объяснять: инвестиционный климат, иностранные инвестиции — это всё словеса. Оффшоры — это именно уход от налогов. И это не только наша проблема. Это и американская, и европейская проблематика. Мы же не можем сказать, что в США плохой инвестиционный климат и что они остро нуждаются в иностранных инвестициях. Но проблема оффшоров для них тоже актуальна, поскольку это прежде всего "оптимизация" налогов.
"ЗАВТРА". Вы упомянули Кипр, который является общеизвестным оффшором. А Нидерланды — тоже оффшор?
Сергей АНУРЕЕВ. Да. Но здесь надо различать "чёрные" и "белые" оффшоры. "Чёрные" можно сравнить с "обналичкой" в нашей стране в начале 2000-х годов, когда организовывались фиктивные фирмы, по сговору с банками получавшие наличные. И это стоило для лиц, которые уходили от налогов, от 0,5% до 1%. То есть "чёрные" оффшоры "оптимизируют" налоги в ноль или почти в ноль.
"ЗАВТРА". Как на Кипре?
Сергей АНУРЕЕВ. Кипр в последнее время стал "серым" оффшором, поскольку он вошёл в ЕС и был вынужден поднять свои налоги, но они всё равно остаются заведомо ниже, чем, например, во Франции или у нас.
Кстати, в России благодаря усилиям компетентных органов "обналичка" сильно сократилась в размерах и значительно подорожала. То есть "оптимизаций" налогов под 1% сейчас почти нет, как минимум надо платить в объёме подоходного налога.
"ЗАВТРА". Но для нас повышение налогов на Кипре ничего не даёт, ведь эти налоги уплачиваются Кипру.
Сергей АНУРЕЕВ. Разумеется, переход Кипра из "чёрного" статуса в "серый" обогатил Кипр, а не Россию. Кипр стал получать налогов больше, и по-прежнему эти налоги остаются на Кипре как ключевом инвесторе в нашу страну.
Рассмотрим теперь ситуацию с Нидерландами. В научном журнале МВФ вышла публикация с оценкой различных оффшоров под заголовком "Что является подлинным, а что нет в глобальной системе прямых иностранных инвестиций". Там дан список оффшоров: Нидерланды, Люксембург, Гонконг, Швейцария, Сингапур, Ирландия. Потом идут Бермуды, Виргинские острова, Каймановы острова и т. д.
"ЗАВТРА". Почему первыми стоят Нидерланды?
Сергей АНУРЕЕВ. В их налоговом законодательстве есть такая особенность: если к ним пришла прибыль, сформированная в другой стране, то она не облагается налогами. То есть если вы заработали деньги в самих Нидерландах, будете платить там по полной программе, по прогрессивной шкале, но если вы эту прибыль заработали где-то в другом месте, то вам говорят: "Добро пожаловать, иностранные инвестиции, вы у нас никакие налоги платить не будете".
"ЗАВТРА". То есть наша компания регистрируется в Нидерландах, работает на территории России и таким образом…
Сергей АНУРЕЕВ. Мы сейчас не будем касаться юридических аспектов этих схем, потому что это отдельный вопрос, что собой представляют документы по оффшорам и как компетентные органы всё это вылавливают. Скажем просто, что есть некие отношения по бизнесу между компаниями, зарегистрированными в Нидерландах, и компаниями, зарегистрированными в России. Мы уже говорили, что Нидерланды, согласно данным Банка России, являются второй страной по объёму иностранных инвестиций, к нам приходящих, и налогообложение Нидерландов позволяет не платить никакие налоги за деньги, вошедшие в Нидерланды с других территорий. Ещё одна важная особенность этой страны в том, что у неё действует соглашение об избегании двойного налогообложения с 95 странами. В том числе, с Кипром, Мальтой и далее по списку. Именно поэтому во исполнение предложений президента Путина по искоренению оффшоров мы начали процесс выхода из соглашений о двойном налогообложении с откровенными оффшорами.
"ЗАВТРА". А в чём смысл таких соглашений?
Сергей АНУРЕЕВ. Например, соглашение об избегании двойного налогообложения с Нидерландами было заключено в 1996 году и подавалось тогда как некий прорыв в привлечении иностранных инвестиций. Оно позволяет многие налоги минимизировать у нас и платить их по минимуму там.
В этих соглашениях есть пункт, что мы можем уведомить в одностороннем порядке о выходе из соглашения за полгода до выхода. Таким образом, мы в первую очередь уведомили три самых явных европейских оффшора – Кипр, Мальту и Люксембург — о прекращении действия такого рода соглашений, а в середине августа заявили о пересмотре такого соглашения с Нидерландами. Кстати, как только президент Владимир Путин ещё в разгар самоизоляции по коронавирусу заявил антиоффшорную тематику, обострилась ситуация с малазийским боингом. Трагедия в небе над Донбассом произошла шесть лет назад, но почему-то именно весной этого года правительство Нидерландов активизировалось в международных судах. Случайно?
"ЗАВТРА". Вряд ли.
Сергей АНУРЕЕВ. Более того, есть очень интересные данные на официальном портале правительства о нашем экспорте. Ведь у нас принято говорить об оттоке капитала, но не менее важна проблема лжеэкспорта и лжеимпорта.
"ЗАВТРА". Уточните, пожалуйста, что вы понимаете под оттоком капитала?
Сергей АНУРЕЕВ. Речь идёт о механизме фиктивных иностранных инвестиций. МВФ в указанной выше статье дал статистику по странам, где таких инвестиций больше половины. По России они насчитали их в размере 58%.
"ЗАВТРА". Почему же это отток, ведь деньги пришли в нашу страну?
Сергей АНУРЕЕВ. Они зашли по фиктивным схемам, чтобы потом выйти по-настоящему. Помните знаменитый фильм "Олигарх" про Березовского? Там была такая сцена: у него в кабинете на постаменте стоял веник. Эти веники они использовали в качестве орудия бартера в конце 80-х годов, когда меняли их на автомобили, ещё на что-то. По документам, конечно. На самом деле никому эти веники не нужны были. Это был просто инструмент.
"ЗАВТРА". То есть фиктивные инвестиции заходят…
Сергей АНУРЕЕВ. Как веники Березовского, а потом выходят уже по-настоящему в виде денег, которые реально выплачиваются из нашей страны. То есть нужно что-то фиктивное купить. Вот, например, у нас импорт, по данным платёжного баланса за второй квартал, практически не упал. И это при том, что во время карантина был резкий спад потребления, остановились многие предприятия. А импорт упал совсем несущественно. Значит, либо ошиблись счетоводы, которые считали платёжный баланс, либо что-то не доглядели налоговые органы. Я не поверю, что при таком обвале потребления импорт упал всего на 5%. Какая часть этого импорта была фиктивной и продолжала "уводить" деньги из страны?
"ЗАВТРА". А как эта система связана с оффшорами?
Сергей АНУРЕЕВ. Давайте посмотрим на статистику нашего экспорта. Больше всего мы экспортируем в Китай. За 2019 год наш экспорт в эту страну составил 57 млрд. долларов. Вторыми идут Нидерланды, 44 млрд. Скорее всего, значительная часть экспорта в Нидерланды связана с оффшорными возможностями этой страны.
"ЗАВТРА". А кто-то обращает внимание на такую роль Нидерландов?
Сергей АНУРЕЕВ. Недавно Европейская комиссия обвинила американские IT-гиганты в минимизации налога на прибыль через Нидерланды и Ирландию. Но Европейский суд отменил решение Еврокомиссии о взыскании 13 млрд. долл. с американской компании Apple за минимизацию налогов через Ирландию. Вот вам результат в цивилизованной Европе! У них тоже есть проблема оффшоров, и как-то у них не очень получается с ней бороться…
А вот ещё интересный пример — российский Сити-банк. По официальной информации с сайта Банка России, промежуточным владельцем нашего Сити-банка является Сити-банк, зарегистрированный в Нидерландах. А конечным местом регистрации Сити-банка является штат Делавэр, который является одним из "белых" американских оффшоров. Этот маленький штат не гнушается налоговой "оптимизацией". То есть главная контора Сити-банка зарегистрирована в оффшорной юрисдикции Соединённых Штатов.
"ЗАВТРА". А когда на Западе начали бороться с оффшорами?
Сергей АНУРЕЕВ. Во время кризиса 2008-2009 годов крупные европейские страны и США бросились помогать экономике и резко нарастили бюджетный дефицит и государственный долг. Через несколько лет они опомнились и стали искать способы побороть этот самый государственный долг. В качестве одного из решений была выбрана оффшорная проблематика.
На саммитах стран "Большой двадцатки" неоднократно обсуждалась эта тема, выпускались пресс-релизы, где все 20 стран писали, что это проблема номер один, что надо дружно бороться с оффшорами. В 2014-2015 годах уже были приняты конкретные решения о том, что надо давить на оффшоры и требовать, чтобы они раскрывали всю информацию. Были разные скандалы, например, у английской королевы находили какой-то оффшор в Панаме. Но надо понимать, что любая собственность, которая принадлежит Великобритании, формально зарегистрирована на английскую королеву.
Само "Панамское досье" — это отголосок решений стран "Большой двадцатки" о том, что "давайте хотя бы разбираться, что творится в оффшорах". Но говорят уже сколько лет, а сдвигов особых не видно.
"ЗАВТРА". Если в те же Нидерланды идёт такой огромный приток капиталов, то там уровень жизни должен быть невероятно высоким! Но наверняка всё это и из Нидерландов утекает куда-то?
Сергей АНУРЕЕВ. Конечно! Этим пользуются отдельные юридические и финансовые структуры, которые обслуживают эти потоки. То есть деньги пришли в Нидерланды, которые выступили в качестве страны-транзитёра, и ушли дальше. Люди, которые обслуживают это, то есть нидерландские юристы, бухгалтера, финансисты, получают свою зарплату, и их, на самом деле, очень немного. И когда мы говорим про негативную роль Нидерландов, мы не имеем в виду простых нидерландцев, которые находятся под очень серьёзным налоговым прессом, гораздо большим, чем в нашей стране.
"ЗАВТРА". Если в борьбе с оффшорами даже усилия "Большой двадцатки" не помогают, значит, есть гораздо более серьёзные международные структуры, которые в этом заинтересованы.
Сергей АНУРЕЕВ. Разумеется, иначе упомянутое решение Европейской комиссии о наложении штрафа на Apple не было бы отменено.
Кое-что в этом вопросе высвечивает случай Олега Тинькова. Почему американцы вначале заявили о том, что будут первыми в борьбе с оффшорами, а потом как-то эту тему спустили на тормозах? В налоговом законодательстве США есть парочка интересных вещей, о которых мало кто помнит.
Во-первых, у них подоходный налог является налогом №1. У нас нефть и газ составляют до половины доходов федерального бюджета, а у них — подоходный налог с физических лиц по прогрессивной шкале.
Во-вторых, независимо от того, в какой стране проживает владелец американского паспорта, он обязан все налоги платить в США. Именно поэтому американское правительство оштрафовало Тинькова на огромную сумму за финансовую операцию, которую он провёл в Лондоне, проживая в России.
"ЗАВТРА". При этом имея американское гражданство…
Сергей АНУРЕЕВ. То есть для США ситуация с оффшорами разрешилась достаточно просто: они стали получать данные из оффшорных юрисдикций и облагать своих граждан по американским законам. То есть им нужна прежде всего информация: что и где делают их граждане.
"ЗАВТРА". То есть у них акцент на налогообложение не компаний, а именно физических лиц?
Сергей АНУРЕЕВ. Да, и поэтому тот же Сити-банк не страдает в рамках американского налогового законодательства, если юридическое лицо Сити-банка что-то "заваривает" с Нидерландами, Делавэром и т. д. А вот конкретные топ-менеджеры и акционеры Сити-банка, то есть физические лица, облагаются по полной программе.
А у нас действуют соглашения об избегании двойного налогообложения. И если российский бизнесмен половину времени находится за территорией РФ, реально или номинально, то он не являетесь налоговым резидентом РФ и может платить подоходный налог, где придётся.
Поэтому для США важна не сама борьба с оффшорами, а база данных по оффшорным юрисдикциям. И они эту базу получили.
Вы, кстати, давно последний раз открывали вклад в российском банке?
"ЗАВТРА". Довольно давно.
Сергей АНУРЕЕВ. Если вы сейчас пойдёте открывать вклад, то вас попросят подписать бумагу, что вы не являетесь резидентом США. То есть американцы заставили наши банки следить за тем, чтобы их граждане не хранили деньги в России. Они жёстко отслеживают по всему миру любые финансовые операции, они контролируют доллар, SWIFT и крупнейшие платёжные системы: MasterCard и Visa. Они знают про своих граждан практически всё.
"ЗАВТРА". Понятно, почему они не заинтересованы в борьбе с оффшорами.
Сергей АНУРЕЕВ. Им важно было решить свои проблемы, но так, чтобы другие страны продолжали мучиться с оффшорами.
А представляете, как завопят те, кто у нас любит поговорить об инвестиционном климате, если у нас появится такая же строчка в налоговом законодательстве, как в США? Мол, если вы имеете российский паспорт, извольте платить налоги в России, независимо от того, где вы фактически пребываете. Сколько всего сразу в прессе поднимется шум на тему, какой у нас плохой инвестиционный климат и какое у нас, вообще, государство плохое в плане налоговых изъятий?!
"ЗАВТРА". Получается, в США нет налогообложения юридических лиц? Налоги платят только физлица?
Сергей АНУРЕЕВ. Налогообложение юридических лиц есть, но, например, доля налога на прибыль в доходах бюджетной системы США — это процентов 10. Когда-то у них ставки налога на прибыль доходили до 50%, но сейчас они их снизили до 15-20%. И многие страны вынуждены соревноваться с США за так называемый инвестиционный климат. Наши оппозиционные политики любят говорить: "В России плохой инвестиционный климат, понижайте налоги!" Так вот, американцы понижают налоги на корпорации, делая упор на обложение физических лиц.
"ЗАВТРА". А как сделать так, чтобы физлицо заплатило налоги на прибыль, полученную компанией?
Сергей АНУРЕЕВ. Есть два классических способа: зарплата топ-менеджеров и дивиденды по акциям. В США дивиденды облагаются налогом в составе доходов физлица по прогрессивной шкале. И этим объясняется, почему американское правительство тратило огромные деньги на поддержку фондового рынка во время коронакризиса. Дело в том, что каждое физлицо подсчитывает свой общий котёл по налогам. Туда входит заработок, который оно получило как наёмный менеджер, доходы, например, от сдачи в аренду или продажи чего-либо, а также дивиденды и реализованные курсовые разницы по ценным бумагам, которыми оно владеет. Если физлицо получило убытки по своему инвестиционному портфелю, оно может нуллифицировать другие части своего подоходного налога за счёт этого убытка. И если бы все инвесторы показали убытки от падения американского рынка ценных бумаг на 25-28%, которое было в момент дна коронакризиса, то американский бюджет не досчитался бы огромнейших сумм подоходного налога. Поэтому в американском правительстве решили "спалить" 2 трлн. долларов на возврат фондовых индексов в докоронакризисное состояние и не дать американцам нуллифицировать налоги на 4 трлн. долларов.
"ЗАВТРА". А российские бизнесмены нуллифицуруют налог на прибыль в Нидерландах…
Сергей АНУРЕЕВ. Да, если акционером их компании является компания из Нидерландов, то налог на прибыль будет сильно отличаться от налога, если бы акционером была российская компания. Для этого к нам и заходит огромный объём иностранных инвестиций из оффшорных налоговых юрисдикций, чтобы говорить: "А у нас вот оттуда-то такие-то акционеры, и они там должны платить эти налоги".
"ЗАВТРА". Не могли бы вы привести конкретные примеры сделок в оффшорах?
Сергей АНУРЕЕВ. Не так давно в СМИ было опубликовано расследование о том, как газета "Ведомости" переходила от одних собственников к другим. Заголовок публикации характерен: "Демьян Кудрявцев заработал на сделках с изданием 14 миллионов евро". В этом расследовании утверждается, что смена собственников газеты происходила в кипрских оффшорах, и именно там прежние владельцы (а это не только Кудрявцев, но и такие респектабельные структуры, как "Уолл-стрит джорнэл" и "Файнэншл Таймс") получили эти 14 млн. евро, чтобы заплатить низкие налоги.
Ещё один пример — это бизнес крупнейших аудиторских компаний "большой четвёрки": Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG. Когда-то они были именно аудиторскими компаниями, то есть проверяли финансовую отчётность предприятий и выражали своё мнение о её достоверности. Под эту отчётность наши российские компании и банки привлекали деньги из-за рубежа. Но поскольку мы сейчас находимся под санкциями, у нас легальных западных денег практически нет — ведь здравомыслящий инвестор, понимая, что ему раз в квартал конкретно напоминают о санкциях, не будет у нас ничего размещать.
Поэтому аудиторские заключения сейчас особо никому не нужны. И какой же теперь главный бизнес в аудиторских компаниях "большой четвёрки", где самые большие зарплаты в этих компаниях, куда идут самые талантливые выпускники ведущих российских вузов? Это налоговое консультирование и трансфер-прайсинг. Трансфер-прайсинг означает, что компании в рамках некоей группы, вроде бы друг с другом не аффилированные, играют ценами контрактов, чтобы кто-то, где-то, что-то купил, как веники Березовского, а другой это что-то продал таким образом, чтобы деньги из мест с большой налоговой нагрузкой перешли в места с малой налоговой нагрузкой.
"ЗАВТРА". И какие меры должны быть приняты в связи со всем этим?
Сергей АНУРЕЕВ. Прежде хотелось бы сказать о том, как трудно тем людям, которые с этим борются. Мы говорили, что в 2000-х годах проблемой №1 была "обналичка". Так вот, когда с ней началась борьба, был убит первый зампред Банка России Андрей Андреевич Козлов, один из честнейших руководителей, который был в авангарде этой борьбы.
Далее. В разгар банковского кризиса в Исландии и на Кипре, в двух знаменитейших оффшорах, у неизвестных инвесторов зависли деньги. И в наших крупнейших деловых СМИ, одно из которых, например, находится в Москве у метро "Калужская", выходили заказные статьи против министра финансов Силуанова. А почему? А потому что Силуанов отказывался выдавать государственные деньги кипрским и исландским банкам, за счёт которых наши бизнесмены, которые туда "выкатили" деньги, получили бы их обратно. И СМИ открыто угрожали нашему министру финансов, что если он этого не сделает, то его уволят.
Очевидно, что когда у нас начнётся реальная борьба с оффшорами, руководители Банка России и Министерства финансов получат такие ушаты грязи, в которых разобраться, кто прав, кто виноват, будет очень трудно.
"ЗАВТРА". Может быть, для этого надо какую-то внятную информационную политику проводить пресс-службам этих ведомств? Ведь наши граждане безусловно поддержат борьбу с оффшорами.
Сергей АНУРЕЕВ. Согласен, но чтобы проводить такую кампанию в СМИ, нужно быть не только финансистом, но и талантливым журналистом. Людей, которые одновременно хорошо разбираются и в финансах, и в журналистике, крайне мало.
Теперь перейдём к вопросу, какие решения могут быть приняты. Можно пойти по американскому пути: независимо от местонахождения облагать всех российских граждан, причём даже бывших. Ведь Тинькова оштрафовали не за то, что у него есть сейчас американский паспорт, а за то, что он от него отказался, а при отказе… Знаете, как в Египте для туристов: залезть на верблюда стоит доллар, а слезть с верблюда стоит 5 долларов. Тиньков, наверное, заплатил немало денег, чтобы получить американский паспорт, но чтобы слезть с верблюда, ему пришлось заплатить ещё больше.
И у нас надо сделать так: если какой-то бизнесмен, который заработал деньги в России, вдруг захотел стать резидентом другой страны, то должен заплатить всё полностью. Это первое решение. Второе решение — сделать оффшоры нон-грата, то есть любая операция с оффшорами (неважно, кипрскими, нидерландскими или ещё какими) должна быть табу. Оффшорный контрагент не должен иметь доступа ни к кредиту в госбанке, ни к господдержке, ни к заказам, финансируемым из госбюджета, ни к подрядам Газпрома и других госкорпораций.
"ЗАВТРА". А как это можно сделать?
Сергей АНУРЕЕВ. Подобные решения были реализованы Банком России, когда он боролся с "однодневками", использовавшимися для того, чтобы "рисовать" банковскихе капиталы.
Когда нас обвиняют в плохом инвестиционном климате, говорят, что слишком много отзывов лицензий, много банков закрыто, надо понимать, что многие банки закрывались потому, что они использовались для нечистоплотных схем, связанных с оффшорами. Банк России наработал обширную методологию, как бороться с цепочками сомнительных транзакций и выявлять фиктивные фирмы в этих цепочках. Методология есть, специалисты есть, и если будет на то политическое решение, подкреплённое гарантиями личной безопасности конкретных людей, то всё это можно сделать за квартал.
Похожая ситуация была, когда у нас вводилось законодательство о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Тогда тоже было много стонов со стороны бизнесменов о том, что всё плохо, инвестиционный климат ущемляется. Но меры были приняты, и Росфинмониторинг очень много чего знает про наших бизнесменов. Проблема была в значительной степени решена.
Был ещё один пример стремительного решения налогового вопроса в пользу государства. В начале 2000-х годов через Мост-банк Гусинского проходило много налоговых платежей, и в том банке считали, что этим они защищены от любых претензий правительства, поскольку быстро перенаправить налоговые поступления в Банк России не получится по причине использования налоговых реквизитов Мост-банка сотнями тысяч налогоплательщиков. Но специалисты Банка России решили эту проблему за один вечер, просто дописав программный код, который перенаправил платежи с реквизитами Мост-банка на счета казначейства в Банке России. Утром руководители и собственники Мост-банка пришли на работу и выяснили, что они больше не могут шантажировать правительство.
Эти практики можно использовать и в борьбе с оффшорами. Но сразу возникают вопросы: а как нам быть с боингом в Нидерландах? А с Сити-банком? То есть когда мы принимаем такое решение, мы должны понимать, что от нас уйдёт Сити-банк. И уйдёт, разумеется, с оркестром и песнями на тему, какой у нас, дескать, плохой инвестиционный климат. У нас будет не один боинг, нас обвинят ещё во множестве грехов. Потому что, к сожалению, это не только наша проблематика, очень большие структуры на этом зарабатывают. Надо быть готовыми к потокам негативных публикаций в СМИ про конкретных людей, которые в нашей стране будут этим заниматься, и про Россию в целом.
Поэтому технически побороться с оффшорами — нужно три месяца, и проблема будет закрыта. А вот политически, и самое главное, с точки зрения пиара, с точки зрения объяснения через журналистов, зачем это нужно и как это делается, — это намного сложнее. То есть данная проблема не финансистов, которые знают, как это сделать, а проблема, в первую очередь, политиков и журналистов, в том числе оппозиционных политиков и журналистов, которые выстроятся первыми с криками об ухудшении инвестиционного климата и прочих "ужасах режима".
"ЗАВТРА". Недавно в прессе сообщалось о выработке с Кипром нового соглашения об избегании двойного налогообложения, которое может стать модельным для других стран. Насколько это соглашение решает проблему офшоров?
Сергей АНУРЕЕВ. Первоначально со стороны России заявлялось о прекращении действия этого соглашения, однако, к сожалению, в результате переговоров соглашение было сохранено, хотя в нём и были подняты ставки некоторых налогов, но с исключениями и льготами для эмитентов акций и облигаций и финансовых организаций. С таким перечнем исключений и льгот вряд ли российский федеральный бюджет получит до 150 млрд. руб. в год, как на то рассчитывает Минфин.
В обсуждении этих изменений и комментариях в прессе "первую скрипку" играли специалисты по налоговому планированию компаний "большой четвёрки", а не представители добросовестных налогоплательщиков, у которых нет оффшорных связей, или бюджетополучателей, опасающихся урезания бюджетных расходов.
Посмотрим через год, когда станет доступна статистика за первое полугодие 2021 года, как обновлённое соглашение повлияет на российский платёжный баланс. Но, несмотря на все недостатки, это всё же первый шаг в нужном направлении, пусть и очень маленький.
"ЗАВТРА". В кипрском обновлённом договоре основной упор делается на проценты и дивиденды. Достаточно ли внимания только к этим двум видам операций?
Сергей АНУРЕЕВ. Лжекредиты и лжеинвестиции являются значимыми инструментами ухода от налогов, но далеко не единственными. Мы с вами в начале беседы говорили о минимальном (всего на 5%) падении импорта на фоне коронакризиса, при том, что производство и потребление падало во время самоизоляции на 10-30%, говорили об огромном экспорте в Нидерланды. Но проблематика лжеимпорта и манипуляций с ценами экспортных контрактов публично обсуждается крайне редко, а по этим схемам в оффшоры уходят гораздо большие суммы по сравнению с лжеинвестициями. Разве что по молочной продукции, винам, обуви и шубам, по этикеткам и маркировке этих продуктов принимаются очевидные шаги по ограничению импорта материалов с целью налоговой оптимизации.
Скорее всего, и по этим вопросам нас ждёт долгий путь к полноценному решению.
"ЗАВТРА". Будем надеяться, что будут и политическая воля, и какие-то усилия журналистского сообщества.
Сергей АНУРЕЕВ. Это необходимо, ведь, к сожалению, сейчас не последний финансовый кризис. Мы можем спокойно сводить наш платёжный баланс и не допускать бюджетного дефицита при низкой цене на нефть. Наша проблема сейчас — не дешёвая нефть, а оффшоры со всем комплексом иностранных лжеинвестиций, лжеимпорта и лжеэкспорта.
Беседовала Елизавета Пашкова

ИДЕАЛЬНЫЙ ТИП ПРАВЛЕНИЯ?
ЯО ЯН
Глава Китайского центра экономических исследований (CCER), декан Института государственного развития Пекинского университета (NSD).
КИТАЙ И КОНФУЦИАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО
Коронавирус приобрёл масштабы глобальной пандемии, и политическая система Китая превратилась в актуальную тему для крупнейших западных газет и социальных медиа. Первоначальные медленные шаги китайского правительства по распознанию вируса в Ухане были восприняты как доказательство того, что авторитарный режим склонен скрывать неприятные для себя новости, а принятые впоследствии строгие карантинные меры – как свидетельство жёсткости такого режима.
Как житель Пекина я сам лично сталкивался с этими суровыми карантинными мероприятиями. Однако в этой статье я не намерен рассуждать об их плюсах и минусах. В конечном счёте полностью оценить их возможно только после того, как пандемия закончится.
Вместо этого я сделаю шаг в сторону и предложу свою интерпретацию политической системы Китая. В частности, приведу сравнение с конфуцианским государством, идеальным типом правления, построенным на конфуцианских учениях, которые, несмотря на их различия с либеральными идеями, согласуются с многовековыми традициями Китая, а также с психологическими предрасположенностями простых китайцев. Надеюсь, это сравнение поможет Западу более здраво судить о политической системе Китая, и, сделав более смелый шаг, предположу, что оно позволит Западу лучше понять сильные и слабые стороны самой либеральной демократии.
Конфуцианский мир
Демократические режимы, практикуемые во всём мире, построены на представлении об идеальном типе правления, а именно – на либеральной демократии, которая восходит к теориям общественного договора Томаса Гоббса и Джона Локка. Гоббс начал с так называемого «естественного состояния», в котором каждый человек наделен набором естественных прав, наиболее неотчуждаемым среди которых является право на самозащиту. Но каждый человек также склонен стремиться к эгоистичному обладанию бóльшим, поэтому естественное состояние становится миром, в котором человек человеку волк. Чтобы добиться мира, люди заключают общественный договор о передаче части своих естественных прав всемогущему правительству – Левиафану.
Локк подверг концепцию «естественного состояния» Гоббса пересмотру, возложив обязанность исполнения естественных законов на каждого человека. Эти законы позволяют индивидам владеть собственностью, но также ограничивают её: индивиды не могут обладать чем-то бóльшим, чем требуется для их существования. Единственная проблема этой концепции состоит в том, что вы не можете быть уверены, что другие люди будут следовать естественным законам. В результате они формируют общество, становясь его гражданами и совместно договариваясь о создании правительства под их контролем. Автократия, к которой Гоббс, к слову, относился терпимо, исключается, поскольку она хуже анархии в естественном состоянии. Для Локка мысль о таком правительстве больше похожа на желание быть съеденным львом, чем быть потревоженным козами. Таким образом, либеральная демократия – есть не что иное, как гуманным образом сконструированный общественный договор, участниками которого являются эгоистичные индивиды.
Конфуцианское государство имеет иную отправную точку. Согласно Конфуцию (551–479 до н.э.), люди рождаются наделёнными разной природой. Некоторые из них умны, а некоторые глупы. Самых умных и самых глупых изменить невозможно, но тех, кто между ними, можно изменить путём обучения и практики. В результате общество состоит из двух больших социальных категорий: благородных мужей (цзюньцзы) и мелких людей, или обывателей (сяожэнь). Благородный муж заботится о вещах, выходящих за рамки его собственного благополучия, а мелкий человек печётся только о себе. Итак, Конфуций считал, что человеческая природа – это сложная комбинация личных характеристик, варьирующихся от приоритета личных интересов до благородных целей. Это убеждение согласуется с научными наблюдениями над двумя близкими родственниками homo sapiens, шимпанзе и бонобо, о чём свидетельствуют яркие истории, рассказанные нидерландским биологом Франсом де Ваалем в его знаменитой книге «Политика шимпанзе». Но это согласуется и с тем, что мы наблюдаем в нашей повседневной жизни. Для Конфуция человеческая природа – это обобщение наблюдений за человеком, а она сложна и комплексна. Для Гоббса и Локка человеческая природа является неким социальным конструктом и определяется исключительно индивидуальной рациональностью. Каковы последствия этого различия? Они намного больше, чем могут показаться.
Конфуцианское государство против либеральной демократии
Начнём с фундаментального различия двух философий: либеральная демократия предполагает, что все люди созданы равными, в учении же о конфуцианском государстве такой посылки нет. Конфуцианское отрицание должно звучать тревожно для многих людей.
Но утверждение «люди созданы равными» – это нормативная оценка, а не позитивное описание реальности.
Конфуцианство в этом смысле признаёт только реальность. Однако это не означает, что конфуцианец обязательно отрицает стремление к равенству. На самом деле многие современные конфуцианцы яростно защищают равенство и личную свободу. Конфуцианство в этом смысле является своего рода позитивным реализмом – признаёт, что мир несовершенен, но обещает сделать его лучше.
Во-вторых, общество должно быть организовано в виде иерархии, требующей соответствующей квалификации. Этой идеи придерживаются не только конфуцианцы. У отцов-основателей Соединённых Штатов имелись схожие соображения. В знаменитых «Записках Федералиста» Александр Гамильтон прямо утверждал, что президентство не предназначено для человека, не обладающего необходимыми качествами, и американская Конституция наделила правом избирать президента за коллегию выборщиков, которая, как предполагалось, должна была состоять из представителей элиты, выдвинутых местными сообществами. Современный конфуцианский философ Дэниел Белл проводит различие между хорошими и плохими иерархическими системами. Дурные иерархии, такие как кастовая система, цементируют социальное разделение и являются угнетающими по своей природе; хорошие же допускают восходящую мобильность и поощряют людей к самосовершенствованию. Признавая, что люди рождаются разными, конфуцианцы поощряют людей к самосовершенствованию путём самоограничения и самообучения. К слову, благодаря государственной экзаменационной системе (кэцзюй) исторический Китай был одним из древних обществ с самой высокой степенью восходящей мобильности.
В-третьих, критерием отбора лидеров является квалификация, а не политические платформы или политические программы. Для конфуцианца конечной целью лидера является достижение добродетельного правления, или жэнь. Причём это не зависит от его ответственности перед народом и подотчётности ему, как того требует либеральная демократия. Это скорее связано с его собственными качествами добродетельного правителя.
О добродетельном правителе
Как стать добродетельным правителем? Достижение столь высокого статуса происходит через обучение. С тех пор как император У-ди (156–87 до н.э., седьмой император династии Хань) принял конфуцианство в качестве государственной идеологии, каждый китайский император всю свою жизнь изучал конфуцианство. В молодости к нему был приставлен конфуцианский учитель, и после того, как он вступил на царство, ему приходилось регулярно посещать занятия (цзинъянь) по указанию конфуцианских учителей. Это требование предъявлялось не одному лишь императору – чиновники в его правительстве также должны были совершенствоваться, изучая конфуцианство. Система государственных экзаменов, или кэцзюй, была создана для того, чтобы открывать таланты среди молодёжи. До династии Мин (1368–1644) правительство возглавляли премьер-министры. По мнению конфуцианского учёного из династии Сун, премьер-министра следует судить по тому, насколько хорошо ему удаётся поддерживать мир в стране, а императора – по тому, насколько хорошо он учился конфуцианской мудрости.
Таким образом, в конфуцианском мире заслуги являются основой всего. Китайцы давно поняли, что они должны полагаться на себя, а не на правительство, чтобы улучшить свою жизнь.
Вот почему Джек Ма (Ма Юнь) и Пони Ма (Ма Хуатэн), два самых богатых человека в сегодняшнем Китае, – кумиры молодёжи. Китай, к слову, далеко не такое коллективистское общество, как долгое время полагали сами же китайцы или иностранцы. Люди делегируют всю общественную сферу власти и подчиняются ей. Именно это создает образ китайцев как более коллективистской нации по сравнению с западными обществами. Но власти, в свою очередь, должны играть активную роль в общественной сфере, чтобы совершенствовать общее благосостояние. Ответственность, а не подотчётность, является движущей силой власти в Китае.
Рекрутирование политического персонала
В конфуцианском мире государством управляют чиновники, избранные на основе их добродетелей и профессиональных способностей. Кто же в таком случае уполномочен их выбирать? В условиях демократии это делается путём всенародного голосования. В основе – предположение, что необходимая коллективная мудрость может быть достигнута с помощью объединения голосов граждан. Гамильтон отверг это предположение на том основании, что избиратели легко поддаются влиянию политиков-оппортунистов. Конфуцианство отвергает подобное предположение на аналогичной основе: люди на своём пути к добродетели имеют разный уровень достижений, а значит, некоторые из них более способны выносить правильные суждения, чем другие. Поэтому задача подбора чиновников должна быть возложена на людей, которые сами обладают высоким уровнем добродетели и способностей. В Древнем Китае такую задачу брали на себя высокопоставленные чиновники и сам император. Сегодня её выполняет Коммунистическая партия Китая (КПК). То есть конфуцианское государство требует, чтобы центральная власть брала на себя полномочия по отбору государственных чиновников.
Разумеется, такая централизованная система отбора – обоюдоострый меч. Самое существенное её преимущество состоит в том, что она ограждает чиновников от народных требований, которые нередко могут оказаться недальновидными. В такой большой стране, как Китай, это также даёт центру мощный инструмент для контроля над местными чиновниками. Со времени, когда император Цинь Шихуанди (259–210 гг. до н.э.) впервые объединил государство, центральному правительству пришлось предоставить власти на местах значительную степень автономии. Чтобы помешать местным чиновникам «закрепляться» в своих вотчинах, то есть создавать там собственные политические опоры, центр каждые несколько лет переводил их в другую местность. Эта практика сохранилась до наших дней. Держа их нахождение на должностях в своих руках, центр способен эффективно контролировать местных чиновников. Но такая концентрация власти не может не иметь и разрушительных последствий. В ситуации, когда каждый чиновник ждёт приказа сверху, система легко становится жёсткой и неподвижной. Кроме того, дорога к вершине так длинна, что после многих раундов отбора чиновники выглядят в конце почти одинаково. И хотя это повышает компетенцию чиновников, давая им качественную подготовку на пути к вершине, система может упустить яркие таланты, находящиеся вне её, – людей, умеющих решать определённые проблемы, с которыми сталкивается страна.
Наиболее серьёзным изъяном конфуцианского государства является отсутствие подотчётности центральной власти.
Контроль над властью – неотъемлемый элемент либеральной демократии. Можно ли развить этот элемент на основе теории конфуцианского государства? Есть два аргумента в пользу положительного ответа. Во-первых, конечной целью конфуцианского государства является осуществление жэнь, или добродетельного правления. Таким образом, правитель (центральная власть) должен быть готов дать окончательное суждение о своей политике народу, поскольку он верит: то, что он делает, хорошо для народа. Во-вторых, правитель не может развеять подозрения людей одними лишь устными обещаниями. Благодаря разделению власти с народом правитель и народ получают взаимные гарантии: люди убеждаются, что правитель хочет вести добродетельное правление, а правитель предполагает, что народ не свергнет его. Поэтому конфуцианское государство в своей современной форме должно возложить суверенитет на народ.
Эффективность политической системы Китая сегодня
Вспомним, что экономический успех Китая с 1978 г. стал возможен благодаря тому, что КПК вернулась к китайской традиции, в которой конфуцианское государство занимает центральное место. В чисто экономических терминах успех Китая можно объяснить принятием неоклассических экономических учений: крупные сбережения, накопление капитала и развитие человеческого капитала. Однако для экономиста, изучающего политическую экономию, более интересным вопросом является то, почему китайское правительство и КПК смогли принять и адаптировать эти учения.
Стоит напомнить, что до 1978 г. КПК была занята классовой борьбой, идею которой Карл Маркс выразил как необходимый шаг к построению бесклассового общества. КПК была создана в 1921 г. в результате распространения марксизма в Китае. На протяжении всей истории вплоть до 1978 г. партия выступала против китайской традиции, которую считала реакционной и отсталой. В 1978 г. Дэн Сяопин прекратил классовую борьбу и, повинуясь инстинкту прагматичного китайца, переориентировал партию на национальную политическую традицию. Под его руководством партия подверглась «китаизации».
Два наиболее важных изменения
Одно из них – замена марксистских догм китайской философией прагматизма. В Китае нет самобытных религий. Именно светская жизнь издавна являлась средоточием китайской цивилизации. Радость, любовь, тоска, страдание – все жизненные переживания человека были постоянными сюжетами в поэзии, народных песнях. Таким образом, китайская нация формировалась на основе приземлённого прагматизма.
Что касается современной его формы, то есть две отличительные черты. Одна из них заключается в том, что в китайском сознании отсутствует представление о постоянной, непреходящей истине, а значит, каждое притязание на истину должно быть проверено практически. Без этой идеи немыслимо, чтобы КПК могла осуществить все реформы, которые шли вразрез с ортодоксальной марксистской практикой, в основном созданной и продвигаемой Советским Союзом. Другая особенность заключается в том, что легитимность средств достижения какого-либо результата может быть обоснована желательностью этого результата. По словам Дэна Сяопина, «не имеет значения, белая кошка или чёрная; это хорошая кошка, пока она ловит мышей». Для него «мыши» были великим возрождением Китая, а «кошка» – любым средством, способствующим достижению этой цели. Например, поскольку рынок может распределять ресурсы более эффективно, чем планирование, Китай должен принять его, хотя это изобретение капиталистической системы.
Другая задача заключалась в том, чтобы вновь ввести в партии политическую меритократию. Дэн установил возрастной предел для выхода на пенсию и расчистил молодым людям путь для продвижения по партийной иерархии. В начале 1980-х гг. он предложил четыре критерия для того, чтобы делать карьеру в партии. Лидеры должны быть революционными, молодыми, знающими и профессиональными. Одним из самых больших продвижений в то время было назначение Чжао Цзыяна на пост премьера. До повышения Чжао был всего лишь секретарём партийной организации провинции Сычуань. Премьером его сделали только потому, что он возглавил реформу в сельском хозяйстве. Эта традиция продвижения по службе, основанного на заслугах, продолжилась и при руководителях после Дэна. В 1990-е и последующие годы важным условием карьерного роста являлись экономические показатели.
Однако на теоретическом фронте изменения происходили медленнее. Партийные лидеры в 1980-е и 1990-е гг. всё больше понимали, что марксизм сам по себе не может полностью описать то, что сделала партия, особенно проведённые реформы, которые противоречили догматическим марксистским практикам, таким, как экономическое планирование и государственная собственность. Но на бумаге марксизм должен был оставаться ортодоксальной идеологией, потому что он определял идеологическую легитимность партии. Что сделало руководство? Оно по сути облачило в новые одежды идеологию марксизма, определив статус партии как «всенародной». Теперь КПК представляет не только рабочий класс, но и другие слои населения Китая. Таким образом, партия превратилась в беспристрастную центральную власть, которая не защищает интересы отдельных социальных групп.
Это позволило КПК избежать подчинения государства частным интересам – бич политики многих развивающихся стран.
А китайская экономика способна расти, не неся больших потерь от нерационального распределения ресурсов в пользу каких-то групп. Именно в этом заключается суть политэкономии, стоящей за экономическим успехом Китая.
Почему международный дискурс о Китае так упрощён
В доминирующем дискурсе на мировой арене Китай изображается как система политической и экономической изоляции и жёсткого государственного контроля над всем. Принято считать, что китайская модель диаметрально противоположна западной системе свободного рынка и демократического правления. Однако это слишком упрощённая и вводящая в заблуждение характеристика.
Во-первых, КПК не является закрытым политическим образованием. Она открыта для всех, кто верит в правое дело партии, а также способен внести вклад в великое возрождение Китая. Вступление в партию предполагает соблюдение некой дисциплины, но эта мера позволяет отсеивать оппортунистов. КПК играет роль центральной власти в конфуцианском государстве, например, занимаясь тщательным отбором чиновничьего аппарата. Чиновники всех уровней участвуют в общем состязании по служебному продвижению. Хотя личные связи играют определённую роль, эмпирические исследования показали, что заслуги – ключевой фактор, определяющий карьерный рост. Сложившееся впечатление, что политическая система закрыта, в значительной степени было результатом видения Китая через призму состязательной демократии – нет никакой другой партии, конкурирующей с КПК, значит, система закрыта. КПК не является политической партией западного образца; она есть не что иное, как центральная власть в конфуцианском государстве.
Во-вторых, в китайской экономике не доминирует государственный сектор. В Китае вклад частного сектора удобно обобщить цифрами «5-6-7-8-9»: на частный сектор приходится 50% налоговых поступлений, 60% национального ВВП, 70% инноваций, 80% занятости и более 90% компаний. Ключом к экономическому успеху Китая является не государственный капитализм, а расширение частного сектора. Государственный капитализм сам по себе – миф. Правительство, действительно, влияет на рынок, но разговоры о том, что оно контролирует всё в китайской экономике, являются притягиванием выводов за уши. Серьёзные исследователи должны понимать, что называть экономическую модель Китая государственным капитализмом – значит, дискредитировать экономические достижения КНР.
В-третьих, контроль партии в общественной сфере также преувеличен. Несомненно, в стране существует цензура, но режим определённо далёк от того, как Джордж Оруэлл изображает диктатуру в своём романе-антиутопии «1984». Возьмём, к примеру, систему социальных кредитов. Большинство западных комментаторов видят в этом доказательство насаждаемого китайским правительством цифровой диктатуры. Такая точка зрения упускает из виду тот факт, что мошенничество является серьёзной угрозой для достойного бизнеса и повседневной жизни в Китае, стране, которая переживает быстрый переход от традиционного общества, где все знают друг друга, к современному обществу посторонних людей. Система социального кредита направлена на наказание за мошенничество и поощрение честности. Она, действительно, создаёт неудобства для честных людей, но, возможно, представляет собой неизбежную цену для быстрого перехода Китая к современному обществу, основанному на соответствующих нормах.
Карантинные меры, принятые в КНР для борьбы с коронавирусом, также приводились западными комментаторами и социальными медиа в качестве доказательства деспотизма. Более того, некоторые даже настаивали на том, чтобы не вводить карантинные меры в своих собственных странах именно потому, что они не хотели следовать авторитарному подходу Китая. Но этот аргумент упускает тот факт, что другие страны и регионы Восточной Азии также ввели либо жёсткие карантинные меры, либо цифровое отслеживание для сдерживания инфекций. Восточная Азия сделала это не потому, что она следует политической системе Китая, а скорее потому, что страны и регионы там разделяют одну и ту же коллективную культуру.
Элементы сдержек и противовесов для китайской системы
Безусловно, политическая система Китая несовершенна, даже если сравнивать её с конфуцианским государством. Но это не должно удивлять. В конце концов, не всякая демократия, практикуемая на Земле, соответствует стандартам, установленным её идеальным типом – либеральной демократией. Каждая политическая система совершенствуется.
Фундаментальное отличие политической системы КНР от идеального конфуцианского государства заключается в отсутствии подотчётности центральной власти. Однако восполнять данный пробел предвыборной конкуренцией, вероятно, не самая правильная рекомендация. Вместо этого необходимо ввести сдержки и противовесы. Суть конституционного правления состоит в разделении власти, а также в формировании системы сдержек и противовесов, формирующихся на её основе. Но это уникальная характеристика либеральной демократии. Любому разумному государственному устройству требуется разделение власти – иначе невозможно осуществлять рациональное правление в современном обществе, отличающемся комплексностью взаимосвязей. К сожалению, сдержки и противовесы, которые сами по себе являются методом управления, стали настолько идеологически нагруженными как на Западе, так и на Востоке, что достойное обсуждение их невозможно без предварительного обращения к оценке политической системы.
Вероятно ли создание сдержек и противовесов в Китае при условии, что КПК является единственной политической силой в обществе? В этом отношении показательным примером может служить присяга императоров династии Северной Сун (960–1127). Первый император династии тайно установил каменную табличку, на которой была написана клятва, требовавшая от будущих императоров не убивать чиновников или людей, которые их критиковали. Каждый новый император должен был читать клятву наедине сам с собой. Никто из императоров династии её не нарушал. Самоограничение могло привести к заключению прочного соглашения между двумя сторонами, обладающими асимметричной властью. За этой договорённостью стояла общая вера в конфуцианские доктрины. КПК нацелена на великое возрождение Китая – дело, разделяемое китайским народом. Поэтому два аргумента в пользу присвоения суверенитета народу конфуцианского государства применимы и к нынешней политической системе Китая.
КПК должна довести до конца политику «китаизации»
Существует множество различных причин, почему система сдержек и противовесов не внедрена в Китае полностью. Однако наиболее существенной является отсутствие консенсуса по поводу конфуцианского государства как идеального типа управления страной. Партия не готова довести до конца свой курс на «китаизацию», а в обществе господствует демократический нарратив. В результате китайская политика переживает двойное напряжение: с одной стороны – озабоченность общественности, особенно интеллектуалов, которые живут тревожной надеждой на переход Китая к демократии, с другой – обеспокоенность самого правительства, которое начинает тревожиться о своей власти. Последнее, в свою очередь, порождает стремление к цензуре.
Чтобы разрушить это заклятие обоюдного недоверия, КПК должна взять инициативу на себя.
Успешное завершение «китаизации» – единственный выход. Марксизм не объясняет, что партия сделала правильно после 1978 г., и не примиряет её с мировоззрением китайского народа.
Признав конфуцианское государство идеальным типом правления, политическая система Китая заложила бы прочную философскую основу, которая соответствует культурно-психологическим особенностям простых китайцев. Кроме того, это поможет КПК, когда она будет иметь дело с Западом. Либерализм, конечно, подразумевает высокие человеческие ценности, но не лишён недостатков, особенно в областях, связанных с индивидуализмом и абстрактным равенством, которые служат рассадником популизма. Конфуцианство предлагает лекарство именно в этих областях. Кроме того, идея срединности (чжун юн) – то есть мирного сосуществования на политической арене — позволяет конфуцианству принять многие либеральные ценности. Это также благоприятствует политике Китая по отстаиванию политического разнообразия в мире.
Материал опубликован на сайте Robert Bosch Academy.

ПОЛИТИКА ЕВРОПЫ В ОТНОШЕНИИ ПАНДЕМИИ: КАК ВИРУС ИЗМЕНИЛ МИРОВОЗЗРЕНИЕ
ИВАН КРАСТЕВ, Председатель Центра либеральных стратегий (г. София), ведущий научный сотрудник Института наук о человеке (г. Вена).
МАРК ЛЕОНАРД, Один из основателей и директор Европейского совета по международным отношениям (ЕСМО).
В разгар пандемии COVID-19 мы слышали рассуждения о том, что в кризис общество снова поддержит идею усиления государства, возродится вера в экспертное сообщество, и возобладают проевропейские и одновременно антиевропейские настроения. Всё это оказалось иллюзиями, согласно новому исследованию.
Вместо этого кризис произвёл революцию в умах граждан, изменив их восприятие мирового порядка и смешав в одну кучу национализм и глобализм. Одна группа, исповедующая философию «Сделай сам», видит возвращение мира, каким он был в XIX веке, где каждая страна была сама за себя. Рыцари новой холодной войны слышат отголоски ХХ столетия и с надеждой смотрят на Америку Трампа, которая защитит их от Китая. Поборники стратегического суверенитета предвидят мир военных блоков и региональных союзов в XXI веке.
Эта последняя самая многочисленная группа олицетворяет собой новый тип сторонников единой Европы. Эти люди считают, что Европе придётся отстаивать свой суверенитет посредством совместно проводимой внешней политики, контроля над внешними границами и репатриации производственных мощностей. В этом они видят новые возможности для сотрудничества в Европе. Но лидерам континента необходимо быть осторожными при изложении своей аргументации, чтобы не провоцировать гневную отповедь со стороны евроскептиков.
Мы живём не в момент «гамильтоновского» протофедерализма, а скорее в «милвордских реалиях» сильных национальных государств, ищущих защиты в опасном мире.
Предисловие
Кризис, вызванный COVID—19 – возможно, величайший социальный эксперимент в нашей жизни. Мы не знаем, когда или как он закончится. Пока ещё слишком рано предсказывать, насколько радикально он изменит взгляд европейцев на общество. Однако мы уже видим, что пандемия изменила отношение европейцев к миру за пределами Европы и, как следствие, к роли Европейского cоюза в своей жизни.
На ранних этапах кризиса политика была заморожена, а общественное мнение ушло на задний план, тогда как на первый вышли действия правительств. Граждан отправили в бессрочную ссылку в собственных домах, и многие были охвачены страхом перед неопределённостью. Правительства действовали быстро, вводя чрезвычайные меры, чтобы остановить распространение болезни, поддержать систему здравоохранения, спасти рабочие места и предприятия от краха. На следующем этапе кризиса, когда правительства собирают колоссальные деньги, чтобы профинансировать восстановление экономики, им придётся принимать в расчёт и политику. Недостаточно разработать верный курс: правительствам и лидерам стран ЕС нужно будет также найти правильные слова, руководящие принципы и методы, чтобы добиться поддержки общества. Чтобы это сделать, им нужно понять, как пандемия повлияла на страхи и ожидания общества.
Европейский совет по международным отношениям (ЕСМО) инициировал опрос более 11 тыс. граждан в девяти странах Европы – Болгарии, Дании, Франции, Германии, Италии, Польше, Португалии, Испании и Швеции, на которые приходится две трети населения и ВВП ЕС. Опрос проводился в тот момент, когда большинство стран-членов начали вновь открывать свои экономики и когда восстановление экономики вытеснило здравоохранение в качестве главного пункта политической повестки дня. Итоги опроса бросают тень сомнения на те первые уроки, которые извлекли из кризиса политические обозреватели. Согласно общепринятому мнению, COVID-19 резко усилил общественную поддержку более весомой роли государства, которое должно получить новые полномочия; эпидемия восстановила доверие к экспертам и их роли и одновременно укрепила позиции евроскептиков и европейских федералистов. Однако то, что мы выявили в ходе исследования, ставит под сомнение все эти три предпосылки, демонстрируя их иллюзорность и обманчивость. Если европейские правительства будут придерживаться этих неверных предпосылок, они рискуют действовать наперекор преобладающему общественному мнению, планируя восстановление экономики.
До кризиса на континенте наблюдалась расширяющаяся пропасть между проевропейскими космополитами и националистами-евроскептиками. В начале пандемии президент Франции Эммануэль Макрон предупреждал, что вирус способен изменить баланс между этими двумя лагерями в Европе, укрепив позиции националистов. Через несколько недель после начала кризиса сформировалось новое преобладающее мнение о том, что на самом деле в рамках европейской интеграции зарождается движение федерализма. Наверное, замешательство в период неопределённости объяснимо: опрос, проведённый ЕСМО, показывает, что вирус в действительности стёр различия между двумя лагерями, не дав преимуществ ни тем, ни другим.
С одной стороны, многие националисты, похоже, осознали, что европейское сотрудничество – единственный способ сохранить актуальность национальных государств. С другой стороны, многие космополиты убедились в том, что в мире, зажатом между Китаем Си Цзиньпина и Америкой Дональда Трампа, главная надежда Европы на сохранение своих ценностей кроется в упрочении собственного «стратегического суверенитета», а не в уповании на глобальные многосторонние организации. Эти новые настроения создают удивительно много места и возможностей для возрождения европейского проекта. Но если члены правящей элиты Европы не расстанутся со своими иллюзиями о том, что происходит, они рискуют упустить этот уникальный шанс.
Первая иллюзия: кризис породил новый консенсус в Европе, убедив большую часть общественности, что государство должно играть более заметную роль
Возвращение «большого правительства» – непреложный факт. Однако во многих странах оно вернулось не потому, что на это возник спрос в обществе, а потому что элиты присвоили себе новые полномочия для борьбы с пандемией. Наш опрос показывает, что число людей, утративших веру в способность государства действовать, превышает число тех, кто заинтересован в более активных интервенциях государства в период кризиса. Мы спросили у респондентов, как изменилась их уверенность в дееспособности правительств в целом и как они оценивают действия своих национальных правительств во время кризиса. Во всех девяти странах Евросоюза лишь 29% заявляют, что стали больше доверять государству, но в то же самое время большинство респондентов полагают, что их правительства хорошо проявили себя во время кризиса. Вместе с тем, 33% опрошенных утратили веру в силу государства и имеют смутное представление о том, как их правительства себя проявили во время кризиса.
Хотя общественность европейских стран готова согласиться с возвращением функции управления и владения значительной частью экономики государству, наши данные говорят о том, что это не сопровождается волной энтузиазма по типу того, какой наблюдался во многих странах в 1920-е и 1940-е гг., когда правительства национализировали крупные отрасли промышленности. Сегодня граждане, похоже, видят в государстве не столько движущую силу прогресса, сколько страховочный механизм или склад ненужных работников, медицинских масок, лекарств и продовольствия, того, что может понадобиться во время следующего кризиса. Конечно, эта обобщённая статистика маскирует огромные расхождения между странами – членами ЕС. На одном полюсе находится Дания, где 60% избирателей обрели в государство и его возможности большую веру, чем прежде, и все эти люди полагают, что их правительство хорошо справилось с возложенными на него задачами. На другом полюсе находится Франция, где у 61% опрошенных уменьшилось доверие государству как таковому, и эти люди дают негативную оценку действиям своего правительства во время кризиса.
Более подробное изучение статистики показывает, что положительный взгляд на действия правительства и властей во многом зависит от того, как граждане голосуют. Сторонники находящихся у власти партий чаще всего верят в силу и способность властей справиться с ситуацией и считают, что их правительство качественно выполняет свою работу, что неудивительно. С другой стороны, сторонники оппозиционных партий в большинстве считают работу правительств неудовлетворительной и всё меньше верят в силу государства. Швеция в этом отношении не похожа на другие страны: там сторонники некоторых оппозиционных партий также полагают, что правительство хорошо выполняет свою работу. Это можно объяснить национальной гордостью. Шведы, независимо от партийной принадлежности или политических взглядов, одобрительно отзываются о шведской исключительности во время пандемии, хотя высокий уровень поддержки вполне мог уже снизиться с тех пор, как был проведён наш опрос. Дебаты в Швеции становятся всё более жаркими по мере того, как число погибших от коронавируса начинает существенно превышать аналогичную статистику в соседних странах, где был введён полноценный карантин.
Когда речь заходит о поддержке партий, похоже, что кризис усилил существовавшие тенденции, но принципиально не изменил политику. Проведённый нами опрос о поддержке партий показывает, что COVID-19 принципиально не изменил баланс между партиями – старожилами политической сцены и бросающими им вызов популистами. Когда избиратели-популисты меняют свой выбор, они склонны отдавать свои голоса другой популистской партии. То же самое делают и сторонники основных партий, меняя одну старую партию на другую. Следовательно, в целом коронавирусный кризис не стал причиной политического раскола по новым линиям и не расчистил путь для выхода на сцену новых политических сил; он также принципиально не изменил отношение избирателей к роли государства.
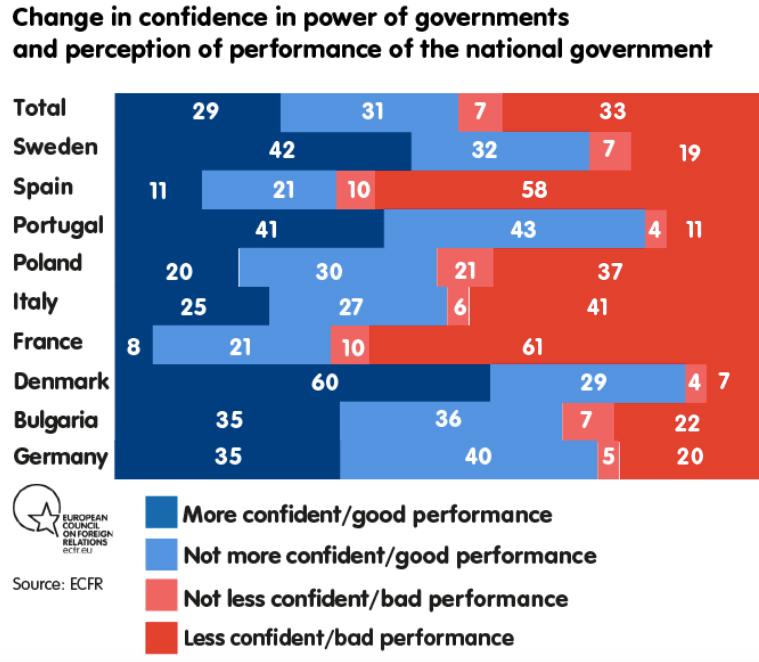
Вторая иллюзия: кризис резко повысил доверие к экспертному мнению
Миллионы людей с поистине религиозным рвением следовали рекомендациям медиков во время карантина. Однако наш опрос показывает, что хвалёное возвращение веры людей в экспертов – иллюзия. К сожалению, нет никаких свидетельств неминуемого возвращения к просвещённой политике, руководствующейся фактами и убеждениями, а не эмоциями и мобилизацией.
Для полноценного погружения в данный вопрос мы специально не ставили респондентов перед жёстким выбором в отношении экспертов: «Доверяете вы им или нет?». Вместо этого людям было предложено выбрать один из трёх вариантов. Задача состояла не просто в том, чтобы выявить, сколько людей считает науку благотворной для общества, но также позволить нам чётко различать две причины недоверия. Первое – это классическое недоверие, исходящее из характера научных исследований и того факта, что эксперты расходятся друг с другом во мнениях. Однако мы нашли множество людей, которые положительно оценивают потенциал научных знаний для решения проблем, стоящих перед человечеством, но считают, что правительства используют экспертов для оправдания уже принятых решений вместо того, чтобы принимать решения на базе научной экспертизы.
Наш опрос показал, что большинство граждан в большинстве стран-членов не доверяют экспертам и властям. На самом деле главное открытие опроса состоит в том, что многие граждане полагают, будто эксперты встроены в политический процесс, подвержены манипуляции, что их используют в качестве инструмента, и они скрывают информацию от общественности. Примерно 27% населения мало доверяют экспертам в целом.
Опять же выявлены существенные различия между странами-членами. Больше всего экспертам доверяют в Дании (64%) и Швеции (61% населения). Меньше всего им доверяют во Франции (15%), Испании (21%) и Польше (20%). Жители Польши (53%), Франции (47%) и Италии (46%) больше других склонны верить в то, что власть использует экспертов в качестве инструмента.
Заметны также значительные разделения по партийным линиям. В Германии большинство сторонников основных партий склонны доверять экспертам. Примерно половина тех, кто голосует за Союз ХДС/ХСС (51%), сторонники социал-демократов (48%) и «Зелёных» (56%) считают, что кризис продемонстрировал, какую выгоду общество может извлекать из знаний экспертов и государственных органов. Во Франции доверие экспертам находится на высоком уровне только среди сторонников Эммануэля Макрона (48%). Другие французские избиратели почти не доверяют экспертам или полагают, что экспертов используют в качестве политического инструмента (52% тех, кто поддерживает Социалистическую партию и 53% сторонников «Зелёных», убеждены, что эксперты и власти скрывают информацию от широкой общественности). В Польше голосующие за либеральную «Гражданскую платформу» – хрестоматийный пример образованных избирателей, которые, как правило, доверяют экспертам. Однако наш опрос показал, что большинство сторонников «Гражданской платформы» не верит экспертам, так как полагает, что их может использовать правительство, которое они не поддерживают. Следовательно, именно доверие граждан правительству своей страны гарантирует их доверие экспертам, а не наоборот.
И, напротив, лишь небольшой процент тех, кто голосует за популистов, верит в пользу от работы экспертов (6% сторонников немецкой «Альтернативы для Германии», 4% французского Национального фронта, 12% итальянской «Лиги» и 3% испанской «Вокс»). Этим недоверием можно также объяснить, почему биологическая эпидемия сопровождается цифровой эпидемией дезинформации и фейковых новостей: люди находят экспертов, которые, как им кажется, не ангажированы властями. Поскольку пандемия – это колоссальная катастрофа, и людям трудно найти главного злодея, неудивительно, что она родила целый рой теорий заговора. Есть множество теорий о том, кто виновен в распространении вируса. Наиболее радикальные из них ставят под сомнение само существование вируса, объявляя его изобретением элит, утративших доверие общества с целью аккумулировать у себя дополнительные полномочия и контролировать других людей.
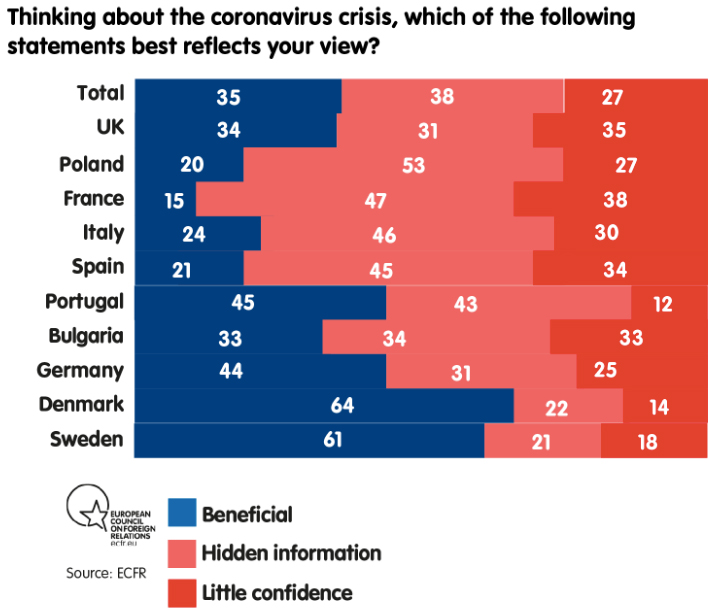
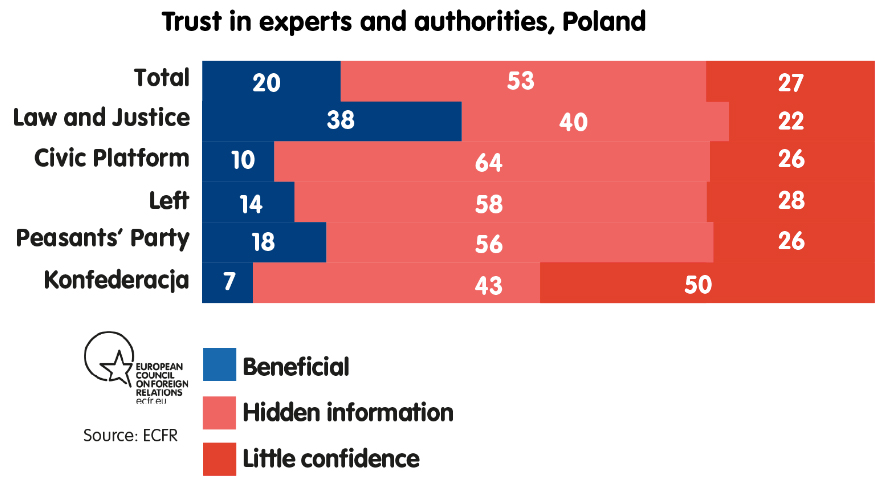
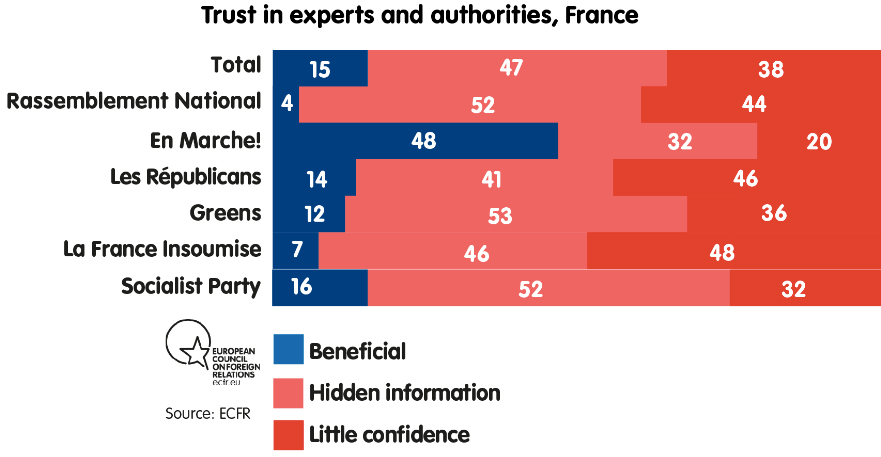
Третья иллюзия: кризис привёл к всплеску как националистического евроскептицизма, так и проевропейского федерализма
Когда кризис начинался, многие беспокоились о том, что он усилит позиции евроскептиков. Первой реакцией многих правительств было закрытие границ своих стран и введение контроля за экспортом – иногда даже вопреки правилам единого рынка. Существовавшие ранее трения между северными и южными странами – членами ЕС также быстро всплыли на поверхность. Опасаясь подъёма национализма, многие обозреватели были склонны видеть параллели между кризисом беженцев и ситуацией вокруг COVID-19. Однако национализм, вызванный кризисом с беженцами, был этническим национализмом, тогда как национализм в качестве реакции на COVID-19 по своей сути был территориальным национализмом, связанным с местом жительства. На самом пике пандемии правительства стран относились к мигрантам так же, как и к местным жителям, тогда как к соотечественникам, возвращавшимся из-за рубежа, относились как к чужакам и закрывали их на карантин, независимо от их гражданства.
Поэтому, в то время как кризис с беженцами разделил общество на националистов и проевропейцев, согласно нашему опросу, кризис, вызванный COVID-19, стёр различия между двумя лагерями. На первый взгляд данные опроса парадоксальны.
С одной стороны, мы видим, что люди во всех исследованных нами странах-членах невысокого мнения о том, как Евросоюз отреагировал на кризис: большинство респондентов во всех странах заявили, что ЕС оказался не готов к этому вызову. В их числе 63% граждан Италии и 61% граждан Франции. Мы также отдельно спросили людей, не ухудшилось ли их отношение к институтам ЕС во время кризиса. Большинство респондентов в Италии, Испании и Франции ответили утвердительно (58%, 50% и 41% соответственно). Наверно, более тревожным моментом, чем большое число людей, заявивших, что Европейский союз плохо проявил себя в ситуации с кризисом, следует считать тот факт, что многие граждане называют его неактуальным.
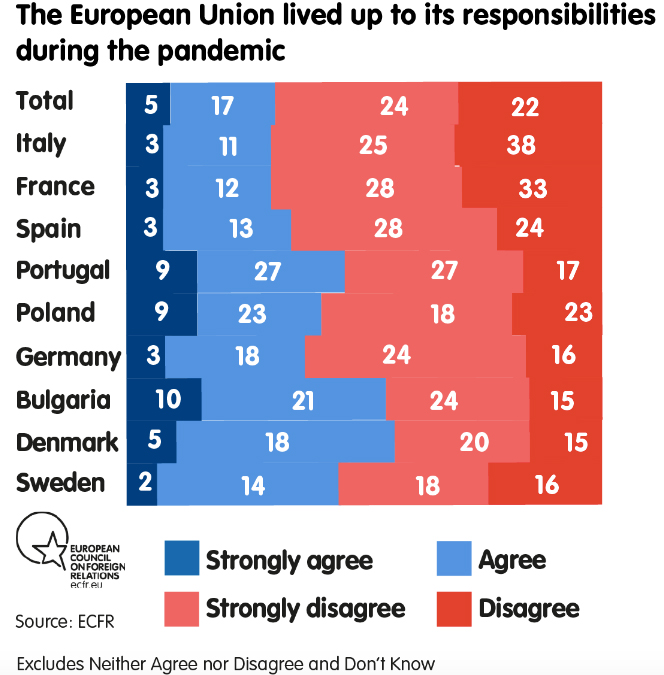
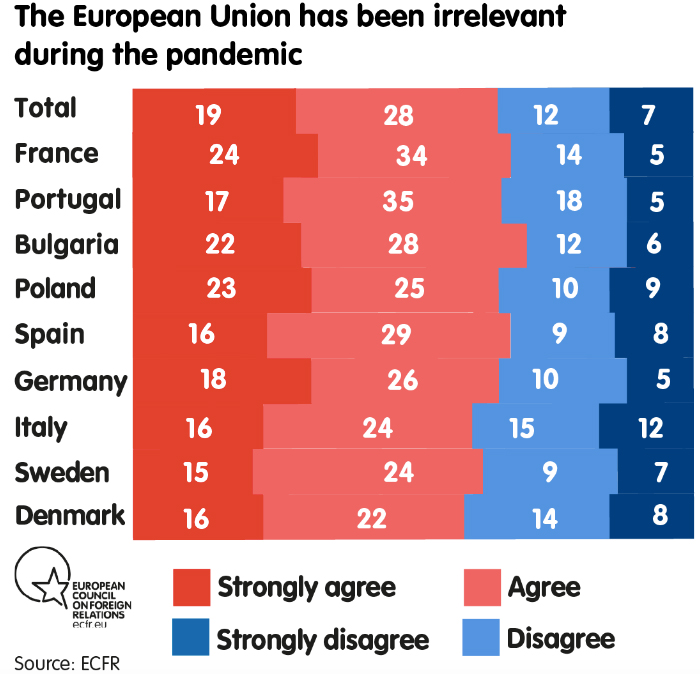

С другой стороны, подавляющее большинство респондентов во всех исследованных странах заявляют о более твёрдой убеждённости в необходимости дальнейшего углубления сотрудничества в рамках ЕС, чем они имели до кризиса. Хотя в наших начальных опросах 2019 г. часто выявлялась обратная зависимость между доверием к национальным правительствам и институтам ЕС, в этом году такой зависимости не наблюдается. В прошлом году мы обнаружили, что многие люди, почти не доверявшие политическому устройству в своих странах, видели в ЕС панацею от внутриполитических болезней. Однако, если не считать жителей Польши, те, кто заявлял о своей вере в возможность правительств справиться с проблемами, влияющими на их жизнь, ещё больше поддерживают тесную кооперацию в рамках Евросоюза, чем их сограждане в среднем. Похоже, они твёрдо усвоили, что национальное государство имеет значение, но в то же время, как выразилась канцлер Германии Ангела Меркель, «у национального государства нет будущего, если оно будет решать все проблемы в одиночку».
Одно из объяснений подобных настроений может заключаться в том, что кризис усилил у граждан ощущение, будто их страны оставлены наедине с этим всё более опасном миром. Мы спросили у граждан, какие страны или организации поддержали их страну в знак солидарности, когда начался кризис. Цифры пугают и настораживают. По мнению подавляющего большинства, никто не протянул им руку помощи, и очень немногие согласились с тем, что поддержку им оказал ЕС, многосторонние организации или крупнейшие экономические партнеры Европы.
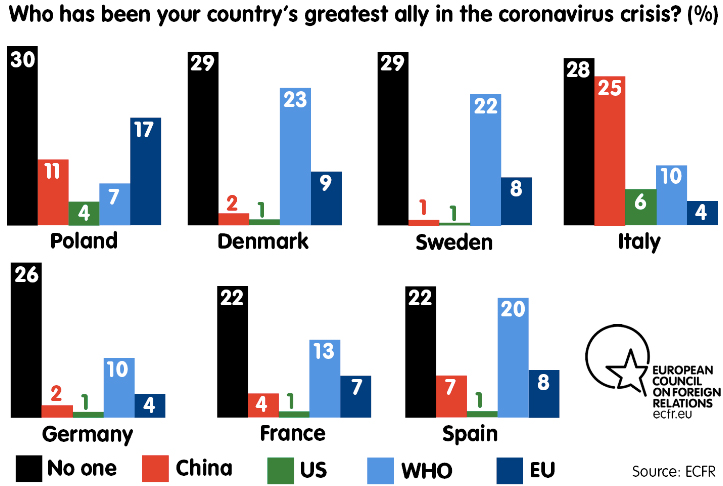
Похоже, что кризис всерьёз и надолго повредил репутацию в глазах европейцев двух крупнейших экономических партнёров Европы: Соединённых Штатов и Китая. Репутация обеих сверхдержав потерпела крах в некоторых странах, которые были их ближайшими союзниками и партнёрами.
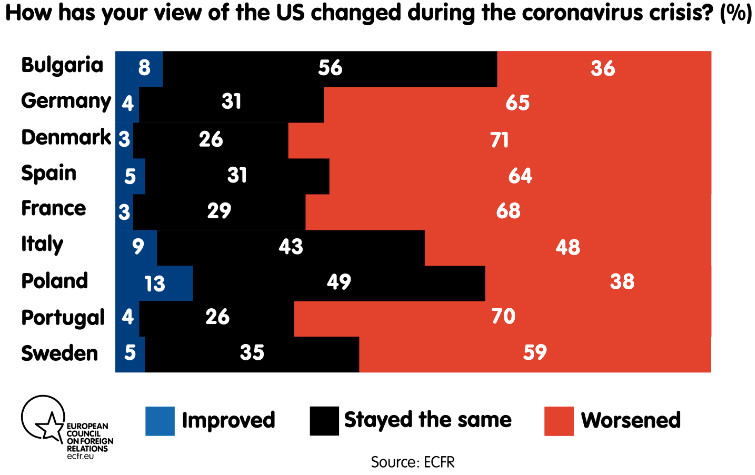
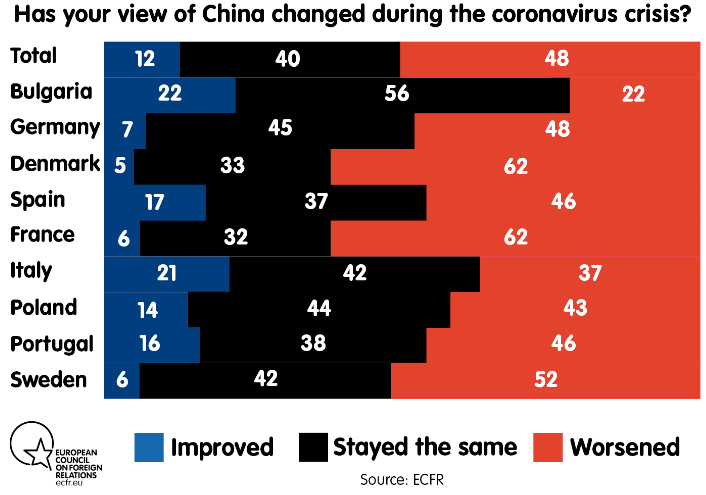
Что касается Китая, то более 60% граждан Франции и Дании и почти половина немцев заявили о своем охлаждении к Пекину. Похоже, что отношение европейцев к Китаю ухудшилось из-за происхождения COVID-19, агрессивности Пекина в отношении других стран и его реакции на кризис – дезинформации, запугивания и угрозах воздержаться от поставок медицинских товаров. Однако ещё более шокирующим представляется крах имиджа США в глазах многих европейцев. Свыше 70% датчан и португальцев, 68% французов, 65% немцев и 64% испанцев заявляют об ухудшении восприятия Америки как партнёра. С нашей точки зрения, это не просто ещё одно указание на то, как сильно европейцам претит внешняя политика Дональда Трампа. Кризис, вызванный COVID-19, выявил глубокий раскол в США по поводу того, как реагировать на нынешний кризис. К тому же страну стали преследовать тени рабовладельческого прошлого. Если Америка Трампа изо всех сил старается помочь сама себе, как можно ожидать от неё помощи кому-то ещё?
Если хаос внутри Соединённых Штатов продолжится, многие европейцы будут считать США хромым гегемоном, которому нельзя доверить оборону западного мира.
Хотя пандемия пока не изменила внутриполитических предпочтений европейцев, новые данные ЕСМО свидетельствует о том, что она резко изменила их отношение к остальному миру за пределами Европы. Кризис, связанный с COVID-19, выявляет те же закономерности, что и мировой финансовый кризис, кризис с беженцами и климатические аномалии. Эти крупные мировые события, меняющие отношение европейцев к окружающему миру, в свою очередь, побуждают граждан к радикальной переоценке назначения и роли Евросоюза в их жизни. Если глубже проанализировать полученные данные, мы можем сконструировать три ментальные модели, которые используются гражданами Европы для понимания мира после кризиса.
Во-первых, мы имеем дело со сторонниками философии «Сделай сам», которые считают, будто после кризиса геополитика во многом будет напоминать положение дел в XIX веке, когда каждая страна была сама по себе. Эта группа насчитывает 29% опрошенных нами европейцев. Некоторые верят в способность своей страны вступать во взаимовыгодные альянсы с другими игроками для защиты своих интересов. Другие не верят в свою страну и не видят перспектив действенного сотрудничества на европейском или мировом фронте.
Во-вторых, есть группа «рыцарей новой холодной войны»; её численность составляет 15% всех опрошенных. Люди, разделяющие это мировоззрение, считают, что геополитика будет напоминать ту, которая существовала в ХХ веке. Они убеждены в биполярном будущем, где США станут лидером свободного мира, а Китай возглавит автократическую ось, в которую также войдут такие страны как Россия и Иран.
Наконец, самая большая и политически наиболее значимая группа – «сторонники стратегического суверенитета», составляющие 42% от всех опрошенных. Эти граждане склонны считать, что в XXI веке будут преобладать блоки и региональные союзы. С их точки зрения, значимость Европы в новую эпоху зависит от способности ЕС и входящих в него стран действовать сообща. Подобное мировоззрение стирает традиционную разделительную грань между глобалистами и националистами. С одной стороны, националисты начинают понимать, что их страны смогут сохранить суверенитет только внутри европейского блока. С другой, разочарованные глобалисты осознают, что их мечта о многостороннем мире с глобальным управлением не сбудется до тех пор, пока у власти остаются Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин. Не эпидемия, а неспособность мирового сообщества эффективно реагировать и сообща искать решение этой проблемы превратила некоторых вчерашних космополитов в сегодняшних новых сторонников стратегического суверенитета.
С их точки зрения, Европа больше не является проектом, мотивируемым преимущественно общими идеями и ценностями; это сообщество, сформированное по воле судьбы, страны, которым суждено держаться вместе, если они хотят вернуть себе контроль над будущим.
Мировоззрение этой формирующейся группы можно лучше всего описать термином «прогрессивный протекционизм». Поскольку европейцы могут всё в меньшей степени полагаться на глобальные решения для построения мира, в котором хотят жить, они решили создать собственную утопию на европейском материке. Она окажет влияние на их отношение к ключевым вопросам построения будущего, таким как защита окружающей среды и цифровая повестка. Наш опрос показывает, что сторонники стратегического суверенитета – группа, которая ещё решительнее требует предпринимать срочные меры по борьбе с изменением климата именно по причине пандемии. Однако они собираются добиваться достижения поставленной цели не посредством проповеди, а путём принуждения окружающих к принятию европейских ценностей посредством ввода углеродного и цифрового налогов.
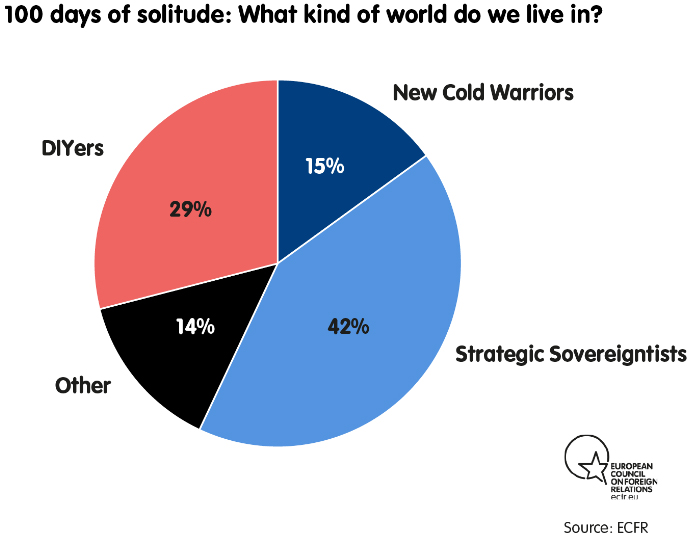
В каждой стране имеются представители всех трёх групп. Тем не менее распределение их бросает вызов представлениям стран о самих себе и их стереотипам в отношении других. Например, Германия гордится своей приверженностью интересам единой Европы, но там больше сторонников философии «Сделай сам», чем в любой другой стране, где проводился опрос. Многие люди характеризуют жителей Восточной Европы поборниками новой холодной войны с учетом их исступленного атлантизма. Однако наш опрос показывает, что больше сторонников новой холодной войны среди итальянцев и французов. Самые убеждённые сторонники укрепления суверенной способности Европы действовать в мире, разделённом на регионы, живут вовсе не во Франции, а в Польше, Португалии и Испании. Опрос также выявил важные внутриполитические различия: например, во Франции 69% граждан, голосовавших за Макрона, верят в мир, разделённый на регионы, тогда как почти половина сторонников Марин Ле Пен – адепты философии «Сделай сам». В Германии среди сторонников социал-демократов и «Зелёных» больше поборников стратегического суверенитета, чем в среднем по стране.
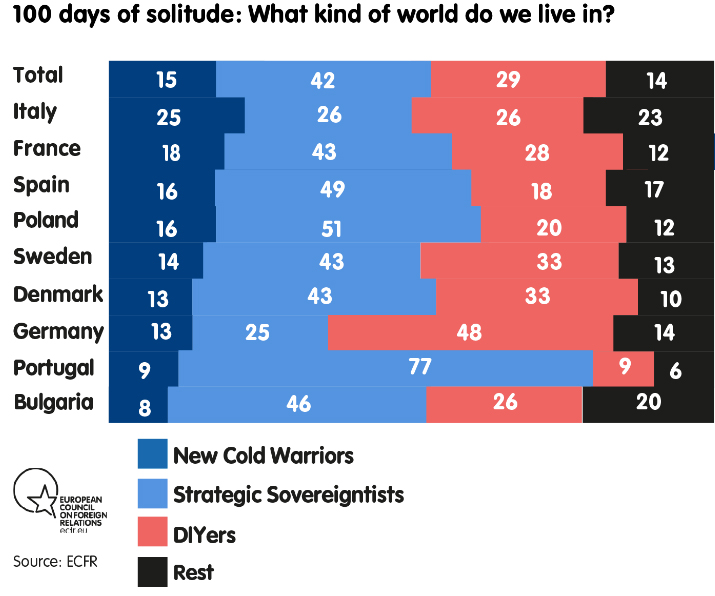
Верящие в регионализм предвидят, что победителями или проигравшими в результате пандемического кризиса будут не отдельные национальные государства или политические системы, а регионы и блоки, которым удастся или не удастся осуществлять свою власть на мировой арене. Следовательно, лучший шанс для Европы избежать зависимости от других блоков – это консолидация региона и создание единого и более могущественного ЕС. В то время как европейские лидеры не отказываются от участия в работе многосторонних и международных организаций – наиболее наглядным примером можно считать Конференцию по сбору средств в рамках глобального реагирования на коронавирус – почти половина европейцев считает экономическую и политическую консолидацию Европы лучшей страховкой от возможного обращения вспять процессов глобализации. Подобные отношения особенно заметны, когда европейцев спрашивают, верят ли они в более глубокое сотрудничество: их ответы показывают, что верящие в региональное будущее чаще других говорят о необходимости сплочения ЕС и разделения бремени расходов на борьбу с кризисом. Они также больше склонны считать, что медицинский и немедицинский инвентарь должен производиться внутри Евросоюза.
Когда речь заходит о репатриации промышленного производства из Китая в Европу, больше всего её поддерживают крупнейшие страны – Франция и Германия. Граждане меньших по размеру стран считают протекционизм менее жизнеспособным. Идеи протекционизма также важны, когда речь заходит о зелёной и цифровой повестке: опасаясь конкуренции с нулевой суммой в мире и экономического протекционизма, многие европейцы смотрят в направлении прогрессивного протекционизма. Эта политика предполагает обложение высокими налогами тех товаров, производство которых наносит урон окружающей среде в Европе. С её помощью сторонники стратегического суверенитета надеются отстаивать свои ценности и предпочтения даже в недружественном мире.
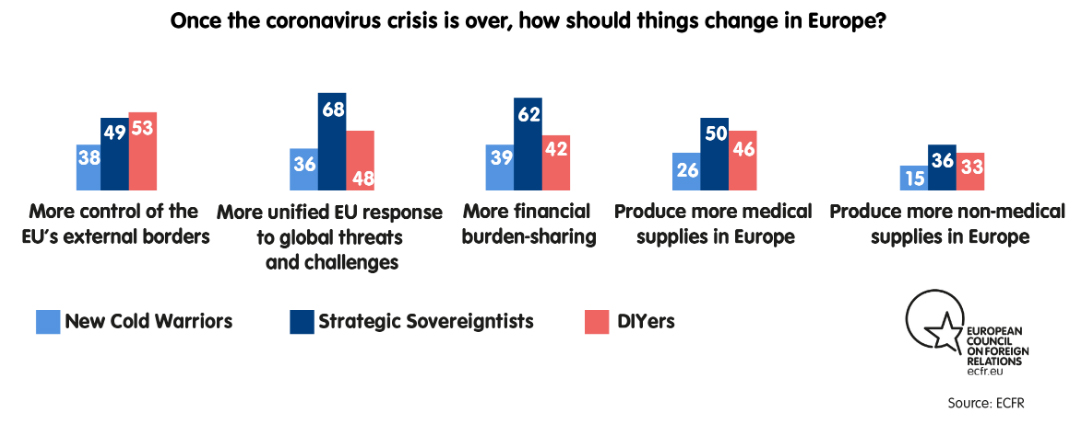
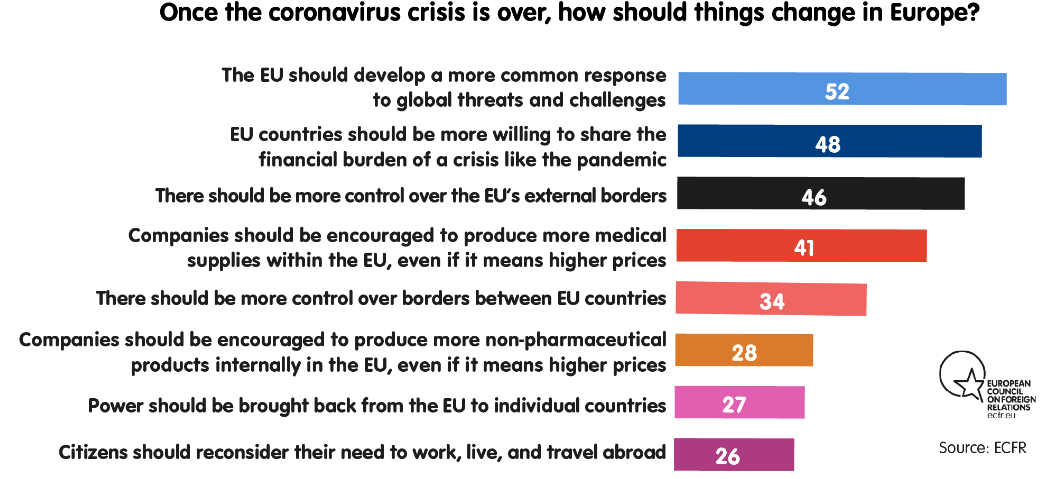
Выводы: живём ли мы в «момент Гамильтона»?
Европейские правительства и институты Брюсселя осознали, что коронавирусный кризис создал возможности для коллективных действий в Европе. Франко-германский план восстановления, представленный в мае, мог бы стать началом важного нового этапа в истории Европы. Однако лидерам, если они хотят увидеть более могущественную и сплоченную Европу, необходимо сделать правильный политический выбор и сформулировать свои аргументы таким образом, чтобы объединить европейских избирателей, а не оттолкнуть их. Обозреватели быстро окрестили франко-германское соглашение «моментом Гамильтона» для Европейского союза, предположив, что реакция на COVID-19 – важная подготовительная стадия на пути к Соединённым Штатам Европы, где у Брюсселя будет больше суверенитета. Впервые эту идею выдвинул Александр Гамильтон, первый министр финансов США, поставивший свою страну на путь федерализации через общую ответственность по долгам, оставшимся от революционной войны. Центральный постулат его теории: «Мы вместе умирали, поэтому нам следует вместе платить». Общая ответственность по долгам была наиболее сильным выражением окончания автономного существования американских штатов.
Однако наш опрос говорит о том, что сегодняшние настроения граждан Европы ближе к тем, которые выражены британским историком Аланом Милвордом, нежели к посылу федералистских документов. В ревизионистской истории Алана Милворда «Спасение национального государства в Европе» утверждалось, что движущей силой европейского проекта было восстановление, а не сублимация национального суверенитета. Но, если Милворд писал о спасении государств в 1950-е гг. от разрухи, вызванной войной между европейскими странами, то в 2020 г. главный вызов государству исходит из-за пределов Европы. Европе нужно отвоевать свой суверенитет у Китая и Америки Трампа, а также у цифровых гигантов, таких как Facebook и Huawei.
При такой трактовке ЕС срочно нужно действовать просто в силу того факта, что все мы живём на одном и том же континенте, сталкиваясь с одними и теми же внешними угрозами. Китай и США манипулируют кризисами, такими как пандемия или изменение климата, всё больше используя всемирные организации и даже глобальную экономику в качестве подручного инструмента конкуренции. Европейцы могут понять, что отказ от совместных действий означает для них риск стать жертвами бескомпромиссной китайско-американской борьбы.
В свете этих реалий европейский проект следует пересмотреть не как интеграционный процесс на основе идеалов, но как проект, основанный на общей судьбе. Общая география диктует необходимость действовать сообща даже в большей степени, чем общие ценности. В этом контексте мы являемся свидетелями скорее «милвордской инерции», нежели «гамильтоновского момента» – в меньшей степени речь идёт о радикальном шаге в направлении федерализации и в большей степени об усиливающемся консенсусе по поводу необходимости использовать Брюссель в качестве инструмента для наделения полномочиями национальных государств.
Но хотя европейцы осознают потребность друг в друге, чтобы сообща противостоять враждебному миру, они не верят, что национальные правительства и европейские институты обеспечат столь нужную им защиту. Что ещё хуже, они по-прежнему не верят экспертам и технократам, которые являются коллективным мозгом и хребтом европейских институтов.
Всё это подразумевает, что европейским лидерам не следует брать на вооружение аргументы о разделении бремени с точки зрения европейской солидарности или технократической эффективности, но говорить о разделении бремени с точки зрения национальных интересов. Им следует говорить о едином рынке как возможности спасения рабочих мест внутри страны в такое время, когда торговля с Китаем и США будет неизбежно буксовать. Подобный подход к описанию действий Европы помог бы усилить поддержку принципа разделения финансового бремени. Даже консервативные страны, не допускающие бюджетного дефицита, поняли бы, что в их интересах, допустим, содействовать спасению компаний в других странах – членах Евросоюза.
Многие годы люди уподобляют евроскептицизм и популизм недугу, который разросся до эпидемических пропорций. У европейских лидеров, таких как Макрон и вице-канцлер Германии Олаф Шольц, есть надежда на то, что реальный вирус поможет исцелиться от политического вируса антиевропейских настроений и что популизм сегодня отступает. Наш опрос показывает, что подавляющее большинство простых граждан хотят более тесного сотрудничества в рамках ЕС, и что эти люди равномерно распределены по всему континенту – на севере и юге, востоке и западе.
Важно понимать движущие силы этой новой разновидности проевропейских настроений, чтобы донести взвешенную аргументацию до избирателей.
Те, кто стремится возвысить Гамильтона, должны отдавать себе отчёт, насколько нынешние институты ЕС в Брюсселе раздражают европейскую общественность.
Новый запрос на кооперацию продиктован не страстью к институциональному строительству, а скорее глубокой тревогой по поводу утраты контроля над ситуацией в опасном мире. Речь идёт об укреплении, а не размывании национального суверенитета. В этом контексте единая Европа – не прихоть, а жизненная необходимость.
Если политические лидеры Европы начнут говорить в этих обстоятельствах о федерализме с целью создания сильной и объединенной Европы, это будут контрпродуктивные рассуждения, которые способны лишь повредить поставленной цели. Топорные доводы в пользу интеграции только подольют масла в огонь антиевропейских настроений, которые станут ещё более ядовитыми, чем прежде – и в первую очередь на периферии Европы, хотя и не только там. На этот раз против ЕС могут выступить граждане в самом сердце Европы – в прижимистой Германии, не допускающей дефицита бюджета. Как и в случае с эпидемией «испанки», именно вторая волна евроскептицизма может оказаться наиболее смертоносной.
Методология
Мировоззрения сконструированы на основе GNE12 (кто окажет поддержку во время COVID-19), GNE5 (восприятие США, Китая, России) и GNE8 (отношение к необходимости более консолидированной реакции со стороны ЕС и к тому, чтобы предприятия производили медицинские и немедицинские товары внутри ЕС). Люди, заявившие, что не могут ни на кого положиться для получения поддержки, были отнесены к группе сторонников философии «Сделай сам». Ожидающие помощи от ЕС или стран ЕС или верящие, что предприятия должны производить медицинские и немедицинские товары и оборудование в ЕС, которому необходимо сплотить ряды, были отнесены к группе «сторонников стратегического суверенитета». Люди, заявившие, что могут положиться на США, что у них улучшилось мнение о США или ухудшилось мнение о Китае, России или Иране, отнесены нами в группу «рыцарей новой холодной войны».
Сторонники философии «Сделай сам»
Эти люди убеждены, что мы живём в мире, где все страны предоставлены сами себе. Доля таковых в электорате ЕС, охваченном нашим опросом, составила 29%.
Мужчины/женщины: представлены в равных пропорциях.
Медианный возраст: самая возрастная группа, средний возраст – 54 года
Места сосредоточения: наиболее сильные позиции имеет в Германии (48%); меньше всего их в Португалии (9%) и Испании (18%).
Поведение на выборах: как и поборники новой холодной войны, с большой долей вероятности будут голосовать за партию евроскептиков (26%).
Поборники новой холодной войны
Эти люди верят в биполярный мир, где США остаются лидером свободного мира, а Китай становится лидером автократической оси, к которой также принадлежат такие страны, как Россия и Иран. На их долю приходится 15% электората ЕС, охваченного в исследовании.
Мужчины/женщины: большинство в этой группе составляют женщины (54%), хотя мужчин тоже немало.
Медианный возраст: самая молодая группа, средний возраст – 43 года.
Места сосредоточения: наиболее сильные позиции имеет в Италии (25%); меньше всего их в Болгарии (8%) и Португалии (9%).
Поведение на выборах: в сравнении с другими группами наименее склонны голосовать за проевропейскую партию (46%) и наиболее склонны воздерживаться (8%) или проявлять нерешительность (21%); будут голосовать за евроскептиков с такой же вероятностью как сторонники философии «Сделай сам» (26%).
Сторонники стратегического суверенитета
Верят в мир блоков и регионов, в котором значимость Европы зависит от способности ЕС действовать сообща; эти люди составляют 42% от всего электората ЕС.
Мужчины/женщины: представлены в равных пропорциях.
Медианный возраст: 50 лет.
Места сосредоточения: наиболее сильные позиции имеет в Португалии (77%), Испании (49%) и Польше; меньше всего их в Германии (25%).
Поведение на выборах: с наибольшей вероятностью будут голосовать за партию, выступающую за усиление ЕС (65%).
Опубликовано Европейским советом по международным делам

Владимир Макаров: Гесс был уверен, что подружит Берлин и Лондон в 1941-м
Историки продолжают активно изучать тайные "пружины", подтолкнувшие гитлеровскую Германию к нападению на СССР 22 июня 1941 года. К числу таких факторов специалисты относят и закулисную игру Берлина и Лондона, в ходе которой в мае 1941-го состоялся перелет на британские острова заместителя фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера по нацистской партии Рудольфа Гесса.
О ключевой роли, которая отводилась Гессу в установлении германо-английских контактов, как готовился его перелет, с какими предложениями Гесс отправлялся в дорогу, а также кто и зачем сорвал миссию заместителя Гитлера, тем самым кардинально повлияв на ход Второй мировой войны, на основе материалов из государственных и ведомственных архивов в интервью РИА Новости рассказал историк спецслужб, кандидат философских наук Владимир Макаров.
— Владимир Геннадьевич, какое место занимал Рудольф Гесс в иерархии нацистской Германии? Насколько он был значимой фигурой, которая могла представлять интерес для тайного взаимодействия Лондона с Берлином?
— Давая краткую характеристику Гессу, британский историк Питер Пэдфилд писал: ""Идеалист" – этим словом характеризовали Гесса на протяжении всей его карьеры. Причина, по которой Гитлер завладел всеми его помыслами, заключалась, по-видимому, в том, что выражаемые будущим диктатором мысли были созвучны идеалам Рудольфа, почерпнутым от "Общества Туле", в добровольческом корпусе и от старых "фронтовых товарищей". Ими, казалось, была пропитана сама атмосфера его мюнхенского круга общения, отягощенная утратившим иллюзии национализмом и ужасом большевизма. Гитлер появился как воплощение мечты Гесса".
Более полную картину того, какое место Гесс занимал в руководстве Третьего рейха, обрисовал в своих показаниях от 23 февраля 1948 года его бывший адъютант, оберфюрер СА Карл-Гейнц Пинтш: "Гесс, несомненно, оказывал огромное влияние на развитие ее агрессивной политики. Это свое влияние Гесс осуществлял практически через свой штаб, являвшийся высшей руководящей инстанцией НСДАП.
Гессу подчинялись рейхслейтеры, гаулейтеры и руководители массовых организаций НСДАП. Согласно изданному Гитлеру в апреле 1934 года закону, государство подчинялось партии. Тем самым ни один законопроект не мог быть представлен отдельными министрами Гитлеру без одобрения Гессом. Без согласия штаба Гесса не мог быть назначен или повышен в должности ни один высших чиновников… Штаб Гесса оказывал свое влияние и на вооруженные силы, внедряя национал-социалистический дух в армию и устраняя политически неблагонадежных высших командиров.
Влияние штаба Гесса на внешнюю политику осуществлялось через фон Риббентропа, который с 1934 года был постоянным референтом в штабе Гесса по внешнеполитическим вопросам… Кроме этого влияние на внешнюю политику осуществлялось штабом Гесса и через подчинявшееся ему Внешнеполитическое управление НСДАП (руководитель Розенберг). Послы, посланники и высшие чиновника министерства иностранных дел должны были утверждаться штабом Гесса.
Благодаря тому обстоятельству, что Гиммлер по партийной линии подчинялся Гессу, штаб Гесса мог контролировать также и деятельность СД (Имперская служба безопасности) в Германии и за границей и давать ему специальные задания. Адмирал Канарис, начальник военной разведки "Абвера", был обязан лично докладывать Гессу о всех важных материалах, добытых военной разведкой.
Кроме того, штаб Гесса имел специальных агентов за границей, регулярно информировавших его о политическом положении в соответствующих странах…
Штабу Гесса далее подчинялись: разведывательная служба Зарубежной организации НСДАП, руководителем которой являлся гаулейтер Боле, а также разведка Внешнеполитического управления НСДАП, руководимого Розенбергом".
Пинтш также назвал имена иностранных журналистов, агентов Гесса, в их числе британских журналистов Джорджа Уорд Прайса, майора Сирила Бентама Фелла, американского журналиста Карла фон Виганда и ряд других.
— Интересовалась ли советская разведка личностью Гесса и других руководителей нацистской Германии? Известны ли собранные ей сведения на этот счет?
— Безусловно, советские спецслужбы не обошли своим вниманием и личность Рудольфа Гесса. В сборнике, подготовленном Львом Соцковым "Агрессия. Рассекреченные документы Службой внешней разведки Российской Федерации 1939–1941" приведена справка "Заместитель Гитлера по партии НСДАП – Гесс". Документ был подготовлен 5-м отделом Главного управления государственной безопасности НКВД СССР (внешняя разведка) 10 декабря 1940 года на основе показаний бывшего сотрудника британской "Сикрет Интеллидженс Сервис" (СИС) германского Абвера Александра Нелидова.
В справке, в частности, сообщалось: "Гесс пользуется не только доверием Гитлера, но и у партийцев. Все знают, что ему можно вполне довериться: он не подведет, не будет интриговать и не использует доверенного ему во вред этого лица. Поэтому Гесс очень популярен среди партийцев. Он до сих пор ничем не проявил себя как самостоятельный деятель… Гесс сделал несколько поездок за границу, где он выступал в качестве лектора, с объяснениями о том, что из себя представляет современная жизнь в Германии... Это незаметный (или старающийся быть незаметным) человек на очень видном посту. Нелидов".
— А что собой представляла личность Карла-Гейнца Пинтша? В какой мере его показания важны для понимания причин и целей миссии Гесса в 1941-м году?
— О Пинтше есть такие справочные данные: немецкий офицер, журналист, оберфюрер СС, обер-лейтенант вермахта. Родился в 1909 году. Член нацистской партии НСДАП с 1925 года. С 1934 по 10 мая 1941 года — личный адъютант и референт по печати Рудольфа Гесса. После перелета Гесса 13 мая того же года Пинтш был арестован и заключен в тюрьму мюнхенского гестапо. 18 мая 1941 года доставлен в гестапо Берлина. В феврале 1942 года заключен в концлагерь Ораниенбург (Заксенхаузен). 2 марта 1943 года вновь переведен в Берлин. Дал подписку начальнику IV Управления (гестапо) Главного управления имперской безопасности (РСХА) группенфюреру СС Генриху Мюллеру о соблюдении тайны и был направлен рядовым в 540-й штрафной батальон 23-й пехотной дивизии вермахта. В декабре 1943 года по личному указанию фюрера Пинтшу было присвоено звание "лейтенант".
9 мая 1945 года в районе города Данцига взят в плен советскими войсками. 16 декабря 1955 года освобожден и репатриирован на родину. По возвращении из плена у него взял интервью бывший личный секретарь лорда Бивербрука, иностранный корреспондент "Дейли Экспресс" Джеймс Лизор, который опубликовал в 1962 года книгу "Рудольф Гесс: незваный посланник". Дата и место смерти Пинтша неизвестны.
— Что было известно историкам о роли Пинтша в подготовке полета Гесса?
— "Миссии Гесса" посвящено несколько серьезных исторических работ. Одна из них – книга Пикнета Линна, Клива Принса и Стефана Приора "Неизвестный Гесс. Двойные стандарты Третьего рейха". На основе изучения большого количества архивных материалов авторам удалось проанализировать жизнь и деятельность одного из лидеров нацистской Германии.
Касательно допросов гестапо сотрудников личного штаба заместителя фюрера, последовавших после провала "миссии Гесса", авторы этой книги констатируют, что среди следственных материалов по делу, протоколы допроса самого Карла-Гейнца Пинтша не были обнаружены: "Новый свет на непосредственно предшествовавшие полету дни проливают отчеты о проводившихся впоследствии гестапо допросов сотрудников Гесса. (Интересно, что все они были отпущены на свободу и карьеры их не пострадали в результате близости к Гессу, кроме как от рук Бормана в 1943 году).
Отчеты о допросах, производившихся между 18 и 22 мая 1941 год, были обнаружены в Америке… Их рассказ радикальным образом меняет традиционную версию полета Гесса, поскольку представляет доказательства того, что Гитлер знал о полете и что была предпринята еще одна попытка, на сей раз в понедельник, 5 мая 1941 года… Допрошены были сотрудник службы безопасности Гесса Kriminalrat Франц Лутц, адъютант Гюнтер Сороф и водитель Рудольф Липперт – все офицеры СС. Возможно, интерес представляет тот факт, что среди опрошенных не оказалось Карла-Гейнца Пинтша, адъютанта, похоже наиболее посвященного в планы Гесса, чем остальные члены его штаба, и после войны ставшего основным источником информации о непосредственно предшествовавших полету днях".
Другими словами, показания Пинтша сохранились только в российских архивах. Их важность, как видно выше, подтвердили британские историки.
— А какова вообще была роль Гесса в установлении контактов между Берлином и Лондоном в довоенные годы? С какими представителями британской элиты у него имелись контакты?
— С уверенностью можно сказать, что именно Гесс был основным инициатором установления тесных контактов с Великобританией. Как ветеран Первой мировой войны, он хорошо помнил ее уроки, а именно – всеми силами избежать войны на два фронта. Для того, чтобы обеспечить себе свободу рук на Востоке, Германии необходимо иметь прочный тыл на Западе.
По этому поводу Пинтш показал: "Гесс своей особой задачей ставил всеми доступными ему средствами добиться, если не военного союза Германии с Англией против России, то хотя бы нейтрализации Англии". Для налаживания контактов с влиятельными политическими кругами Великобритании Гесс еще с 1934 года использовал известного германского ученого, генерал-майора, профессора Карла Хаусхофера. К тому же Гесс являлся его учеником в студенческие годы.
В том же 1934 году Хаусхофер организовал в Берлине на частной квартире Гесса встречу с шотландским аристократом, военным летчиком Дугласом Дуглас-Гамильтоном. После встречи Гесс в присутствии Пинтша говорил о том, что "влиятельные политические деятели Англии благосклонно относятся к политике национал-социалистической Германии на востоке Европы". В 1935 году, по словам Пинтша, в Берлине Гесс встретился с английским газетным магнатом лордом Ротермиром и с тех пор между ними установилась активная связь.
В 1937 году в Мюнхене Гесса посетил адъютант фельдмаршала герцога Коннаутского, дяди короля Георга VI, майор Фицрой Файерс, который несколько дней гостил в особняке Гесса. В 1938 году Пинтш сопровождал Гесса в Гамбург, где он имел встречу с владельцем известного английского банка "Джон Генри Шредер" – Бруно фон Шредером, который, по словам Гесса, "успешно выступал в финансовых и политических кругах Англии за поддержку гитлеровской агрессивной политики против советской России".
К германофильским кругам в Великобритании относились герцог Бедфордский, сэр Ллойд-Джордж, бывший министр финансов лорд Саймон, известный дипломат Вильям Стрэнг и многие другие. При посредничестве Бруно фон Шредера в мюнхенском особняке состоялась встреча Гесса с герцогом Виндзорским (бывшим королем Эдуардом VIII).
Через посредничество профессора Хаусхофера Гесс установил тесный контакт с бывшим верховным комиссаром Лиги Наций в Данциге, позднее председателем общества Международного Красного Креста, швейцарским профессором Карлом Буркгардтом, имевший влиятельные связи в британских политических кругах.
Говоря о проанглийских симпатиях Рудольфа Гесса, Питер Пэдфилд писал: "Главная цель Гесса во внешней политике, от начала и до конца совпадавшая со стратегией Гитлера, состояла в установлении дружбы с Британией. Это было необходимо для создания надежного тыла и нейтрализации Франции на время, когда германские армии для завоевания жизненного пространства и искоренения большевизма будут рваться на Восток".
О роли Рудольфа Гесса в установлении контактов между германскими и британскими политическими кругами в предвоенный период рассказал 21 мая 1946 года в собственноручных показаниях "Англо-германские отношения" немецкий дипломат Карл Клодиус: "…В Германии также и среди руководителей национал-социалистической партии были сторонники сближения с Англией. В первую очередь здесь следует назвать Гесса, который вырос в Египте и хорошо знал английский склад ума и располагал впоследствии влиятельными связями в Лондоне... Когда Гесс улетел в Англию, то, конечно, очень много дискутировали о том, не получил ли он все же секретное задание от Гитлера. Но я ничего подлинного об этом не слышал. Наоборот, в то время рассказывали, что адъютанты, которые помогали ему при "бегстве", были, якобы, арестованы и, по-видимому, даже расстреляны. Об этом мне также ничего подлинного не известно".
Другой немецкий дипломат, оберфюрер СС Вильгельм Родде, был лично знаком с Гессом, и был, как он сам рассказал следователям, его "товарищем по школе". На допросе 20 апреля 1945 года он рассказал о своей деятельности в середине 1930-х годов в Лондоне по установлению связей между промышленниками Великобритании и Германии. Так, на вопрос следователя назвать английских подданных, которые помогали в его работе, Родде сообщил: "…К числу этих лиц я могу отнести Самуэль Хорь, редактора газеты "Дейли Мейл" – Прайс, лорда Ротермир, лорда Хартвуд, промышленников – лорда Брэнд (банкир), Райнекс, Фрэнки Холледен, писателя Флеминг, а также лорда Гамильтон, с которым я познакомил в 1936 году Гесса, и на помощь которого Гесс рассчитывал, улетая в 1940 году в Англию".
Обратим внимание, что "писатель Флеминг" – это автор знаменитых романов о Джеймсе Бонде, а в ту пору – офицер британской разведки. Отсюда можно сделать вывод, что "Сикрет Интеллидженс Сервис" была в курсе "миссии Гесса". Кроме СИС в Великобритании была еще одна спецслужба, детище Уинстона Черчилля, – "Служба специальных операций" (СОЕ), которая сыграла свою роль в истории с Гессом. Обе эти спецслужбы в определенной степени конкурировали друг с другом.
В плане данного разговора о британо-германских отношениях нелишним будет привести фрагмент из собственноручных показаний генерал-фельдмаршала Эвальда фон Клейста от 27 января 1951 года о беседе с Адольфом Гитлером, состоявшейся сразу же после разгрома в мае 1940-го британской армии под Дюнкерком.
Будущий фельдмаршал высказал фюреру свое недоумение по поводу того, что ему не дали окончательно разгромить англичан и их союзников: "Война с Англией и Францией начинается 10 мая 1940 года. 20 мая война выиграна в оперативном отношении. Занимаются Па-де Кале, Булонь, а затем Дюнкерк. Бельгийская армия капитулирует, французская армия, которая должна на севере Франции прикрывать отход англичан, берется в плен. Англичане бегут. Германская армия перегруппировывается, чтобы наступать через Сомму и Эн для нанесения удара в тыл Мажино и на юго-запад. Гитлер желает говорить со мной на аэродроме Камбрэ. Он прибывает из 4-й армии (командующий Клюге), дислоцированной в Аррасе. Я докладываюсь. Он: "Выражаю вам мою особую признательность". Я: "Я недоволен, англичане не должны спастись". Он: "Я задержал вас на канале Святого Альберта потому, что не хотел посылать танки в болота Фландрии. Английская армия спаслась ведь на своих судах буквально в голом виде. В этой войне она нам уже ничего больше не сделает". Может быть, он думает заключить с Англией мир? В таком случае это может быть легче добиться от гордого Альбиона теперь, чем это было бы после позорного поражения, подумал я в то время…".
— Как вы полагаете, насколько значима была миссия Гесса в условиях мая 1941 года?
— Как мы знаем из истории, дата нападения на СССР Гитлером неоднократно переносилась в связи с объективными обстоятельствами (события в Югославии, Албании и Греции). 3 сентября 1939 года Великобритания и Франция объявили войну нацистской Германии, шла "странная война" между Великобританией и Германией, бомбардировки люфтваффе британской территории, ожидалось вступление в войну США на стороне союзников.
Начав войну на Востоке, Гитлер столкнулся бы с угрозой войны на два фронта (так оно и получилось в дальнейшем). В этой связи попытка добиться сепаратных переговоров нацистов с англичанами выглядела вполне логичной. Поэтому Гитлер поручил своему заместителю по НСДАП подготовить почву для соглашения с британским правительством.
— Как долго Гесс готовился к этому личному контакту с прогерманскими кругами Великобритании?
— Со слов Пинтша следует, что непосредственно подготовкой к полету в Шотландию Гесс занялся в начале 1941 года. В феврале–марте 1941 года он напряженно работал над разработкой политических и экономических предложений, которые должны были лечь в основу переговоров с британскими политиками. Кроме Гесса в разработке этого документа принимали активное участие сотрудники Имперского министерства хозяйства, Зарубежной организации НСДАП (руководитель – гауляйтер Эрнст Боле), профессор Карл Хаусхофер и брат Гесс – Альфред, являвший заместителем руководителя Зарубежной организации НСДАП.
— Проводил ли Гесс предварительные консультации с англичанами накануне своего полета?
— Да, проводил. Об этом Пинтш в своих показаниях сообщил: "В декабре 1940 года я сопровождал Гесса в его поездке на фронт для осмотра полевых аэродромов под Парижем и на мысе Грид Нэ. Сочельник мы провели в парижском отеле "Риц". После обращения Гесса к германскому народу по радио, в котором он заявил, что в 1941 году можно ожидать мира, он в беседе со мной рассказал, что в августе 1940 года, по инициативе герцога Бедфордского и других английских влиятельных политиков, в Женеве состоялась встреча английских уполномоченных с уполномоченным Германии Альбрехтом Хаусхофер (сын генерала Карла Хаусхофера). При этой встрече англичане изъявили готовность начать переговоры о мире с Германией и выясняли немецкие условия.
Англичане, со своей стороны, поставили в качестве предварительного условия для мирных переговоров расторжение пакта о ненападении, заключенного в 1939 году между Германией и СССР. Гесс говорил при этом, что Гитлер и он сам готовы, разумеется, выполнить это условие англичан, но Гитлер хочет начать переговоры с Англией лишь после того, как германская армия оккупирует Балканы.
В конце января 1941 года Гесс сообщил мне, взяв предварительно слово о сохранении сказанного мне в тайне, что он, по решению Гитлера, в ближайшее время намерен лететь в Англию, чтобы довести до конца переговоры, начатые в августе 1940 года. Гесс при этом выразил уверенность, что его появление в Англии укрепит позиции тех английских политиков, которые добиваются немедленного заключения мира с Германией, и что его задача увенчается успехом".
Кроме того, незадолго до своего полета, в начале апреля 1941-го Гесс отправил сына Хаусхофера – Альфреда Хаусхофера в Женеву к профессору Буркгардту, чтобы через него передать англичанам содержание этих предложений. Через несколько дней Альфред Хаусхофер вернулся из Швейцарии и позвонил из первого германского города – Констанц в Берлин Гессу. Гесс вызвал Хаусхофера-младшего в Аугсбург для доклада и сообщил Пинтшу: "…момент для его полета в Англию для ведения переговоров назрел".
Пинтш добавил, что в технических приготовлениях к полету участвовали "гросс-адмирал Редер, имперский министр почты Онезорге, генерал-полковник авиации Удет и профессор Мессершмидт. Гросс-адмирал Редер предоставил Гессу специальную карту координат Северного моря, министр Онезорге, который являлся изобретателем в области радиолокации, обучил Гесса пользоваться лучевой антенной, генерал-полковник Удет дал указание инженер-полковнику Бекман в министерстве авиации, чтобы по моему телефонному требованию была включена лучевая антенна "Электра", которой пользовались наши бомбардировщики при налетах на Англию. Профессор Мессершмидт предоставил в распоряжение Гесса истребитель Ме-110".
— А какие факты говорят о том, что Гесс действительно прилетел в Шотландию, чтобы добиться для Третьего рейха выгодных условий для войны против СССР?
— Об этом говорят мемуары политических деятелей того времени, многочисленные исследования, проведенные в том числе британскими историками. Кроме того, существуют архивные документы, рассказывающие об этом событии.
— С какими же конкретно предложениями Гесс полетел в Шотландию?
— Работу над тезисами, которые должны были лечь в основу этих переговоров, Гесс закончил в начале марта 1941 года. Со слов Пинтша, они состояли в следующем: "Содержание этих предложений, которые я лично печатал, и поэтому хорошо помню, сводились в общих чертах к следующему: а) Германия отказывается от претензий на свои бывшие колонии в Африке; б) Германия готова добровольно ограничить свой военно-морской флот, признавая господство Англии на море; в) Германия не заинтересована в поражении Британской мировой империи; г) Германия готова оказать полную поддержку Англии в сохранении ею своей позиции мировой державы; д) Германия готова оказать полную поддержку Англии в предотвращении ожидающегося после войны мирового экономического кризиса; е) Германия требует от Англии возвращения замороженных после 1918 года частных немецких активов за границей, не зачисленных в счет репараций; ж) в счет этих активов Англия обязуется после заключения мира поставлять Германии сырье; з) Германия принимает на себя обязательство предотвращать грозящую из России большевизации Европы и получает свободу действий на Востоке, что соответствует условиям англичан, выдвинутым уже при переговорах в августе 1940 года в Женеве…
Смысл высказываний Гесса сводился к тому, что вся политика германского правительства в настоящее время направлена, главным образом, на подготовку войны против России. Я помню точно сказанную Гессом в этой связи фразу: "Освободятся силы, связанные на Западе, которые можно будет использовать против России"".
— Что вы скажете о дате полета Гесса? Была ли она выбрана случайно или в ней был заложен какой скрытый смысл? Существует версия, что Гесс якобы увлекался астрологией и мистикой.
— По поводу "увлечения" Гесса астрологией в показаниях Пинтша содержится следующий фрагмент: "18 мая меня доставили из мюнхенского гестапо в Берлин, в Главное управление имперской безопасности, где групенфюрер СС Мюллер сообщил мне, что мое дело будет поручено директору криминальной полиции оберфюреру СС Штабе и советнику криминальной полиции штандартенфюреру СС Зандерс. В ходе допросов, продолжавшихся с 19 мая по 15 июня 1941 года, гестапо хотело добиться от меня заявления, что в дни, предшествовавшие полету Гесса, я заметил у него признаки психического расстройства. Такого лживого заявления я не мог и не хотел дать. Тогда мне дали гороскоп, найденный в портфеле Гесса. Он должен был служить доказательством того, что психическое состояние Гесса нельзя считать нормальным. Мне эти доказательства гестапо показались смешными, так как я был свидетелем того, как Гесс в шутку просил составить этот гороскоп. Мои устные заявления о том, что о полете Гесса было известно Гитлеру и Борману, не были записаны в протокол".
Как видно из показаний Пинтша, версия об увлечении Гесса астрологией, была пущена в ход для того, чтобы признать последнего сумасшедшим.
— Был ли сам Гесс уверен в успехе своей миссии?
— Да, безусловно. Он, конечно, предполагал, что его визит к англичанам может затянуться, но в успехе своей миссии он не сомневался, причем задолго до полета. В этой связи Пинтш приводит слова Гесса: "Летом 1939 года во время беседы о задачах Германии новой Европе, Гесс сказал мне буквально следующее: "Мы захватим с мечом в руках на Востоке все, что нам нужно. Когда я на это сказал, что в этом случае "Джон Булль" не станет молчать, то Гесс ответил, что мы имеем твердые заверения, что при нашем походе на Восток англичане, хотя и будут стоять на Западе с оружием в руках, но предпринимать какие-либо действия против Германии не будут".
— Известно ли, какой была реакция Гитлера на перелет Гесса?
— Да. В архивах сохранились показания очевидцев доклада Пинтша к Гитлеру. Адъютант и камердинер Гитлера Отто Гюнше и Гейнц Линге в советском плену дали показания о событиях, которые произошли в резиденции фюрера, куда с докладом о полете Гесса явился его личный адъютант: "В мае 1941 года Гитлер возвратился в замок "Бергхоф" из Мюнихскирхе южнее Вены, где он следил за операциями немецких войск против Югославии и Греции. 11 мая около 10 часов утра в приемной перед кабинетом Гитлера появился адъютант Гитлера – Альберт Борман, брат Мартина Бормана, с адъютантом Гесса оберфюрером СА Пинтшем. Пинтш держал в руках белый запечатанный пакет. Альберт Борман попросил Линге разбудить Гитлера и доложить ему, что явился Пинтш со срочным письмом от Гесса…
Хэгль, начальник полицейской команды при штабе Гитлера, быстро явился. Гитлер приказал ему арестовать Пинтша. Хэгль, который хорошо знал Пинтша, повел его к себе. Тот был совершенно ошеломлен. Как впоследствии выяснилось, Пинтш рассказал Хэглю следующее: он был убежден в том, что Гесс совершил полет в Англию с ведома и согласия Гитлера и совершенно не понимает, поэтому причины своего ареста. Еще в конце января 1941 года Гесс доверительно рассказал Пинтшу, что он по решению Гитлера, намерен лететь в Англию, чтобы довести до конца переговоры, начатые в августе 1940 года. Со слов Гесса, Пинтшу было известно, что в августе 1940 года, по инициативе герцога Бедфордского и других влиятельных английских политиков, в Женеве состоялась встреча английских уполномоченных с немецким профессором Альбрехтом Хаусхофером, посланным Гессом в Женеву для предварительных переговоров с англичанами.
Во время переговоров англичане заявили о готовности Англии начать мирные переговоры с Германией. Предварительным условием англичане выставили расторжение пакта о ненападении, заключенного в 1939 году между Германией и советской Россией. Гесс сказал Пинтшу, что Гитлер и он согласны были выполнить условия англичан, но Гитлер хотел отложить начало конкретных переговоров с Англией до занятия Балкан. Смысл разговора Гесса с Пинтшем сводился к тому, что политика Германии в то время была направлена на подготовку войны против советской России".
Сам Пинтш об обстоятельствах своего ареста показал: "В 22.30 (10 мая 1941 года) я в сопровождении указанных лиц направился с аугсбургского аэродрома в Мюнхен и оттуда еще той же ночью выехал в Оберзальцберг, чтобы лично доложить Гитлеру об отлете Гесса. 11 мая 1941 года около 12 часов дня я был принят Гитлером. Гитлер спокойно выслушал мое сообщение и отпустил меня, не сделав никакого замечания. В 12.30 адъютант Гитлера группенфюрер НСКК Альберт Борман пригласил меня к столу Гитлера. На обеде присутствовали: Гитлер, Ева Браун, рейхслейтер Мартин Борман, фельдмаршал Кейтель, имперский шеф печати доктор Дитрих, генерал Боденшатц, личный врач Гитлера доктор фон Хассельбах с супругой, адъютант Гитлера Альберт Борман и я. Во время обеда прибыл имперский министр иностранных дел фон Риббентроп. После обеда Гитлер уединился с фон Риббентропом.
Примерно через полчаса после обеда меня позвал рейхслейтер Мартин Борман и вместе со мной отправился на квартиру, тоже находившуюся в Оберзальцберге. Там он потребовал, чтобы я назвал всех лиц, присутствовавших при отлете Гесса.
После того, как я назвал этих лиц, Борман снова ушел к Гитлеру, оставив меня ожидать в приемной. В 16 часов рейхслейтер Мартин Борман снова вернулся обратно, и заявил, что я арестован, и передал меня начальнику личной охраны Гитлера штандартенфюреру СС Раттенхуберу. Вечером меня, уже как арестованного, снова привели к Мартину Борману, который спросил меня, где находится портфель Гесса, и снова заставил меня перечислить, кому известно о полете Гесса. Я сообщил, где находится портфель Гесса".
— А что касается политиков того времени — как они реагировали на произошедшее?
— Спустя несколько дней после перелета Гесса в Англию германская официальная пресса вначале пустила в оборот неуклюжую версию о его гибели в авиакатастрофе, затем – о "сумасшествии". Однако ни первая, ни вторая "версии" даже среди союзников по Оси не произвели должно эффекта. В своем дневнике зять Муссолини – министр иностранных дел Италии граф Галеаццо Чиано несколько раз упоминает это событие: "12 мая 1941 года... Странное немецкое коммюнике сообщает о гибели Гесса при авиационной катастрофе. Не могу скрыть свой скептицизм насчет достоверности этой версии. Сомневаюсь даже, мертв ли он вообще. В этом есть что-то таинственное, несмотря на то, что Альфиери подтверждает сообщение о катастрофе.
13 мая 1941 года. История с Гессом пахнет газетно-бульварной сенсацией. Гитлеровский заместитель, второй после него человек, тот, кто в течение пятнадцати лет держал в руках могущественнейшую немецкую организацию, приземлился в Шотландии. Он бежал, оставив письмо Гитлеру. По-моему, это весьма серьезное дело: первая подлинная победа англичан. Вначале дуче думал, будто Гесс совершил вынужденную посадку на пути в Ирландию, куда он направлялся для того, чтобы сделать там восстание; однако очень скоро дуче отказался от этого толкования, и теперь разделяет мое мнение об исключительной важности этого события.
Фон Риббентроп неожиданно приехал в Рим. Он обескуражен и нервничает. Он желает говорить с дуче и со мною по целому ряду причин; на самом деле за этим скрывается одна подлинная причина: он желает осведомить нас об истории с Гессом, которая уже стала достоянием прессы во всем мире. Официальная версия сводится к тому, что Гесс физически и душевно больной, пал жертвой пацифистских галлюцинаций и отправился в Англию, надеясь способствовать началу мирных переговоров. Отсюда следует, что он не предатель; отсюда следует, что он не будет болтать; отсюда следует, что всякие иные устные или печатные заявления, сделанные от его имени, будут фальшивками. Рассказ Риббентропа представляет прелестный образчик зашивания прорех. Немцы желают обезопасить себя до того, как Гесс заговорит и раскроет вещи, способные произвести сильное впечатление в Италии…
Обед с Риббентропом и его сотрудниками. Тон у немцев подавленный. Фон Риббентроп повторяет свои антианглийские лозунги с тем однообразием, которое побудило Геринга дать ему кличку "первого попугая Германии"…"
— Владимир Геннадьевич, ваше мнение — кто же помешал Гессу выполнить его задачу по подготовке сепаратных переговоров между Германией и Великобританией?
— С большой долей уверенности можно говорить, что "миссию Гесса" сорвал сэр Уинстон Черчилль, которому было невыгодно дальнейшее усиление германского влияния на европейском континенте. Напротив, вооруженное столкновение между нацистской Германии и Советской России полностью удовлетворяло бы амбиции "туманного Альбиона". Когда две континентальные державы обескровили себя в беспощадной борьбе (национал-социалисты против коммунистов), Великобритания заняла бы лидирующее положение в Европе. Однако история распорядилась иначе.
— С какой степенью полноты рассекречены в Великобритании документальные материалы, связанные с визитом Гесса?
— Как видно из информации, опубликованной на сайте spandau-prison.com, "почти все материалы давно рассекречены, многие выложены в интернет". Создатели данного сайта приводят в подтверждение и слова британского историка Питера Пэдфилда из примечания к последнему изданию его знаменитой книги "Секретная миссия Рудольфа Гесса": "В течение 1991 и 1992 годов засекреченные до 2017 года документы по Гессу, на которые делались ссылки в этой книге, были открыты".
Что скрывается за словами "почти все материалы", сказать трудно. Но я бы не стал ждать от англичан сенсационных документов о миссии Гесса. Слишком хорошо "владычица морей" умеет хранить свои секреты. Да, по большому счету, это и не нужно. Истинная причина полета Гесса к англичанам и без того понятна – заручиться их поддержкой перед походом на Восток. Знал ли Адольф Гитлер о планах Гесса — разумеется, знал. Как следует из показаний Пинтша, Гесс полетел в Шотландию по воле фюрера.
В заключение нашей беседы я со своей стороны хотел бы выразить признательность научному сотруднику Германского научного института в Москве доктору Маттиасу Улю за предоставленные архивные материалы.

ДАЛЕКО ЛИ ДО ВОЙНЫ?
МАКСИМ БРАТЕРСКИЙ
Доктор политических наук, профессор Департамента международных отношений НИУ «Высшая школа экономики».
МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ: ЭКОНОМИКА, ИДЕОЛОГИЯ И ПОЛИТИКА
Мы вступаем в эпоху большей разобщённости, а объединительные скрепы между народами и странами достаточно слабы. В прошлый раз похожая картина сложилась в межвоенный период. Аналогии в таких вопросах обычно неуместны, но схожие черты между «тогда» и «сейчас» видны, это разъединение и отсутствие глобального лидера при ослаблении мировых институтов на фоне глубокого экономического кризиса. Будем стараться выходить из сложившейся ситуации с малыми потерями, но помнить, что не так давно дело закончилось мировой войной.
Пандемия 2020 г. стала поворотным пунктом во многих процессах – глобализации, регионализации, борьбы национальных государств за выживание. Чего-то подобного ждали многие, и реакция государств и обществ на новый вирус оказалась неожиданно резкой и глубокой. Под лозунгом борьбы с эпидемией многие стали открыто делать то, чего давно хотели: закрывать границы, укреплять суверенитет, возвращать из-за рубежа производства, переводить отношения с соседями на двустороннюю основу.
Пандемия коронавируса совпала с глобальным экономическим кризисом, причём в этот раз это не просто финансовый кризис, а спад реальной экономики. Создались условия для идеального шторма в международных делах: эпидемия заставляет страны обосабливаться и, насколько возможно, переходить на самообеспечение. Экономический кризис остро поставит вопрос о восстановлении национальных экономик, прежде всего о создании рабочих мест, и происходить это будет не на основе международного сотрудничества, а на фоне острейшего международного соперничества. Не будем забывать и о многочисленных действующих санкциях. В отсутствие признанного всеми международного гегемона (лидера), так как США им уже не являются, а Китай им пока не стал, можно ожидать разрушение сотрудничества во многих областях, глобальную экономическую рецессию и рост числа разных конфликтов. Как представляется, отправной точкой многих процессов станет сжатие мировой торговли из-за её секъюритизации, то есть растущего понимания того, что она является не только экономическим, но и политическим феноменом, существенно влияющим на национальную безопасность и внутреннюю стабильность государств.
Торговля
Если правительства ведущих государств сделают для себя соответствующие выводы, то их приоритетом станет самообеспечение своих государств в критических областях, и они всё меньше будут рассчитывать на внешнюю торговлю. Эта пандемия – не последняя, и, как показал опыт, полностью полагаться на международное разделение труда, следовательно, на торговлю, нельзя. Что толку делать производство медицинских масок или препаратов экономически более эффективным, выводя его за границу, если в случае кризиса товары невозможно получить либо из-за остановки производства за границей, либо из-за фактического закрытия торговых путей? Разумеется, мировая торговля полностью не остановится, но неизбежно её сжатие. Имеется в виду не только торговля товарами и услугами, но и международные инвестиции, и передача технологий. Сокращение торговли будет иметь серьёзные идеологические и политические последствия.
Инвестиции
Прямые инвестиции упадут по тем же причинам, по которым снизится объём мировой торговли. Спекулятивный капитал, несомненно, продолжит путешествовать по планете, хотя и здесь возможны некоторые национальные ограничения, как случилось в кризис 2008 года. В последние десятилетия прямые инвестиции в основном обслуживали идею международного разделения труда и использования для глобального производства относительных преимуществ отдельных стран, таких как низкая стоимость рабочей силы, наличие сырья, удобное географическое положение. В условиях секъюритизации внешней торговли из-за пандемии и общего роста экономического национализма по причине кризиса (решоринг, то есть возвращение производств и создание рабочих мест у себя) инвестиционные планы многих глобальных компаний будут пересмотрены. Правительства стран их базирования убедительно донесут до них свою точку зрения. Разумеется, прямые инвестиции, нацеленные на производство товаров для местных рынков, сохранят привлекательность.
Мировая валютная система
В условиях снижения объёма мировой торговли сократится запрос на объём международной валюты, в основном американского доллара, который эту торговлю обслуживает. Если объём торговых и инвестиционных транзакций внутри национальной экономики будет расти по сравнению с количеством внешнеторговых операций, то и спрос на национальную валюту превысит спрос на мировую. Также можно ожидать, что большинство растущих экономик, таких как страны БРИКС, сосредоточатся на решении внутренних проблем и снизят активность по реформированию мировой валютной системы.
Доллар никуда не исчезнет, трансформации мировой валютной системы не произойдёт, но международная валютная кооперация ослабнет. Более остро
Более остро встанет вопрос доверия. Все доверяли доллару в эпоху сотрудничества, но сохранится ли доверие в новых условиях?
Интеллектуальная собственность
Политика глобальной защиты интеллектуальной собственности, реализованная в 1990-х гг. развитыми странами, которые эту собственность производят, подвергнется эрозии. Страны, потребляющие её, никогда не были заинтересованы в соблюдении глобального режима защиты, и сегодня они воспользуются моментом.
Во-первых, их экономики в большей степени будут ориентироваться на внутренний рынок, и законные владельцы интеллектуальной собственности лишатся некоторых рычагов воздействия, когда они могли закрывать свои рынки от «контрафакта».
Во-вторых, обладание критическими технологиями становится ключевым фактором национальной безопасности: если стране необходима вакцина для защиты населения, а стоимость её высока, то её украдут. То же относится и к другим высокотехнологичным продуктам и процессам.
В-третьих, глобальный режим защиты интеллектуальной собственности основывался на ведущей роли таких международных институтов, как ВТО, и на единстве стран-производителей. ВТО, видимо, погрузится в ещё более глубокий кризис, а страны-производители будут демонстрировать всё меньше солидарности. Среди них расцветёт диссидентство и оппортунизм, а это даст странам-потребителям дополнительный шанс.
Глобальные институты
В отличие от финансового кризиса 2008 г. глобальные, региональные и международные институты вроде G-20, Европейского союза, ОПЕК в этот раз проявили себя негативно, слабо или вообще никак. Возможно, их влияние возрастёт позже, на этапе выхода мировой экономики из кризиса, но пока его не видно. Незаметна и роль такого специфического и непререкаемого до недавнего времени института, как глобальное лидерство (гегемония) Соединённых Штатов. Америка занята своими проблемами, и если в недавнем прошлом она создавала международные коалиции для борьбы с Эболой, то сегодня пытается купить чужие разработки вакцины против коронавируса для себя.
Ослабление мировых институтов и многостороннего режима, чего невозможно не заметить, также подталкивают государства к стратегии самодостаточности, в том числе в экономике.
Миграция
Идее открытого мирового сообщества без разделяющих его национальных границ уже был нанесён тяжелейший удар миграционным кризисом 2015 года. При пандемии большинство национальных государств полностью закрыли границы для иностранцев, и открывать они их будут медленно и неохотно. Скорее всего, многие страны введут постоянный медицинский контроль приезжающих, что усложнит и удорожит перемещение.
Теперь беженцев и экономических мигрантов можно будет не пускать в страну не потому, что местное население против, а потому что у мигрантов нет справки и они представляют собой потенциальную эпидемиологическую опасность.
Трудно пока сказать, насколько новые реалии скажутся на туризме, особенно в странах, где туризм является системообразующей отраслью экономики. Но космополитичная идея – «гражданин мира», который находится там, где ему хочется или куда его влечёт заработок, – на ближайшие годы становится неактуальной. Исчезнет целая социальная группа, образ жизни. Так, дауншифтинг, когда человек сдаёт в аренду свою квартиру в мегаполисе развитой страны или получает достаточно скромную для развитой страны пенсию, а сам живёт где-то под пальмами и довольствуется малым, станет невозможным.
Идеология
С совсем небольшой натяжкой можно утверждать, что в основе либерализма – как идеологии внутренней и внешней политики – лежит идея специализации, разделения труда и торговли. Эта идея была выдвинута и обоснована достаточно давно Адамом Смитом, Давидом Рикардо, Джоном Миллем. На той же идее – приоритете международной торговли – базирутся и неомарксистские теории зависимости (Рауль Пребиш, Ганс Зингер, Фернандо Энрике Кардозо) и мир-системы (Иммануил Валлерстайн). Кстати, и идеи экономического национализма – меркантилизма – (Александр Гамильтон, Фридрих Лист) тоже основаны во многом на регулировании международной торговли национальным государством. Если роль торговли в экономике и мировых делах снижается, то любые существующие сегодня ведущие политические философии (кроме национализма, пожалуй) становятся ущербными, а неизбежный отрицательный экономический эффект и снижение уровня потребления во всем мире обесценивают эти идеи в глазах общества. Конец истории проявляется не в окончательной победе либерализма (Фрэнсис Фукуяма), а в обесценивании всех идеологий.
Например, под большим вопросом идея безусловности личных свобод и прав, свободы передвижения и выбора места жительства, мобильности в рамках своего государства (США) или мечта переехать в Европу (Северная Африка).
На первое место выходят уже не вопросы политического строя, степени демократичности политической системы, а культурный, цивилизационный фактор (Хантингтон).
Культуры мира в создавшейся ситуации
В такой ситуации, судя по эффективности борьбы с пандемией, у культур, представляющих Большую Евразию (Китай, Россия, Южная Корея, Япония), потенциал устойчивости выше.
Он оказывается сильнее как в операционном смысле, в плане борьбы с новыми вызовами, так и в морально-философском, поскольку ослабление либеральной идеологии и демократического политического устройства не выбивают у них полностью почву из-под ног, чем рискуют страны Атлантического сообщества.
Внутренняя целостность сообществ и входящих в них государств
Пандемия и начавшийся экономический кризис существенно ослабили международные сообщества различных типов – от цивилизационно-культурных вроде Атлантического сообщества до интеграционных вроде Европейского союза. Пандемия создала атмосферу взаимного недоверия, а экономический кризис, который ударил не столько по финансовой сфере, сколько по реальной экономике, недоверие укрепит и приведёт к экономическим и политическим конфликтам между странами. Ситуация будет похожа на Великую депрессию 1930-х гг., когда каждое национальное государство старалось решить свои экономические проблемы за счёт других: что называется, Beggar thy neighbor policy («разори соседа»).
Вместе с тем можно ожидать, что общества окажутся более сплочёнными общими бедами и проблемами, и к власти будут приходить не просто правые популисты, а национально ориентированные лидеры, искренне болеющие за судьбы своих стран. Для укрепление глобального миропорядка это ничего хорошего не обещает, но граждане отдельных государств, возможно, почувствуют себя комфортнее.
Геополитика
До сегодняшнего дня доминирующая и успешная геополитическая стратегия заключалась не в контроле территории, а в контроле мировой торговли через валютную и логистическую системы, а также через глобальное военное присутствие. Именно для этого Атлантическое сообщество создавало международные институты и режимы, именно для этого развёртывалась глобальная система военных баз и мобильных соединений флота. Эпоха колониализма давно завершилась, на смену ей пришли МВФ, ВТО, глобальная система логистики и разделения труда, в которой граждане одних стран выполняют чистую и высокооплачиваемую работу, а граждане других – грязную и низкооплачиваемую. Система защиты интеллектуальной собственности тоже является частью мировой системы торговли, выстроенной в последние десятилетия.
В отсутствие (или при значительном сокращении) мировой торговли эти институты и стратегии теряют смысл. Если экономическая мотивация таких институтов и стратегий снижается или исчезает, то они оказываются ненужными. В новой ситуации сухопутные государства не выигрывают и даже многое теряют, но морские государства теряют гораздо больше. Исторически страны Евразии были связаны с морской торговлей гораздо слабее – внешняя торговля по морю стала играть заметную роль в их экономике только в последние десятилетия. Надо заметить, что и в этих условиях они старались диверсифицировать способы доставки («Пояс и путь» – Китай, трубопроводы – Россия), частично и для того, чтобы уменьшить зависимость от морской системы мировой торговли, которая контролировалась Атлантическим сообществом. Теперь эта система ослабнет в принципе, и из огромного преимущества, источника влияния и заработков станет серьёзной обузой для атлантистов.
***
Некое ощущение грядущей грозы витало в воздухе давно. Внятного международного порядка после исчезновения Советского Союза так и не сформировалось, единого культурного и идеологического пространства тоже. Мировая экономика принимала всё более искусственные и уродливые формы, опираясь на бесконечную денежную эмиссию, кредиты, которые никто не собирался отдавать и растущее экономическое неравенство как между странами, так и внутри национальных обществ. Общественное и идеологическое развитие тоже остановилось. Багаж идей, с которыми живёт человечество, остался таким же, что и 150 лет назад, и «консервативные массы» так и не восприняли концепции нового идеального мира, тем более что их и нет.
Пандемия и экономический кризис послужили спусковым крючком для национальных элит – никто больше ждать не мог и не хотел. Наверное, начавшиеся процессы можно охарактеризовать как реакцию государств и обществ на стремительную экономическую глобализацию, при том что мир до сих пор состоит из национальных государств и политической интеграции не наблюдается, а общества, по крайней мере – многие, ещё сохраняют национальную идентичность. Возможны и другие объяснения. Ясно одно, мы вступаем в эпоху большей разобщённости, а объединительные скрепы между народами и странами достаточно слабы.
В прошлый раз похожая картина сложилась в межвоенный период. Аналогии в таких вопросах обычно неуместны, но схожие черты между «тогда» и «сейчас» видны, это разъединение и отсутствие глобального лидера при ослаблении мировых институтов на фоне глубокого экономического кризиса. Будем стараться выходить из сложившейся ситуации с малыми потерями, но помнить, что не так давно дело закончилось мировой войной.
Статья написана при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-014-00038 «Архитектура безопасности в Большой Евразии: состояние, перспективы и возможности для России».

Трампизм
год после инаугурации 25-го президента США
Владимир Овчинский
Подгоревшее в начале января 2018 года здание "Трамп Тауэр" в Нью-Йорке стало своеобразным символом годового нахождения Дональда Трампа в кресле президента Соединённых Штатов. Башня устояла, но дыма было много. Трамп подгорел, но закалился в огне.
Президента США — под следствие?
Казалось бы, "Рашагейт" неминуемо ведёт к импичменту. К настоящему моменту в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера двое приближённых Трампа — бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн и сотрудник предвыборного штаба Джордж Пападопулос — признали себя виновными в даче ложных показаний ФБР.
В рамках расследования были предъявлены обвинения и бывшему менеджеру предвыборной кампании Полу Манафорту и его партнёру Ричарду Гейтсу.
Роберт Мюллер сказал юристам Трампа, что его команда, вероятно, попытается организовать беседу с самим президентом в рамках расследования по российскому делу и что эта беседа может состояться в ближайшие недели, сообщила 8 января газета "Вашингтон Пост".
8 января канал "Эн-Би-Си" сообщил, что началось предварительное обсуждение возможного допроса президента США Дональда Трампа в рамках расследования российского вмешательства в выборы.
Отвечая на вопрос о том, согласился ли бы он побеседовать с командой Мюллера, Трамп сказал, что готов это сделать. При этом он также выступил в защиту своей команды: "Никакого сговора не было. Никакого преступления не было, — сказал он, выступая перед журналистами в президентской резиденции Кэмп-Дэвид в Мэриленде. — В теории все говорят мне, что в отношении меня расследование не ведётся".
Тупиковая литературная провокация
Масла в огонь подлила написанная журналистом Майклом Уолфом книга "Огонь и ярость в коридорах Белого дома Трампа". Уолф утверждает, что провёл в Белом доме много месяцев и проинтервьюировал несколько сотен человек, описывает администрацию Трампа как бессистемную хаотическую организацию, где все конкурируют друг с другом за влияние на президента — и никто этого президента не уважает. Сам Трамп уже заявил, что автор книги лжёт, а его юристы потребовали от издательства не выпускать её в продажу и извиниться.
На сайте Би-Би-Си были опубликованы десять главных откровений из этой книги.
Стив Бэннон обвинил сына Трампа в измене.
В книге утверждается, что бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон назвал изменой встречу между сыном Трампа и группой россиян накануне выборов.
На этой встрече в июне 2016 года, всего за несколько месяцев до президентских выборов в США, россияне якобы предложили Дональду Трампу-младшему компромат на Хиллари Клинтон.
Вот что, согласно Майклу Уолфу, Бэннон сказал ему о той встрече: "Три главных парня кампании не увидели ничего плохого в том, чтобы встретиться с представителями иностранного правительства в конференц-зале на 25-м этаже "Трамп-тауэр", не пригласив туда юристов. Ни одного юриста. Даже если они не видели в этом ничего предательского и непатриотичного, хотя я называю это именно так, они должны были в первую очередь проинформировать ФБР".
Обвинение, на первый взгляд, серьёзное, но в таком виде на обвинение в измене, на наш взгляд, явно не тянет.
Но это единственное серьёзное обвинение, содержащееся в книге Уолфа.
Рассмотрим другие.
Трамп был обескуражен своей победой.
В своей статье в журнале "Нью-Йорк Мэгэзин", вкратце пересказывающей отрывки из книги, Уолф описывает изумление и смятение, царившие в штабе Трампа в ноябре 2016 года после объявления о его победе.
"Вскоре после 20.00 в день выборов, когда неожиданный тренд — вероятная победа Трампа — стал реальностью, Дон-младший говорил своему приятелю, что отец выглядел так, будто увидел привидение. Мелания была в слезах, и это были вовсе не слёзы радости. В последующий промежуток времени, составивший менее часа, как вспоминал потом Стив Бэннон, сбитый с толку, обескураженный Трамп всё больше и больше превращался в Трампа, охваченного ужасом. Но впереди была ещё окончательная трансформация: Дональд Трамп внезапно стал человеком, который на самом деле поверил в то, что он достоин и в полной мере способен стать президентом Соединённых Штатов".
Здесь мы видим описание обычного человеческого стресса — индивидуального и группового. Что и понятно, учитывая ситуацию.
Трамп злился на инаугурации.
Уолф пишет: "Трамп не получил никакого удовольствия от своей инаугурации. Он злился на то, что звёзды первой величины пренебрегли этим событием. Был раздражён тем, что пришлось провести ночь в президентском отеле "Блэр Хаус" (традиция, начатая президентом Джимми Картером, — прим. Би-Би-Си). Дёргал свою жену, которая, казалось, вот-вот разрыдается. Весь день он ходил с таким видом, который, по словам его ближнего круга, у него бывает при игре в гольф: злой, недовольный, сгорбленный, руки болтаются, брови сдвинуты, губы поджаты".
Это — вообще бытовая ситуация, не имеющая политического значения.
Трамп боялся Белого дома.
Уолф пишет: "Белый дом показался Трампу местом неприятным и даже немного страшным. Он сразу удалился в свою спальню. Впервые со времён президента Кеннеди президентская чета в Белом доме потребовала для себя отдельные спальни. Он сразу же попросил в дополнение к стоявшему там телевизору принести ещё два и установить на дверь замок, проигнорировав спецслужбы, настаивавшие, что у них должен быть доступ в комнату".
А кто не испугается? Ведь предстояло руководить многими мировыми процессами.
Иванка Трамп хочет быть президентом.
Майкл Уолф утверждает, что дочь Дональда Трампа и её муж Джаред Кушнер заключили между собой соглашение, по которому из них двоих в будущем именно Иванка попытается выдвинуться в президенты.
"Колеблясь между рисками и наградой, Джаред и Иванка всё же согласились взять на себя предложенные им роли в Восточном крыле. Буквально все, кого они знали, посоветовали им это сделать. Это было совместное решение семейной пары и, по существу, их совместная работа. Они заключили между собой чрезвычайно серьёзное соглашение: если в будущем появится такая возможность, Иванка выдвинется в президенты. Первой женщиной-президентом будет не Хиллари Клинтон, решила Иванка, а она. Стив Бэннон, который в своё время придумал молодым супругам ставшее популярным прозвище "Джарванка" (Джаред и Иванка), по его словам, пришёл в ужас, когда ему стало известно о намерениях пары".
Ну, подобные слухи в России постоянно распускались в период президентства Ельцина в отношении его дочери Татьяны.
Иванка издевается над причёской отца.
Согласно автору книги, "первая дочь Соединённых Штатов" поддержала шутку о том, что причёска Дональда Трампа объясняется тем, что ему удалили часть скальпа.
Обычные семейные подколы.
Белый дом не уверен в приоритетах.
Кэти Уолш, заняв год назад должность заместителя главы аппарата Белого дома, спросила у главного советника президента Джареда Кушнера, какие цели ставит перед собой администрация. Однако, по версии Майкла Уолфа, Джаред не смог ей ответить.
В настоящий момент, когда опубликована новая Стратегия национальной безопасности США, утверждённая Трампом, это вообще пустое наблюдение.
Трамп восхищается Мёрдоком.
Майкл Уолф, написавший ранее биографию Руперта Мёрдока, описывает, с каким уважением относится президент Трамп к пожилому медиамагнату.
Это просто человеческие взаимоотношения и симпатии. И Мёрдок достоин уважения объективно.
Мёрдок называет Трампа идиотом.
Даже друзья могут ссориться и называть друг друга более крепкими словами. В чём компромат, донесённый Уолфом?
Кстати, по поводу "идиота". 8 января президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер (наследник компании "Эсте Лаудер") заявил, что знает Трампа более 50 лет, с тех пор как они оба учились в университете Пенсильвании, и считает его "человеком невероятной проницательности и интеллекта". Кому будем верить — Уолфу или Лаудеру?
Флинн знал, что связи с Россией ему аукнутся.
Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн знал, что получение 45 тыс. долларов от "России Сегодня" за речь, произнесённую в 2015 году на организованной российским прокремлёвским телеканалом конференции, не сойдёт ему с рук, пишет автор книги.
Но это проблемы Флинна, за что его и дёргает ФБР.
Трамп как борец с российским влиянием
Пока, судя по опубликованным фрагментам, только один момент представляет опасность для Трампа. Но этот случай давно известен ФБР и входит в рамки "Рашагейта".
Атака с книгой Уолфа явно оказалась неэффективной. Трамп после Нового года предпринял более серьёзный шаг. Им стало интервью директора ЦРУ Майка Помпео 7 января телеканалу "Фокс Ньюс".
Вопросы о дееспособности президента США Дональда Трампа на этом посту ставят те, кто не смирился с его победой на выборах 2016 года, заявил Майк Помпео. "Президент вовлечён в решение проблем, понимает сложность, он задаёт действительно сложные вопросы нашей команде в ЦРУ, чтобы мы могли предоставить всю информацию, которая ему нужна для принятия правильных, обоснованных политических решений", — сказал глава ЦРУ.
Как следует из расписания Трампа, которое опубликовано пресс-службой Белого дома, глава государства почти каждое утро проводит брифинги по вопросам разведки и национальной безопасности.
Это стало ответом на упрёки Трампу, что он якобы не прислушивается к мнению американской разведки и вообще к чужому мнению.
Желая выглядеть "святее Папы Римского", а вернее — "святее ФБР", Трамп начал свою кампанию изобличения России "в подрыве демократических основ Америки и других государств".
В первые дни января 2018 года советник президента США по вопросам национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил о "первых признаках вмешательства России в грядущие президентские выборы в Мексике". По словам Макмастера, Россия вмешивалась и в референдум о независимости Каталонии.
Аналитики известной компании "Стратфор" не видят признаков снижения напряжённости между Москвой и Вашингтоном. В 2018 году Вашингтон, по их мнению, усилит давление на Москву посредством серии расширенных санкций, нацеленных на финансовую стабильность России, её олигархов, репутацию и оборонную промышленность, говорится в материале, опубликованном 28 декабря 2017 года на сайте "Стратфора".
В феврале 2018 года министерство финансов США представит подробности о возможном расширении санкций, но уже известно, что новые ограничительные меры будут нацелены на российский суверенный долг и олигархов, пишут аналитики. Это связано с расследованием вмешательства России в выборы президента США, говорится в материале.
В "Стратфоре" прогнозируют, что в 2018 году США, скорее всего, введут санкции против российских оборонных компаний, которые предоставляют технологии или разработки, нарушающие Договор о промежуточных ядерных вооружениях 1987 года.
"Министерство торговли США готовит список компаний, которые, как считается, участвуют в разработке оружия, нарушающего договор", — отмечается в материале. В "Стратфоре" подчёркивают, что для США и России 2018-й станет ещё одним "сварливым годом".
2 февраля 2018 года власти США должны представить Конгрессу детальный отчёт о российских олигархах. Вслед за этим наверняка последуют новые, малопредсказуемые санкции: от персональных, вплоть до охоты по всему миру за отдельными российскими капиталами, до государственных, например, запрета на покупки российских гособлигаций.
По-своему готовятся к новому "шоу" и всякого рода "разоблачители". В 2016 году на смену "панамскому" досье пришло "багамское". Недавно возникло новое — "бермудское" досье. Одна из фирм-регистраторов на Бермудских островах начала предупреждать своих клиентов о возможном раскрытии информации об их офшорах на Бермудских, Виргинских, Каймановых островах, а также на островах Мэн и Гернси (все — под британской юрисдикцией). Данные похищены хакерами и могут быть обнародованы в ближайшее время.
Отбиваясь от обвинений в измене, Трамп, тем не менее, одновременно успел немало сделать на экономическом поприще.
Вместо экономического популизма — экономический подъём и финансовая стабильность Америки
Такие выдающиеся экономисты современной Америки, как Нуриэль Рубини и Джозеф Стиглиц, будучи ярыми противниками Трампа, предвещали провалы его экономической, финансовой и налоговой политики.
В ноябре 2017 года Рубини на страницах Project Syndtcate писал, что "американский плуто-популистский президент начал проталкивать налоговый план, способствующий дальнейшему росту экономического неравенства, в тот момент, когда разрыв в уровне доходов и богатства уже и так увеличился под влиянием глобализации, торговли, миграции, новых технологий, которые снижают трудоёмкость, а также под влиянием рыночной консолидации во многих секторах.
Богатые люди склонны сберегать больше, чем люди из среднего и рабочего классов, вынужденные тратить основную часть своих доходов на удовлетворение базовых потребностей. Это означает, что налоговый план Трампа мало чем поможет росту экономики; более того, он может привести к снижению его темпов. Зато он намного увеличит и так уже излишне высокое бремя госдолга. Всё это — фейковая реформа, которую предлагает администрация альтернативных фактов вместе с партией, потерявшей свои экономические ориентиры".
Но реальность оказалась иной. Администрация президента США отпраздновала налоговую победу.
Эксперты журнала "Форбс" полагают, что налоговая реформа Трампа переводит транснациональные компании на своеобразный территориальный налог и устанавливает налог на репатриацию в размере 15,5% для денежных активов и 8% для неденежных активов вроде основных средств. Предположительно, это решит проблему двойного налогообложения прибыли, полученной за рубежом, на которую годами жаловались компании и которая вынудила транснациональные компании скопить триллионы долларов в иностранных юрисдикциях, таких как Швейцария, Ирландия и Бермуды.
Эти изменения, которые являются частью более широкой реформы, могут существенно повлиять на поведение корпораций и инвесторов. Налоговый кодекс перестанет стимулировать компании брать в долг, чтобы снизить фактическую ставку налогообложения. Вдобавок налог на доходы корпораций в размере 21% и поощрение репатриации активов снизят привлекательность юрисдикций с низкими налогами.
Слияния и поглощения, финансируемые за счёт заёмных средств, кажется, отойдут на задний план после налоговой победы Трампа.
Хедж-фонды могут отказаться инвестировать в эти акции. Теперь они, вероятно, предпочтут американские компании с надёжными перспективами органического роста и качественной бухгалтерской отчётностью. Такие компании больше всех выиграют от сокращения налогов. В целом это может быть полезно для инвестиционных портфелей Уолл-стрит.
Выводы, к которым приходят экономические эксперты: законопроект Трампа примечателен главным образом из-за сокращения ставки налога на доходы корпораций до 21%. Но такие изменения, как ограничение налогового вычета по процентам по задолженности, могут радикально изменить поведение корпораций и инвесторов к лучшему.
Уже с начала января 2018 года на фондовой бирже продолжается оживление на фоне уверенных экономических показателей.
Промышленный фондовый индекс Доу Джонс впервые превысил отметку 25000 пунктов, а другие ключевые индексы вновь достигли рекордных высот на фоне уверенных экономических показателей, продливших новогоднее оживление на фондовой бирже.
Индекс, охватывающий 30 крупнейших промышленных компаний США, в 2017 году пересёк пять тысячных отметок благодаря хорошим показателям корпоративных прибылей и надеждам на реализацию повестки президента Дональда Трампа, призванной стимулировать рост экономики.
Индекс поднялся на 5000 пунктов меньше чем за год, что стало для него самым резким скачком роста с момента его создания в мае 1896 года.
Хорошие данные по промышленности и сфере услуг в крупнейшей экономике мира задали тенденцию на повышение. Также 4 января были опубликованы данные о том, что в декабре 2017 года американские компании активизировали наём новых сотрудников.
Оживление на бирже свидетельствует о том, что инвесторы рассчитывают на сохранение благоприятных условий, по меньшей мере, в первые месяцы 2018 года.
Как пишет газета "Нью-Йорк Пост", "первый год президента Трампа начинает выглядеть большой победой". Газета приводит список экономических достижений президента Трампа: это целый ряд президентских указов, отменяющих указы предшественника, препятствовавшие нефтяному бурению в Арктике и строительству новых нефтепроводов. Это превращение страны в заметного экспортёра энергоресурсов. Это отмена требования к американцам об обязательном приобретении медицинской страховки. Это одобрение налоговой реформы. Это снижение безработицы.
Во многом под экономическим давлением финансового еврейского капитала состоялось признание Трампом Иерусалима единой и неделимой столицей Государства Израиль. Он также поручил госдепартаменту начать работу по переносу посольства США из Тель-Авива в Святой город.
Это также повлекло поддержку решений Трампа в сфере экономики одной из основных сил финансового капитала США.
Трамп собирается посетить Давосский форум, который пройдёт 23–26 января 2018 года. Последним из американских президентов, кто туда приезжал, был Билл Клинтон в 2000 году. Трамп хочет представить мировым лидерам бизнеса и политики свою программу "Америка на первом месте". При этом основатель Давосского форума Клаус Шваб уже успел похвалить Трампа за дипломатический прогресс в отношениях с Китаем и другими ведущими странами.
Неслучайно эти и другие факторы привели к тому, что, по данным социологической службы "Гэллап", рейтинг Трампа в январе пополз вверх.
Трамп готовится к полётам на Луну и Марс
Трамп подписал документ, который предписывает NASA разработать проекты для высадки людей на Луну. Этот полёт должен стать основой для пилотируемых полётов на Марс и освоения человеком Солнечной системы.
Кроме того, Трамп подписал указ об изменении национальной космической политики США. В программу добавлены планы по возвращению астронавтов на Луну с помощью партнёрства с частными компаниями. Лунная миссия станет основой для пилотируемой миссии на Марс и другие объекты Солнечной системы. Об этом сообщается на сайте NASA.
"Указ, который я сегодня подписал, перефокусирует космическую программу США в области пилотируемой космонавтики и исследований, — заявил Трамп. — Это будет первым шагом по возвращению американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года. На этот раз мы не только установим флаг и оставим следы, мы создадим основу последующей миссии на Марс и, возможно, во многие другие миры".
Новая политика предписывает NASA возглавить инновационные программы с использованием коммерческого и международного партнёрства для расширения возможностей человечества в Солнечной системе и получения новых знаний для Земли. Цель нового указа — повышение эффективности взаимодействия государства, частной промышленности и международного сотрудничества для возвращения человечества на Луну, которое станет основой для будущего полёта человека на Марс.
Трамп как борец с незаконной миграцией
С начала президентства Трампа убежище в стране получили только 29022 беженца, что является самым низким показателем за последние 15 лет. Об этом сообщает американское издание "Ю-Эс-Эй Тудей" со ссылкой на государственный департамент США.
Последний раз в соответствии с приведённой статистикой такое резкое снижение потока беженцев фиксировалось в 2002 году — после террористической атаки 11 сентября 2001 года.
"В дальнейшем при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме квоты на приём беженцев колебались от 70 тысяч до 80 тысяч человек в год. В 2016 году в США по этой программе, которая распространяется на тех, кто подвергается гонениям в своих странах по политическим, национальным, религиозным или иным мотивам, перебрались 94,8 тысячи человек", — приводит свои данные газета.
Как известно, Трамп ещё в 2015 году, в самом начале своей избирательной кампании, обещал максимально ужесточить миграционную политику, в особенности для выходцев из мусульманских стран. Уже в первую неделю своего президентства Трамп подписал исполнительный указ о приостановке на четыре месяца действовавшей программы приёма беженцев — для анализа процедуры проверки прибывающих в США. При этом документ составлен так, что фактически лишает возможности перебраться в США выходцев из Египта, Ирана, Ирака, Ливии, Мали, Северной Кореи, Сомали, Судана, Южного Судана, Сирии и Йемена.
Но Трамп является довольно гибким политиком. 9 января он встретился с законодателями от обеих партий, призвав их найти компромисс по вопросу о судьбе тысяч молодых нелегальных мигрантов. При этом подчеркнул, что любая договорённость по этому вопросу должна предусматривать финансирование строительства стены на границе с Мексикой.
Трамп как ставленник американского ВПК
Трамп стал президентом США во многом благодаря своим обещаниям ВПК Америки.
И эти обещания он выполняет. 12 декабря 2017 года Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2018-й финансовый год.
Бюджет — 692 миллиарда долларов, что несколько больше, чем запрашивала администрация США. 4,6 миллиарда выделяется на инициативу по поддержке союзников в Европе, направленную на сдерживание России. В документе это объясняется ответом на "агрессию".
Закон также продлевает запрет на сотрудничество с российским Минобороны.
Кроме того, бюджет предполагает военную помощь Украине на 350 миллионов долларов, половина из этой суммы может быть выделена лишь по результатам реформ в военной сфере.
Также выделяется 4,4 миллиарда долларов на противоракетную оборону, в том числе на размещение дополнительных ракет-перехватчиков на западном побережье США для защиты от угрозы со стороны КНДР.
Важнейшим для российско-американских отношений среди положений бюджета стал раздел, предусматривающий финансирование научных разработок в области ракет средней и меньшей дальности. Конгресс принял такое решение, мотивируя его необходимость якобы нарушениями Россией положений двустороннего договора, заключённого в 1987 году. В общей сложности выделяется 58 миллионов долларов на разработку ракеты наземного базирования.
Конгресс США намерен обязать президента сообщать о российских чиновниках, против которых нужно вводить санкции за Договор РСМД.
По прогнозам экспертов, планы Трампа усилить вооружённые силы Америки приведут к увеличению расходов на оборону в следующем десятилетии до уровня выше рекордного, сообщается в докладе Управления Конгресса США по бюджету (СВО).
"На период после 2018 года СВО определяет, что цели администрации по вооружённым силам приведут к стабильному увеличению расходов, так что к 2027 году базовый бюджет (в долларах 2018 года) достигнет 688 миллиардов долларов, более чем на 20% больше, чем максимальные расходы в 1980-х годах", — сообщается в докладе.
Согласно документу, существует несколько факторов, способствующих росту расходов. Среди них призывы увеличить численность вооружённых сил до 1,2 миллиона к 2027 году, планы по увеличению количества военных кораблей с 279 до 355, числа подразделений истребителей ВВС — с 55 до 60.
Особое внимание следует обратить на следующий момент. В 2017 году при Трампе в 149 странах мира (из 190 существующих) были развёрнуты подразделения сил специальных операций (ССО), в том числе "морские котики" и "зелёные береты". При Обаме в 2016 году такое развёртывание было осуществлено в 138 странах. Только в Африке в первый год правления Трампа ССО были задействованы в боевых операциях в 33 странах. Трамп предоставил военачальникам большие полномочия начинать нападения в зонах квази-войн, вроде Йемена и Сомали. Эти силы за первые полгода работы Трампа в качестве президента провели в пять раз больше смертоносных антитеррористических операций, чем за последние полгода работы бывшего президента Обамы.
Краткие итоги
В борьбе с внутренними врагами (антитрамповцами) Трамп не только уцелел, но закалился и укрепил свои позиции. Поскольку он полностью солидаризуется с хозяевами ВПК, руководителями ЦРУ и еврейским финансовым капиталом, вряд ли следует ожидать требований о его импичменте.
Исходя из этих же причин Трамп, по всей видимости, может занять позицию жёсткого давления на Россию: санкции, преследование олигархов, российских чиновников, помощь киевскому режиму (прежде всего военная) — и мягкого давления на Китай, в котором элиты США видят главного своего соперника. При этом следует ожидать всевозможных попыток помешать развитию союзнических отношений России и Китая.
Трамп не станет останавливать планы своих спецслужб по "революционному" свержению нынешнего российского политического руководства по образцу классических "оранжевых" переворотов. Причём, скорее всего, здесь будет задействован механизм стравливания российских олигархических групп с властными структурами. И такие попытки уже начались, они усилятся сразу после 2 февраля.
Открытые враги России именно на это делают ставку. Неслучайно такой русофоб, как инициатор списка Магнитского Уильям Браудер, заявил, что действия администрации Трампа ему больше по душе, чем обамовской.
Такова политическая логика развития событий, исходя из которой предстоит выстраивать отношения России и США в новом 2018-м году.

Глобальное возрождение экономического национализма
Гленн Дисэн - Профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Резюме На фоне того, как геоэкономическая мощь всё больше смещается с Запада на Восток, экономический национализм становится стратегией развития поднимающихся государств, позволяя им изменить неблагоприятную асимметрию взаимозависимости в свою пользу.
Экономический национализм отстаивает идею государственного вмешательства в рыночную экономику для создания благоприятной симметрии и взаимозависимости с другими державами. Все крупные экономики достигли величия благодаря государствен.ному вмешательству, а экономический либерализм становится просто замаскированным экономическим национализмом со стороны гегемонов. Когда гегемон начинает управлять рычагами мировой экономики, в его интересах распространять идеи экономического либерализма для интеграции других держав в асимметричные партнёрства, усиливающие взаимозависимость. Тот факт, что администрация Дональда Трампа взяла на вооружение неприкрытый экономический национализм, указывает на ослабление привилегированно.го геоэкономического положения США. Свидетельствами относительного упадка являются разрушение производственной базы США и сокращение превосходства в инновациях, создание альтернативных торговых коридоров, неподконтрольных США, а также появление альтернатив Бреттон-Вудским институтам и доллару США. Геоэкономическая мощь смещается с Запада на Восток, способствуя возрождению экономического национализма в глобальном масштабе, и у России появляется возможность способствовать развитию более симметричных связей во взаимозависимой мировой экономике.
Ключевой постулат теории реализма гласит, что взаимовыгодное сотрудничество возможно лишь в случае установления баланса сил. Следовательно, устойчивая экономическая интеграция зависит от развития симметрии во взаимозависимости и снижения способности одного игрока добиваться для невыгодных для других игроков политических уступок. Усилия Китая и России, бросающих вызов коллективной геоэкономической гегемонии Запада под руководством США, в основном сводятся к подражанию экономическому национализму, взятому на вооружение США и Германией в XIX веке с целью замены «свободной торговли» под главенством Великобритании на более сбалансированную и «справедливую торговлю».
Вопреки либеральным теориям, взаимозависимость сводится к получению относительной экономической выгоды для последующей конвертации экономической зависимости в политическое влияние[1]. Сила и безопасность в этом случае становятся следствием искажения симметрии в партнёрствах взаимозависимости. Зависимость от других может быть снижена через большую самодостаточность и диверсификацию сети партнёрств, в то время как зависимость других может быть повышена посредством установления контроля, в том числе монополистического, над стратегическими отраслями, транспортными коридорами и такими механизмами сотрудничества, как финансовые институты и режимы регулирования торговли. Так, Альберт Хиршман, ведущий теоретик в области асимметрии взаимозависимости, утверждал: «Возможность прервать торговые или финансовые связи с какой-либо страной, считающаяся атрибутом государственного суверенитета — главная причина влияния или доминирования одной страны над другими, а также главная причина “зависимости от торговли”»[2].
В то время как Запад в значительной степени монополизировал искусство государственного управления в экономике в годы холодной войны, возврат Китая и России к капитализму требует, чтобы геополитика уступила место геоэкономике. В 1990 году Эдвард Люттвак прекрасно описал переход к геоэкономике: «Похоже, сегодня все согласны с тем, что методы коммерции вытесняют военные методы: располагаемый капитал вместо огневой мощи, гражданские инновации вместо военно-технического развития и рыночная экспансия вместо гарнизонов и военных баз»[3]. Аналогичным образом бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт ожидал, что экономические регионы будут расширяться, повторяя политику военных блоков, поскольку коллективные преимущества повышают конкурентоспособность стран в «борьбе за мировой продукт»[4]. Системное давление, оказываемое развивающимися экономическими регионами, такими как ЕС, НАФТА, ТТП или ТТИП, с целью получения возможности диктовать свои условия — дублирует логику баланса сил.
Экономический национализм олицетворяет собой необходимую и рациональную политику для изменения в свою пользу симметрии во взаимозависимых экономических отношениях. В своей книге «The National System of Political Economy» («Национальная система политической экономии»), изданной в 1841 году, Фридрих Лист описал теорию развития экономического национализма в противовес концепции экономического либерализма. В условиях существующей конкуренции между странами экономический национализм отводит большую роль государственному вмешательству. Лист утверждал: «До тех пор, пока существует разделение человеческого рода на независимые нации, политэкономия часто будет противоречить принципам космополитизма… со стороны государства было бы неразумным стремиться действовать в интересах благополучия всего рода человеческого в ущерб собственной силе, благополучию и независимости»[5].
Тем не менее, Лист признавал выгоды свободной торговли и потому предупреждал об опасностях чрезмерного государственного вмешательства и протекционизма. Пошлины и субсидии отстаивались как временные инвестиции для защиты зарождающейся промышленности, пока она не станет конкурентоспособной на мировых рынках: «Это плохая политика — регулировать и поддерживать все с помощью социально-властных рычагов там, где частные усилия и инициативы могут сделать это лучше. Но точно так же нельзя пускать на самотёк то, что можно отрегулировать исключительно с помощью государственного вмешательства»[6].
Три разновидности экономического национализма могут нарушить симметрию экономической взаимозависимости.Во-первых,следует использовать пошлины и субсидии для защиты зарождающихся отраслей национальной промышленности, пока они не станут конкурентоспособными на мировых рынках. Традиционно под этим подразумевалось прежде всего укрепление производственной базы, хотя в современных экономических условиях более важным является создание стиму.лов для технологических прорывов. Во-вторых, государства обязаны обеспечить контроль над материальной инфраструктурой для получения надёжного доступа к жизненно важным ресурсам и безопасным транспортным коридорам. В-третьих, необходимо создавать механизмы сотрудничества, обеспечивающие максимальную автономность и увеличивающие влияние за счёт формирования экономических союзов, которые позволяют коллективно диктовать условия, устанавливать стандарты и режимы торговли, создавать банки развития, а также сильную торговую/резервную валюту.
Экономический национализм — это стратегия развития, направленная на продвижение в мировой экономической иерархии. Так, Лист отстаивал право Соединённых Штатов и Германии на проведение подобной политики с целью извлечь выгоды от международной торговли в обход британского доминирования в этой области. Сама Британия также достигла величия благодаря меркантилистской политике, отстаиваемой Джеймсом Стюартом[7]. Высокие пошлины способствовали созданию мощной производственной базы, тогда как могущественный военно-морской флот обеспечил доступ к ресурсам и контроль над транспортными коридорами. Когда британские банки и валюта заняли господствующее положение во всем мире, это также позволило Британии установить удобные для себя механизмы сотрудничества. Поднявшись на столь высокий уровень благодаря экономическому национализму, Британия превратилась в главного поборника экономического либерализма для того, чтобы интегрировать весь мир в мировой порядок во главе с британской короной.
Ведущие морские державы исторически поддерживали идею свободной торгов.ли, поскольку обладали конкурентным преимуществом — контролем над морскими торговыми путями[8]. Лист писал о том, что поддержка Британией свободной торговли и критика постулатов экономического национализма — это стратегия «выбивания лестницы» из-под ног формирующихся держав: «Обычная уловка состоит в том, что, когда кто-то достигает вершины величия, он убирает из-под ног ту лестницу, посредством которой взобрался наверх, чтобы лишить конкурентов возможности забраться на такую же высоту. В этом суть космополитической доктрины Адама Смита, космополитических идей его великого современника Уильяма Питта, а также всех его преемников в последующих британских кабинетах министров»[9].
Геоэкономический подъем Соединённых Штатов и Германии
Во время своего пребывания в США Лист стал активным поборником экономического национализма для государственного строительства. Александр Гамильтон, первый секретарь Казначейства (министр финансов) США с 1789 по 1795 годы, в конце концов убедил президента Томаса Джефферсона отказаться от плана построения аграрного общества с опорой на свободный рынок и минимальным вмешательством государства[10]. Гамильтон был озабочен проблемой асимметричной взаимозависимости, поскольку США чрезмерно зависели от европейских промышленных товаров, тогда как Европа в меньшей степени зависела от США. Политическая независимость требовала достижения экономической автономии и укрепления собственного влияния, что было невозможно, так как «свободная торговля» представляла собой «несправедливую торговлю» в системе международных отношений во главе с Британией[11].
В результате экономический национализм достиг своей кульминации в «американской системе», которая зиждилась на трёх столпах с целью достижения конкурентоспособности в части создания промышленной, транспортной и финансовой инфраструктуры. Различные варианты экономического национализма и «американской системы» Александра Гамильтона и Генри Клея вновь проявились в администрациях Джеймса Мэдисона, Джеймса Монро, Джона Куинси Адамса, Авраама Линкольна, Уильяма Мак-Кинли, Теодора Рузвельта и Франклина Рузвельта. Геоэкономическая мощь США достигла расцвета. Во-первых, была развита конкурентоспособная производственная база. Во-вторых, внутри страны сформировалась материальная инфраструктура. А на Тихом Океане США превратились в доминирующую морскую силу, приняв на вооружение в 1890-х годах стратегию морского господства Альфреда Тайера Мэхэна. В-третьих, при государственной поддержке развивались конкурентоспособные банки и надёжная валютная система, достигнув в конечном итоге доминирующего положения в мире в рамках Бреттон-Вудской системы. Утвердилась мораль политики экономического национализма. Об этом свидетельствуют слова Теодора Рузвельта от 1895 года: «Слава Богу, я не сторонник свободной торговли. В нашей стране пагубное потакание фритредерству, кажется, не.избежно приводит к «обрастанию жиром» и деградации моральных устоев»[12].
Тем не менее, став доминирующей геоэкономической державой, США успешно восприняли идею свободной торговли и занялись продвижением за рубеж преимуществ свободной торговли под управлением США. Сергей Лавров отмечал, что после развала Советского Союза и упадка коммунизма Вашингтон поверил в то, что доминирование США будет вечным, поскольку «развитые западные страны и крупные корпорации будут свободно распространять своё влияние по всему миру, а либерально-демократическая система будет единственным маяком для всех развивающихся государств»[13]. По мере подъёма «остальной части мира», особенно Китая, превосходство США ставится под сомнение и, соответственно, уменьшается приверженность принципам свободной торговли. Экономический национализм возрождается при новой администрации, поскольку Трамп часто цитирует экономическую философию Генри Клея, тогда как его главный стратег Стивен Бэннон гордо называет себя «экономическим националистом».
В это же время и Германия взяла на вооружение экономический национализм, который во многом способствовал созданию германского государства, хотя не самое удачное географическое расположение и вело к конфронтационному пути становления региона. Лист называл строительство железных дорог и формирование экономического союза «сиамскими близнецами» в процессе создания немецкого государства[14]. Поначалу Германия процветала в континентальной системе Наполеона, нацеленной на вывод континента из системы британской торговли. Затем Германия воспроизвела этот принцип рамках Zollerverein (Германского таможенного союза), в который также вошли другие страны. Материальная инфраструктура породила стратегии с нулевой суммой: увеличивающаяся военно-морская мощь привела к гонке вооружений с Британией, а железная дорога Берлин — Багдад обрекла Германию на столкновение с Францией, Британией и Россией.
В конце концов Германия добилась победы, несмотря на поражение во Второй мировой войне, поскольку проекты атлантической и западноевропейской интеграции опирались на противопоставление Советскому Союзу немецкой мощи. Европейская интеграция стала важным инструментом немецкого влияния. Канцлер Германии Гельмут Шмидт уже в 1978 году доказывал необходимость «облечься в европейскую мантию <...>, нам она также нужна, чтобы скрывать всевозрастающие относительные экономические, политические и военные преимущества ФРГ в рамках западного блока»[15].
После распада СССР и воссоединения Германии происходит постепенный возврат к истории по мере ослабления способности Германии гармонизировать государственное строительство с региональным строительством. Поначалу ЕС демонстрировал большой геоэкономический потенциал, используя коллективную способность диктовать выгодные для себя условия для защиты стратегических отраслей своих стран-членов, одновременно вынуждая внешних торговых партнёров открывать свои рынки. Инициатива «Европа 2020» призвана усилить возможности ЕС вмешиваться в рыночные механизмы для поддержки предприятий своих стран-членов, что даёт Брюсселю «мощные инструменты для формирования нового экономического управления»[16].
Однако принятие евро и расширение ЕС нарушило баланс сил внутри и впоследствии поставило под угрозу внутреннюю целостность Союза. Последовательное расширение ЕС на восток принесло Берлину непропорционально большие выгоды. Так, заниженный курс Евро привёл к увеличению промышленной мощи Германии за счёт средиземноморских стран-членов ЕС. А после Brexit и относительного ослабления французской экономики Берлин упрочил свою роль неофициальной столицы Европейского союза, в котором главную скрипку играет именно Германия.
По мере того, как ЕС будет становиться все менее дееспособным, Германии придётся делать выбор: либо навязать слабым европейским экономикам идею федерализма, либо смириться с распадом ЕС. Физический доступ к ресурсам и транспортным коридорам также порождает опасения в сфере безопасности. Президент Германии Хорст Кёлер в мае 2010 года отмечал: «Страна нашего размера с такой экспортной ориентацией в слу.чае возникновения чрезвычайных обстоятельств должна будет развернуть воинский контингент для защиты своих интересов — например, для обеспечения свободы торговых путей или предотвращения региональной нестабильности, которая может отрицательно повлиять на нашу торговлю, рабочие места и доходы»[17].
В результате критики в адрес Кёлера в связи с вышеупомянутым высказыванием он был вынужден подать в отставку. Однако уже в последующем году был принят документ «Основные направления политики Германии в области обороны», где, в частности, говорилось: «Маршруты свободной торговли и безопасные поставки сырья имеют ключевое значение для будущего Германии и Европы. Во всём мире происходят изменения: меняются рынки, каналы распределения, а также способы добычи природных ресурсов, обеспечения доступа к ним и безопасности путей их доставки. Дефицит энергоресурсов и другого сырья, не.обходимого для производства продукции высокой степени обработки, будет иметь последствия для всего мирового сообщества. Ограниченный доступ к ресурсам может привести к вооружённым конфликтам. Нарушение транспортных маршрутов и срывы поставок сырья, как, например, пиратство или саботаж авиаперевозок — это серьёзная угроза безопасности и благополучию. Вот почему транспортная и энергетическая безопасность, а также связанные с этим вопросы будут играть все более важную роль для нашей безопасности»[18].
Неспособность Европы должным образом выстроить отношения с Россией сделала «европейскую интеграцию» экспансионистским геостратегическим проектом с нулевой суммой. И ЕС, и Россия опасаются неблагоприятной асимметрии в будущем, особенно в сфере энергетики. Вместо того, чтобы гармонизировать интересы для получения взаимной выгоды, Германия и ЕС поддержали свержение Виктора Януковича, чтобы втянуть Украину в орбиту ЕС — это означало конец российской инициативы по созданию «Большой Европы»[19]. По мере снижения способности ЕС обеспечить стабильность и повышения готовности Союза противостоять России возрастает системное давление на Москву. В результате она будет приветствовать распад Союза и даже способствовать этому. Хотя Москва склонна выражать поддержку ЕС, распад Союза лишил бы Европу коллективной возможности диктовать свои условия для достижения асимметричной взаимозависимости и сделал бы Германию более заинтересованной в развитии дружественных отношений с Россией. На фоне относительного упадка торговли внутри ЕС и перемещения экономических интересов Германии на Восток Берлин начал пересматривать свои внешнеполитические подходы и предпочтения[20].
Китай: претендент, способный бросить вызов США
Китайский экономический национализм представляет собой величайший вызов геоэкономическим основам коллективной гегемонии Запада под руководством США. Во-первых, Китай последовал примеру экономического развития «Азиатских тигров» и в конце 1970-х годов взял курс на индустриализацию со значительным государственным вмешательством. Замораживание заработных плат, манипуляции с валютой, обратный инжиниринг (копирование передовых продуктов конкурентов — прим. ред.) и прочее способствовали созданию сильной производственной базы и технологическому развитию. Во-вторых, Китай удвоил усилия по установлению контроля над доступом к ресурсам и транспортным коридорам, начав реализацию амбициозной инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП) в 2013 году. Восстановление связей между евразийскими сухопутными державами в рамках древнего Шёлкового пути с целью обеспечения поставок энергоносителей и создания транспортных коридоров олицетворяет собой амбициозную попытку свести на нет конкурентные преимущества, лежащие в основе доминирования западных морских держав в последние 500 лет. Кроме того, утверждение суверенитета Китая над Южно-китайским морем, присутствие в портах по всему миру и развитие грозного военно-морского флота закладывает основу для расширения контроля над морскими транспортными коридорами. В-третьих, Пекин также наращивает свои возможности через глобальные механизмы экономического сотрудничества, продвигая альтернативные торговые режимы, новые банки развития под главенством Китая, а также популяризируя Юань в качестве мировой торговой валюты.
Китайская политика экономического национализма рациональна, поскольку она максимизируют безопасность, действуя в соответствии с логикой баланса сил. Теория реализма исходит из того, что децентрализованная и сбалансированная экономическая система будет более симметричной и, следовательно, более стабильной, предотвращая фрагментацию мировой экономики. После нескольких лет неудачных попыток побудить США реформировать Международный валютный фонд (МВФ) и повысить представительство в нем Китая, Пекин создал конкурирующий Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) в 2014 году. В то время как Вашингтон призывал своих союзников игнорировать усилия Пекина в этом направлении, почти все крупные союзники США стали членами АБИИ. Мадлен Олбрайт, бывший Государственный секретарь США, при.знала, что Вашингтон «напортачил», изолировав себя, а не Китай, поскольку «все вдруг оказались в одной лодке с Китаем»[21]. В итоге мировая финансовая система избежала фрагментирования, поскольку США пришлось сделать МВФ более привлекательным для Китая, приняв юань в корзину валют Специальных прав заимствования МВФ (СПЗ).
Аналогичным образом процесс сотрудничества через балансирование стал очевиден, когда Китай выразил готовность отмежеваться от международной системы банковских трансакций под контролем США — Общества всемирных межбанковских финансовых каналов связи (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, SWIFT). В ответ на использование Вашингтоном своего административного влияния в SWIFT для ввода санкций против других стран, Китай запустил конкурирующую Китайскую (трансграничную) межбанковскую платёжную систему (CIPS) в конце 2015 года. К марту 2016 года SWIFT и CIPS подписали меморандум о взаимопонимании в целях совместного содействия развитию и гармонизации своих операций[22].
Россия и геоэкономика Большой Евразии
Подъем Китая влечёт за собой как возможности, так и вызовы для Москвы. Экономический национализм неизбежно требует принятия идеи создания «Большой Евразии». Пекин — незаменимый партнёр для перехода к многополярному постзападному мировому порядку и построения «Большой Евразии», которая олицетворяет собой более жизнеспособную и благоприятную экономическую альтернативу неудавшемуся проекту «Большой Европы». Однако непропорционально большая экономическая мощь Китая усложняет задачу России по утверждению в сердце Евразии в качестве геоэкономической преемницы Монгольской империи. Другими словами, для взаимовыгодного сотрудничества и устойчивости Большой Евразии требуется более симметричная экономическая взаимозависимость для обеспечения внутреннего евразийского баланса сил. Россия должна диверсифицировать свои партнёрства, в то же время усиливая влияние на стратегические отрасли, транспортные коридоры и финансовые институты.
История российского экономического национализма переплетается с опытом США, Германии и Китая в этой сфере. Сергей Витте, бывший министром финансов с 1892 по 1903 год, опубликовал статью в 1889 году, в которой ссылался на экономические теории Фридриха Листа. В то время Россия ввела пошлины для защиты зарождающихся отраслей промышленности, что способствовало стремительной индустриализации, сделавшей Россию самой быстрорастущей экономикой мира. Вторым направлением экономического национализма стало создание материальной инфраструктуры. Чтобы связать между собой огромные территории, а также для активизации экономической активности было проложено больше железнодорожных путей, чем любое другое государство той эпохи. Витте надеялся, что за счёт ускорения строительства Транссибирской магистрали удастся серьёзно нарастить геоэкономическую мощь России как главного посредника между Европой и Восточной Азией. Однако зависимость от зарубежных банков и кредитов сделало Россию уязвимой к нестабильности в Европе и Азии. Способность связать мораль с экономическими интересами стала главным испытанием из-за растущего противодействия быстрой индустриализации со стороны аграрного лобби. В то же время растущее неравенство в распределении материальных благ ухудшало условия жизни людей и способствовало устремлению их в города России для работы на производстве.
Кроме того, Россия не озаботилась учётом интересов других конкурирующих стран в регионе. Транссибирская железнодорожная магистраль закрепила растущее присутствие России в Восточной Азии, а также усилила контроль над Манчжурией и Кореей. Нежелание идти на компромисс с целью снижения озабоченности Японии по поводу российского присутствия, в конце концов, вынудило Токио объявить России войну в 1904 году, в которой последняя потерпела дорогостоящее поражение. После отставки Витте Пётр Столыпин начал успешные аграрные реформы, расширив права крестьян, включая право на приобретение частной собственности, с целью создания сословия землевладельцев. Однако продолжающаяся неспособность сгладить неравное распределение материальных благ, а также тяготы войны породили растущее противодействие капитализму.
После нескольких десятилетий полного отсутствия искусства государственного управления экономикой в условиях коммунистической системы Россия вернулась к капитализму в 1991 году. Ельцин ошибочно полагал, что экономический либерализм и однозначная приверженность Западу приведёт к благоденствию и созданию Большой Европы.
Вместо этого в российском обществе произошёл раскол, а асимметричная взаимозависимость способствовала формированию «новой Европы», в рамках которой были созданы необходимые институты для максимизации способности коллективно диктовать Рос.сии условия.
Администрация Путина сразу взяла на вооружение принципы экономического национализма, которые способствовали государственному строительству, но не смогли стимулировать региональное строительство с точки зрения построения «Большой Европы». За счёт национализации природных ресурсов удалось уменьшить влияние олигархов, обхаживаемых Западом и вмешивающихся в политическую жизнь, а рост благосостояния способствовал формированию обеспеченного среднего класса. Развитие крупных энергетических корпораций сделало Россию конкурентоспособной на мировых рынках. Однако Россия стала жертвой энергетического проклятья, поскольку лёгкие доходы от энергетического сектора на фоне облегчения импорта промышленных товаров не стимулировали проведение болезненных реформ.
Экономический национализм требуется для того, чтобы преодолеть энергетическое проклятие посредством использования доходов от продажи энергоресурсов для временного субсидирования и установления тарифов, защищающих зарождающие.ся отрасли промышленности. Россия начала проводить такую политику, что выразилось в финансировании Сколково и принятии программы импортозамещения. Девять из 10 новых машин, продаваемых в России, производятся внутри страны. Аналогичная поли.тика проводится и в других секторах экономики, например, в авиационной промышленности. Особые успехи в 2014 году демонстрировали поддерживаемые государством сельскохозяйственные предприятия. Помимо промышленного производства и сельского хозяйства, государство также поддерживает инновационное и технологическое развитие. Безопасность России зависит от способности сокращать технологическое отставание, особенно когда на горизонте новая промышленная революция роботизации и автоматизации. Успех Национальной технологической инициативы 2014 года зависит от способности улучшать существующие технологии и разрабатывать новые, а также обеспечивать необходимую государственную поддержку без нарушения или подрыва рыночных сил и механизмов. Можно много говорить об инновациях, однако России необходимы более широкие системные изменения при поддержке государства. Например, ввиду отсутствия необходимой внутренней инфраструктуры российские технологии часто продаются зарубежным корпорациям.
Проекты по созданию материальной инфраструктуры в России и финансовые институты были непропорционально ориентированными на Запад с учётом инициативы по строительству «Большой Европы». Усилия были преимущественно сосредоточены на контроле над энергоносителями и инфраструктурой их транспортировки для обеспечения материального влияния на континент. Хотя России удалось улучшить симметрию, региональная архитектура, основополагающим принципом которой оставалась игра с нулевой суммой, осталась нетронутой. ЕС не пойдёт на компромисс до тех пор, пока у России не появятся альтернативные партнёры. Построение устойчивой системы Большой Евразии на основе баланса сил требует, чтобы Россия снизила свою зависимость от какого-либо одного государства или региона в промышленной, транспортной и финансовой сферах, закрепив за собой привилегированное положение в евразийских транспортных и энергетических коридорах и увеличив зависимость других стран. Запуск нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» и газопровода «Сила Сибири» свидетельствует о важной диверсификации на Восток. Помимо усилий России по развитию транспортных коридоров материальной инфраструктуры «Восток-Запад» и «Север-Юг» реализуются также и альтернативные экономические союзы, такие как Евразийский экономический союз, Банк развития БРИКС, а также расширяющаяся Шанхайская организация сотрудничества с учётом её геоэкономического потенциала. Затягивание в реализации этих инициатив может помешать России занять достойное место за столом, где определяется будущее развития новых механизмов экономического сотрудничества.
Экономический национализм незаслуженно получил негативную коннотацию, вследствие чего его возрождение осуждалось политиками как зловещее предзнаменование раскола системы международных отношений. Между тем экономический национализм должен стать стратегией развития поднимающихся держав, стремящихся к большей симметрии в экономических отношениях взаимозависимости. Для построения взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере необходим баланс. Идея создания Большой Европы провалилась ввиду неспособности России диверсифицировать свои отношения, что сделало Москву уязвимой к асимметричной взаимозависимости. Многополярная Большая Евразия создаёт симметрию в отношениях с Европой, уравновешивая экономическое давление со стороны Европы. Она не только не раскалывает континент, но и способствует гармонизации интересов в регионе и достижению взаимоприемлемого политического урегулирования в Европе после окончания холодной войны. Выражая оптимизм по поводу будущего евразийской геоэкономики, Путин отмечал, что «Большая Евразия — это не абстрактное геополитическое формирование, а, без всякого преувеличения, поистине цивилизационный проект, устремлённый в будущее»[23].
Данный текст отражает личное мнение авторов, которое может не совпадать с позицией Клуба, если явно не указано иное.
Данный материал вышел в серии записок Валдайского клуба, публикуемых еженедельно в рамках научной деятельности Международного дискуссионного клуба Валдай. С другими записками можно ознакомиться по адресу http://valdaiclub.com/publications/valdai-papers/
[1] List F. The National System of Political Economy. Longmans, Green and Company. London, 1885; Hirschman A. National power and the structure of foreign trade. University of California Press, Berkeley, 1945; Luttwak E.N. From Geopolitics to Geo-economics: Logic of Conf lict, Grammar of Commerce // National Interest. 1990. No. 20, 19–23.
[2] Hirschman A. National power and the structure of foreign trade. University of California Press, Berkeley, 1945. Р.
16.
[3] Luttwak E.N. From Geopolitics to Geo-economics: Logic of Conf lict, Grammar of Commerce // National Interest. 1990. No. 20. P. 19–23. P. 17.
[4] Gilpin R. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. Princeton University Press, Princeton, 2011. Р. 9.
[5] List F. Outlines of American Political Economy. PA: Samuel Parker, Philadelphia, 1827. P. 30.
[6] List F. The National System of Political Economy. Longmans, Green and Company, London, 1885. P. 85.
[7] Steuart J. An Inquiry into the Principles of Political Economy. J.J. Tourneisen, Dublin, 1770.
[8] List F. The National System of Political Economy. Longmans, Green and Company, London, 1885; Angell N. The World’s Highway: Some Notes on America’s Relation to Sea Power and Non-military Sanctions for the Law of Nations. George H. Doran Company, New York, 1915; Levy J.S., Thompson W.R. Balancing on land and at sea: do states ally against the leading global power? // International Security. 2010. Vol. 35. No. 1. P. 7–43. P. 18.
[9] List F. The National System of Political Economy. Longmans, Green and Company, London,1885. Р. 295–296.
[10] Szlajfer A. Economic Nationalism and Globalization: Lessons from Latin America and Central Europe. Brill,
Leiden, 2012. Р. 51.
[11] Mott W.H. The Economic Basis of Peace: Linkages Between Economic Growth and International Conf lict. Greenwood Publishing Group, Westport, 1997. Р. 22.
[12] Eckes A.E. Opening America’s market: US foreign trade policy since 1776. University of North Carolina Press, North Carolina, 1990. Р. 30.
[13] Lavrov S. Russia in the 21st-Century World of Power // Russia in Global Affairs. 2012. 27 December.
[14] Earle E.M. Friedrich List, forerunner of pan-Germanism // The American Scholar. 1943. Vol. 12. No. 4. P. 430–443. P. 442.
[15] EMS: Bundesbank Council meeting with Chancellor Schmidt (assurances on operation of EMS) [declassified 2008]. Bundesbank Archives, N2/267. 1978. 30 November.
[16] Europe 2020: A Strategy for Smart, Sustainable and Inclusive Growth // European Commission. Brussels. 2010. 3 March.
[17] Szabo S.F. Germany, Russia, and the rise of Geo-Economics. Bloomsbury Publishing, London. 2015. Р. 7.
[18] Defence Policy Guidelines: Safeguarding National Interests – Assuming International Responsibility – Shaping Security Together // German Ministry of Defence. Berlin. 2011. 27 May. Р. 3.
[19] Krickovic A. When Interdependence Produces Conflict: EU–Russia Energy Relations as a Security Dilemma // Contemporary Security Policy. 2015. Vol. 36. No.1. P. 3–26.
[20] Szabo S.F. Germany, Russia, and the rise of Geo-Economics. Bloomsbury Publishing, London. 2015. Р. 69.
[21] Dong L., Lia Z. US “miscalculated” on AIIB: Albright // China Daily. 2015. 4 January.
[22] SWIFT offers secure financial messaging services to CIPS // SWIFT. 2016. 25 March.
[23] Putin V. Belt and Road International Forum // Official site of the President of Russia. 2017. 14 May. URL: http:// en.kremlin.ru/events/president/news/54491

Системный сбой
Владимир Павленко о Федеральной резервной системе, Трампе и новом сценарии глобалистов
Дмитрий Перетолчин
По традиции, начну с цитаты. Недавно избранный президент США Дональд Трамп считает: «Самое смешное, что Федеральная Резервная Система не является даже частью Федерального Правительства. Это независимый частный центральный банк, который был разработан очень мощными лоббистами Уолл-Стрит немногим более 100 лет назад. Между тем, ФРС «наградил» финансовую систему США огромной задолженностью, которая разъедает Америку, как рак. При этом нет никакой ответственности у чиновников Федерального Резерва перед американским народом».
Анамнез этой болезни будем собирать с доктором политических наук Владимиром Борисовичем Павленко.
«ЗАВТРА». У появления ФРС есть одна интересная особенность. Одновременно с ней появился подоходный налог. Перед ее появлением на каждого американца приходилось по 12 долларов долга, а сейчас, насколько мне известно, сумма превышает 20 000 долларов. Напрямую расплатиться невозможно – снова понадобятся кредитные деньги.
Владимир ПАВЛЕНКО. Есть другой вариант. Можно обрушить мировую долларовую систему, ликвидировав все финансовые «навесы». Банкиров в последнюю очередь будет интересовать, в каком положении после этого окажется мир. Вы верно поставили вопрос! ФРС появилась не на пустом месте, у нее своя предыстория, европейские корни, идущие из XIII века от торговых банкирских домов и ордена тамплиеров. Чисто американская сторона вопроса корнями уходит в полемику двух крупных государственных деятелей: Томаса Джефферсона, третьего президента США и одного из соавторов Декларации независимости, и Александра Гамильтона, первого министра финансов США, ставленника Ротшильдов, чьим прямыми потомками были Морганы. Суть полемики в контролировании частными банками выпуска валюты с помощью инфляции, а затем дефляции. Гамильтон требовал создать Центральный банк и оплачивать долги Правительства перед ним за счет налогов. У Валентина Юрьевича Катасонова, отечественного экономиста, раскрывающего подоплеку системы взимания налогов и накапливания долгов граждан из-за работы центральных банков, есть прекрасная цитата:
«От имени и по поручению группы ростовщиков переговоры с новым королем (речь идет о Вильгельме III Оранском, конец XVII века) вел известный в то время аферист Уильям Паттерсон. От Вильгельма потребовали, во-первых, согласиться на создание специального банка, который был бы монопольным эмитентом бумажных денег, имеющих хождение по всей стране. Во-вторых, этот банк должен был стать эксклюзивным кредитором правительства, выдавая ему кредиты под 8% годовых в обмен на долговые расписки правительства и облигации. В-третьих, разрешить банку частичное резервирование своих обязательств, т.е., фактически, делать деньги из воздуха. В-четвертых, основным резервом банка предлагалось сделать не золото, а долговые расписки правительства, за счет последних должно обеспечиваться полностью кредитование правительства, а также выдача иных кредитов. И погашать за счет налогов».
Трамп абсолютно правильно охарактеризовал роль ФРС в Америке, но не менее важной она стала и для всего мира. Возвращаясь к предыстории вопроса – Гамильтон выиграл этот спор, ведь еще в 1791 году был создан Первый банк США, существовавший (по условиям закона о его формировании) 20 лет. Банк закрыли при Джоне Мэдисоне, и тогда разразилась английская интервенция, вторая война за независимость. В ходе этой интервенции в США, в Нью-Джерси, поселился некто Роггенфелдер, воевавший на стороне англичан. Его потомки нам известны под фамилией Рокфеллеры. Так в США была внедрена олигархическая креатура европейских банкиров. В 1816 году был создан Второй банк в США, чье появление мотивировалось огромными долгами после войны за независимость (которая была организована специально!) В момент его закрытия при президенте Эндрю Джексоне, на три года раньше положенного срока, начался саботаж, затеянный главой этого банка. Президент отозвал все деньги страны из этого банка и закрыл его, по сути, но глава банка перенес финансовое производство в Пенсильванию, где сам банк функционировал долгие годы и стал впоследствии у истоков Гражданской Войны. Маховик войны был запущен в 1837 году, а организатором выступил Николас Биддл, глава все того же банка, создавший панику. В США прибывают эмиссары Ротшильдов, наступает депрессия, что и ведет к Гражданской войне. Так народ Америки разделился на Юг и Север (так же разделят Россию и Украину)
После окончательного закрытия Второго банка и окончания Гражданской Войны, в 1865 году, через Конгресс был проведен закон о Национальном банке, который не заработал, и только в 1875 году была одержана победа: решили, что центрального банка пока не будет. Был издан Акт о погашении: долг в деньгах, печатавшихся Линкольном без участия и доступа банкиров, было решено погашать золотом.
Однако это не остановило банкиров. Выдвигаются Рокфеллеры, выросшие на торговле в годы Гражданской Войны, а также Морганы. Заявляет о себе рокфеллеровское объединение нефтяных компаний (контроль над американской нефтью возрастает до 95%). В 1911 году, когда готовится операция по созданию Федерального Резерва, Standard Oil Trust Рокфеллеров демонополизируется, разделяется на 34 компании. Капитализация всех компаний возрастает в 3-4 раза, а все нити контроля над этими компаниями оказываются в руках у Рокфеллера в Нью-Джерси. Будучи ставленником Ротшильдов в плане влияния внутри Соединенных Штатов, Рокфеллер, однако, стал первым миллиардером, причем мы говорим о долларе того времени, который стоил гораздо больше, нежели нынешний.
«ЗАВТРА». Важно понять, что это тот порог, за которым деньги перестают быть собственно деньгами как целью в жизни.
Владимир ПАВЛЕНКО. Да, деньги становятся инструментом политики. То есть теперь мы наблюдаем не схему «деньги – товар – деньги с прибылью», согласно которой можно описать обычный капитализм, а схему «деньги – власть – деньги с прибылью», и эта прибыль уже идет за счет взимания административной ренты и слияния с властными институтами. Именно так появилась Федеральная резервная система, создание которой больше напоминает спецоперацию.
«ЗАВТРА». Первая статья американской Конституции говорит нам, что всеми полномочиями на выпуск денег наделяется Конгресс. Как можно было «обойти» Конституцию при создании ФРС?
Владимир ПАВЛЕНКО. Операция была многоходовой. Первым шагом сразу после Гражданской войны стало внедрение в США связки Шиффов-Варбургов. Якоб Шифф внедрился в компанию Kuhn, Loeb & Co. И женился на старшей дочери Лоеба. Феликс Варбург немного позднее женится на дочери Шиффа, а Пауль – на младшей дочери Лоеба. Так возникает уния, удовлетворяющая интересам как кланов Америки (Морганы и Рокфеллеры), так и Европы (Ротшильды)
В 1892 году появляется «Манифест банкиров», в которой, упрощая, можно найти такие положения:
1. Республиканская партия должна отвечать за протекционизм;
2. Демократическая партия должна отвечать за тарифы.
Разделив так электорат, банкиры собирались отвлечь внимание «толпы» бессмысленной борьбой, практически никак не связанной с событиями реальной жизни. В 1934 году этот документ был опубликован в официальном здании Конгресса, тем самым снялись все вопросы о его подлинности.
В 1907 году Морганы организовывают панику на бирже, убеждая людей в критической необходимости создания центробанка. Итогом стало создание в 1908 году Национальной Комиссии по денежному обращению, главой которой стал Нельсон Олдрич, дет 5 братьев Рокфеллера по материнской линии, создавший проект закона о Национальной резервной ассоциации, который был жестко раскритикован. И именно на фоне этой критики и создается демократический проект Федеральной резервной системы: 12 банков, объединенных так называемым «замковым камнем» - Совет управляющих находится в статусе Федерального агентства. По факту же там сидели олигархи. Именно так и была обойдена Конституция, но – более того! – параллельно с упомянутыми выше двумя проектами существовал и третий, от руководителя Национального городского банка Нью-Йорка олигарха Вандерлипа. Таким образом создавалась иллюзия конкуренции.
Федеральная резервная система была принята с тем же условием, что и первые два банка, - ровно на 20 лет, т.е. народу было обещано ее окончание к 1933 году. Однако произошел «великий сбой» - революция в России во главе с Лениным (а не с Троцким, как предполагалось изначально). Появляется необходимость срочного вмешательства.
Сенат Конгресса США «переигрывает» Версальский договор: являясь создателем Лиги Наций, сам в нее не входит. Версальский мир объявляется «перемирием» сроком…на 20 лет! В 1920 году наступает избирательная компания, победителем которой выходит никому не известный Уоррен Гардинг. Республиканская партия так и не смогла выдвинуть кандидата, а кандидатура Гардинга выдвигают в так называемой «прокуренной комнате», что значит для нас сейчас в буквальном смысле «важное закулисное решение». Через 2 года Гардинг умирает якобы от отравления. На его место приходит Карвин Кулидж, а при нем вице-президентом был Чарльз Дауэс, автор репарационного плана по взиманию денег с Германии.
«ЗАВТРА». Гардинг фактически одобрил признание Советской России (хоть и не по доброте душевной, а из-за нефтяных отношений). Мне кажется, в этом кроется причина его столь загадочной смерти.
Владимир ПАВЛЕНКО. Американцы планировали разделить Россию на зоны влияния ТНК, но Ленин их полностью переиграл, сам начав нефтяную экспансию, в частности, в Англии.
«ЗАВТРА». Я так понимаю, изгнание Троцкого из страны тоже не было в стороне от этого процесса?
Владимир ПАВЛЕНКО. Конечно. Проводя параллели с современной ситуацией, хоть это и страшно, но можно выдвинуть гипотезу: избрание Трампа очень похоже по структуре и типологии на избрание Гардинга. При Кулидже началась подготовка к Великой депрессии и приходу к власти нацистов. Перед приходом Гардинга, 18 мая 1920 года учредители ФРС встречались и решили опустить учетную ставку, изменив экономическую реальность. В 1929 году ее снова подняли. На первых ролях в списке акционеров ФРС были представители Банка Англии, представители названных ранее кланов.
«ЗАВТРА». Удивительно, что социология сегодня вообще понятие «клан» не рассматривает. Ведь судя по нашей беседе, именно 5 человек, тесно связанных узами родства, обычно и фигурируют в крупнейших политических и экономических событиях, и примеров тому множество – и Ротшильды, и Шредеры, и многие другие. И на рынке жесткой конкуренции выживают именно такие кланы.
Владимир ПАВЛЕНКО. Методологическая модель организации всех кланов была описана Бауэром, первым из Ротшильдов, в завещании.
- все важные посты в бизнесе должны занимать только члены семьи;
- участвуют в делах только мужчины, наследуют – прямые наследники мужского пола;
- старший сын становится главой семье при единодушном одобрении братьев;
- мужчины должны жениться на своих двоюродных или троюродных сестрах, чтобы накопленное имущество оставалось внутри семьи;
- дочери должны выходить замуж за аристократов, сохраняя при этом иудаизм;
- имущество семьи нельзя описывать, даже в случае суда или по завещанию;
- жить в согласии и дружбе, деля прибыль поровну.
В 1929 году в США приезжает директор Английского Банка Монтегью Норман ради встречи с американским олигархатом. В Америке утверждается план Янга: создается Банк международных расчетов с участием Шредеров. По факту – создавался инструмент финансирования гитлеровской Германии, потому что уже в 1932 году система репараций себя исчерпала, а созданный банк формально должен был заниматься именно этим. Далее на политическую арену выходят братья Даллесы, двоюродные братья пятерых братьев Рокфеллеров. 4 января 1932 года на вилле Шредера собираются Гитлер, фон Папен - немецкий канцлер, Ялмар Шахт – директор Рейхсбанка, а также оба Даллеса. Они решают вопрос о способах приведения Гитлера к власти и гарантиях. Этот тандем успешно работал на протяжение всей войны.
Вторая встреча в рейхе, окончательная с точки зрения прихода Гитлера к власти, состоялась 14 января 1933 года. Гитлер на ней обсуждал с группой немецких промышленников вопросы поддержки нацистов крупным бизнесом. Чтобы монополизировать влияние на внутреннюю политику Германии после отставки президента Гинденбурга эта должность была соединена с должностью канцлера. Так появился «фюрер».
При этом было решено разделить их вновь сразу после смерти Гитлера, то есть «наследника фюрера» существовать не могло в принципе. Вот так англо-американский капитал сыграл свою роль в приходе Гитлера к власти. Понятно, что это была проба сил, план по изменению ситуации в мире.
«ЗАВТРА». Но мы-то им планы сильно подпортили!
Владимир ПАВЛЕНКО. Конечно. Именно в это время появляется фраза Трумэна «Если будет выигрывать Германия, надо помогать России, если Россия – Германии»
«ЗАВТРА». Подводя итог, скажем: Дональд Трамп своим высказыванием замахнулся на очень сложную, старую, клановую структуру. Что мы можем из этого вынести?
Владимир ПАВЛЕНКО. Логика развития процесса такова: сперва борьба за США, затем попытка объединить олигархические верхушки двух стран (США и Англии). После «победы» в борьбе за США и создается ФРС. Далее борьба ведется за глобальное мировое доминирование – Первая мировая война. Монархии и империи были разрушены, но остались их функции, и прежде всего – стратегическое планирование. Под предлогом «выборности» политиков это планирование переводят в бизнес-структуры, сохраняя в них династический принцип правления. Октябрьская революция выглядит на фоне таких событий «системным сбоем». Необходимостью последствия этого сбоя ликвидировать объясняется приведение к власти Гитлера и развязка Второй мировой войны. Продолжается процесс современной гибридной войной – холодной в сочетании с ядерными угрозами. Сегодня же мы переживаем, видимо, такой же системный сбой, раз Трамп пришел к власти. Это не кажется мне экспромтом.
«ЗАВТРА». Сейчас основная линия мысли – не надо ничего от Трампа ожидать. В том плане, что вряд ли произойдут какие-то послабления или будет достигнута договоренность. Мне кажется, он себе не позволит психологически «сдать позиции» и терять авторитет перед медиа-пространством.
Владимир ПАВЛЕНКО. Вряд ли вообще уместно радоваться победе Трампа, ведь мы граждане суверенной страны, а такое повсеместное ликование очень походит на комплекс неполноценности наших СМИ.
«ЗАВТРА». Попробую привести пример обратного. От прихода Клинтон ждали прямой войны и силового вмешательства, а с Трампом игра пойдет по незапланированному сценарию, но войны не будет точно.
Владимир ПАВЛЕНКО. Сценарий все равно в прокуренной комнате будет написан, и уж точно не Трампом.
Нужно внимательно наблюдать за ситуацией. Мы не знаем характер нынешнего системного сбоя. Это Brexit? Так британская монархия контролирует ФРС. Рядом интересы и саудовской монархии, и Ватикана, и тех же Ротшильдов. Изменение глобальных конфигураций говорит лишь о том, что прежний сценарий зашел в тупик, нужен новый! И новые исполнители-куклы. Отныне все будет иначе...

Воздержаться от суждений
Почему суды США не должны заниматься внешней политикой
Хосе Кабранес – судья апелляционного суда второго округа в США.
Резюме: Применение законов США за пределами американской территории прямо противоречит принципам самоуправления и самоопределения, которые Соединенные Штаты правомерно продвигают по всему миру.
Данная статья – адаптация его лекции в Мемориале Лесли Арпса 2015 г. при Гильдии адвокатов Нью-Йорка. Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 5, 2015 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
По мере того как США превращались из небольшого скопления колоний в мирового гегемона, расширялась и география действия их законодательства. От гражданского и уголовного права до законов в сфере прав человека американское право сегодня регулирует деятельность в разных частях земного шара. Как показали недавние события, футбольные чиновники в Европе, киберпреступники в Китае и многонациональные корпорации в Африке находятся в поле зрения законодателей Соединенных Штатов. В результате судьи, на которых возложена обязанность интерпретации законов, становятся важными игроками в проецировании американской мощи.
Некоторые профессора юриспруденции и активисты в области прав человека аплодируют такому повороту дел, призывая суды США наводить порядок в отдаленных местах. С их точки зрения, американские судьи находятся в уникальном положении, которое позволяет им решать вопросы международного правосудия, мировой торговли и даже международных отношений. Они хотят, чтобы судьи в Сан-Франциско высказывали мнение о сделках с ценными бумагами в Шотландии, судьи в Тампе выносили суждение по обвинению Танзании в применении пыток. С точки зрения этой группы экспертов, законы не знают границ.
Но применение внутреннего законодательства за рубежом – скользкий путь. Действительно, поскольку мир становится все в большей степени взаимозависимым и многополярным, сфера юрисдикции США все время расширяется, а американские суды получают некие полномочия для разрешения геополитических вопросов. Напряжение особенно заметно, когда речь заходит о Законе о правонарушениях в отношении иностранных граждан (ATS), принятом Первым Конгрессом в 1789 г. и предусмотрительно забытом почти на 200 лет. В 1980 г. суд, в котором я работаю – Апелляционный суд США второго округа, – возродил ATS, позволив федеральным судам выносить вердикты по искам иностранных граждан против иностранных ответчиков (но не американских граждан), обвиняемых в преступлениях по «международному праву» или межнациональному закону, совершенных за пределами Соединенных Штатов. Это решение всячески приветствовалось юристами в сфере прав человека, у которых затеплилась надежда на правосудие в отношении жертв омерзительных преступлений и на то, что это отобьет охоту у высокопоставленных преступников совершать подобные злодеяния. Однако истинное значение было не столь впечатляющим. Вряд ли Закон о правонарушениях в отношении иностранных граждан предотвратил хотя бы одно нарушение прав человека в мире. Едва ли злоумышленников остановит отдаленная угроза финансовых убытков вследствие гражданского судопроизводства в другой стране. На самом деле ATS укрепил многих во мнении, что США осуществляют политику юридического империализма. Тот факт, что Соединенные Штаты остаются единственной страной в мире, рассматривающей подобные иски, лишь усиливает негодование за рубежом.
В последние пять лет общая тенденция вновь изменилась. Признав, что федеральные суды, возможно, зашли слишком далеко, вынося вердикты по делам, не имеющим отношения к США, Верховный суд подтвердил, что американское законодательство применимо только внутри страны, если Конгресс не примет специального постановления. Наиболее заметный сдвиг случился в 2013 г., когда суд вынес решение по иску компании Kiobel против Royal Dutch Petroleum по обвинению в предполагаемом участии в злоупотреблениях, совершенных нигерийскими военными в 1990-е годы. В своем решении суд ограничил распространение ATS на весь земной шар, чтобы не допустить «внешнеполитических последствий, к которым политические ветви власти явно не стремятся», имея в виду исполнительную и законодательную власть.
Дело компании Kiobel вызвало гневную отповедь защитников прав человека. Группа «Права человека превыше всего» (Human Rights First) заявила, что Верховный суд погасил «маяк надежды для жертв вопиющих нарушений прав человека». Редколлегия The New York Times охарактеризовала это постановление как «гигантский шаг назад для правозащитного движения». Правоведы в Соединенных Штатах и во всем мире выразили горькое разочарование тем, что американские суды теперь закрыты для исков о нарушении правосудия в разных частях мира. По мнению этих критиков, суды США должны играть ключевую роль в проецировании американской мощи.
Это не так. Когда речь заходит о международных отношениях, судебная власть Соединенных Штатов должна следовать в кильватере исполнительной и законодательной власти. На самом деле это одна из тех областей внешней политики, где «руководство из-за кулис» действительно имеет смысл. Исполнительная и законодательная власть находятся в намного лучшем положении для проецирования силы во всем мире. Судьям же отведена скромная роль, тем не менее они должны быть видимы во внешней политике. Общее правило таково, законы США действуют на территории страны, если американский Конгресс не распорядится иначе.
Сфера действия закона
Со времен президентства Джорджа Вашингтона изоляционисты и глобалисты спорили о роли федеральных судов во внешней политике. В 1793 г. Томас Джефферсон, государственный секретарь при Вашингтоне, направил в Верховный суд 29 официальных запросов относительно угрозы нейтралитету США в непрекращающейся войне между Францией и Великобританией. Верховный суд, не заинтересованный в том, чтобы становиться главным актором внешней политики, вежливо уклонился от ответа. Спустя более двух столетий данная переписка все еще приводится как прецедент в поддержку идеи, что в некоторых случаях федеральные суды должны быть глухи к запросам других ветвей власти.
В 1812 г. во время слушания дела в морском суде принцип судебно-правовых ограничений в международных делах был закреплен законодательно – Верховный суд ограничил собственную юрисдикцию в вопросах, затрагивающих суверенитет иностранных государств. Суд ввел специальный юридический термин, имеющий большое значение: «экстерриториальный», то есть закон, имеющий силу за рубежом. В целом отцы-основатели и юристы США вплоть до XX века придерживались так называемой «вестфальской» традиции территориальности, названной так по договору 1648 г., положившему начало современной государственной системе. Это понятие связывает страну и закон – суды имеют юрисдикцию на той территории, где развевается национальный флаг.
Это была доктрина юридического невмешательства, и она идеально подходила молодой и сравнительно слабой республике. Соединенные Штаты больше бы потеряли, отказавшись от этой позиции, чем приобрели, если предпочли бы накачивать свои юридические мышцы на мировой арене. Хотя территориальность ограничивала возможности страны навязывать свое право другим, она гарантировала, что другие – прежде всего европейские державы – не станут навязывать ей свое законодательство. Но по мере расширения в западном направлении США сталкивались с раздражающими вызовами вестфальскому представлению о праве. Должны ли территории, завоеванные в конце 1840-х гг. во время Мексиканской войны, но еще не присоединившиеся к союзу штатов, подчиняться законам США? Должны ли «имущественные права» рабовладельца действовать и на других территориях, если, допустим, раб сбежит в свободное государство? Последний вопрос был далеко не философским, поскольку именно он стал искрой, из которой разгорелась Гражданская война.
Даже когда на стыке столетий началось экономическое и военное усиление Соединенных Штатов, их судебно-правовая система придерживалась достаточно умеренных воззрений на то, как далеко может распространяться действие американских законов. В 1909 г. Верховный суд превратил рекомендацию не применять законы США за рубежом в более жесткое юридическое правило. Вынося постановление по спорному делу между двумя фруктовыми компаниями, работающими в Латинской Америке, судья Оливер Венделл Холмс-младший сформулировал принцип, получивший известность как «презумпция территориальности». Суть этого принципа, как его сформулировал Холмс, в том, что «все законодательство, prima facie, территориально по своей природе». Теперь у судей было правило по умолчанию не применять американские законы и подзаконные акты за пределами национальной территории.
Но, когда по итогам Второй мировой войны Соединенные Штаты стали мировой сверхдержавой, маятник качнулся в другую сторону. Федеральные суды, занятые интерпретацией многих положений Нового курса, теперь более охотно выносили постановления относительно деятельности, происходящей за рубежом. Принцип презумпции территориальности Холмса начал устаревать в 1945 г., когда суд второго округа ввел конкурирующую доктрину, получившую известность как «теория последствий» экстерриториальности. Речь шла преимущественно о том, что поведение иностранцев за рубежом может приводить к пагубным последствиям на территории США, и это вынудило федеральные суды значительно расширить сферу действия американского законодательства в таких разных областях, как антитрестовское законодательство, торговля ценными бумагами и трудоустройство. Иностранцы, считавшиеся законопослушными в своих странах, теперь могли быть судимы за нарушение американских законов и подзаконных актов, даже если это происходило за рубежом. Американские законы стали применяться глобально. Неудивительно, что это не обрадовало союзников и торговых партнеров Соединенных Штатов. В конце концов, одно из наиболее частых оправданий вестфальского принципа территориальности заключалось в том, что он сводил к минимуму вероятность конфликтов между государствами. Иностранцы негодовали по поводу становления «джингоизма янки в сфере юрисдикции», как выразился автор статьи в Yale Law and Policy Review. Например, в 2004 г., когда Верховный суд слушал дело по обвинению в нарушении принципа конкуренции в производстве витаминов, несколько ближайших торговых партнеров США, включая Бельгию, Канаду, Германию, Японию, Ирландию, Нидерланды и Соединенное Королевство, подали иски, выразив обеспокоенность тем, что американские судьи становятся глобальными арбитрами в области антимонопольного законодательства, тем более когда разбираемые дела фактически не имеют отношения к США. Аналогичные трения стали возникать и в контексте ATS. В 2007 г., когда граждане ЮАР подали иск в Федеральный суд Нью-Йорка о преступлениях, совершенных в их стране при апартеиде, тогдашний президент ЮАР Табо Мбеки осудил «юридический империализм» Соединенных Штатов.
Памятуя об этих жалобах, Верховный суд в последние годы возродил презумпцию территориальности Холмса в области прав человека и торговли ценными бумагами. В деле компании Kiobel он постановил, что закон о правонарушениях в отношении иностранных граждан (ATS) не действует за пределами США, если обвинения в нарушении прав человека «не затрагивают непосредственно территорию США» – «причем достаточно явно, чтобы можно было сделать исключение из принципа презумпции территориальности». Суд выразил обеспокоенность тем, что применение американского законодательства за рубежом может вызвать «правовую коллизию между нашими законами и законами других государств» и привести к «международным разногласиям». В свете существенных рисков и документированных случаев возникновения дипломатических трений и вражды суд постановил, что если Конгресс хочет, чтобы ATS или любой другой американский закон применялся за рубежом, он должен издать соответствующее постановление. Иными словами, призналось, что в вопросах внешней политики американские суды просто некомпетентны.
Судьи и мир
Верховный суд был прав. По сравнению с судебной властью исполнительная и законодательная власти США находятся в гораздо лучшем положении, чтобы решать вопросы, связанные с внешней политикой. С одной стороны, это вытекает из Конституции страны. Хотя фразы типа «внешняя политика», «внешние дела» и «международные отношения» в Конституции не упоминаются, отцы-основатели предписали разделение труда, когда речь заходит о взаимодействии разных ветвей власти. Президент является главнокомандующим, он имеет право принимать и назначать послов, а также подписывать договоры. Со своей стороны, Конгресс наделен полномочиями объявлять войну, принимать правила, управляющие вооруженными силами, и ограничивать финансирование внешнеполитической деятельности. Сенат визирует договоры и назначает послов. В отличие от этих ветвей власти, суды не имеют конкретных полномочий, связанных с внешнеполитическими вопросами.
Более того, суды структурно не приспособлены для проведения внешней политики. В состязательной судебно-правовой системе суды ограничены имеющимися у них аргументами и фактами. Зачастую они просто не могут учитывать все грани сложной внешнеполитической проблемы. Судьи также не оснащены в достаточной мере, чтобы определить, как данное решение повлияет на суверенитет другой страны, не будет ли оно противоречить законам иностранного государства и не приведет ли к конфликту с иностранным правительством. Судьи толкуют закон, а не его влияние на дипломатические отношения, и обычно у них нет экспертных знаний, необходимых для нахождения баланса и равновесия в перипетиях внешней политики, особенно когда речь заходит о действиях, совершенных за рубежом.
Точно так же американские судьи связаны информацией, которую могут использовать, но это гораздо более ограниченная информация, чем та, которой располагают другие ветви власти. Юристы должны опираться исключительно на аргументы и доказательства, приводимые сторонами по данному делу, и нет никаких гарантий, что эти свидетельства содержат всю актуальную информацию. Но действующие политики могут опираться на любой источник информации по своему выбору, включая сплетни, досужие домыслы и другие свидетельства, недопустимые в суде.
В любом случае вынесение приговора – это в каком-то смысле монашеский процесс толкования закона через призму конкретного судопроизводства. Со временем это создает опасность разных решений, принимаемых различными судьями по сходному иску, и приводит к противоречиям между ветвями власти, поскольку каждый судья стремится стать господином в своей вотчине. В отличие от судов, процесс принятия решений другими ветвями власти – тщательно обдуманный коллективный шаг, призванный обеспечить последовательное поведение на международной арене. Такое единство жизненно важно в международных отношениях, которые, как указал Верховный суд в решении от 1962 г., требуют «единого и согласованного выражения взглядов правительства».
Наконец, судьи неизбежно оглядываются назад, поскольку их работа – разрешение споров после того, как они возникают. С другой стороны, люди, занимающиеся внешней политикой, должны разбираться в проблемах по мере их возникновения в режиме реального времени. Они должны стремиться предвосхищать неприятности до того, как те станут реальностью.
Эти структурные издержки – главная причина, по которой судам надо быть очень осторожными в делах, связанных с внешнеполитическими проблемами. К суверенитету другой страны необходимо относиться с должным уважением. Когда Соединенные Штаты решают действовать таким образом, что это может быть оскорбительно для суверенных иностранных партнеров, исполнительная и законодательная ветви власти должны брать на себя руководство по одной простой причине: применение американского закона к иностранным гражданам за рубежом порождает понятное раздражение. Судебно-правовой режим США сформировался на основе ясных и четких правовых традиций. Жители других стран не участвовали в его создании, поэтому, естественно, не приемлют его навязывания. На самом деле применение законов США за пределами американской территории прямо противоречит принципам самоуправления и самоопределения, которые Соединенные Штаты продвигают по всему миру.
Более того, право – это лишь один из внешнеполитических инструментов, и обычно не самый лучший, для достижения национальных целей. Инструменты дипломатии, экономики и вооруженного вмешательства, которые находятся в распоряжении исполнительной и законодательной власти, позволяют правительству взвешенно реагировать на быстро меняющиеся международные обстоятельства. Они оставляют место для тонких игр ума, гибкости, хитроумных политических комбинаций и компромиссов. Позволяют вести неформальные дискуссии и строить межличностные отношения: министры иностранных дел, финансов и обороны могут откровенно обсуждать самые разные вопросы, что не под силу противоборствующим юристам разных стран. В отличие от судей, президенты могут поговорить друг с другом по телефону и снять многие вопросы. И если любое судебное разбирательство заканчивается тем, что одна сторона побеждает, а другая проигрывает, международные споры редко завершаются принятием предложений, абсолютно невыгодных одной из сторон.
Наконец, есть еще одна причина, по которой судьям следует быть особенно осторожными, когда они выносят постановления по делам, затрагивающим внешние связи: реальная перспектива того, что другие страны предпримут ответные правовые действия. Китайский суд может начать процесс против американской компании из-за сделок, проведенных на территории США и абсолютно правомочных по американскому закону. Европейский суд может начать производство против бывшего президента Соединенных Штатов – за удар с воздуха по зарубежным целям с применением беспилотных летательных аппаратов – либо открыть дело против министра обороны или профессора права, посоветовавшего президенту использовать БПЛА. Вот к чему может привести подобная практика. И чем с большей готовностью американские суды будут рассматривать без веского на то основания иски, не имеющие прямого отношения к США или американским гражданам, тем больше будут подталкивать суды других стран действовать точно так же в отношении Соединенных Штатов.
Правильная роль
Какую же внешнюю политику должна проводить судебная власть? Главный принцип – не навредить. В процессе применения американского законодательства в глобальном масштабе, пусть даже во имя благородного дела, судьям следует быть очень осторожными. Конечно, суды не должны рефлекторно самоустраняться от любых дел, затрагивающих международные отношения, и подобные дела не должны обладать иммунитетом от судебного преследования. Но, как указал Верховный суд, прежде чем действовать, судьи должны подумать, не является ли решение предложенной проблемы исторической прерогативой политических ветвей власти, поддается ли проблема судебно-правовому решению, и какими последствиями чреваты судебно-правовые действия в данном случае. Суды должны признать, что в вопросах внешней политики их роль ограничена, хотя и не должны полностью устраняться. Это означает возврат к принципу территориальности, лежащему в основе вестфальской доктрины. Конечно, такое правило по умолчанию – чистая формальность, но, если слегка перефразировать Уинстона Черчилля, возможно, это худшее правило в юриспруденции, если не считать всех других.
Во-вторых, если есть сомнение, то лучше воздержаться. Неукоснительно следуя принципу презумпции территориальности, судьи могут вынудить исполнительную и законодательную власть принять решение, распространять ли данный закон на действия, совершенные за рубежом, и тем самым подстегнуть эти ветви на исправление нестыковок или пробелов в американском законодательстве. Именно так и поступил суд второго округа в 2000 г., когда столкнулся с дилеммой, должен ли Мильтон Гатлин, гражданский муж сержанта американской армии, быть осужден федеральным судом за сексуальное преступление против 13-летней падчерицы во время пребывания на военной базе США в Германии. Дело буксовало как раз из-за проблем с юрисдикцией: Верховный суд ранее постановил, что преследование гражданских лиц в военном суде (где его бы судили, если бы он состоял на военной службе) противоречит Конституции. С другой стороны, Конгресс не давал четких предписаний, наделявших обычный федеральный суд полномочиями расследовать преступления, совершенные на военных базах за рубежом. Апелляционный суд второго округа заключил, что, поскольку Конгресс не издал федеральный подзаконный акт, наделяющий федеральный суд правом расследовать случаи сексуального насилия на зарубежных военных базах, он не мог привести приговор в исполнение. Несмотря на отвратительный характер преступления Гатлина, суд второго округа постановил, что в юрисдикцию федерального суда не входит разбирательство данного дела, и отменил судебное решение о признании Гатлина виновным. Однако в отличие от большинства дел история на этом не закончилась. Поскольку суд посчитал, что Конгрессу следует знать об этом пробеле в юрисдикции, он направил копию решения председателям комитетов по вооруженным силам и юридическим комитетам обеих палат Конгресса. В течение пяти месяцев Конгресс отреагировал на это решение и ликвидировал данный пробел, издав в 2000 г. Акт о военной юрисдикции за пределами Соединенных Штатов, который дал федеральным судам право привлекать к ответственности гражданских лиц, совершивших преступления на военных базах за рубежом. Суд повел себя сдержанно в данном случае, отказавшись распространять сферу действия американского законодательства на зарубежные территории, но вместе с тем сыграл важную роль, побудив другую ветвь власти наделить суды подобными полномочиями.
В-третьих, судьи должны подавать личный пример. Американские судебные органы – одни из старейших и наиболее выдающихся в мире, и другие страны по-прежнему ориентируются на них как на эталон. Поэтому судьям США нужно личным примером опровергать мнение, будто американские суды – всего лишь инструмент экспансии Соединенных Штатов. Им надо стремиться сделать судебно-правовую систему США наглядным образцом важной роли, которую суды могут играть в обеспечении добросовестного толкования законов, не превышая своих полномочий для достижения конкретных политических целей. Другими словами, судьям следует придерживаться своей конституционной и исторической роли.
Сила умеренности
Многие возражают против возвращения к принципу территориальности, но громче всего слышны голоса тех, кто хочет, чтобы суды Соединенных Штатов вершили правосудие в отношении жертв нарушения прав человека во всем мире. Некоторые даже говорят, что закрытие американских судов для зарубежных исков по защите прав человека было бы знаком безразличия США к зверствам, совершаемым за рубежом. Они неправы. Серьезные посягательства на мир, включая геноцид, тревожат Соединенные Штаты и их союзников. Но суды не особенно компетентны в решении этих вопросов. Отстаивание либерального миропорядка – это не то, что благонамеренные юристы, профессора юриспруденции и судьи способны делать самостоятельно. Защита невинных людей от посягательств агрессивно настроенных преступных элементов требует от США осуществления глобального лидерства, и оно может обеспечиваться лишь энергичными усилиями исполнительной и законодательной ветвей власти. История участия американской судебной власти в решении внешнеполитических проблем не говорит о том, что Соединенным Штатам следует избегать ответственности за защиту прав человека за рубежом. Скорее она учит, что суды не должны быть на острие этой борьбы. В «Записках федералиста» Александр Гамильтон назвал судебную власть «наименее опасной» ветвью нового, формирующегося правительства. «Можно смело утверждать, что у этой власти нет ни силы, ни воли, а лишь суждение», – писал он. Гамильтон был прав. Все, что мы, судьи, имеем, – это наше мнение, оценка. И когда дело доходит до внешней политики, наш радиус действия неизбежно ограничен. Судебная власть США никогда не сможет стать шерифом для других народов, но, демонстрируя надлежащую сдержанность, она может быть маяком для них.

«Никакого дна у этого кризиса нет»
Экономист Александр Аузан о том, почему санкции не отменят и после ухода Путина
Александр Аузан — российский экономист, декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, заведующий кафедрой прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
Алексей Сочнев - журналист
Резюме В Культурном центре ЗИЛ в рамках лектория Совета по внешней и оборонной политике прошла встреча с деканом экономического факультета МГУ Александром Аузаном. Темой встречи стал мировой экономический кризис и его проявления в России.
В Культурном центре ЗИЛ в рамках лектория Совета по внешней и оборонной политике прошла встреча с деканом экономического факультета МГУ Александром Аузаном. Темой встречи стал мировой экономический кризис и его проявления в России. Экономист ответил на вопросы аудитории и модератора встречи — главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова. «Лента.ру» записала основные тезисы его выступления.
Каким путем идет Китай
Когда мы смотрим на особенный путь Китая, то обнаруживаем, что он пошел советским путем, но каждый раз выбирая тот лучший вариант, от которого мы отказались. Например, вся экономическая линия Дэн Сяопина очень похожа на предложения правых большевиков (Бухарин, Рыков, Томский, Угланов) в конце 20-х годов: никакой коллективизации, ситцевая капитализация, обогащение. В Китае это сделали.
Они решили еще одну важную проблему, не решенную большевиками, — проблему политической преемственности. Академик Пивоваров ее хорошо объяснил: большевики делали не политическую революцию, а общечеловеческую, они искренне были убеждены, что создадут нового человека, который будет мыслить по-другому, жить по-другому. Большевики говорили, что товарищ Сталин будет жить вечно, а китайцы после смерти Мао поняли, что «товарищи» вечно не живут. Созданный в Китае механизм преемственности очень облегчает жизнь, убирает политическую составляющую некоторых кризисов.
Сейчас Китай дошел до точки, к которой СССР пришел в конце 50-х — начале 60-х годов. Тогда Советский Союз достиг больших высот в своем развитии, технологиях, культуре, искусстве, но не смог удерживать эту планку дальше. Сможет ли Китай, ведь там заканчивается «большая деревня» — дешевая рабочая сила?
Впрочем, это проблема относительного будущего, сейчас же Китай — страна с большим внутренним дисбалансом, которая умеет хорошо себя подавать. Многое из того, что сейчас пишут о ней, очень напоминает то, что про СССР писали Барбюс и Фейхтвангер в 30-е. Например, в кризис 2008 года статистические данные темпов роста Китая резко расходились с его энергопотреблением, а так не бывает.
Есть еще один тревожный звонок — китайскую экономику можно сравнить с начинающим велосипедистом, способным ездить только быстро. Ниже 6 процентов роста ВВП китайская экономика «ездить» не умеет, она просто будет рассыпаться. Сейчас ее темп составляет 6,1 процента, что представляет большую опасность, поскольку речь идет о второй экономике мира.
Отлив глобализации
Период быстрого роста завершился, теперь наступила длинная фаза затруднений, связанная с неудачами глобализации. Экономики государств тесно связаны, зависимы от политики федерального резерва, незначительных колебаний курса юаня, но у них нет общего регулятора. Мировое правительство, жестко регулирующее процесс и уменьшающее риски, создано не было.
Сейчас даже теоретически на примере ЕС можно доказать, что это вообще невозможно. Евросоюз выполнил невероятно сложную задачу, построив четырехуровневую систему управления: муниципалитеты, земли, национальные государства и он сам. Эффективность бюрократии там на пределе, пятый уровень тут невозможен. Если мировое правительство, о котором мечтал Эйнштейн, нереально создать, что же делать? Придется разбегаться по региональным блокам. Та же Англия не может принять финансовое регулирование, которое предлагает ей Франция и Германия.
Тут есть и другая проблема: если такой мировой инновационный центр, как США, соперничает с таким мировым промышленным центром, как Китай, что из этого выйдет? Все это похоже на борьбу легких с почками в организме человека. Поэтому мы имеем плохой экономический фон, и на этом фоне могут происходить разные кризисы.
Россию душит не американский империализм, а братский Китай с его замедлением. В Китае довольно грязные технологии производства, для которых нужна нефть и газ, и при замедлении производства падает спрос на нашу нефть. Прибавим сюда еще войну ОПЕК против инноваций сланцевого газа. Снижая цены на нефть, они пытаются, на счастье России, задушить этого младенца в колыбели, ведь если все будут торговать сланцевым газом, то России продавать нефть будет некому.
Благодаря кризису и отливу глобализации, смог активизироваться Евразийский союз. Правда, внешнему наблюдателю не очень понятно, куда будет двигаться этот блок, которому просто необходима была Украина (но не вышло). Может ли ее заменить Китай? Он заинтересован в применении своей рабочей силы за границей и строительстве там китайских анклавов, заинтересован в строительстве нового Шелкового пути. Между двумя крупными торговыми партнерами, ЕС и Китаем, лежит огромная территория России, через которую нужно строить «мост». Хорошо ли это для России? Хорошо, что «мост» строят, а не десантом пробивают путь. У Сорокина в «Дне опричника» был образ страны, через которую шла дорога с интенсивным движением из Китая. Очень не хочется, чтобы этот образ отсталой страны с великолепной дорогой из Китая в ЕС реализовался у нас. Это не главный путь нашего развития.
Милитаризация как локомотив экономики
Военными заказами действительно можно подогреть экономику, но именно так начиналась Первая мировая война. Тогда Германия с Англией воевать не собирались, они просто устроили гонку вооружений для поддержки своих экономик, а потом за несколько месяцев «перемололи» несколько миллионов человек. Гоббс утверждал, что развязать мировую войну легко, а вот закончить сложно, потому что еще Гамильтон вывел закон, согласно которому человек готов отдать жизнь за двух родных братьев, четверых двоюродных и восьмерых троюродных.
Деление на своих и чужих легко запустить, а вот остановить будет сложно. Происходящее на Украине может оказаться преддверием большой войны, и поэтому нужно этот узел развязать, причем важно понимать, что военного решения у ситуации нет. Когда его развяжут, выяснится, что военный способ решения экономических проблем был более затратен для сторон, чем восстановление порушенного народного хозяйства и похороны погибших.
Конечно, милитаризация может оказать влияние на инновационные разработки. Человека раз в полгода, в год убеждают обновлять телефон или программное обеспечение, но это ему не надо, это нужно только для развития мировой экономики. Поэтому потребителя нужно обманывать — он думает, что покупает автомобиль, а на самом деле это компьютер, который из года в год усложняется. Но есть и другой путь. Можно пугать человека: если ты не хочешь кормить свою армию, ты будешь кормить чужую, потому, будь добр, выделяй на оборону средства (транзисторы, кстати, были придуманы в СССР не для бытового радиоприемника, а знаменитый самый быстрый самолет Ту возник из бомбардировщика).
Сейчас это слабый аргумент, потому что в оборонной сфере произошел переворот, который привел к поражению СССР в гонке вооружений. Военные специалисты Гольц и Зимин объясняют его на следующем примере: в Японии были запрещены военные разработки, и вдруг выяснилось, что гражданские разработки порождают технологии двойного использования. У Японии получилось из гражданских технологий делать военные, а не наоборот, и это вышло гораздо дешевле для бюджета страны, так как государство перестало платить за гражданские разработки. После этого США и Франция перестроили свое производство в пользу гражданских двойных технологий. В СССР это было невозможно, поскольку их просто не было.
Военная мощь США — залог экономического успеха?
Существует бюджет и валовой продукт. Расходы делятся на три потенциально важные части: образование и здравоохранение, инфраструктуру (дороги и так далее) и военные расходы (поддержание статуса великой державы). Нужно иметь большой валовой продукт и проводить при этом достойные вложения. США, например, тратят огромные деньги на здравоохранение — на него уходит 15 процентов бюджета страны (в Европе — 5 процентов).
Соединенные Штаты могут себе это позволить из-за величины бюджета государства. ВВП США (их надо считать вместе с Канадой) составляет около 20-22 процентов мирового валового продукта, а ВВП России — всего 3 процента, при том что территория России больше территории США. На дороги, образование, здравоохранение и оборону этих средств не хватает. В этом была драма СССР — он отставал, имея даже большие экономические возможности.
России надо очень хорошо подумать, на что сейчас делать ставку, особенно в условиях экономической войны. Добавьте в эту формулу ЕС, и вместе с США и Канадой у них будет половина мирового валового продукта. Это столкновение пешехода с автомобилем.
Нужно ли уметь выдерживать такое противостояние? Да. Но надо учитывать методы партнеров в геополитических комбинациях, думать, как противостоять им, не доводя дело до войны. Мне кажется, что путь решения этой проблемы лежит через Евразийский союз, через его реинтеграцию в ЕС. Мы — две разные Европы, восточная и западная, но мы — Европа. Горбачев в свое время правильно говорил о том, что европейский дом надо строить с двух концов. Западной Европе, с одной стороны, и без России вполне хватает Болгарии, Греции и Румынии. С другой стороны, эти страны в гораздо большей степени понятны России, они живут по системе правил сильно отличной от той, что действует, например, в Бельгии, Нидерландах и Германии. Если мы все это учтем, то появятся две Европы, которые затем сойдутся в некой другой, новой конфигурации.
Потенциал России
В 1991-1993 годах произошла не либеральная и не демократическая революция, а антидефицитная. Главное на 2014 год достижение в России состоит в том, что мы от экономики дефицита перешли к обществу потребления со всеми его плюсами и минусами. Поесть-то поели, а потом вспомнили, что здесь когда-то была великая держава, и спросили: «А величие-то где?»
Можно ли быть одновременно накормленными и гордыми? Именно на этом вопросе в стране началось помешательство. Что значит быть гордыми? Нас должны любить, бояться или уважать? Мы вспомнили про свой накопленный военно-технический потенциал, и решили, что будет, как сказал Петр I: «Неважно, чтобы уважали, пусть боятся». Мне такой подход не кажется перспективным, потому что если мы сейчас включимся в гонку вооружений, то проиграем ее в десять раз быстрее, чем СССР, из-за возможностей нашего экономического потенциала.
У нас есть два других пути. Первый связан с пространством: мы самая большая страна в мире. Если мы это понимаем, то нам нужно строить дороги, но не от вашего дома к автобусной остановке, и не только от Востока к Западу, но и от Севера к Югу. Существует огромная проблема трансполярных сообщений, есть великий Северный морской путь, по которому могут проходить подводные лодки. Могут быть самые разные решения по использованию пространственного потенциала страны.
Второй потенциал России — человеческий. Это особенно хорошо видно, когда он уходит от нас за границу и реализовывается там, притом что у нас есть все для того, чтобы им воспользоваться. Используя эти два потенциала, мы можем создать нечто, имеющее мировое значение.
Россия — страна умных людей, неспособных договориться друг с другом, и эта проблема связана с состоянием неформальных институтов в ней. У наших людей очень узкий радиус доверия, позволяющий образовывать лишь небольшие группировки, сталкивающиеся друг с другом. Законы у нас устроены таким образом, что их нельзя соблюдать, и это стимулирует доверие только к своим, а также постоянный страх возможного наказания. Нужно снимать страхи, проводить разного рода амнистии. Возрождение доверия — долгий эволюционный путь.
2017 год: Россия после Путина и Украина
Никакого дна у этого кризиса нет, дно бывает только у циклического кризиса, какой был, например, в 2008 году, кризиса перепроизводства. Нынешний кризис в России связан с исчерпанием сырьевой модели экономики — инвестиций нет, западные инвестиции закрыли санкциями. Самые большие в России накопления у населения — 31 триллион рублей, это больше, чем у государства и бизнеса вместе взятых. Очень хочется их заполучить, но как? Кто готов отдать свои сбережения лет на десять под низкий процент?
Вот мой прогноз на 2016-2017 год. В 2016 году пойдут государственные инвестиции, те несчастные 9 триллионов рублей, что есть в резерве у правительства. Эти меры дадут улучшение к 2017 году, 2-3 процента роста ВВП, ведь грядут очень важные выборы 2018 года.
Санкции частично снять можно, но полностью сняты не будут даже после ухода Владимира Путина. Многие помнят историю с поправкой Джексона-Вэника — ее приняли сенаторы США в 70-е годы, она ограничивала торговлю с СССР по ряду важной для нас техники. Сколько политических лидеров сменилось до того момента, когда ее отменили (поправка была отменена в 2012 году — прим. «Ленты.ру»)! Если за дело взялся Конгресс США, то смена президента ничего не решает, принять в Америке постановление гораздо проще, чем отменить. Если будущие президенты обеих стран будут очень стараться, то санкционная война прекратится только лет через 20.
С Европой будет по-другому. Европейские и украинские экономисты, с которыми проводились беседы, склоняются к позиции, согласно которой отмена санкций возможна по формуле «Украина нас поссорила, Украина нас помирит». Украинская экономика сейчас находится в состоянии краха. Сообщения о том, что этой стране выделят каких-то 14 миллиардов долларов (и еще полмиллиарда Всемирный банк обещает выдать), смехотворны. По расчетам 2013 года Украине нужно было около 50 миллиардов долларов, а сейчас — не меньше 40 миллиардов долларов. Никто не может тянуть такую большую страну на своих плечах, это не Босния. В Польше уже сейчас в ужасе от возможного потока беженцев.
Единственный вариант спасения Украины — совместная помощь Евразийского и Европейского союзов, и главное условие тут заключается в снятии экономических санкций с России. Надо реструктурировать украинские долги, рекапитализировать наши банки на Украине. Европе не нужно украинское машиностроение, а нам очень нужно (Ан, «Южмаш», большие двигатели, корабли и так далее). Европейский союз сможет интегрировать всю продукцию Украины, кроме машиностроения, а Евразийский союз — машиностроение.
Донбасс для России с точки зрения экономики является конкурентом, он производит уголь, как и мы. Таким образом, сейчас мы дотируем нашего конкурента. Экономически мы связаны с другой Украиной — Одесса, Харьков, Днепропетровск, Херсон, вот наша линия связей и интересов. Здесь мы видим полное несовпадение зон политического влияния и экономических интересов. Украине помощь нужна, а значит, нам есть, что обсуждать.
Записал Алексей Сочнев

Двойной кризис Европы
Алан Кафруни
Логика и трагедия главенствующего положения Германии
Алан Кафруни – профессор в области международных отношений и европейской политики Колледжа Гамильтон
Резюме Геополитический кризис не совпал со стратегическим отходом от атлантизма, но по мере его продолжения высока вероятность нарастания тактических противоречий и конфликтов между западными странами.
Данная статья представляет собой несколько сокращенную версию материала, написанного по заказу Валдайского клуба и опубликованного в серии «Валдайских записок» в январе 2015 года. Полный текст по-русски и по-английски со справочным аппаратом – http://valdaiclub.com/publication/75421.html.
Кризис еврозоны послужил катализатором процессов неравномерного развития и политической фрагментации Европы. По наблюдению Филиппа Леграна, валютный союз, некогда считавшийся кардинальным прорывом европейской интеграции, превратился при немецком лидерстве в «фискальный колониализм еврозоны». Из-за снижения конкурентоспособности Франции и неприятия ею навязанных Германией налогово-бюджетных правил, трещину дало франко-германское партнерство, которое с начала 1950-х гг. было главной движущей силой европейской интеграции. Берлин пользуется практически неоспоримой властью в еврозоне. Судя по реакции ЕС на войну на Украине, очевидно, что Германия также стала доминирующей политической силой Евросоюза.
В этой статье речь пойдет об истоках и эволюции двух взаимосвязанных кризисов, которые охватили европейский континент. Первый обусловлен угрозой распада валютного союза, а второй выражается в ужесточении соперничества за господство в Европе после завершения эпохи, начавшейся с окончанием холодной войны. Хотя истоки и логика этих двух кризисов разные, их объединяет одно: и в том, и в другом случае главную роль играет Германия.
Немецкое государство, капитал и кризис еврозоны
Послевоенный проект обеспечения стабильного роста, полной занятости и социальной защиты в Западной Европе был основан на Бреттон-Вудской системе фиксированных валютных курсов, стратегической целью которой было развитие экспорта в Соединенные Штаты. Крах этой системы и переход к плавающему обменному курсу сопровождался развитием мобильных, транснациональных финансовых рынков, замкнутых на Уолл-Стрит. В свете изменений европейский проект оказался устаревшим. Стало очевидно, что Европа уязвима перед лицом валютной обособленности США. С ростом неустойчивости финансовой системы все более явно проявлялась неравномерность развития стран Западной Европы. Немецкая промышленность и раньше славилась своим превосходством, а после воссоединения Западной и Восточной Германии это стало серьезным испытанием для франко-немецких отношений и Евросоюза в целом.
Решение о создании Экономического и валютного союза (ЭВС) было принято в силу ряда геополитических и экономических причин, не последней из которых стало стремлении Франции на момент подписания Маастрихтского договора сдержать развитие объединенной Германии и восстановить хотя бы частично контроль над своей денежно-кредитной политикой. Однако создание валютного союза без единой федеральной финансовой системы неизбежно привело к торжеству неолиберализма, что явилось определяющим фактором «повторного запуска» или начала «второго» европейского проекта. Парадоксально, но в Германии многие изначально выступали против ЭВС, однако, в итоге эта структура обеспечила воплощение в жизнь модели экспортного меркантилизма, тем самым усилив экономическую мощь Германии.
С конца 1990-х гг. немецкий капитал неустанно сокращал издержки и проводил меры жесткой экономии. Эти инициативы были тесно связаны с экспортной деятельностью и стратегией содействия прямым иностранным инвестициям. Цепь поставок Германия – Центральная Европа (фактически единый производственный комплекс) охватила всю территорию Центральной и Восточной Европы, что стало залогом глобальной конкурентоспособности экспортной модели Германии. Вхождение в ЕС ряда новых стран с 2004 г. обеспечило более надежную институциональную и правовую основу для создания такой зоны под эгидой Берлина.
В объединенной Германии проведена серия реформ и «наступлений работодателей», в результате чего резко снизились затраты на рабочую силу в единице продукции. В соответствии с программой реформ Герхарда Шрёдера «Повестка 2010», пособие по безработице и объем социальной помощи сократили, что нарушило установившуюся в послевоенный период связь между экспортным ростом, увеличением зарплат и развитием внутреннего рынка. Экономика Германии находится в структурной зависимости от зарубежного спроса. По валовому экспорту Германия уступает лишь Китаю, и то ненамного. Кроме того, профицит текущих операций составляет почти 3%, самый высокий показатель в истории финансовых рынков. Именно этим во многом обусловлен кризис еврозоны. Другие страны еврозоны не могут для повышения конкурентоспособности девальвировать свои валюты по отношению к немецкой марке, как это бывало до 1992 г. и будет, в случае распада еврозоны. Таким образом, экспортный меркантилизм Германии является и причиной и следствием стагнации, поскольку государства с дефицитом вынуждены проводить внутреннюю девальвацию. То есть, использование евро стало для Германии политикой «разори соседа», при этом в первую очередь «разоренными» оказываются немецкие трудящиеся.
Реакция ЕС на кризис
Тот факт, что банковский кризис 2009 г. начался на фоне неравномерности развития европейских стран, присущей им со времен распада Бреттон-Вудской системы, значительно затруднил его преодоление. Изначально, членство в ЭВС считалось защитой стран-должников от валютных кризисов, поскольку позволяло искусственно сохранять стоимость заемных средств на низком уровне. В то же время, как отмечено ранее, членство в еврозоне лишает возможности проведения девальвации национальной валюты для повышения конкурентоспособности. В Португалии, Италии, Ирландии, Греции и Испании наблюдался стремительный рост задолженности населения из-за структурного дефицита по текущим операциям, обусловленного ростом сальдо торгового баланса Германии. Соответственно, повышались и риски немецких банков и других крупнейших стран еврозоны. Бывший глава Бундесбанка Карл Отто Пёль охарактеризовал меры по спасению экономики Греции следующим образом: «Речь шла о защите от списания долгов немецких, и, в особенности, французских, банков. В день согласования пакета мер по спасению экономики Греции, стоимость акций французских банков выросла на 24%... Становится понятно, для чего это было сделано: для спасения банков и богатых греков».
По мере роста разницы между ставками по облигациям Германии и периферийных стран еврозоны в последних начали вводить меры жесткой экономии. Таким образом, банки получили доступ к государственному финансированию, однако чрезвычайные выплаты осуществлялись по запредельным ставкам. С 2010 г. принят ряд программ для спасения экономик стран-должников. Кульминацией стало заявление председателя ЕЦБ Марио Драги в июле 2012 г., в котором он пообещал «сделать все возможное» для предотвращения роста ставок по облигациям. Избежать полномасштабного кризиса, объявления дефолтов и выхода стран-должников из еврозоны удалось за счет обобществления значительной доли частного долга. Однако меры жесткой экономии, которыми сопровождалась реализация программ спасения экономики, привели к углублению кризиса, выходу его за пределы финансового сектора и распространению на реальную экономику и общество в целом.
Продолжение подобной политики обрекает государства периферии еврозоны на годы стагнации. Греция добилась первичного профицита бюджета в 2014 г. за счет комплекса мер неолиберального толка, в результате которых объем экономики сократился с 2008 по 2013 гг. на 23,5%, а инвестиции просели на 58 процентов. По состоянию на конец 2014 г. уровень безработицы составлял 27%, а среди молодежи достигал 60 процентов. Программа спасения греческой экономики и продажа новых выпусков облигаций позволили привлечь дополнительные средства по относительно высокой ставке, в результате чего долговая нагрузка и соотношение долга к ВВП продолжили расти. При этом системное решение стоящих перед экономикой проблем так и не найдено. Совокупный долг Греции составлял в апреле 2014 г. 320 млрд евро и продолжит рост в будущем. В 2013 г. объем экспорта из Греции в абсолютном выражении снизился.
В других странах Южной Европы ситуация не менее драматичная, хотя проблема дефолта и выхода из еврозоны не столь остра. В мае 2014 г. Португалия объявила о выходе из программы финансовой помощи МВФ и Евросоюза, в результате которой совокупный долг страны вырос с 93% до 129% ВВП, а система социального обеспечения сжалась до минимальных объемов. В частности, в 2013 г. уровень безработицы достиг 16,5 процента. С 2008 г. экономический спад в Италии составил 9%, а производство сократилось на 25 процентов. Безработица в октябре 2014 г. достигла наивысшего значения за всю историю наблюдений – 13,2 процента. К марту 2014 г. в восьми странах ЕС наблюдалась дефляция, еще в одиннадцати странах МВФ выявил «ультранизкую инфляцию», то есть ниже 0,5%, а уровень безработицы в еврозоне достиг 12% процентов.
Проблемы безработицы и дефлирования долга постепенно перекидываются с южных, периферийных, на северные, то есть ведущие, государства Европы. В ноябре 2014 г. безработица во Франции достигла рекордного уровня в 10,5% (3,5 млн человек), а французскому правительству теперь приходится выслушивать поучения о необходимости финансовой дисциплины от немецких министров, которые раньше позволяли себе такие заявления только по отношению к итальянцам и грекам. В ноябре 2014 г. Еврокомиссия под давлением Германии потребовала выполнения «фискального пакта», согласно которому бюджетный дефицит должен быть сокращен до 3% ВВП, а государственный долг до 60% ВВП, хотя Франции, Италии и Бельгии предоставили трехмесячную отсрочку. Тогда же председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер торжественно объявил о создании 300-миллиардного инвестиционного фонда «последней надежды». Однако на бюджетные средства из этой суммы приходится всего 21 млрд евро, что позволило журналу Economist назвать предложение Юнкера «несуразным», а самого политика – «средневековым алхимиком». ЕЦБ объявил о намерении начать политику количественного смягчения. Однако Берлин так и будет держать его на коротком поводке.
Варианты действий Германии
Таким образом, неравномерность развития является как причиной, так и следствием кризиса еврозоны. Это подтверждается парадоксальной и беспрецедентной ситуацией с участием МВФ в преодолении кризиса еврозоны, которая в целом постоянно показывает профицит торгового баланса и текущих операций. Многочисленные наблюдатели предлагают Германии взять на себя роль «добровольного гегемона», наподобие того как США действовали в рамках Бреттон-Вудской системы после 1945 года. Берлин призывают способствовать созданию в Европе подлинного фискального союза на основе кейсианской модели экономики, включая банковский союз, функционирующий под надзором ЕЦБ, содействовать созданию системы страхования банковских вкладов, превращению ЕЦБ в полноценного «кредитора последней инстанции» и выпуску евробондов. Такие меры создали бы институциональную основу для отказа от жесткой экономии за счет стимулирования Германией экономического роста. За такие меры выступают все кроме Брюсселя и Берлина, включая ОЭСР, Вашингтон, Пекин и даже МВФ.
Реализация подобного проекта потребовала бы огромных ресурсов. Возможно, отказ Германии от такого рода филантропии объясняется не ее силой, а скорее глубокими базовыми ограничениями немецкой власти и связанной с этим уязвимостью при любом сценарии. С одной стороны, стратегия Германии по пошаговому урегулированию кризисов за счет предоставления экстренной помощи и навязывания жесткой экономии обходится все дороже. С 2008 по 2013 гг. Бундесбанк выделил 874 млрд долларов межбанковской кредитной системе Target2, по которой он все еще несет ответственность. С мая 2010 г. по июнь 2012 г. ЕЦБ выкупил суверенных облигаций на сумму более чем 250 млрд евро, а теперь намеревается потратить еще триллион евро. «Обобществление» долга с помощью евробондов могло бы стать важнейшим и в перспективе популярным инструментом управления долговым рынком.
Причины, вынудившие Германию категорически отказаться разделить ответственность с другими странами еврозоны, становятся понятны на примере идеи создания долгового фонда в 60% ВВП или 3 трлн евро. Ведь в случае введения системы страхования вкладов финансовые обязательства Германии тоже значительно выросли бы. Неслучайно Берлин наложил вето на это решение, проявив грубую политическую силу.
К 2013 г. госдолг Германии достиг 81,5% ВВП. Искусственная инфляция привела бы к росту дефицита бюджета и долга, и ограничила возможности рекапитализации все еще неокрепшей банковской системы. Рост зарплат привел бы к росту издержек на единицу рабочей силы, тем самым подрывая конкурентоспособность на международном рынке. Евробонды связаны с субъективными рисками, что значительно повысит стоимость их выпуска. Кроме того, растет популярность партий евроскептиков и движений, выступающих за отказ Германии от дальнейшего участия в спасении других стран от дефолтов. Ведущая финансовая газета Германии Handelsblatt назвала Маастрихтский договор «Версальским мирным договором без войны». Наконец, Германия может столкнуться с множеством структурных проблем в долгосрочной перспективе, включая чрезвычайно низкие темпы экономического роста, снижение численности населения и негативные последствия от снижения в течение нескольких лет государственных инвестиций.
Все это вызывает недовольство населения Германии. При сохранении уровня безработицы на относительно низком уровне (6,6% по состоянию на ноябрь 2014 г.), Берлин в 2015 г. продолжит настаивать на отказе от заимствований и постарается ограничить политику количественного смягчения. Если же, с другой стороны, уровень безработицы вырастет, федеральное правительство будет с еще большим рвением сопротивляться предложениям по оказанию материальной помощи менее состоятельным странам ЕС. Таким образом, Германия слишком слаба, чтобы стать «добровольным гегемоном» Европы, но имеет достаточно сил для того, чтобы продолжить навязывать другим странам еврозоны политику жесткой экономии.
Учитывая, что Германия блокирует решение проблемы по кейнсианской модели, а политическое влияние левых сил в настоящее время снижается, ЕС скорее всего, сделает выбор в пользу экспортно-ориентированного роста за счет дальнейших мер по реформированию рынка труда, умеренного расширения политики количественного смягчения под пристальным надзором ортодоксального в фискальных вопросах Берлина, и дальнейшего дерегулирования, возможно, в рамках Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства (ТТИП), рьяной сторонницей которого выступает Ангела Меркель.
Действительно, углубление трансатлантической интеграции станет для Европы логичным шагом в сторону неолиберальной консолидации в продолжение Единого европейского акта (ЕЕА) и ЭВС. Движение в этом направлении представляет собой попытку Евросоюза решить проблему стагнации за счет повышения конкурентоспособности на основе модели экспортного меркантилизма Германии. Такое решение имеет важные геополитические последствия. Однако в основе стратегии – экспорт на мировой рынок, темпы роста которого снижаются. По сути, речь идет об экспорте дефляции. Следствием станет распространение в глобальном масштабе всех вышеупомянутых проблем и противоречий еврозоны.
Геоэкономика и геополитика
Силовые проявления германской экономической мощи в контексте кризиса еврозоны дополняются более уверенной позицией во внешней политике, в частности, по отношению к России и войне на Украине. Соответственно, встает более фундаментальный вопрос об основах европейских и евроатлантических военно-политических структур. Действия в ходе кризиса обострили противоречия между государствами и, в целом, привели к углублению кризиса самого Евросоюза. Это совпало с отказом от ряда франко-германских проектов в ядерной отрасли и военно-промышленной сфере, включая неудавшуюся попытку объединить британскую компанию BAE и франко-немецкий концерн EADS в 2012 г. и последовавшее углубление интеграции военно-промышленных комплексов США и ЕС.
Несмотря на согласование в рамках Лиссабонского договора внешнеполитической архитектуры Евросоюза и создание собственного дипломатического аппарата, реализация Общего курса в сфере внешней политики и безопасности и Общей политики безопасности и обороны не принесла положительных результатов. Как следствие, пошли разговоры о становлении более независимой внешней политики Германии в контексте формирования многополярного мира. Среди экспертов установилось мнение, что Германии придется все чаще проявлять лидерство и отказаться от «культуры сдержанности», которой характеризовалась ее внешняя политика с 1945 года. Судя по решению Меркель о введении санкций вопреки интересам немецких экспортеров и продолжающимся спорам между проамериканскими и пророссийскими силами, война на Украине разрушила, казалось бы, незыблемый консенсус по вопросу о необходимости поддержания партнерских отношений с Россией и о смягчении конфронтационного настроя Соединенных Штатов, как это было, например, в ходе российско-грузинской войны 2008 года.
Размышляя об изменении соотношения сил в Европе, а также культурных изменениях в Германии, Ханс Кунднани пишет о «постзападной внешней политике Германии» и тектоническом сдвиге в отношениях между ведущими мировыми державами: «Постзападная Германия может повести за собой значительную часть Европы, в особенности страны Центральной и Восточной Европы, экономики которых тесно связаны с германской. Если Великобритания покинет ЕС, еще вероятнее, что союз будет следовать предпочтениям Германии, особенно в том, что касается России и Китая. В этом случае не исключен конфликт Европы с США – и тогда Запад переживет раскол, от которого может и не оправиться». (См. статью Х. Кунднани в этом же номере. – Ред.)
По мнению Кунднани и других исследователей, такой сдвиг обусловлен как экономическими, так и культурными причинами. По их мнению, Германия все больше зависит от рынков быстроразвивающихся стран. В то же время, в европейском и немецком обществе распространяются антиамериканские настроения, что отчасти результат разоблачения деятельности разведслужб Соединенных Штатов в Германии. Все эти тенденции вкупе с сопротивлением санкциям показывают, что проамериканская политика Берлина может закончится после ухода с поста канцлера Ангелы Меркель. По мнению Ивана Цветкова, «в случае открытой конфронтации между Россией и Западом, давние противоречия между США и Европой станут еще более глубокими; Европа даже может перейти на сторону России». Однако идея отказа Германии от политики атлантизма представляется нереалистичной в силу ее несоответствия основополагающим экономическим и политическим интересам страны.
Тем не менее, структура внешнеторговой деятельности Германии постепенно меняется. Спустя два десятилетия после подписания Маастрихтского договора, ее основным экспортным рынком остается ЕС, на который в 2013 г. приходилось 59% общего объема внешней торговли Германии. Но доля экспорта в страны еврозоны снизилась в 2008–2011 гг. с 43% до 41%, тогда как доля экспорта в Азию выросла с 12% до 16 процентов. Хотя основным торговым партнером Германии остается Франция, ее доля в за 20 лет снизилась с 13,2% до 9,6 процента. В настоящее время Китай привлекает больше прямых иностранных инвестиций из Германии, чем Франция, и вскоре может стать вторым по значимости торговым партнером Германии, опередив Соединенные Штаты. Китай стал крупнейшим рынком сбыта немецкой машиностроительной техники, а на нее приходится почти половина всего экспорта Германии в КНР. Эти данные показывают, что между Пекином и Берлином развиваются «особые отношения» за рамками Евросоюза.
Изменение структуры внешней торговли Германии связано с ростом ее независимости от США. В 2003 г. Германия (наряду с Францией и Россией) возражала против войны в Ираке и наложила вето на решение НАТО об укреплении турецкой противовоздушной обороны до вторжения. В марте 2011 г. Берлин воздержался при голосовании в Совете Безопасности ООН по предложенной Великобританией, Францией и Соединенными Штатами резолюции №1973 о введении «бесполетной зоны над Ливией», по сути, встав на сторону Китая и России. За исключением Сербии (1999) и Афганистана (2001–2014), Германия воздержалась от участия в каких-либо военных мисиях НАТО, как реальных, так и предполагаемых, включая недавний отказ от участия в возможном вторжении в Сирию.
Несмотря на существенную зависимость от российских энергоресурсов и рост торговых и инвестиционных связей с Китаем, значимость трансатлантической экономики для Германии трудно переоценить. Это относится как к экспорту на рынок Северной Америки, так и к прямым иностранным инвестициям. На трансатлантическую экономику приходится 46% мировой экономики и треть мировых прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Потоки ПИИ между США и Европой на порядок превышают аналогичный показатель между Европой и Китаем. Соединенные Штаты остаются глобальным лидером в технологических инновациях, а данные по динамике ВВП сильно преуменьшают сохраняющуюся, если не растущую, власть американского капитала, особенно в том, что касается их отношений с Китаем. В силу этого крупные немецкие компании и государство объективно заинтересованы и поддерживают ТТИП и связанное с ним Транс-Тихоокеанское торговое партнерство (ТТП). По мере того, как влияние ВТО снижается, эти соглашения могут стать важным рычагом влияния как для США, так и для Германии при ведении торговых переговоров с Китаем, Россией и другими быстроразвивающимися странами. В настоящее время ТТИП сталкивается в Европе с активной оппозицией из-за его откровенно неолиберальной ориентации. Однако его поддержка крупными европейскими (и немецкими) компаниями показывает, что атлантизм сохраняет огромное значение для Германии.
Пожалуй, атлантизм еще больше укоренился в сфере геополитики, поскольку здесь основные интересы Берлина и Вашингтона совпадают, в частности в том, что касается отношений с Россией. Воссоединение Германии было совместным проектом Соединенных Штатов и Западной Германии, осуществленным вопреки активному противодействию Франции, Соединенного Королевства при вынужденном согласии доживавшего последние дни Советского Союза. В течение непродолжительного периода сразу по окончании холодной войны даже рассматривалась возможность роспуска НАТО, однако, к середине 1990-х гг. Соединенные Штаты перешли к более активной стратегии, включавшей расширение блока за пределы западноевропейского ядра на Балканы, в сторону нефтегазовых месторождений и трубопроводов Центральной Азии, Ближнего Востока и дальше. Немецкие фирмы вышли на рынки Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, где получили преференции в финансовых и промышленных структурах, денационализированых и приватизированых в рамках «шоковой терапии», а в дальнейшем приведенных в соответствие с единой нормативной базой (acquis communitaire) ЕС.
В отношениях между Берлином и Москвой также установилось разделение труда практически колониального типа: Россия отчасти превратилась в рынок сбыта промышленных товаров и источник сырья, что стало возможно в результате российской приватизации и промышленного спада 1990-х годов.
Вопреки утверждениям российских обозревателей, включение Украины в сферу влияния ЕС/НАТО вовсе не являются попыткой США укрепить якобы пошатнувшийся атлантизм. В этом заинтересованы как Германия, так и Соединенные Штаты. Украина важна не только с точки зрения геополитики, но и как крупный рынок, источник недорогой и высококвалифицированной рабочей силы и как объект инвестиций. 27 июня 2014 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соглашение о создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Евросоюзом, которое является экстремальной версией шоковой терапии. Документ предусматривает устранение всех преград на пути торговли и капитала ЕС, включая предоставление услуг, приватизацию нефтяных и газовых трубопроводов и их продажу иностранным инвесторам. Реализация соглашения приведет к сокращению давних промышленных связей между Россией и Украиной. Учитывая несоразмерность экономик Украины и Западной Европы, компании Евросоюза (и в меньшей степени США) извлекут большую выгоду. Ключевым элементом документа является либерализация инвестиций: одним из своих первых законов новое правительство постановило, что 49% нефтяных и газовых трубопроводов должны быть приватизированы и проданы иностранным инвесторам.
Тот факт, что расширение Евросоюза проходило под зонтиком НАТО, свидетельствует о том, что Европа (в том числе Германия) все еще находится в подчиненном положении по отношению к Соединенным Штатам. Являясь геоэкономической державой, Германия не обладает собственной военной мощью для того, чтобы проводить наступательную стратегию по спорным с Россией вопросам. Хотя Германия занимает третье место в мире по экспорту вооружений, уступая лишь Соединенным Штатам и России, военные расходы страны в результате глобального финансового кризиса опустились ниже 1,3% ВВП.
Не исключено, что позиция Берлина стала для Франции дополнительным аргументом в пользу полного возвращения в ряды атлантистов. В 2008 г. Франция восстановила участие в военных структурах НАТО и взяла на себя ведущую роль в военных и дипломатических операциях в Ливии, Сирии и Иране. На Лиссабонском саммите НАТО в 2010 г. отношения между альянсом и ЕС обрели институциональную форму. Берлин обеспокоен ситуацией не только на Украине, но и в других регионах. После визита Владимира Путина в Сербию в ноябре 2014 г. ведущие немецкие политики заговорили об угрозе «появления в регионе нового конкурента в лице России». Канцлер Меркель заявила: «Речь идет не только об Украине, но и о Грузии. Если так пойдет и дальше, не пора ли начать беспокоиться о Сербии и Западных Балканах?»
* * *
Шестьдесят лет назад федеральный канцлер Людвиг Эрхард заявил, что «внешняя торговля является, попросту говоря, ядром и основой нашего экономического и социального уклада». С тех пор политика и практика экспортного меркантилизма Германии принимала различную форму, однако, геоэкономический компонент или «логика конфликта», в которой капитал сродни огневой мощи, инновации в гражданских отраслях заменяют военно-технический прогресс, а уровень проникновения на рынки играет роль военных гарнизонов и баз, становятся все более явными.
Соответственно, навязывание другим странам еврозоны политики жесткой экономии нельзя считать только следствием уникальной истории и культуры Германии, как полагают многие. На самом деле, речь идет о несоответствии структурных интересов немецкого капитала потребностям развития еврозоны в целом. Таким образом, решение вопросов денежно-кредитной политики в ЕС отражает состояние отношений между европейскими странами. Германия недостаточно сильна, чтобы возглавить проект создания стабильной и автономной Европы подобно тому, как США обеспечили формирование Бреттон-Вудской системы. Два кризиза дополняют друг друга – кризис еврозоны чреват дезинтеграцией, в результате чего зависимость ЕС от Соединенных Штатов растет. В настоящее время, учитывая текущее соотношение сил, инициатива по радикальному изменению сложившейся системы не может исходить от Брюсселя или Берлина, а только снизу за счет давления таких левых партий как «Подемос» в Испании и «Сириза» в Греции. Нет сомнений, что подобные трансформации также обернутся кризисом, хотя и иного характера.
Хотя геополитический кризис не совпал со стратегическим отходом от атлантизма, по мере его продолжения высока вероятность нарастания тактических противоречий и конфликтов между западными странами. В 2013 г. объем экспорта из ЕС в Россию составлял 264 млрд долларов против 11 млрд долларов экспорта из США. Отказ от строительства газопровода «Южный поток» дорого обойдется Болгарии, Сербии и Венгрии. Санкции негативно сказываются не только на России, но и на Европе. Соединенные Штаты проводят политику конфронтации с Москвой при практически полном отсутствии обсуждения этой проблемы в СМИ, правительственных и научных кругах. В то же время не утратившие влияния (и политической осторожности) пророссийски настроенные экспортеры продолжат выступать за смягчение позиции Берлина. Аналогичные тенденции наблюдаются во Франции и Италии. Однако основные контуры политики Запада вряд ли изменятся, что может обернуться еще более глубокими конфликтами между Россией и пока еще не утратившим своего единства американо-германским и трансатлантическим союзом.

Европа будущего
Движение к федеративному союзу
Резюме: В Европе решение долговой проблемы может стать основой зарождения политического союза, который позволит Европейскому союзу стать одним из мощных столпов геополитического порядка XXI века.
Евросоюз зародился на пепелище Второй мировой и в схватках холодной войны как проект поддержания мира и процветания на континенте. Чтобы выполнить эту миссию в XXI веке – стать чем-то большим, чем простая «защитная реакция на ужас», как выразился французский философ Андре Глюксманн, – сейчас необходимо двигаться к дальнейшей интеграции.
Получая Нобелевскую премию мира в декабре прошлого года, главы трех ключевых институтов ЕС – Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента – заострили внимание на неясности полномочий и отсутствии институциональной четкости, с которыми непосредственно связаны проблемы организации. Если эти институты не станут легитимными в глазах европейских граждан и не сумеют сделать Европейский союз по-настоящему федеративным, когда единая валюта дополнена общей фискальной и экономической политикой, Европу ждет не менее тревожное будущее, чем прошлое. Ее социальную модель будут трепать штормы, порождаемые глобальной экономикой, в которой обостряется конкуренция.
Первым шагом должна стать разработка стратегии экономического роста, которая поможет выбраться из нынешней долговой ловушки и создать пространство, жизненно необходимое для масштабного повышения конкурентоспособности. Как заявлял бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, «структурные реформы заработают лишь во взаимодействии с траекторией роста». Затем, чтобы продолжить преобразования, ЕС необходимо обеспечить легитимность сильного, но связанного ограничениями европейского правительства, напоминающего нынешнюю федеративную республику в Швейцарии. Это предполагает создание исполнительного органа, напрямую подотчетного европейским гражданам (на базе существующей Еврокомиссии), укрепление Европарламента как нижней палаты законодательного органа и превращение Европейского совета (состоящего из лидеров стран-членов) в верхнюю палату законодательного органа. При этом Франции придется поступиться частью суверенитета больше, чем она считает для себя комфортным, а Германия будет вынуждена осознать, что в ее собственных интересах взять на себя тяготы разрешения нынешнего платежного дисбаланса в еврозоне.
Ключевым аспектом создания федеративной Европы с легитимными институтами управления является эффективное применение принципа, уже известного европейцам как «субсидиарность», когда органы управления более высокого уровня берут на себя только те функции и обязанности, которые не могут быть выполнены на низшем уровне. Институт Берггрюена по управленческому консультированию для будущего Европы проанализировал эти проблемы, собрав компактную группу наиболее видных и опытных европейских политиков, чтобы обсудить и предложить структуру институтов, которые смогут управлять федеративной Европой, а затем составить пошаговый план движения вперед. Эта статья – результат их дискуссий. (В группу вошли Марек Белка, Тони Блэр, Хуан Луис Себриан, Жак Делор, Мохаммед Эль-Эриан, Нил Фергюсон, Энтони Гидденс, Фелипе Гонсалес, Отмар Иссинг, Якоб Келленбергер, Ален Мэнк, Марио Монти, Роберт Манделл, Жан Пизани-Ферри, Романо Проди, Нуриэль Рубини, Герхард Шрёдер, Майкл Спенс, Джозеф Стиглиц, Питер Сазерленд, Матти Ванханен, Ги Верхофстадт, Франц Враницкий и Аксель Вебер.)
Проблема Германии
Сторонники федеративной Европы должны донести свою точку зрения до скептически настроенной европейской общественности. Внимание следует акцентировать не только на преимуществах объединенного континента с крупнейшим мировым рынком и свободным передвижением трудовых ресурсов и капиталов, но и на несоответствии существующих европейских структур требованиям современного глобального мира. Канцлер Германии Ангела Меркель предложила взглянуть на ситуацию как она есть: на долю Европы приходится 7% населения планеты, 25% мирового производства и 50% социальных расходов. Глобальная конкуренция обостряется, и без реформ будет сложно поддерживать государство всеобщего благосостояния, к щедротам которого привыкли европейцы. Европейская общественность, отмечает бывший польский премьер-министр Марек Белка, обычно рассматривает единую валюту как фактор, «усугубляющий недостатки глобализации», а не защиту от них, как будто из-за введения евро экономическая судьба европейцев оказалась в руках глобальных финансовых рынков, а их рабочие места – на балансе стран с дешевой рабочей силой, как в Китае. На самом деле, подчеркнул Белка, все наоборот: единственная возможность сделать Европу снова конкурентоспособной и воспользоваться преимуществами глобализации – перейти к созданию политического союза.
Провал евро навредит как ядру, так и периферии Европы, и немецкому среднему классу, вполне возможно, придется заплатить самую высокую цену. Сегодняшние успехи Германии как самого конкурентоспособного из европейских торговых партнеров были заложены структурными реформами, проведенными несколько лет назад, они включали повышение пенсионного возраста и снижение стоимости рабочей силы. При этом увеличивались капиталовложения в подготовку персонала и НИОКР. Это способствовало сохранению здоровых показателей промышленного производства – 24% от общего объема экономики страны. Однако в Германии, кажется, никогда не обсуждалась перспектива обвала евро и угроза, которую он несет для индустриальной основы немецкого процветания. В этом случае Германии придется вернуться к марке, стоимость ее валюты резко устремится вверх, а конкурентоспособность обрабатывающей промышленности упадет. Немецкие транснациональные компании, не теряя времени, перенесут производство в другие страны, чтобы воспользоваться преимуществами дешевой рабочей силы, глобального распространения технологий и сетями поставок, которые обеспечивают качественное производство в других местах. Исследования и разработки могут остаться дома, но производство и сборка, которые ассоциируются с обилием рабочих мест среднего уровня дохода, будут выведены за рубеж. При таком сценарии больше всего проиграют представители среднего класса, поэтому можно сказать, что евро для Германии – это в определенном смысле классовый вопрос.
Однако именно благодаря традиционно сильной промышленной базе Германия меньше других стран ориентирована на финансовые рынки, в результате немецкая политическая элита менее чувствительна к тому, как фискальная политика, предлагаемая Берлином, воздействует на глобальный рынок ценных бумаг. Однако именно эти рынки диктуют, выживет ли евро и какие затраты понесет немецкий средний класс. Если Германия хочет остаться в глобальном мире процветающей державой и справедливым обществом, вся надежда только на возможность сделать это внутри стабильной еврозоны – и для этого потребуется создать для начала банковский, затем фискальный и, наконец, федеративный политический союз.
Кроме того, крах евро поставит под удар и финансовый сектор, и всю экономику Германии в целом. Эффект домино от дефолтов на периферии Европы в конечном итоге ударит и по немецким банкам и вкладчикам, поскольку они являются основными кредиторами, владеющими проблемными долгами (с учетом гигантских займов на сумму 300 млрд евро, выданных в 2012 г. Греции, Ирландии, Италии, Португалии и Испании). Если провал в еврозоне произойдет из-за нерешительности Берлина, вина за крах Европы целиком ляжет на Германию, а этого не хочет ни немецкая общественность, ни элита.
Итак, у Берлина множество убедительных аргументов в пользу сохранения евро, но для этого он должен помочь скорректировать дестабилизирующий дисбаланс платежей, согласившись на уменьшение положительного сальдо. На самом деле при уменьшении положительного сальдо платежного баланса необходимость в так называемом трансферном союзе, против которого выступают многие немцы, – постоянные субсидии более слабым периферийным государствам – сама собой отпадет. Однако при сохранении значительного положительного сальдо такой союз станет неизбежным, так как только в этом случае другие европейцы получат возможность покупать немецкие товары. Таким образом, главная проблема для Германии сегодня заключается не в том, чтобы выручить остальных, а в том, чтобы спасти себя, пока не стало слишком поздно.
Союз сегодня
В истории можно найти лишь несколько примеров успешных политических федераций. В период конфедерации в 1780-х гг. Соединенные Штаты представляли собой группу малонаселенных молодых штатов с общей культурой и языком, поэтому этот пример недостаточно применим к сегодняшней Европе. Опыт Швейцарии предлагает больше полезных уроков, в том числе медленное созревание. «Федерации нужно время», – говорит бывший швейцарский дипломат Якоб Келленбергер. «Людям, живущим в швейцарских кантонах, потребовались столетия, чтобы узнать друг друга, затем в течение длительного периода существовала конфедерация, и, наконец, в 1848 г. был сделан шаг к федерации. Этому переходу предшествовал период серьезных трений между либералами и консерваторами, протестантами и католиками». Федерация в Швейцарии состоялась, отмечает он, только потому, что центр с уважением относился к автономии кантонов (которые никогда не имели большого желания уступать свою власть) и не злоупотреблял полномочиями. Более того, все полномочия, не делегированные особым образом федеральному правительству, в соответствии с Конституцией Швейцарии остались у кантонов. Пройдя многолетний путь постепенной интеграции, а также учитывая ускорение всех мировых процессов, Европа должна завершить переход к полноценному политическому союзу в ближайшие годы и десятилетия, а не столетия, но тем не менее швейцарская модель может оказаться очень полезной.
Отвечая как-то на вопрос, почему скандинавские страны процветают, несмотря на высокие налоги, экономист Милтон Фридман отметил, что консенсус обеспечивают их общая идентичность и однородная культура. Свободные рынки, подчеркнул он, важны именно потому, что позволяют людям кооперироваться, несмотря на отсутствие общей идентичности и даже на взаимную ненависть. По той же схеме процесс интеграции до сих пор успешно работал в Европе, но для обеспечения прибыли и взаимодействия институтам необходимо продвигаться вслед за рынками. Европейские институты должны сосредоточиться на обеспечении общедоступных товаров и услуг в интересах всего сообщества, избегая при этом излишнего вмешательства в автономную жизнь членов союза. Иными словами, Европе, по примеру Швейцарии, необходимо сильное, но связанное ограничениями центральное правительство, которое способствовало бы максимальному многообразию на местном уровне. Как и везде, это вопрос сбалансированности приоритетов. Управление наиболее эффективно (благодаря тому что оно становится более легитимным и ответственным), когда масштаб невелик; рынки же достигают своего наивысшего расцвета благодаря крупным масштабам.
Одна из сфер, где, безусловно, необходимо централизованное регулирование и институциональные рамки – это финансы. Как отмечал бывший испанский премьер Фелипе Гонсалес, «нелепо, когда страны-члены придерживаются разных правил в общем, интегрированном пространстве, где свободно действуют финансовые институты. Отсутствие единых норм регулирования станет причиной нового финансового кризиса и будет препятствовать развитию Европы в ближайшие десятилетия на фоне новых конкурентных вызовов глобальной экономики». Европейские страны также должны согласовать единые требования к платежному балансу и гармонизировать минимальное налогообложение, чтобы финансировать европейский бюджет. Подобные меры будут способствовать глубоким структурным реформам в странах-членах, включая повышение гибкости рынков труда, что послужит стимулом к повышению конкурентоспособности.
Некоторые считают, что выравниванием европейских государств по таким параметрам, как уровень зарплат, социальный контракт и налоговые ставки, должна заниматься Еврокомиссия, в которой представлены все 27 стран-членов, а не межправительственные соглашения, в переговорах по которым неизбежно доминируют Франция и в особенности Германия. Разумно, но, чтобы взять на себя такую роль, Еврокомиссии потребуется дополнительная легитимность.
Иными словами, чтобы стать лицом политического объединения на континенте, председатель Еврокомиссии должен избираться гражданами Европы напрямую. Европарламенту и Европейскому совету нужна возможность вносить законопроекты (сейчас такими полномочиями обладает только Еврокомиссия). Также имеет смысл распределять места в Европарламенте в более точном соответствии с численностью населения стран-членов. Кроме того, следует ввести пост еврокомиссара по сбережениям, который будет следить за выполнением странами-членами своих обязательств в финансовой и бюджетной сферах.
Бывший глава МИД Германии Йошка Фишер предложил использовать нынешнюю легитимность национальных государств для более эффективной единой европейской бюджетной политики. «Поскольку фискальный союз невозможен без единой бюджетной политики, – отметил он, – ни одно решение не может быть принято без национальных парламентов. Это означает, что есть необходимость в “Европейской палате”, состоящей из лидеров национальных парламентов. Подобная палата поначалу может функционировать как консультативный орган, а национальные парламенты сохранят свою компетенцию; позже, на базе межправительственного договора, она должна превратиться в реальный орган парламентского контроля и принятия решений, в который войдут делегированные члены национальных парламентов». (В том же духе высказывался немецкий философ Юрген Хабермас, предлагая объединить национальный и европейский суверенитет, так чтобы «некоторые члены Европарламента одновременно являлись депутатами своих национальных парламентов».)
Хотя Европейская федерация должна быть открыта для всех членов ЕС, движению в этом направлении не должна препятствовать неготовность отдельных государств, но и навязывание сверху тоже недопустимо. Демократическая общественность каждой из стран должна определиться, насколько глубоко ее желание войти в состав федерации или выйти из нее. Было бы заблуждением считать, что сильный политический союз можно построить на основе недоработанных договоров. В его основу должно быть положено всенародное волеизъявление. Подходящей площадкой для дискуссий, как предложил Шрёдер и многие другие, мог бы стать полномасштабный европейский форум. Бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, немецкий политик Даниэль Кон-Бендит (оба члены Европарламента) и другие предложили превратить выборы в Европарламент-2014 в избрание учредительного собрания, которое обсудит проект новой Конституции Европы с учетом всех этих идей.
В чем специфика функционирования политического союза в Европе? Предполагается, что Европарламент проголосует за избрание главы Еврокомиссии, который затем сформирует кабинет министров из представителей крупнейших партий в Европарламенте – включая министра финансов, наделенного правом взимать налоги и составлять бюджет Европы. Главной заботой министра финансов явилась бы макроэкономическая координация, а не микроэкономический менеджмент. Другие позиции в кабинете будут распределяться в соответствии с распределением общественных услуг на наднациональном уровне (оборона, внешняя политика, энергетика, инфраструктура и т.д.), оставляя в компетенции отдельных национальных правительств федерации как можно большее число прочих вопросов. Европейский суд мог бы выступать в качестве арбитра в случае возникновения претензий на суверенитет между Еврокомиссией и странами-членами.
Поскольку избрание главы исполнительной власти союза усилит позиции Европарламента, имело бы смысл проводить парламентские выборы по общеевропейским, а не национальным партийным спискам. Многое предстоит определять на выборах, поэтому острота дискуссий и активность избирателей возрастет, что, в свою очередь, повысит легитимность результатов голосования и институтов в целом. Партии, получившие менее 10 или 15% голосов на общеевропейских выборах, будут участвовать в дебатах, но не смогут голосовать. Такой порядок работы способствует компромиссной, центристской политике и позволит избегать тупиковых ситуаций из-за права вето мелких партий в коалиции.
Существующий в нынешнем виде Европейский совет, соответственно, преобразуется в верхнюю палату законодательного органа власти федерации. Членство будет определяться национальными государствами со сдвигом по времени, при этом срок полномочий следует установить дольше минимального избирательного цикла депутатов нижней палаты парламента. Так возможно обеспечить управление на долгосрочный период. В отличие от нижней палаты, которая сосредоточится преимущественно на краткосрочных интересах стран-членов, верхняя палата станет совещательным органом и займется более общими и долгосрочными вопросами. Представительство – на пропорциональной системе в соответствии с численностью населения стран-членов.
Чтобы сохранились такие качества нынешней Еврокомиссии, как внепартийность и приверженность принципам меритократии, каждый министр кабинета в комиссии должен иметь в качестве напарника постоянного секретаря из Европейской гражданской службы в соответствующей сфере компетенции. Как и в идеальной «Вестминстерской системе» формирование бюджета останется в руках Еврокомиссии, а не Европарламента. Комиссия будет выносить бюджет на голосование в парламент; «конструктивный вотум недоверия» позволяет парламенту отвергнуть направления политики, выбранные комиссией. В этом случае формируется новое правительство. (Конструктивный вотум недоверия – это механизм достижения консенсуса, состоящий в том, что вотум недоверия может быть вынесен, только если уже обеспечена поддержка новой, альтернативной правящей коалиции.) Налоги и законы должны быть одобрены большинством обеих палат.
Когда, если не теперь?
На пути к подобному политическому союзу, безусловно, возникнет огромное число спорных моментов. Новые институты и их нормы в идеале должны быть выстроены снизу доверху на учредительной ассамблее, а не посредством изменения договоров. Но как запустить реальный процесс союзного строительства? Крупным партиям, которые получат большинство мест в Европарламенте, придется искать компромисс и вырабатывать общую повестку дня, чтобы обеспечить управление – но что если они не справятся? И самое главное, можно ли действительно построить политический союз, если этому не будет предшествовать строительство нации в масштабах всего континента, нацеленное на создание смотрящей в будущее общей идентичности? Однако сейчас самое важное – признать, что существующая система не работает и более тесная, а не свободная интеграция является наиболее разумным и привлекательным решением.
В 1789 г. Александр Гамильтон, занимавший пост министра финансов США, предложил сильную федеральную систему управления, которая возьмет на себя долги штатов, возникшие в период Американской революции, гарантировав стабильную прибыль в будущем, а в дальнейшем будет проводить единую фискальную политику, в значительной степени сохранив местный суверенитет по нефедеральным вопросам. Это был первый шаг в становлении США как континентальной, а в конечном итоге глобальной державы. Поэтому решение долговой проблемы в ЕС тоже может стать основой зарождения политического союза, который позволит Европе стать одним из мощных столпов геополитического порядка XXI века. Единственный ответ на нынешние европейские вызовы, который могут дать лидеры и общественность Евросоюзе – взять в конце концов обязательства и начать преобразования, преодолев нерешительность.
Николас Берггрюен – основатель и президент Berggruen Holdings, председатель Института Берггрюена по управленческому консультированию для будущего Европы.
Натан Гарделс – старший советник Института Берггрюена, редактор ежеквартального издания «Новые перспективы» (New Perspectives Quarterly).

Капитализм и неравенство
В чем ошибка правых и левых
Резюме: Чтобы капитализм продолжал оставаться легитимным и привлекательным для всего населения, необходимо проводить и при необходимости реформировать государственные программы, помогающие повысить защищенность, смягчить провалы на рынке и поддерживать равенство возможностей.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 2, 2013 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
В последнее время политические дебаты в США и других развитых капиталистических демократиях в основном касаются двух проблем: усугубление экономического неравенства и масштабы государственного вмешательства для противодействия этому процессу. Как показали американские президентские выборы 2012 г. и борьба вокруг «фискального обрыва», левых сегодня волнует прежде всего повышение налогов и расходов государства, нацеленное на борьбу с расслоением общества. Правые, в свою очередь, ратуют за то, чтобы сократить налоги и расходы и тем самым обеспечить динамичное развитие экономики. Каждая из сторон стремится выбить почву из-под ног оппонентов, стараясь преуменьшить обоснованность их беспокойства, и при этом уверена, что предлагаемый ею политический курс позволит добиться процветания и социальной стабильности. Обе стороны ошибаются.
Неравенство действительно растет практически во всем постиндустриальном капиталистическом мире. Но, несмотря на мнение многих левых, политика здесь ни при чем, так как вряд ли способна остановить эту тенденцию, поскольку проблема гораздо глубже, чем принято считать. Неравенство – неизбежный продукт капиталистической деятельности, и ставка на расширение возможностей лишь увеличивает его – просто потому, что одним людям или группам людей легче воспользоваться возможностями, которые предоставляет капитализм. В то же время, несмотря на мнение многих правых, эта проблема касается не только тех, кто не очень преуспел или придерживается идеологии эгалитаризма. Дело в том, что если эта тенденция останется неизменной, растущее неравенство и экономическая незащищенность могут подорвать социальный порядок и вызвать популистское движение против капиталистической системы в целом.
В последние несколько столетий распространение капитализма сопровождалось небывалым прогрессом, невероятным ростом материального благосостояния, а также беспрецедентным развитием всего человеческого потенциала. Однако присущая капитализму динамичность обусловила, помимо преимуществ, и чувство незащищенности, поэтому его продвижение всегда вызывало сопротивление. Политическая и институциональная история капиталистических обществ по большей части представляет собой хронику попыток ослабить или смягчить эту незащищенность, и только создание современного государства благосостояния в середине XX века позволило капитализму и демократии сосуществовать в относительной гармонии.
В последние десятилетия развитие технологий, финансового сектора и международной торговли привело к появлению новых форм незащищенности в ведущих капиталистических экономиках, условия жизни становились все более разнообразными, а нестабильность существования ощущалась не только низшими классами, но и средним сословием. Правые преимущественно игнорировали проблему, а левые пытались ее решить посредством государственного вмешательства, невзирая на затраты. В долгосрочной перспективе оба подхода неэффективны. Проводя политику в условиях современного капитализма, следует учитывать тот факт, что неравенство и незащищенность не исчезнут, это неизбежный результат рыночной экономики. Нужно искать пути защиты граждан от последствий – сохраняя динамичность, от которой в первую очередь зависит экономическое и культурное процветание.
МЕРКАНТИЛИЗМ И РАЗВИТИЕ
Капитализм – это система общественно-экономических отношений, основой которых является частная собственность, свободный обмен товарами и услугами, а также использование рыночных механизмов для регулирования производства и распределения товаров и услуг. Некоторые из элементов капиталистического уклада знакомы человечеству с незапамятных времен, но только в XVII–XVIII веках в отдельных странах Европы и Северной Америки они начали действовать как единый механизм. На протяжении истории домохозяйства потребляли большую часть того, что производили, и производили большую часть того, что потребляли. Однако в какой-то момент значительная часть населения в некоторых странах начала покупать большую часть того, что они потребляли, за счет средств, полученных от продажи большей части того, что они производили.
Рост количества домохозяйств, ориентированных на рынок, и так называемое коммерческое общество оказали серьезное воздействие практически на все аспекты человеческой деятельности. До капитализма условия жизни определяли традиционные институты, ставившие выбор и судьбы отдельных людей в зависимость от различных общинных, политических и религиозных структур. Эти институты сводили изменения в обществе к минимуму, поэтому люди не имели возможности существенно преобразить свою жизнь, зато были защищены от превратностей судьбы. С приходом капитализма человек получил большую свободу действий и стал нести большую ответственность за собственную жизнь, чем когда-либо раньше, что снимало ограничения и одновременно пугало, так как могло привести не только к прогрессу, но и к регрессу.
Меркантилизация – переориентация с чисто потребительской рыночной деятельности на свободную – позволила более эффективно использовать время и сосредоточиться на производстве тех товаров, которые пользуются относительно высоким спросом, покупая все остальное у других. В новых формах торговли и производства применялось разделение труда, позволявшее снизить себестоимость предметов домашнего обихода и насытить рынок новыми товарами. Результатом, как писал историк Ян де Фрис, стало то, что современники называли «пробуждением аппетита разума» – расширение субъективных потребностей и их новое субъективное восприятие. Критики капитализма от Руссо до Маркузе порицали постоянный рост потребностей, поскольку человек, по их мнению, становился пленником неестественных желаний. С другой стороны, защитники рынка, начиная с Вольтера, высоко оценивали расширение диапазона человеческих возможностей. По их мнению, удовлетворение растущих желаний и потребностей является сутью цивилизации.
Поскольку мы привыкли воспринимать товары как осязаемые физические объекты, нам сложно оценить, насколько создание и все более дешевое рыночное распространение новых предметов культуры расширило ассортимент средств самообразования. Потому что история капитализма – это еще и история распространения коммуникации, информации и культурных услуг – товаров, которые одновременно предоставляют инструменты мыслительной деятельности и дают пищу для размышлений.
Наиболее ранними товарами современного типа были печатные книги (в первую очередь обычно Библия), снижение цен на которые и их растущая доступность имели даже более судьбоносное значение, чем, скажем, изобретение двигателя внутреннего сгорания. Точно так же распространение газетной бумаги способствовало появлению газет и журналов. Они, в свою очередь, обусловили создание новых рынков в сфере информации и бизнеса по сбору и передаче новостей. В XVIII веке новости из Индии шли до Лондона несколько месяцев; сегодня это занимает мгновения. Книги и новости позволили расширить не только нашу осведомленность, но и воображение, способность сопереживать другим людям и совершенствовать собственные жизненные условия. Таким образом, капитализм и меркантилизация благоприятствовали филантропии и саморазвитию.
В прошлом столетии количество культурных средств развития расширилось благодаря изобретению звукозаписи, кино и телевидения, а с распространением интернета и персональных компьютеров затраты на приобретение знаний и культуры резко снизились. Потому что для тех, кто действительно этого хочет, рост диапазона средств развития дает возможность невероятно расширить свои знания.
ВОПРОСЫ СЕМЬИ
Капитализм открыл широкие возможности для развития человеческого потенциала, однако не все смогли в полной мере воспользоваться ими или добиться успеха. Как формальные, так и неформальные барьеры на пути к достижению равенства возможностей затрудняли определенным группам населения – женщинам, меньшинствам, бедным – доступ к благам капитализма. Но со временем, по мере развития капиталистического общества, барьеры снижались или вообще ликвидировались, поэтому сейчас равноправия больше, чем когда-либо раньше. Существующее сегодня неравенство в меньшей степени обусловлено неравным доступом к возможностям, а скорее связано с неравенством способностей их использовать. А неравенство способностей, в свою очередь, обусловлено различиями в наследственном человеческом потенциале, с которым люди начинают жизнь, а также тем, как семьи и общество обеспечивают развитие человеческого потенциала.
Роль семьи в формировании способности и стремления человека пользоваться средствами саморазвития, которые предоставляет капитализм, трудно переоценить. Семья – это не только место потребления и биологического воспроизводства. Это главная структура, где дети социализируются, получают воспитание и образование, приобретают привычки, которые влияют на их дальнейшую судьбу как людей и субъектов рынка. Используя термины современной экономики, семья – мастерская, в которой производится человеческий капитал.
С течением времени семья сформировала современный облик капитализма, создавая спрос на новые товары. Капитализм тоже неоднократно менял облик семьи, ведь новые товары и средства производства позволяли ее членам иначе расходовать свое время. С появлением в XVIII веке новых потребительских товаров по более приемлемой цене семьи стали уделять больше времени деятельности, ориентированной на рынок, что положительно сказывалось на их потребительской способности. Вначале зарплаты мужской части населения снизились, но суммарные доходы мужей, жен и детей позволяли повысить стандарты потребления. При всем том экономический рост и расширение культурных горизонтов не улучшили жизнь каждого человека и во всех аспектах. Дети представителей рабочего класса могли зарабатывать деньги с самого юного возраста, что поощряло пренебрежительное отношение к их образованию; некоторые новые товары наносили вред здоровью (белый хлеб, сахар, табак, крепкие спиртные напитки) – все это показывало, что растущие стандарты потребления не всегда благотворны и способствуют долголетию. А перераспределение рабочего времени женщин в пользу рынка и в ущерб семье привело к снижению стандартов гигиены и повышению риска заболеваний.
В конце XVIII – начале XIX века происходило постепенное внедрение новых средств производства в экономике. Это был век машин, когда органические источники энергии (человек и животные) заменялись неорганическими (прежде всего паровым двигателем). Чрезвычайно повысилась производительность труда. Ускоренными темпами росла обрабатывающая промышленность с использованием фабрик и заводов, строившихся вокруг новых машин, которые были слишком громоздкими, шумными и грязными, чтобы держать их в домашних условиях. Работа постепенно отделялась от домашнего хозяйства, что в конечном итоге изменило структуру семьи.
Вначале владельцы новых заводов стремились брать на работу преимущественно женщин и детей как более послушных и дисциплинированных. Но ко второй половине XIX века значительно повысился средний уровень и происходил стабильный рост реальных зарплат британских рабочих, а в самой семье возникло новое разделение труда в соответствии с гендерными различиями. Мужчины, которым физическая сила давала преимущество на производстве, работали на заводах за рыночные зарплаты – достаточно высокие, чтобы содержать семью. Однако рынок XIX столетия не обеспечивал услуги, связанные с поддержанием чистоты, гигиены, приготовлением качественной пищи, а также присмотром за детьми. В высшем обществе данный сервис обеспечивался прислугой, но в большинстве семей всем этим занимались жены. В результате получили распространение семьи, созданные по модели «кормилец – хозяйка» с разделением труда по гендерному принципу. Многие достижения с середины XIX до середины XX века, касающиеся здоровья, долголетия и образования, отмечает де Фрис, можно объяснить переориентацией женского труда с рынка на семью, а также переориентацией детства с рынка на образование – дети перестали быть рабочей силой и пошли в школу.
ДИНАМИЗМ И НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ
На протяжении почти всей истории главным фактором незащищенности человека оставалась природа. В традиционных обществах, как отмечал Маркс, экономическая система была ориентирована на стабильность – и стагнацию. Капиталистическое общество, напротив, ориентировалось на инновации и динамичность, создание новых знаний, новых продуктов, новых видов производства и распределения. В результате основной очаг незащищенности сместился от природы к экономике.
Гегель отмечал в 1820-х гг., что для мужчин в рыночном обществе, основанном на модели «кормилец – хозяйка», чувство самоуважения и признания другими связано с наличием работы. Это представляло серьезную проблему, потому что на динамичном капиталистическом рынке безработица – жизненная реальность. Разделение труда, созданное рынком, означало, что многие рабочие имели узкую специализацию. Рынок обусловил постоянно меняющиеся потребности, а повышенный спрос на новые продукты означал снижение спроса на старые изделия. Мужчины, чья жизнь была связана с производством устаревших товаров, оказывались без работы и без подготовки, которая позволила бы им найти новую занятость. Механизация производства также привела к потере рабочих мест. Иными словами, с самого начала созидательность и новаторство индустриального капитализма были омрачены незащищенностью рабочей силы.
Маркс и Энгельс описывали динамичность капитализма, незащищенность, повышение потребностей и расширение культурных возможностей в «Манифесте коммунистической партии»: «Буржуазия путем эксплуатации всемирного рынка сделала производство и потребление всех стран космополитическим. К великому огорчению реакционеров, она вырвала из-под ног промышленности национальную почву. Исконные национальные отрасли промышленности уничтожены и продолжают уничтожаться с каждым днем. Их вытесняют новые отрасли промышленности, введение которых становится вопросом жизни для всех цивилизованных наций, отрасли, перерабатывающие уже не местное сырье, а сырье, привозимое из самых отдаленных областей земного шара, и вырабатывающие фабричные продукты, потребляемые не только внутри данной страны, но и во всех частях света. Вместо старых потребностей, удовлетворявшихся отечественными продуктами, возникают новые, для удовлетворения которых требуются продукты самых отдаленных стран и различных климатов. На смену старой местной и национальной замкнутости и существованию за счет продуктов собственного производства приходит всесторонняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от друга».
В XX веке экономист Йозеф Шумпетер развил эту точку зрения, заявляя, что капитализм характеризуется «созидательным разрушением», когда новые продукты и формы распространения и организации вытесняют старые. Однако в отличие от Маркса, который видел источник динамизма в бездушном стремлении к увеличению «капитала» (за счет, как он полагал, рабочего класса), Шумпетер сосредоточился на роли предпринимателя, новатора, который вводит новые товары, открывает новые рынки и методы.
Динамизм и незащищенность, вызванные индустриальным капитализмом в XIX веке, привели к появлению новых институтов, позволяющих снизить степень незащищенности, включая общества с ограниченной ответственностью, призванные сократить риски инвесторов; профсоюзы, отстаивающие интересы рабочих; общества взаимопомощи для предоставления займов и ритуального страхования; коммерческое страхование жизни. В середине XX столетия на фоне массовой безработицы и ухудшения экономического положения как следствия Великой депрессии (на фоне политических успехов коммунизма и фашизма, которые убедили многих демократов, что слишком высокая степень незащищенности представляет угрозу для самой капиталистической демократии), западные страны ухватились за идею социального государства. Появились разнообразные комбинации специальных программ, но у новых социальных государств было много общего, в том числе пенсионное обеспечение, страхование от безработицы, а также различные меры поддержки семей.
Экспансия социального государства после Второй мировой войны развернулась в период быстрого роста западных капиталистических экономик. Успехи индустриальной экономики позволили забирать часть прибылей и зарплат на государственные нужды посредством налогообложения. Помогли также и демографические условия в послевоенный период: поскольку модель семьи «кормилец – хозяйка» продолжала доминировать, рождаемость оставалась умеренно высокой, что способствовало благоприятному соотношению активных работников и иждивенцев. Образовательные возможности расширились, элитные университеты стали принимать студентов, учитывая их достижения в учебе и потенциал, все больше детей получали среднее образование. Постепенно устранялись барьеры для полноценного участия женщин и меньшинств в жизни общества. Результатом всех изменений стало временное равновесие, когда развитые капиталистические страны пережили мощный экономический рост, сопровождавшийся высокой занятостью и относительным социально-экономическим равенством.
ЖИЗНЬ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Для человечества в целом конец XX и начало XXI века стали периодом необычайного прогресса, в немалой степени благодаря распространению капитализма. Экономическая либерализация в Китае, Индии, Бразилии, Индонезии и других странах развивающегося мира позволила сотням миллионов людей выбраться из бедности и стать частью среднего класса. Потребители в более развитых капиталистических странах, таких как США, ощутили в это время резкое падение цен на многие товары – от одежды до телевизоров – и возможность пользоваться широким ассортиментом новых товаров, которые изменили их жизнь.
Вероятно, наиболее заметной из примет времени стали новые средства саморазвития. Как отмечает экономист Тайлер Коуэн, большая часть плодов развития созрела «в наших головах и в наших лэптопах, а не в секторе производства прибыли». Поэтому «ценность интернета в первую очередь ощущается на личностном уровне, и ее нельзя выразить в цифрах производительности». Многие выступления знаменитых музыкантов XX века в любом жанре доступны на YouTube бесплатно. Великие киноленты прошлого столетия, которые раньше изредка демонстрировались в немногочисленных артхаусных кинотеатрах крупных метрополий, каждый может сегодня смотреть в любое время за небольшую месячную плату. Скоро знаменитые университетские библиотеки станут доступны для всех онлайн, за этим последуют и другие беспрецедентные возможности личного развития.
Однако все эти достижения омрачены такими вечно присущими капитализму чертами, как неравенство и незащищенность. В 1973 г. социолог Дэниел Белл отмечал, что в развитом капиталистическом мире знания, наука и технологии приближают так называемое постиндустриальное общество. Промышленность когда-то вытеснила такой важный источник занятости, как сельское хозяйство, заявлял он, теперь же сектор услуг вытесняет промышленность. В постиндустриальной экономике, основанной на знаниях, производство промышленных товаров в большей степени зависит от технологических ресурсов, а не от навыков работников, которые изготавливают и собирают продукцию. Это означало относительный спад востребованности и экономической ценности квалифицированных и низкоквалифицированных рабочих, так же как когда-то произошел спад востребованности и ценности сельхозработников. В такой экономике спросом пользуются научно-технические знания и умение работать с информацией. Революция информационных технологий, которая охватила экономику в последние десятилетия, только усугубила эти тенденции.
Новая постиндустриальная экономика оказала ключевое воздействие на статус и роли мужчин и женщин. Относительное преимущество мужчин в доиндустриальной и индустриальной экономике в значительной степени основывалось на их физической силе – сейчас спрос на нее все меньше. Женщины, напротив, благодаря биологическим особенностям или социализации, получили преимущество по своим человеческим качествам и умению понимать эмоции, что более востребовано в экономике, ориентированной на услуги, а не на производство материальных благ. Доля участия женщин в экономике увеличилась, и их труд ценится выше, соответственно, время, посвященное домашним заботам, «выкраивается» по остаточном принципу.
Это привело к замене семьи с мужчиной-кормильцем и женщиной-хозяйкой на новую модель, где муж и жена оба зарабатывают деньги. И сторонники, и критики прихода женщин в экономику склонны преувеличивать значение в этих изменениях идеологической борьбы феминизма, недооценивая роль, которую сыграли перемены в капиталистическом производстве. Переориентация женского труда отчасти стала возможной благодаря появлению новых товаров, которые сократили время на работу по дому (стиральные машины, сушилки, посудомоечные машины, водонагреватели, пылесосы, микроволновые печи). В свою очередь, чем больше времени уделялось экономической деятельности, тем выше становился спрос на новые товары, ориентированные на домашнее потребление (например, готовая и упакованная еда), расширялся ресторанный бизнес и сети быстрого питания. Это привело к тому, что уход за детьми, пожилыми и больными все чаще передоверяется не родственникам, а нанятым работникам.
Женщины получают образование и профессиональную подготовку более высокого уровня, что сопровождалось сменой социальных норм, регулирующих процесс выбора при соединении семейных пар. В условиях прежней семейной модели «кормилец – хозяйка» женщина делала при выборе партнера ставку на его способность зарабатывать. Мужчины, в свою очередь, ценили в потенциальной супруге умение вести хозяйство. Мужчины и женщины нередко выбирали супругов со схожим уровнем интеллекта, но женщины чаще выходили замуж за мужчин с более высоким уровнем образования и экономическим статусом. С переходом от индустриальной к постиндустриальной экономике, опирающейся на сектор услуг и информацию, женщины присоединились к мужчинам в борьбе за признание, критерием которого является оплачиваемая работа. И работающая пара сегодня чаще всего состоит из ровесников, обладающих примерно равным уровнем образования и сопоставимыми экономическими статусами – так называемые «ассортативные браки».
НЕРАВЕНСТВО НА ПОДЪЕМЕ
Постиндустриальные социальные тенденции оказали существенное воздействие на неравенство. Если семейный доход удваивается на каждой ступени экономической лестницы, то суммарный доход семей, находящихся по ней выше, должен увеличиваться быстрее, чем доход семей, находящихся внизу. Для значительной части семей в нижней части лестницы удвоения доходов не происходило, поскольку относительные зарплаты женщин выросли, а относительные зарплаты менее образованных мужчин-рабочих снизились, последние стали считаться менее подходящими партнерами для брака. Часто ограничения человеческого капитала, из-за которых таким мужчинам сложно трудоустроиться, делает их менее желанными партнерами, не говоря уже о том, что личность мужчины, который хронически находится без работы, претерпевает негативные изменения. Внося все меньший вклад в семейный бюджет, такие мужчины могут оказаться попросту ненужными – отчасти потому, что женщины теперь могут рассчитывать на программы социального государства как на дополнительный, пусть и скромный, источник доходов.
В США среди наиболее заметных явлений последних десятилетий следует назвать стратификацию моделей семьи в различных классах и этнических группах общества. После смягчения законов о разводах в 1960-х гг. количество разведенных пар выросло во всех стратах общества. Но к 1980-м гг. возник новый тренд: количество разводов упало в среде более образованной части населения, в то время как среди менее образованных показатель продолжал расти. Кроме того, более образованные и состоятельные сравнительно чаще вступали в брак. Учитывая роль семьи как инкубатора человеческого капитала, эти тенденции оказали дополнительное воздействие на неравенство. Многочисленные исследования показывают, что у детей, которых воспитывали двое родителей, продолжающих состоять в браке, чаще вырабатывается самодисциплина и уверенность в себе, а это способствует успеху в жизни. В то же время дети (особенно мальчики), выросшие в неполных семьях (или, что еще хуже, с матерью, менявшей временных партнеров), попадают в группу риска.
Это происходило в период все более открытого доступа к образованию и усугубляющейся стратификации рыночных вознаграждений, которые повысили значимость человеческого капитала. Один из элементов человеческого капитала – когнитивная способность: быстрота мышления, способность делать логические выводы, строить закономерности на основе опыта, а также стремление к умственному развитию. Еще один элемент – репутация и социальные навыки: самодисциплина, настойчивость, ответственность. Наконец, третий элемент – фактические знания. Все это особенно важно для того, чтобы занять успешную рыночную нишу в постиндустриальном обществе. Как отмечает экономист Бринк Линдси в книге «Человеческий капитализм», с 1973 по 2001 г. средний годовой рост реального дохода составил лишь 0,3% для людей в нижней пятой части структуры распределения доходов в США по сравнению с 0,8% для людей в средней пятой части и 1,8% для тех, кто находится в верхней пятой части. Аналогичные тенденции превалируют во многих других развитых экономиках.
Глобализация не стала причиной растущего неравенства доходов с человеческого капитала, но обострила эту тенденцию. Экономист Майкл Спенс проводит различие между «ходовыми» товарами и услугами, которые легко импортировать и экспортировать, и «неходовыми». Ходовые товары и услуги все больше импортируются в развитые капиталистические общества из менее развитых капиталистических обществ, где стоимость рабочей силы ниже. На фоне аутсорсинга производства товаров и стандартных услуг зарплаты относительно неквалифицированных и необразованных работников в развитых капиталистических обществах продолжат падать, если этим людям не удастся каким-то образом найти хорошо оплачиваемую работу в неходовом секторе.
ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВ
Растущее неравенство усугублялось все большей незащищенностью и обеспокоенностью людей, находящихся и на более высокой ступени экономической лестницы. Одна из тенденций, вызвавших к жизни эту проблему, заключается в том, что экономика превращается в сферу финансовых услуг, прежде всего в США, что привело к созданию так называемого капитализма финансовых менеджеров, по выражению экономиста Хаймана Мински, или «капитализма финансовых учреждений», как его назвал финансовый эксперт Альфред Раппапорт.
Еще в 1980-х гг. финансы являлись существенным, но ограниченным элементом американской экономики. В торговле ценными бумагами (фондовый рынок) участвовали отдельные инвесторы, крупные или мелкие, которые вкладывали собственные средства в акции компаний с хорошими, по их мнению, долгосрочными перспективами. Капитал для инвестиций также предоставляли крупные инвестиционные банки с Уолл-стрит и их иностранные партнеры, но в этом частном партнерстве стороны в первую очередь рисковали собственными деньгами. Ситуация начала меняться, когда для инвестиций стали доступны более крупные пулы капитала и их размещали уже профессиональные финансовые менеджеры, а не сами владельцы.
Одним из источников нового капитала стали пенсионные фонды. За несколько десятилетий после Второй мировой войны, когда крупные американские отрасли превратились в олигополии с ограниченной конкуренцией и огромными внутренними и внешними рынками, доходы и перспективы позволяли им предлагать своим сотрудникам пенсионные программы с заранее определяемыми выплатами, при этом риски брали на себя сами компании. Однако с 1970-х гг. конкуренция в американской экономике возросла, корпоративные доходы стали менее стабильными, и компании (а также различные организации госсектора) решили снизить риски и отдать пенсионные фонды в руки профессиональных финансовых менеджеров, которые должны были обеспечить значительную прибыль. Теперь пенсионные доходы сотрудников зависели не от доходов работодателя, а от судьбы их пенсионных фондов.
Еще одним источником нового капитала стали средства университетов и других неприбыльных организаций, которые существенно возросли – вначале благодаря пожертвованиям, затем ставка делалась на удачное инвестирование. Источником нового капитала стали также частные лица и правительства развивающегося мира, где быстрый экономический рост в сочетании со страстью к накопительству и стремлением к относительно надежным инвестиционным перспективам обеспечили огромный приток средств в финансовую систему Соединенных Штатов.
Под влиянием этих новых возможностей традиционные инвестиционные банки Уолл-стрит превратились в компании, бумаги которых обращаются на бирже. Иными словами, они тоже начали инвестировать не только собственные средства, но и средства других людей – и привязывали бонусы своих партнеров и сотрудников к годовым результатам. В итоге возникла остро конкурентная финансовая система, где доминировали инвестиционные менеджеры, работающие с крупными пулами капитала и получающие оплату в зависимости от способности превзойти конкурентов. Структура материальных стимулов в этой среде заставила фондовых управляющих пытаться максимизировать краткосрочную прибыль, оказывая давление и на топ-менеджеров корпораций. Сужение временных границ создало соблазн повышать мгновенную прибыль за счет долгосрочных инвестиций в исследования и разработки или повышение квалификации персонала компании. Для администраторов и рядовых сотрудников результатом стала постоянная горячка, повышавшая вероятность потери работы и степень экономической незащищенности.
Развитая капиталистическая экономика действительно нуждается в масштабной финансовой системе. Отчасти это простое продолжение разделения труда: делегирование решений по инвестированию профессионалам дает остальному населению ментальное пространство заниматься тем, что у них получается лучше или больше заботит. Усложнение капиталистической экономики означает, что предпринимателям и топ-менеджерам компаний требуется помощь в принятии решений относительно того, когда и как привлекать новые средства. Поэтому частные инвестиционные фирмы, заинтересованные в увеличении реальной стоимости компаний, куда они вкладывают средства, играют ключевую роль в стимулировании экономического роста. Решение этих вопросов, которые полностью овладевают умами финансистов и последствия которых трудно переоценить, требует интеллекта, усердия и энергии, поэтому неудивительно, что специалистам в этой сфере так много платят. Но какими бы ни были выгоды и социальные преимущества, превращение общества в придаток финансов имеет пагубные последствия. Они связаны с ростом неравенства – верхняя часть экономической лестницы поднимается еще выше благодаря огромным бонусам финансовых менеджеров, а также с повышением незащищенности тех, кто находится внизу (из-за сосредоточенности на краткосрочных экономических выгодах в ущерб решению других проблем).
СЕМЬЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
В современной постиндустриальной среде, для которой характерна глобализация и финансовая экспансия, человеческий капитал играет более важную роль в определении жизненных возможностей, чем когда-либо раньше. Соответственно, возрастает и значение семьи, и каждое поколение социологов заново (и во многом к своему огорчению) обнаруживает, что культурное наследие семьи определяет будущие успехи в школе и на работе. Как полвека назад писал в «Конституции свободы» экономист Фридрих Хайек, главное препятствие для подлинного равенства возможностей состоит в том, что не существует достойной замены интеллигентным родителям или семье, которая способна обогатить эмоционально и духовно. Как отмечается в недавнем исследовании экономистов Педро Карнейро и Джеймса Хекмана, «различия в уровне когнитивных и некогнитивных способностей, зависящие от дохода и происхождения семьи, выявляются довольно рано и сохраняются после. Школа может только увеличить эти различия».
Передаваемые по наследству способности проявляются в различных формах: генетика, забота о ребенке до и после рождения, культурные ориентиры внутри семьи. Денежные вопросы, разумеется, тоже имеют значение, но эти во многом неденежные факторы часто гораздо важнее (большое количество книг в доме точнее предскажет высокие оценки на экзаменах, чем доход семьи). Со временем, поскольку общество организовано в соответствии с принципами меритократии, произойдет конвергенция способностей, прививаемых в семье, и рыночных поощрений.
Образованные родители склонны тратить больше времени и энергии на заботу о ребенке, даже если оба родителя работают. А семьи с мощным человеческим капиталом, скорее всего, с большей пользой смогут применить усовершенствованные средства развития, которые предлагает современный капитализм (в первую очередь потенциал для онлайн-расширения кругозора), не попав при этом в главные ловушки (неограниченный просмотр телевидения, компьютерные игры).
Это влияет на способность детей использовать формальное образование, которое, по крайней мере потенциально, доступно практически каждому независимо от экономического и этнического статуса. В начале XX века среднюю школу оканчивали только 6,4% американских подростков, и лишь один из 400 продолжал учебу в колледже. Таким образом, огромная доля населения обладала способностями, но не имела возможностей, чтобы добиться большего в учебе. Сегодня число окончивших среднюю школу составляет около 75% (пик – около 80% – достигнут в 1960 г.) и почти 40% молодых людей учатся в колледже.
Журнал The Economist недавно повторил старую истину: «В обществе с широким равенством возможностей положение родителей на лестнице доходов не должно сильно влиять на положение детей». Но на самом деле чем больше равенство институциональных возможностей, тем большее значение приобретает человеческий капитал, культивируемый в семье. Как писал политолог Эдвард Банфилд почти 30 лет назад в книге «Нечестивый город: Новое посещение», «всеобразование построено в пользу ребенка из среднего или высшего класса, потому что принадлежность к среднему или высшему классу означает наличие качеств, которые делают человека особенно восприимчивым к обучению». Повышение качества школ может улучшить общую ситуацию в образовании, но в конечном итоге все это только увеличит, а не уменьшит разрыв в достижениях детей из семей с разным уровнем человеческого капитала. Недавние исследования, призванные показать, что межпоколенческая мобильность в Соединенных Штатах сегодня стала ниже, чем в прошлом (или чем в некоторых европейских странах), игнорируют тот факт, что это может быть побочным результатом расширения равенства возможностей на протяжении нескольких поколений. И в этом смысле США, возможно, просто находятся в авангарде тенденций, которые существуют и в других развитых капиталистических обществах.
РАЗНИЦА В ДОСТИЖЕНИЯХ ГРУПП
Семья – не единственный социальный институт, оказывающий наиболее мощное влияние на развитие человеческого капитала и успех человека на рынке. Следует также учитывать такие факторы, как религия, раса и этническая принадлежность. В 1905 г. в книге «Протестантская этика и дух капитализма» социолог Макс Вебер отмечал, что в религиозно разнородных регионах протестанты обычно более успешны в экономическом плане, чем католики, при этом кальвинисты более успешны, чем лютеране. Вебер объяснял эти различия психологической предрасположенностью, которую закладывает каждая религия. Несколькими годами позже в книге «Евреи и современный капитализм» современник Вебера Вернер Зомбарт предложил альтернативное объяснение различиям в успешности групп, основываясь на культурных и расовых особенностях. В 1927 г. их более молодой коллега Йозеф Шумпетер назвал свою работу «Социальные классы в этнически однородной среде», поскольку был абсолютно уверен, что в этнически неоднородных условиях уровень успешности будет определяться этнической принадлежностью, а не только классом.
Предложенные объяснения не так важны, как сам факт, что разница в достижениях групп является неотъемлемой чертой капитализма, в том числе и на сегодняшний день. В современных Соединенных Штатах, к примеру, выходцы из Азии (особенно если взять их отдельно от уроженцев тихоокеанских островов) обычно добиваются большего, чем белое неиспаноговорящее население, которое, в свою очередь, опережает испаноговорящую группу, а та обходит афроамериканцев. Это касается достижений в образовании, доходов, а также таких семейных показателей, как рождение детей вне брака.
В странах Западной Европы (и особенно в Северной Европе), где уровень равенства выше, чем в США, мы видим более этнически однородное общество. Последние волны иммиграции сделали многие развитые постиндустриальные общества менее этнически однородными и одновременно привели к росту расслоения между общинами, при этом некоторые группы иммигрантов более успешны, чем ранее устоявшееся население. Так, в Великобритании дети китайских и индийских иммигрантов показывают лучшие достижения, чем коренное население, а дети темнокожих выходцев с Карибских островов и пакистанцев обычно заметно им уступают. Во Франции потомки выходцев из Вьетнама обычно вырываются вперед, а уроженцы Северной Африки, напротив, плетутся в хвосте. В Израиле дети иммигрантов из России демонстрируют лучшие результаты, а дети из эфиопских семей заметно отстают. В Канаде дети китайцев и индийцев успевают гораздо лучше, чем выходцы с Карибских островов и из Латинской Америки. Все это можно объяснить разницей классовых и образовательных основ в тех странах, откуда прибыли иммигрантские группы. Но поскольку сами общины являются переносчиками и инкубаторами человеческого капитала, схемы сохраняются независимо от времени и места.
В случае с Соединенными Штатами иммиграция значительно больше усугубляет неравенство в связи с тем, что экономический динамизм, культурная открытость и географическое положение страны привлекает не только лучших и самых одаренных, но и наименее образованных. В результате верхушка экономической лестницы поднимается еще выше, а нижняя часть опускается все ниже.
ПОЧЕМУ ОБРАЗОВАНИЕ – НЕ ПАНАЦЕЯ
Осознание роста экономического неравенства и социального расслоения в постиндустриальном обществе, естественно, вызвало дискуссию о том, что же с этим делать. В американском контексте практически все дают один ответ – образование.
Одна линия аргументации ставит во главу угла колледж. В соответствии с этой логикой разрыв между жизненными возможностями тех, кто окончил колледж, и тех, кто не смог этого сделать, увеличивается, поэтому как можно больше людей должны учиться в колледже. К сожалению, несмотря на растущий процент американцев, посещающих колледж, их знания не обязательно увеличиваются. Значительное число студентов просто не готовы к учебе на уровне колледжа, многие бросают ее, так и не получив диплом, другие все же его получают, но стандарты знаний гораздо ниже, чем обычно это связывается с наличием диплома колледжа.
Наиболее вопиющие расхождения показателей успеваемости наблюдаются еще до уровня колледжа, на стадии окончания средней школы, а серьезные различия результатов (в зависимости от класса и этнической группы) заметны еще раньше – в начальной школе. Поэтому вторая линия аргументации касается начального и среднего образования. Предлагается выделять школам больше средств, предоставлять родителям более широкий выбор, чаще тестировать школьников и совершенствовать работу преподавателей. Некоторые или даже почти все эти меры можно назвать желательными, но совсем по иным причинам. Дело в том, что ни одна из предложенных мер не привела к существенному сокращению имеющейся пропасти между учащимися (и социальными группами) – само по себе формальное школьное образование играет довольно незначительную роль в создании или устранении неравенства достижений.
Разрывы, по-видимому, обусловлены различным уровнем человеческого капитала, которым обладают дети, придя в школу – отсюда возникает третья линия аргументации, связанная с более ранней и интенсивной социализацией детей. Здесь часто предлагается выводить детей из привычной семейной обстановки и помещать в дошкольные учреждения на возможно долгое время (программы Head Start, Early Head Start) или даже ресоциализировать целые районы (проект «Детская зона Гарлема»). Существуют отдельные успешные примеры, но пока не ясно, подходят ли они для реализации, скажем, в национальном масштабе. Многие такие программы демонстрируют краткосрочное повышение когнитивных способностей, но затем показатели снижаются, а оставшиеся положительные показатели находятся на уровне погрешности. С большим основанием можно говорить о том, что улучшаются некогнитивные навыки и черты характера, важные для экономического успеха. Но это происходит ценой значительных затрат и инвестиций, а также привлечения ресурсов, которые изымают у более успешной части населения (таким образом, снижается объем ресурсов, доступных для этих людей) либо перенаправляют с других программ, которые могли принести потенциальную пользу.
По всем этим причинам неравенство в развитом капиталистическом обществе растет и является неизбежным, по крайней мере на данный момент. На самом деле один из самых ярких результатов современных социологических исследований заключается в том, что с увеличением разрыва между семьями с высоким и низким доходом разрыв достижений в образовании и занятости между детьми из этих семей возрос еще больше.
ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?
Капитализм сегодня продолжает производить блага и предоставлять все больше возможностей для самообразования и личного развития. Однако сейчас как никогда плюсы сочетаются с минусами, главными из которых являются растущее неравенство и незащищенность. Как точно подметили Маркс и Энгельс, капитализм от других социально-экономических систем отличают «беспрестанные перевороты в производстве, непрерывное потрясение всех общественных отношений, вечная неуверенность и движение».
В конце XVIII века величайший американский теоретик и практик политэкономии Александр Гамильтон поделился глубокими наблюдениями по поводу неизбежной двойственности социальной политики в мире созидательного разрушения: «Удел человека, заложенный самим Провидением, заключается в том, что к любому благу, которым он пользуется, примешивается зло, любой источник счастья становится источником невзгод, кроме Добродетели – единственного чистого блага, которое разрешено человеку в его мирском существовании… Истинный политик… отдает предпочтение тем институтам и планам, которые делают людей счастливыми в соответствии с их естественными устремлениями, которые преумножают источники индивидуального пользования и увеличивают национальные ресурсы и мощь, стараясь в каждом случае использовать все составляющие, которые подойдут для предупреждения или исправления зол, вечно сопутствующих мирским благам».
Сейчас, как и тогда, вопрос состоит в том, как сохранить земные блага капитализма и при этом изыскать средство для предупреждения и исправления зол, которые всегда им сопутствуют.
Одним из возможных решений проблемы растущего неравенства и незащищенности является простое перераспределение доходов от верхов к низам экономики. Однако на этом пути есть два препятствия. Во-первых, те же силы, которые привели к росту неравенства, со временем укрепятся, требуя все больше или в крайнем, агрессивном, случае нового перераспределения. Во-вторых, в определенный момент перераспределение вызывает негодование, и факторы, стимулирующие экономический рост, перестают работать. Определенная степень пострыночного перераспределения через налоги возможна и даже необходима, но каков идеальный вариант – безусловно, вызовет споры, и в любом случае это не решит всех проблем.
Второе решение – с помощью государственной политики сократить разрыв между индивидом и группой путем предоставления преференций отстающим – может оказаться хуже самой болезни. Несмотря на благие намерения, специально введенные преимущества для определенных категорий граждан неизбежно вызовут чувство несправедливости у остальной части населения. Еще большую цену придется заплатить с точки зрения экономической эффективности, поскольку по определению такая политика приведет к продвижению менее квалифицированных работников на позиции, которым они не соответствуют, хотя и заслуживают. Точно также запрет на использование критерия заслуг в образовании при приеме на работу и выдаче кредита просто потому, что это оказывает «дифференцированное воздействие» на судьбу различных групп или способствует неравенству социальных результатов, неизбежно скажется на качестве образовательной системы, трудовых ресурсов и экономики в целом.
Третье решение – поощрение постоянных и полезных для всех экономических инноваций – выглядит более многообещающим. Сочетание интернета и компьютерной революции может оказаться сопоставимым с появлением электричества, которое коренным образом изменило все сферы деятельности, беспрецедентно трансформировав общества в целом. Кроме всего прочего интернет радикально повысил скорость передачи знаний. А знания, как известно, являются ключевым фактором капиталистического экономического роста по меньшей мере с XVIII века. Если прибавить к этому потенциал других сфер деятельности, находящихся пока в зачаточном состоянии, таких как биотехнологии, биоинформатика и нанотехнологии, то перспективы будущего экономического роста и дальнейшего улучшения жизни человека покажутся вполне радужными. Тем не менее даже дальнейшее продвижение инноваций и возобновление экономического роста не смогут ликвидировать или существенно сократить социально-экономическое неравенство и незащищенность, потому что различия между индивидами, семьями и группами сохранят свое влияние на развитие человеческого капитала и профессиональные достижения.
Что сделать, чтобы капитализм продолжал оставаться легитимным и привлекательным для всего населения – тех, кто находится на нижней и средней ступени социально-экономической лестницы, а также рядом с вершиной, т.е. и проигравших, и победителей? Необходимо проводить и при необходимости реформировать государственные программы, помогающие уменьшить незащищенность, смягчить провалы на рынке и поддерживать равенство возможностей. Такие программы уже существуют во многих странах развитого капиталистического мира, включая Соединенные Штаты, и правым следует признать, что они служат важнейшей цели и должны быть сохранены, а не урезаны. Государственные расходы на социальное обеспечение – это адекватный ответ на некоторые проблемные черты капитализма, а не «чудовище», которое надо «морить голодом».
К примеру, такие меры, как соцзащита, страхование от безработицы, талоны на питание, налоговые зачеты за заработанный доход, программа медицинского страхования (Medicare), программа медицинской помощи (Medicaid) и новые гарантии по Закону о доступном медицинском обслуживании прежде всего предлагают помощь и комфорт тем, кто менее успешен и больше подвержен риску в условиях современной экономики. Невозможно представить, что потребность в подобных программах снизится. А сокращать их, когда неравенство и незащищенность возросли, означает проявить равнодушие. И если ничто иное, так хотя бы разумный эгоизм тех, кто получает наибольшую выгоду от жизни в динамичном капиталистическом обществе, должен заставить их задуматься над тем, насколько опрометчиво не поделиться частью своей рыночной прибыли в целях достижения длительной социальной и экономической стабильности. Государственные социальные программы нуждаются в структурных реформах, но правые должны признать, что в меру щедрое социальное государство нужно сохранить, и по вполне разумным причинам.
Левым, в свою очередь, следует понять, что агрессивные попытки ликвидировать неравенство могут оказаться слишком затратными, но тщетными. Даже успешность в прошлом попыток уменьшить разрыв в равенстве возможностей – в том числе путем расширения доступа к образованию и ликвидации различных форм дискриминации – означает, что в современном развитом капиталистическом обществе нетронутый человеческий потенциал великодушия крайне редок. Поэтому излишняя настойчивость в продвижении равенства вряд ли приведет к таким значительным результатам, как в прошлом, хотя затраты будут гораздо больше. А поскольку подобные программы подразумевают перераспределение ресурсов путем изъятия их у тех, кто обладает большим человеческим капиталом, и передачи их тем, у кого его меньше, а также отказ от критерия заслуг и достижений поставит заслон на дальнейшем динамичном развитии экономики и росте, от которых зависит существующее социальное государство.
Таким образом, главная проблема государственной политики в развитом капиталистическом мире состоит в том, чтобы поддерживать уровень экономического динамизма, обеспечивать рост всеобщего благосостояния, не сокращая при этом расходы на социальные программы. Тем самым жизнь граждан в условиях растущего неравенства и незащищенности будет оставаться приемлемой. Разные страны предлагают различные подходы к решению этой проблемы в зависимости от своих приоритетов, традиций, масштабов, демографической и экономической ситуации. (Заблуждение состоит в том, что, когда дело касается государственной политики, правительства могут с легкостью перенимать опыт друг друга.) Точкой отсчета мог бы стать отказ и от политики привилегий, и от политики, нагнетающей напряженность, создание четкого представления о том, что такое капитализм, без его идеализации или демонизации.
Джерри Мюллер – профессор истории в Католическом университете Америки, автор книги «Разум и рынок: Капитализм в современной западной мысли».

Особый русский тупик
Наши дороги не для того, чтобы ездить друг к другу в гости, а чтобы враг не прошел
В каникулы я совершил важный автопробег, который нанес мне заметную психотравму. Дело было так. Под занавес майских праздников, когда уже прошла вся политика, все дефиле — и за, и против, когда уже попугали кого надо показом и ракет, и автозаков, я, увидев что Москва вся пустая, машин на улицах ну как в 1974 году, поехал на авто в Шереметьево-2. Чего уже не делаю сколько-то лет по причине непредсказуемости нашего трафика. Тем более что электрички легко подвозят ко всем воздушным воротам столицы. И вот, пролетев элегантно и легко Москву, я из нее выехал — и застрял. И дальше полз в худших традициях здешнего движения.
Впрочем, чего ныть, и двух часов не прошло, как из центра столицы я добрался до аэропорта! Подумаешь. При том, что по Москве — быстро, по так называемому Международному шоссе, от Ленинградки до поворота на второе Шереметьево — еще быстрее! Всего-то кусочек, от МКАД до поворота, да сколько там, за час пешком пройдешь! Но это было не движение, а как бы антидвижение, когда медленнее пешехода, это как если бы самолет летел и не мог догнать ползущий поезд, как Ахиллес черепаху. Антисмысл. Антискорость. Антимир. Вот бывают платные дороги, а тут, наоборот, хозяева трассы должны платить путешественникам — за то, что те едут здесь!
И от нечего делать я катал в голове рассуждения на тему ситуации, в которую попал. Как так вышло? Отчего? И вчера ли это началось? Ох не вчера. Этот гиблый кусок дороги, который из области продолжается еще и в Москву, по обеим сторонам забит зданиями. Заправки, какие-то НИИ, офисные центры, из которых счастливые арендаторы вываливаются прям на проезжую часть. И строились те здания значительно позже 1147 года, в котором Москва впервые засветилась на карте мира. А кто-то же подписывал бумаги на строительство, разрешения всякие, это ж не Шанхай, не Воронья слободка, как мне представляется. И вот те люди, партийные, ответственные, которые подмахивали, — они что, идиоты были клинические? Или диверсанты, иностранные какие-нибудь агенты, которые поганили Москву в свободное от отравления колодцев время? А может, им заносили, и они могли б маму родную продать за пачку резаной бумаги? Хотя, может, это были просто чистые мечтатели-дебилы, которые полагали, что через 10, ну максимум 15 лет граждане будут летать на дачу собирать колорадских жуков на персональном вертолете или, бери выше, звездолете? В противном случае, если бы застройкой руководил чиновник с интеллектом ну хотя бы на уровне третьего класса (не табели о рангах, а начальной школы), он бы предложил ребятам построиться не на тротуаре трассы, а в 100 хотя бы метрах от. А если б он мог решать задачи за пятый класс, то и вовсе бы сдвинул пятна под застройку — метров аж на 300. Какая разница, кругом же пустырь. Он бы пригодился потомкам, то есть даже нам уже. Трассу расширить, развязки любые, парковки перехватывающие, стоянки с кафе, мотели, что угодно.
Но нет, не видит наш народ будущего, не заглядывает в него, смысла в этом не усматривает. Какое там будущее! Так сейчас молодежь смотрит на нищих пенсионеров и не осознает, что сама выйдет на пенсию. Не выйдет она, потому что не больше чем на два-три года смотрит в будущее в лучшем случае.
Не видит наш народ будущего, не заглядывает в него, смысла в этом не усматривает
Но вернемся в наше светлое настоящее. Не будем сейчас про Сочи, про остров Русский, про нефтянку и Кипр — возьмем скромную, незатейливую эту Ленинградку. Господи, какая она короткая, вся! Люди за день доезжают до Питера, смешно сказать. А какая она важная! Связывает оба русских города. Оба. После того как мы повидали кой-чего и знаем, что города — это Нью-Йорк с Гонконгом или на худой конец Париж. Нету больше городов в России, кроме этих двух недолюбливающих друг друга столиц. Я не говорю уж про то, что тут приличествовала б трасса типа автобанов, по которым немцы сейчас спокойно передвигаются легко со скоростью 200 км в час, почему нет. По такой трассе можно было б нам обгонять даже и сам «Сапсан». Однако фюрера как подрядчика мы не сможем нанять по целому ряду причин. Из которых главная — это не та, что вы подумали, а невозможность откатов, все остальное менее важно.
Нет, я человек трезвомыслящий и потому не фантазирую на темы настоящей инновационной трассы, какие строили 90 лет назад в довольно бедной стране, где курица раз неделю была мечтой рабочего класса. Нет, у нас свой путь, и немцы нам, конечно, не указ.
Но хоть кусок-то в пять километров — от кольцевой до поворота на Шереметьево-2 — сделать бы можно?
А сколько было разговору, сколько пиара и шума еще при прежнем мэре! Ленинградка-Ленинградка, ах-ах! Какие тоннели, эстакады и развязки, самые дорогие в мире! Ленинградка то, Ленинградка се, какие там ленточки перерезали, какая помпа была в новостях! Понятно, это ж очень и очень на виду. И как же так после всего этого получилось, что я ехал по этой дико дорогой дороге со скоростью 3,5 км в час? Причем не вечером рабочего дня в область и не утром из области — но поздним утром 10 мая, ближе к обеду. Как жаль, что запретили нецензурную брань в СМИ, — вы не узнаете, о чем я думал и что чувствовал.
У меня вопрос: отчего нельзя — после всех вложений в эту проклятую трассу — отделить одну правую полосу от Москвы до поворота бетонными блоками? Это встанет в копейки. Чтоб человек понимал: если встал он на Тверской еще под указатель «Шереметьево», то так до него и доедет, считай, бессветофорно и беспробочно. И чтоб он знал, что ни дальнобойщики, ни мусорки, ни трактора не перекроют ему дорогу в аэропорт.
Понимаю, что вменяемому нормальному человеку такие мысли в голову не придут, поскольку он, как всякий уважающий себя гражданин, ездит с мигалкой и с крякалкой. А мне в той медитации, когда мир застыл и все движение в нем остановилось, мне открылась суть всего.
Да здесь же просто проклятое место, тут русский бермудский треугольник! Химки и подступы к ним. Тут дыра, пропасть, мрак и гибель смыслов и безумие. Тут Радищев выскочил из колеи, вот на этой как бы дороге-недодороге, сорвало ему резьбу. Тут немцы застряли в 41-м — хотя, казалось бы, ничто не предвещало, и мудрый Сталин блестяще и безошибочно подпустил немцев к Москве и уже готов был ее сдать фашисту. Здесь даже русская коррупция, самая непобедимая и самая метастазная, проиграла постыдно бой: это когда начальник из IKEA, которая тут, в наших русских Бермудах, построила свой первый русский магазин, объявил на пресс-конференции, что взяток платить не будет, лучше закроет бизнес в России и уедет в свою Швецию. Магазин, видите, все еще открыт, наши взяточники показали себя безответственными сопляками, а не мужественной несгибаемой опорой власти и ее духовной скрепой.
А после еще был в этих краях Михаил Бекетов, который погиб как солдат. Не победив, правда, противника. Битва за Химкинский лес продолжается и сегодня — типа если не дадут вырубить, так Россия погибнет. Чирикова стоит под Москвой, на шагу назад, она смелее многих мужиков, которые постыдно признаются в любви к любой власти, если она хорошо за это платит.
Вот еще что важно: на Ленинградке стоят гипертрофированные противотанковые ежи, во много раз больше оригиналов. Нету танков такого размера. Это символ, которым, кажется, пытаются ослабить подсознательный страх перед Западом, ужас перед ним. И только тут, доехав до этих ежей, я все понял: дорога не для того, чтоб свои ездили друг к другу в гости, она чтоб враг застрял на ней и не прошел, снова не прошел! И страх этот — мистический, глубинный, неосознанный. Так что не будет вам автобана.
Игорь Свинаренко

В канун открытия выставки EducationUK директор Британского совета в России, советник по культуре посольства Великобритании Пол де Куинси рассказал BFM.ru о том, почему студентам из РФ полезно получать образование в Соединенном Королевстве
Пол де Куинси, директор Британского совета в России, советник по культуре посольства Великобритании в интервью BFM.ru рассказал, как россияне могут поступить в вузы Соединенного Королевства, а также о сотрудничестве двух стран в сфере образования.
- Расскажите о роли Британского совета в России. Каковы приоритетные направления вашей работы?
- Британский совет - международная организация Соединенного Королевства по развитию образовательных и культурных связей. Мы работаем над укреплением доверия и сотрудничества между нашими странами и стремимся представлять Великобританию как эффективного современного европейского партнера в сферах искусства, образования, изучения английского языка и творческих областях.
Выставка британского образования EducationUK, организуемая Британским советом, является одним из важнейших событий в России в сфере международного образования. 1-2 октября более 60 ведущих британских учебных заведений представят свои программы среднего школьного, а также высшего и постдипломного образования - программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, бизнес-курсы. Выставка будет проводиться в отеле The Ritz-Carlton (Тверская, 3).
- В какой форме реализуется сотрудничество между образовательными учреждениями России и Великобритании?
- Британские и российские университеты заинтересованы в международном партнерстве в форме совместных образовательных программ, студенческого и академического обмена.
В качестве примеров можно привести сотрудничество между Томским политехническим университетом и Университетом Хериот-Ватт (Heriott Watt University), Финансовой академией и Бизнес-школой в Ньюкасле, Высшей школой экономики и Лондонской школой экономики, Московской школой социальных и экономических наук и Манчестерским университетом.
- Какие университеты активно осваивают российское направление, если судить по количеству учащихся и совместным образовательным программам с российскими вузами?
По данным Агентства по статистике высшего образования, в первую пятерку по числу российских студентов входят Лондонский университет искусств, Университет Сити, Университет Вестминстера, Уорикский университет, Лондонская школа экономики и политологии.
В каких британских вузах больше всего российских студентов?
Источник: данные Агентства по статистике высшего образования (HESA) за 2009-2010 год
Ряд российских вузов поддерживает тесные академические связи с британскими университетами. Так, Высшая школа экономики с 1997 года предлагает совместные образовательные программы с Лондонской школой экономики с вручением двойных дипломов.
- Что привлекает россиян в учебе в Великобритании? В чем преимущества британского диплома?
- Британское образование в России считается очень престижным, о чем свидетельствует растущая популярность выставки EducationUK. Мы ежегодно привлекаем более 50 британских образовательных учреждений и более 3500 посетителей за два дня работы выставки. Это свидетельствует об интересе к британскому образованию в России, а равно и об интересе британских партнеров к привлечению русских студентов в свои учебные заведения.
Лица с высшим образованием имеют существенные конкурентные преимущества на рынке труда, зарабатывая в среднем на 60-70% больше тех, кто не стал продолжать обучение после школы. Около 80% выпускников высших учебных заведений успешно получают работу, в то время как среди выпускников средней школы эта доля составляет лишь 50%. Наличие британского диплома дополнительно улучшает карьерные перспективы, поскольку британские выпускники имеют явные преимущества в России по сравнению с остальными выпускниками.
Знание английского языка также считается очень важным в России. Воспринимаемое качество британского школьного образования в сочетании с возможностью изучения английского языка и подготовки к получению высшего образования в Великобритании являются основными движущими факторами для россиян в принятии решения об учебе в Великобритании.
Другая причина роста числа российских студентов в Великобритании - репутация страны как комфортной для проживания, ее статус финансового и культурного центра, а также инновационность академических программ и строгость образовательных институтов.
- Насколько сложен подготовительный этап для желающих поехать на учебу в Великобританию? С чего начать? Где найти информацию о предлагаемых программах и визовых процедурах? На какую стоимость обучения и какие расходы в среднем стоит рассчитывать российскому студенту?
- Британский совет в России предоставляет массу информации об образовательных возможностях в Великобритании.
Раз в год, осенью Британский совет организует ставшую уже известной выставку EducationUK. Ее посетителям предоставляется уникальная возможность лично поговорить с представителями более чем 50 британских университетов и колледжей и выбрать варианты обучения, которые им больше всего подходят. Они могут встретиться с выпускниками британских университетов и школ и из первых уст получить информацию об учебе в Великобритании, получить рекомендации Службы пограничного контроля Великобритании (UK Border Agency / UKBA) о порядке подачи заявления на британскую визу, узнать, как сформировать творческое портфолио, а также поучаствовать в конкурсах и выиграть великолепные призы от Британского совета и наших партнеров.
Помимо этого, 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году вы можете зайти на сайт www.educationuk.ru и с помощью встроенного поиска найти курс, учебное заведение в том или ином городе, а также информацию о стипендиях и грантах.
У нас также проводится ряд мероприятий в московском офисе, информация о них публикуется на сайте.
В принципе процесс подачи заявок в университет мы рекомендуем начинать по меньшей мере за полгода до предполагаемого начала обучения. При этом некоторые университеты могут устанавливать более ранние сроки сбора документов, поэтому лучше сначала это выяснить на сайте соответствующего вуза.
В среднем плата за обучение составляет 10 тысяч фунтов стерлингов в год, еще примерно в 10 тысяч фунтов стерлингов в год обойдутся расходы на проживание (жилье, питание и прочее).
- Сколько студентов из России приезжает на учебу в Великобританию? Есть ли какая-то статистика по бакалавриату и программам магистратуры и аспирантуры? Какие направления в основном выбирают россияне в британских университетах?
- По данным HESA, приток российских студентов в Великобританию неуклонно растет. С 2003-2004 по 2009-2010 учебный год он увеличился более чем в полтора раза - с 1970 до 3385 учащихся. Количество поступающих на бакалавриат (первое высшее образование) и постдипломные программы (магистратура, PhD, MBA и пр.) примерно равно, но первая категория в последние четыре года росла немного быстрее.
Самыми популярными направлениями, которые выбирают российские студенты в Великобритании, являются предпринимательство, менеджмент, экономика, финансы и дизайн.
- Чем занимаются российские студенты после окончания университета в Великобритании? Пытаются ли они найти работу в Великобритании или возвращаются в Россию, либо уезжают еще куда-то? Возможно, у вас есть такая информация о стипендиатах программы Chevening, организуемой Британским советом.
- Стипендиальная Chevening предлагает молодым специалистам возможность пройти курс обучения в магистратуре или выполнить краткосрочную исследовательскую работу в Великобритании. С помощью стипендий Chevening правительство Великобритании поддерживает целеустремленных профессионалов, потенциальных лидеров, планирующих жить и работать в России, внося свой вклад в ее развитие. Одним из условий получения этой стипендии является возвращение в Россию после окончания обучения. И большинство выпускников действительно возвращаются в Россию, чтобы строить здесь карьеру.
- Как отразится ужесточение визовых требований на возможности получения образования в Великобритании для российских студентов? Что делают университеты, чтобы упростить для потенциальных студентов процесс оформления документов?
- По последней статистике Службы пограничного контроля Великобритании (UKBA), процент положительных решений по визе достаточно высок - 94%. Поэтому слухи о том, как сложно получить британскую визу, несколько преувеличены. Процесс подачи документов вполне прозрачен, на сайте UKBA есть четкие инструкции и руководства, и мы рекомендуем всем желающим, отправляющимся на учебу в Великобританию, внимательно прочитать их перед подачей документов и предусмотреть дополнительный срок на их обработку службой.
- Какие мероприятия в сфере культуры организует в ближайшее время Британский совет в России?
- С 23 сентября по 30 октября проводится четвертая Московская биеннале современного искусства "Переписывая миры" (Rewriting Worlds). При поддержке Британского совета в биеннале примут участие известные британские художники Ричард Гамильтон (Richard Hamilton), Сьюзан Хиллер (Susan Hiller), Дэвид Шригли (David Shrigley), Исаак Джулиен (Isaac Julien), Серит Вин Эванс (Cerith Wyn Evans) и студия дизайна Random International.
Сейчас в Эрмитаже проводится большая выставка "Энтони Гормли. Во весь рост. Античная и современная скульптура", в экспозиции представлено семнадцать произведений ведущего британского скульптора современности Энтони Гормли. Выставка организована при поддержке Hermitage Foundation UK, Британского совета, Галереи "White Cube", Лондон, и Фонда "Pro Arte", Санкт-Петербург.
Эта выставка - первый случай, когда современный художник показывает свои работы в залах античного искусства.
Российский академический молодежный театр (РАМТ) при поддержке Британского совета открыл свой 91-й сезон премьерой спектакля "РОК'N'РОЛЛ" культового британского драматурга сэра Тома Стоппарда.Пол де Куинси. Фото предоставлено пресс-службой Британского совета

Совет Безопасности: в чем причина провала?
© "Россия в глобальной политике". № 3, Июль - Сентябрь 2003
Майкл Гленнон – профессор международного права во Флетчеровской школе права и дипломатии при Университете Тафтса, автор недавно изданной книги «Limits of Law, Prerogatives of Power: Interventionism After Kosovo».
Данная статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 3 (май-июнь) за 2003 год. © 2003 Council on Foreign Relations, Inc.
Резюме Иракский кризис наглядно доказал, что грандиозный эксперимент XX века – попытка установить законы, регулирующие применение силы, – провалился. Вашингтон продемонстрировал: государствам следует рассматривать не то, насколько законно вооруженное вмешательство в дела другой страны, а то, действительно ли интервенция является наилучшим выбором. Структура и правила Совета Безопасности ООН на самом деле отражают не столько реальную политику государств, сколько надежды основателей ООН. Но эти надежды не отвечают намерениям американской сверхдержавы.
ДЕКЛАРАЦИЯ В ТЕРТЛ-БЭЙ
«Шатры собраны, – объявил премьер-министр Южной Африки Ян Кристиан Смутс по случаю основания Лиги Наций. – Великий караван человечества снова в пути». Поколение спустя все еще казалось, что это массовое движение к международной законности и правопорядку активно продолжается. В 1945 году Лига Наций была заменена более основательной Организацией Объединенных Наций, и не кто иной, как государственный секретарь США Корделл Халл, приветствовал ее как способную «добиться воплощения лучших чаяний человечества». Мир снова был в пути.
В начале этого года караван, однако, увяз в зыбучих песках. Драматический раскол в Совете Безопасности ООН показал, что историческая попытка подчинить силу закону провалилась.
По сути, прогресса не наблюдалось уже на протяжении многих лет. Правила применения силы, которые были изложены в Уставе ООН и за соблюдением которых следил Совет Безопасности, стали жертвой геополитических процессов, слишком мощных, чтобы их воздействие могла выдержать организация, приверженная легализму. К 2003-му основной проблемой стран, решавших вопрос о применении силы, была не законность, а разумность ее применения.
Начало конца системы международной безопасности наступило несколько раньше, 12 сентября 2002 года, когда президент Джордж Буш неожиданно для многих вынес вопрос об Ираке на обсуждение Генеральной Ассамблеи и призвал ООН принять меры против отказавшегося разоружиться Багдада. «Мы будем работать с Советом Безопасности ООН, добиваясь необходимых резолюций», – сказал Буш, предупредив, однако, что он собирается действовать в одиночку в случае невыполнения ООН своих обязательств.
Угрозы Вашингтона были подкреплены месяцем позже, когда Конгресс наделил Буша полномочиями применить силу против Ирака без санкции ООН. Идея Америки казалась вполне ясной: как выразился тогда один из высокопоставленных чиновников в администрации США, «мы не нуждаемся в Совете Безопасности».
Спустя две недели, 25 октября, США официально предложили ООН резолюцию, которая подразумевала вынесение санкции к началу военных действий против Ирака. Вместе с тем Буш снова предупредил, что отказ Совета Безопасности принять эти меры его не остановит. «Если ООН не обладает ни волей, ни мужеством для того, чтобы разоружить Саддама Хусейна, и если Саддам Хусейн не разоружится, – указал он, – США возглавят коалицию с целью его разоружения». После интенсивных кулуарных торгов Совбез ответил на вызов Буша, приняв резолюцию 1441, которая подтвердила, что Ирак «серьезно нарушил» предыдущие резолюции, ввела новый режим инспекций и вновь предупредила о «серьезных последствиях», если Ирак не разоружится. Вместе с тем резолюция не содержала открытого разрешения применить силу, и представители Вашингтона пообещали вернуться в Совет Безопасности для повторных обсуждений перед тем, как обратиться к оружию.
Поддержка резолюции 1441 стала громадной личной победой госсекретаря США Колина Пауэлла, который использовал все свое влияние, чтобы убедить администрацию попытаться действовать через ООН, и вел тяжелые дипломатические сражения за международную поддержку. Между тем вскоре возникли сомнения в эффективности нового режима инспекций и стремлении Ирака к сотрудничеству. 21 января 2003 года сам Паэулл заявил, что «инспекции работать не будут». Он вернулся в ООН 5 февраля и обвинил Ирак в том, что он все еще скрывает оружие массового уничтожения (ОМУ). Франция и Германия настаивали на предоставлении Ираку дополнительного времени. И без того высокая напряженность в отношениях между союзниками стала расти; разногласия еще больше усилились, когда 18 европейских стран подписали письмо в поддержку американской позиции.
14 февраля инспекторы вернулись в Совет Безопасности ООН с докладом, согласно которому за 11 недель поисков им не удалось обнаружить свидетельства наличия в Ираке ОМУ (хотя многие стороны этого вопроса остались непроясненными). Через десять дней, 24 февраля, США, Великобритания и Испания внесли в ООН проект резолюции. В соответствии с главой VII Устава ООН (статья, касающаяся угрозы миру) Совету Безопасности предлагалось заявить, что «Ирак не воспользовался последней возможностью, предоставленной ему резолюцией 1441». Франция, Германия и Россия вновь предложили дать Ираку больше времени. 28 февраля Белый дом, еще более раздраженный происходящим, поднял ставки: пресс-секретарь Ари Флейшер объявил, что целью Америки является уже не только разоружение Ирака, но и «смена режима».
После этого последовал период напряженного лоббирования. 5 марта Франция и Россия заявили, что заблокируют любую резолюцию, санкционирующую применение силы против Саддама. На следующий день Китай заявил, что придерживается той же позиции. Великобритания предложила компромиссный вариант резолюции, но единодушия пяти постоянных членов Совета Безопасности добиться так и не удалось. Деятельность Совбеза, столкнувшись с серьезной угрозой международному миру и стабильности, зашла в фатальный тупик.
СИЛОВАЯ ПОЛИТИКА
Сам собой напрашивался вывод, прозвучавший в устах президента Буша: неспособность ООН решить проблему Ирака приведет к тому, что вся организация «канет в Лету, как неэффективный, ни на что не способный дискуссионный клуб». На самом деле судьба Совбеза была предрешена задолго до этого. Проблема заключалась не столько во второй войне в Заливе, сколько в предшествовавшем ей сдвиге в мировом раскладе сил, и сложившаяся конфигурация оказалась просто несовместимой с функционированием ООН. Не иракский кризис, а именно становление американской однополярности в совокупности со столкновениями культур и различными взглядами на применение силы постепенно подорвали доверие к Совбезу. В более спокойные времена Совету Безопасности удавалось выживать и адекватно функционировать, но в периоды испытаний обнаруживалась его несостоятельность. Ответственность за провал несут не отдельные страны. Скорее всего, это неизбежное следствие современного состояния и эволюции мировой системы.
Реакция на постепенный рост превосходства США была вполне предсказуемой: возникла коалиция противоборствующих сил. С самого окончания холодной войны Франция, Китай и Россия стремились вернуть мир к более уравновешенной системе. Бывший министр иностранных дел Франции Юбер Ведрин открыто признал эту цель в 1998 году: «Мы не можем принять… политически однополярный мир, поэтому ведем борьбу за многополярный». Президент Франции Жак Ширак без устали добивался этой цели. По словам Пьера Лелуша, в начале 1990-х советника Ширака по международной политике, шеф стремится «к многополярному миру, в котором Европа выступала бы противовесом американской политической и военной мощи». Сам Ширак объяснял свою позицию, исходя из тезиса о том, что «любое сообщество, в котором доминирует лишь одна сила, опасно и вызывает противодействие».
В последние годы Россия и Китай также выразили подобную озабоченность. Это нашло отражение в договоре, подписанном двумя странами в июле 2001 года. В нем недвусмысленно подтверждается приверженность «многополярной модели мира». Президент Владимир Путин заявил, что Россия не смирится с однополярной системой, аналогичную позицию высказал бывший председатель КНР Цзян Цзэминь. Германия хотя и присоединилась к этому начинанию позже, в скором времени стала заметным партнером по сдерживанию американской гегемонии. Министр иностранных дел ФРГ Йошка Фишер заявил в 2000-м, что «в основе самой концепции Европы после 1945 года было и остается неприятие… гегемонистских амбиций отдельных государств». Даже бывший канцлер Германии Гельмут Шмидт недавно привел решающий довод в поддержку этой позиции, высказав мнение, что Германия и Франция «одинаково заинтересованы в том, чтобы не стать объектом гегемонии нашего могущественного союзника – США».
Столкнувшись с оппозицией, Вашингтон ясно дал понять: он сделает все возможное, дабы удержать свое превосходство. В сентябре 2002-го администрация Буша обнародовала документ, уточняющий ряд позиций стратегии национальной безопасности. После этого не оставалось сомнений относительно планов США исключить для любого другого государства всякую возможность бросить вызов их военной мощи. Еще большую полемику вызвала провозглашенная в этом теперь уже скандальном документе доктрина упреждения, которая, кстати, прямо противоречит принципам Устава ООН. Статья 51, например, позволяет применение силы только в целях самообороны и только в случае «вооруженного нападения на члена Организации». В то же время США исходят из той предпосылки, что американцы «не могут позволить противнику нанести первый удар». Поэтому, «чтобы предвосхитить или предотвратить… военные действия со стороны наших противников, – говорится в документе, – Соединенные Штаты будут в случае необходимости действовать на опережение», то есть нанесут удар первыми.
Кроме неравенства сил, Соединенные Штаты отделяет от других государств – членов ООН еще один, более глубокий и протяженный водораздел – различие культур. Народы Севера и Запада, с одной стороны, и народы Юга и Востока – с другой, расходятся во взглядах на одну из наиболее фундаментальных проблем: в каких случаях допустимо вооруженное вмешательство? 20 сентября 1999 года генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал членов ООН «сплотиться вокруг принципа, запрещающего массовые и систематические нарушения прав человека, где бы они ни происходили». Эта речь вызвала в стенах ООН бурные дебаты, длившиеся несколько недель. Примерно треть стран публично заявила о поддержке при определенных условиях вмешательства в гуманитарных целях. Другая треть выступила категорически против, оставшаяся отреагировала неопределенно или уклончиво. Важно отметить, что в поддержку вмешательства выступили в основном западные государства, против – главным образом латиноамериканские, африканские и арабские.
Вскоре стало ясно, что разногласия не сводятся только к вопросу о гуманитарных интервенциях. 22 февраля сего года министры иностранных дел стран – членов Движения неприсоединения провели саммит в Куала-Лумпуре и подписали декларацию против применения силы в Ираке. Эта организация, в которую входят 114 стран (прежде всего развивающихся), представляет 55 % населения планеты, ее участники – почти две трети членов ООН.
Хотя ООН претендует на то, чтобы отражать единую, глобальную точку зрения, – чуть ли не универсальный закон, устанавливающий когда и где применение силы может быть оправданно, – страны – члены ООН (не говоря уже об их населении) отнюдь не демонстрируют взаимного согласия.
Более того, культурные разногласия по поводу применения силы не просто отделяют Запад от остального мира. Они все больше отделяют США от остального Запада. В частности, европейские и американские позиции не совпадают по одному из ключевых вопросов и с каждым днем расходятся все больше. Речь идет о том, какую роль в международных отношениях играет право. У этих разногласий две причины. И первая из них касается вопроса о том, кто должен устанавливать нормы – сами государства или надгосударственные организации.
Американцы решительно отвергают надгосударственность. Трудно представить себе ситуацию, при которой Вашингтон позволил бы международным организациям ограничивать размеры бюджетного дефицита США, контролировать денежное обращение и монетную систему или рассматривать вопрос о гомосексуалистах в армии. Однако эти и множество подобных вопросов, касающихся европейских стран, регулярно решаются наднациональными организациями, членами которых они являются (такими, как ЕС и Европейский суд по правам человека). «Американцы, – писал Фрэнсис Фукуяма, – не склонны замечать никаких источников демократической легитимности выше нации-государства». Зато европейцы видят источник демократической легитимности в волеизъявлении международного сообщества. Поэтому они охотно подчиняются таким покушениям на свой суверенитет, которые были бы недопустимы для американцев. Решения Совета Безопасности, регулирующие применение силы, лишь один из таких примеров.
СМЕРТЬ ЗАКОНА
Другой основной источник разногласий, размывающий устои ООН, касается вопроса о том, когда должны устанавливаться международные нормы. Американцы предпочитают законы корректирующие, принимаемые по факту. Они склонны как можно дольше оставлять открытым пространство для соперничества и рассматривают принятие норм в качестве крайней меры, лишь на случай краха свободного рынка. Напротив, европейцы предпочитают превентивное законодательство, нацеленное на то, чтобы заблаговременно предотвратить кризисные ситуации и провалы рынка. Европейцы стремятся определить конечную цель, предвидеть будущие трудности и принимать меры к их урегулированию, прежде чем возникнут проблемы. Это свидетельствует об их приверженности к стабильности и предсказуемости. Американцы, кажется, чувствуют себя более комфортно в условиях инноваций и хаоса случайностей. Резкое несовпадение реакций по обе стороны Атлантического океана на возникновение высоких технологий и телекоммуникаций – это наиболее яркий пример различия в образе мышления. Точно так же по обе стороны Атлантики расходятся взгляды и на применение силы.
Однако наибольший урон функционированию системы Объединенных Наций нанесло расхождение во взглядах на необходимость подчиняться правилам ООН, регулирующим применение силы. Начиная с 1945 года число государств, применявших военную силу, было таким большим и случаи ее применения были столь многочисленны, – а это само по себе вопиющее нарушение Устава организации, – что можно лишь констатировать крах системы ООН. В процессе работы над основными положениями Устава международному сообществу не удалось с точностью предвидеть случаи, когда применение силы будет сочтено неприемлемым. Кроме того, не было предусмотрено достаточных мер по сдерживанию такого ее применения. Учитывая, что ООН является добровольной организацией и ее функционирование зависит от согласия государств, подобная недальновидность оказалась фатальной.
На языке традиционного международного права этот вывод может быть сформулирован несколькими способами. Многочисленные нарушения соглашения многими государствами в течение продолжительного времени можно рассматривать как приговор этому соглашению – он превратился в закон на бумаге и больше не имеет обязательной силы. Можно также предположить, что на основе этих нарушений складывается обычай как предпосылка нового закона. Он заменяет собой старые нормы соглашения и допускает поведение, которое некогда считалось нарушением. Наконец, не исключено, что противоречащая соглашению деятельность государств создала ситуацию non liquet, приведя закон в состояние такой неразберихи, что правовые нормы больше не ясны и авторитетное решение невозможно.
Долгое время в международном праве «по умолчанию» срабатывает правило, согласно которому при отсутствии каких-либо авторитетно обоснованных ограничений государство свободно в своих действиях. Следовательно, какая бы доктринальная формула ни была выбрана для описания текущего кризиса, вывод остается тем же. «Если вы хотите узнать, религиозен ли человек, – говорил Витгенштейн, – не спрашивайте у него, а следите за его поведением». Так же следует поступать, если вы захотите узнать, какому закону подчиняется государство. Если бы государства когда-либо действительно собрались зафиксировать обязательность правил ООН о применении силы, дешевле было бы подчиняться этим правилам, чем нарушать их.
Однако они не сделали это. Тому, кто сомневается в справедливости этого наблюдения, достаточно задаться вопросом, почему Северная Корея так упорно стремится сейчас заключить с США пакт о ненападении. Предполагается, что это положение является краеугольным камнем Устава ООН, но никто не мог бы всерьез ожидать, что эта гарантия успокоит Пхеньян. Устав ООН последовал примеру пакта Бриана – Келлога, заключенного в 1928 году, согласно требованиям которого все крупные государства, впоследствии принявшие участие во Второй мировой войне, торжественно поклялись не прибегать к военным действиям как средству продолжения государственной политики. Этот пакт, отмечает историк дипломатии Томас Бейли, «стал памятником иллюзии. Он не только не оправдал надежд, но и таил в себе опасность, так как… внушал общественности фальшивое чувство безопасности». В наши дни, с другой стороны, ни одно разумное государство не даст ввести себя в заблуждение, поверив в то, что Устав ООН защищает его безопасность.
Удивительно, но факт: незадолго до иракского кризиса, несмотря на тревожные симптомы, некоторые юристы, занимающиеся международным правом, настаивали на отсутствии причин бить тревогу по поводу ситуации вокруг ООН. Буквально накануне объявления Францией, Россией и Китаем о намерении использовать право вето, которое Соединенные Штаты твердо решили игнорировать, 2 марта Энн-Мэри Слотер (президент Американского общества международного права и декан принстонской Школы им. Вудро Вильсона) писала: «Происходящее сегодня – это именно то, что предполагали основатели ООН». Другие эксперты утверждают, что, поскольку страны не выступили открыто против обязательного следования заявленным в Уставе ООН правилам применения силы, последние все еще должны считаться подлежащими исполнению. Однако самым наглядным свидетельством того, что именно государство считает обязательным, часто являются действия самого государства. Истина заключается в том, что ни одно государство – и тем более США – никогда не считало, что старые правила следует менять только после открытого объявления их недействительными. Государства просто ведут себя иначе, они избегают излишних противостояний. Наконец, государства никогда вслух не заявляли о том, что пакт Бриана – Келлога больше не действует, однако лишь немногие будут оспаривать этот факт.
И все же некоторых аналитиков беспокоит вопрос: если правила ООН о применении силы признаны более не действующими, не означает ли это полного отказа от международной законности и правопорядка? Общественное мнение заставило президента Буша обратиться к Конгрессу и к ООН, а это, как далее утверждают эксперты, свидетельствует: международное право все еще оказывает влияние на силовую политику. Однако отделить правила, действующие на практике, от правил, существующих только на бумаге, совсем не то же самое, что отказаться от законности. Хотя попытка подчинить применение силы букве закона явилась выдающимся международным экспериментом ХХ века, очевидно, что этот эксперимент не удался. Отказ признать это не откроет новых перспектив для подобного экспериментирования в будущем.
Разумеется, не должно было стать неожиданностью и то, что в сентябре 2002 года США сочли возможным объявить в своей программе национальной безопасности, что больше не считают себя связанными Уставом ООН в той его части, которая регулирует применение силы. Эти правила потерпели крах. Термины «законное» и «незаконное» утратили свое значение в том, что касается использования силы. Как заявил 20 октября Пауэлл, «президент полагает, что теперь он облечен полномочиями [вторгнуться в Ирак]… как мы это сделали в Косово». Разумеется, Совет Безопасности ООН не санкционировал применение сил НАТО против Югославии. Эти действия были осуществлены явно в нарушение Устава ООН, который запрещает как гуманитарные вмешательства, так и упреждающие войны. Между тем Пауэлл все же был прав: США фактически имели полное право напасть на Ирак – и не потому, что Совет Безопасности ООН это санкционировал, а ввиду отсутствия международного закона, запрещающего подобные действия. Следовательно, ни одна из акций не может считаться незаконной.
ПУСТЫЕ СЛОВА
От бури, развалившей Совет Безопасности, пострадали и другие международные организации, включая НАТО, когда Франция, Германия и Бельгия попытались помешать Североатлантическому альянсу защитить границы Турции в случае войны с Ираком. («Добро пожаловать к концу Атлантического альянса», – прокомментировал Франсуа Эйсбур, советник Министерства иностранных дел Франции.)
Почему же рухнули бастионы приверженцев легализма, спроектированные в расчете на мощнейшие геополитические бури? Ответ на данный вопрос, возможно, подскажут следующие строки: «Нам следует, как и прежде, защищать наши жизненные интересы. Мы без посторонней помощи способны сказать ‘нет’ всему, что для нас неприемлемо». Может удивить тот факт, что они не принадлежат «ястребам» из администрации США, таким, как Пол Вулфовиц, Доналд Рамсфелд или Джон Болтон. На самом деле эти строки вышли в 2001-м из-под пера Юбера Ведрина, бывшего тогда министром иностранных дел Франции. Точно так же критики американской «гипердержавы» могут предположить, что заявление «Я не чувствую себя обязанным другим правительствам», конечно же, было сделано американцем. В действительности его сделал канцлер Германии Герхард Шрёдер 10 февраля 2003 года. Первой и последней геополитической истиной является то, что государства видят свою безопасность в стремлении к могуществу. Приверженные легализму организации, не обладающие достаточным тактом, чтобы приспособиться к таким устремлениям, в конечном итоге сметаются с пути.
Как следствие, в погоне за могуществом государства используют те институциональные рычаги, которые им доступны. Для Франции, России и Китая такими рычагами, в частности, служат Совет Безопасности и право вето, предусмотренное для них Уставом ООН. Можно было предвидеть, что эти три страны не преминут воспользоваться этим правом, чтобы осадить США и добиться новых перспектив для продвижения своего проекта: вернуть мир к многополярной системе. В ходе дебатов по проблеме Ирака в Совете Безопасности французы были вполне откровенны относительно своих целей, которые состояли не в разоружении Ирака. «Главной и постоянной целью Франции в ходе переговоров», согласно заявлению посла Франции при ООН, было «усилить роль и авторитет Совета Безопасности» (и, он мог бы добавить, Франции). В интересах Франции было заставить США отступить, создав впечатление капитуляции перед французской дипломатией. Точно так же вполне разумно ожидать от США использования (или игнорирования) Совета Безопасности для продвижения собственного проекта – поддержания однополярной системы. «Курс этой нации, – заявил президент Буш в последнем обращении к нации, – не зависит от решений других».
По всей вероятности, окажись Франция, Россия или Китай в положении США во время иракского кризиса, каждая из них точно так же использовала бы Совет Безопасности или угрожала бы игнорировать его, как США. Да и Вашингтон, будь он на месте Парижа, Москвы или Пекина, вероятно, тоже воспользовался бы своим правом вето. Государства действуют с целью усилить собственную мощь, а не своих потенциальных конкурентов. Эта мысль не нова, она восходит, по меньшей мере, к Фукидиду, по сообщению которого афинские стратеги увещевали злополучных мелосцев: «Вы и все другие, обладая нашим могуществом, поступили бы так же». Это воззрение свободно от каких-либо нормативных суждений, оно просто описывает поведение отдельных наций.
Следовательно, истина кроется в следующем: вопрос никогда не ставился так, что судьба Совета Безопасности зависит от его поведения в отношении Ирака. Непопулярность Америки ослабила Совет Безопасности в такой же степени, как биполярность парализовала его работу во времена холодной войны. Тогдашний расклад сил создавал благоприятные условия для действий Советского Союза по блокированию Совета Безопасности, так же как нынешний расклад сил предоставляет Соединенным Штатам возможность обходить его решения. Между тем сам Совет Безопасности остается без выбора. В случае одобрения американского вмешательства могло создаться впечатление, что за отсутствием собственного мнения он «штампует» решения, которым не в силах воспрепятствовать. Попытка осудить военные действия была бы блокирована американским вето. Отказ Совета Безопасности предпринимать какие-либо действия был бы проигнорирован. Он был обречен не из-за расхождений по поводу Ирака, а вследствие геополитической ситуации. Таков смысл необычного и, казалось бы, противоречивого заявления Пауэлла от 10 ноября 2002 года, в котором утверждалось, что США не будут считать себя связанными решениями Совета Безопасности, хотя и ожидают, что поведение Ирака будет признано «серьезным нарушением».
Считалось, что резолюция 1441 и факт выполнения ее требований Ираком обеспечат победу ООН и триумф законности и правопорядка. Но так не случилось. Если бы США не пригрозили Ираку применением силы, новый режим инспекций был бы наверняка им отвергнут. Однако сами угрозы применения силы являлись нарушением Устава ООН. Совбез никогда не давал санкций на объявленную Соединенными Штатами политику смены иракского режима или на осуществление каких-либо военных действий с этой целью. Следовательно, «победа» Совета Безопасности на самом деле была победой дипломатии, за которой стояла сила или, точнее, угроза одностороннего применения силы в нарушение Устава ООН. Незаконная угроза односторонних действий «узаконила» действия многосторонние. Совет Безопасности воспользовался результатами нарушения Устава ООН.
Резолюция 1441 стала триумфом американской дипломатии и одновременно поражением международного правопорядка. Одобрив эту резолюцию после восьми недель дебатов, французские, китайские и российские дипломаты покинули зал заседаний, заявив, что не дали Соединенным Штатам права нанести удар по Ираку, так как резолюция не содержит элементов «автоматизма». Американские дипломаты в свою очередь настаивали на обратном. Что же касается содержания резолюции, то она одинаково поддерживала обе эти версии. Такая особенность языка резолюции не есть признак эффективного законодательства. Главной задачей любого законодателя являются внятность языка, изложение четких правил словами, которые общеизвестны и общезначимы. Члены ООН, согласно Уставу, обязаны подчиняться решениям Совета Безопасности и имеют право ожидать, что последний четко изложит свои решения. Уклонение от этой задачи перед лицом угроз лишь подрывает законность и правопорядок.
Вторая резолюция, принятая 24 февраля, каково бы ни было ее значение с точки зрения дипломатической практики, лишь упрочила процесс маргинализации Совета Безопасности. Ее расплывчатый язык был рассчитан на привлечение максимальной поддержки, но ценой юридической бессодержательности. Велеречивость резолюции, как и предполагалось, давала повод для всевозможных толкований, однако правовой инструмент, который можно истолковать любым образом, не имеет никакого значения. Охваченному агонией Совету Безопасности было важнее сказать хоть что-нибудь, чем сказать что-то действительно важное. Предлагавшийся компромисс позволил бы государствам вновь, так же как и после принятия резолюции 1441, заявить, что бессодержательным резолюциям Совбеза придают смысл частные замечания и побочные толкования. Спустя 85 лет после провозглашения Вудро Вильсоном «Четырнадцати пунктов» память самых священных обязанностей международного права почтили в обстановке намеков и экивоков келейным заключением секретных сделок.
ИЗВИНЕНИЯ ЗА БЕССИЛИЕ
В ответ на поражение Совета Безопасности государства и комментаторы, намеревающиеся вернуть мир к многополярной структуре, разработали различные стратегии. Некоторые европейские страны, такие, как Франция, полагали, что Совбез мог бы путем наднационального контроля за действиями Америки преодолеть дисбаланс сил и неравенство в сферах культуры и безопасности. Точнее говоря, французы надеялись использовать Совет Безопасности в качестве тарана, чтобы испытать Америку на прочность. Если бы эта стратегия сработала, то через наднациональные институты мир вернулся бы к многополярности. Но такой подход неизбежно вел к затруднительному положению: в чем бы тогда состоял успех европейских приверженцев наднациональных структур?
Разумеется, французы могли наложить вето на иракский проект Америки. Однако успех в этом был бы равносилен поражению, так как США уже объявили о своем намерении действовать невзирая ни на что. И, таким образом, была бы разорвана единственная цепь, позволяющая Франции сдерживать Америку. Неспособность Франции разрешить эту дилемму сводит ее действия к дипломатическому кусанию за лодыжки. Министр иностранных дел Франции мог перед камерами грозить пальцем американскому госсекретарю или застать его врасплох, подняв тему Ирака на встрече, посвященной другому вопросу. Однако неспособность Совбеза действительно остановить войну, против которой Франция громогласно протестовала, столь же явно демонстрировала слабость Франции, сколь и бессилие Совета Безопасности.
Тем временем комментаторы разработали стратегии словесной войны, предвосхищая предполагаемую угрозу международному правопорядку со стороны Америки. Некоторые рассуждали, в духе сообщества, что страны должны действовать во всеобщих интересах, вместо того чтобы, говоря словами Ведрина, «принимать решения в соответствии с собственными интерпретациями и в собственных интересах». США должны оставаться в ООН, утверждала Слотер, так как другим государствам необходим «форум… для сдерживания США». «Что же случилось с консервативными подозрениями в отношении неограниченного могущества?.. – вопрошал Хендрик Хертцберг из The New Yorker. – Где консервативная вера в ограничение власти, контроль и баланс сил? Берк перевернулся бы в гробу! Мэдисон и Гамильтон – тоже». Вашингтон, утверждал Хертцберг, должен добровольно отказаться от своего могущества и лидерства в пользу многополярного мира, в котором восстановится баланс сил, а США окажутся на равных с другими странами.
Никто не сомневается в пользе контроля и сохранения баланса сил внутри страны, необходимых для обуздания произвола. Сталкивать амбиции с амбициями – такова формула поддержания свободы, предложенная «отцами» Конституции США. Проблема эффективности такого подхода на международном уровне, однако, заключается в том, что Соединенным Штатам пришлось бы действовать вопреки собственным интересам, защищая дело своих стратегических соперников, в частности тех, чьи ценности значительно отличаются от их собственных. Хертцберг и другие, кажется, просто не могут признать, что им изменяет чувство реальности, когда они полагают, что США позволят контролировать себя Китаю или России. В конце концов, способны были бы Китай, Франция, Россия или любая другая страна добровольно отказаться от неоспоримого превосходства, окажись они на месте США? Не следует забывать также, что сейчас Франция стремится сократить собственное отставание от США, но отнюдь не дисбаланс с другими, менее влиятельными странами (некоторые из них Ширак пожурил за «невоспитанность»), которые могли бы сдерживать мощь самой Франции.
Более того, нет веских причин полагать, что какой-либо новый и еще не обкатанный центр силы, находящийся, возможно, под влиянием государств с длительной историей репрессий, окажется более внушающим доверие, нежели лидерство США. Те, кто решился бы вверить судьбу планеты какому-то расплывчатому образу стража глобального плюрализма, как ни странно, забывают об одном: кто будет стражем самого стража? И как этот последний собирается блюсти международный мир – вероятно, попросив диктаторов принять законы, запрещающие оружие массового уничтожения (как французы Саддама)?
В одном отношении Джеймс Мэдисон был прав, хотя международное сообщество и не смогло это оценить. Создавая проект Конституции США, Мэдисон и другие отцы-основатели столкнулись с дилеммой, напоминающей ту, с которой сталкивается ныне международное сообщество в условиях гегемонии Америки. Творцы Конституции США задались вопросом: почему могущественные люди должны иметь какой-нибудь стимул подчиняться закону? Отвечая на него, Мэдисон объяснял в «Записках федералиста», что эти стимулы заключаются в оценке будущих обстоятельств – в беспокоящей перспективе, когда в один прекрасный день сильные станут слабыми и прибежище закона понадобится им самим. Именно «шаткость положения», писал Мэдисон, побуждает сегодня сильных играть по правилам. Но если будущее определено заранее, или если сильные мира сего в этом уверены, или если это будущее гарантирует стабильность их могущества, им незачем подчиняться закону. Следовательно, гегемония находится в конфликте с принципом равенства. Гегемоны всегда отказывались подчинить свою власть сдерживающей узде закона. Когда Британия правила морями, Уайтхолл сопротивлялся вводу ограничений на применение силы при установлении морских блокад – ограничений, которые энергично поддерживали молодые Соединенные Штаты и другие более слабые государства. В любой системе с доминирующей «гипердержавой» крайне трудно поддерживать или установить подлинную законность и правопорядок. Такова великая Мэдисонова дилемма, с которой сегодня столкнулось международное сообщество. И именно эта дилемма сыграла свою драматическую роль в Совете Безопасности в ходе судьбоносного столкновения нынешней зимой.
НАЗАД, К ЧЕРТЕЖНОЙ ДОСКЕ
Высокой обязанностью Совета Безопасности, возложенной на него Уставом ООН, было поддержание международного мира и безопасности. В Уставе ООН изложен и проект осуществления этой задачи под покровительством Совета Безопасности. Основатели ООН воздвигли настоящий готический собор – многоярусный, с большими крытыми галереями, тяжеловесными контрфорсами и высокими шпилями, а также с внушительными фасадами и страшными горгульями, чтобы отгонять злых духов.
Зимой 2003 года все это здание рухнуло. Заманчиво, конечно, было бы пересмотреть проекты и во всем обвинить архитекторов. Однако дело в том, что причина провала Совета Безопасности кроется не в этом, а в смещении пластов земли под самой конструкцией. В этом году стало до боли ясно, что земля, на которой высился храм ООН, дала трещины. Она не вынесла тяжести величественного алтаря законности, который воздвигло человечество. Несоразмерность сил, различие культур и разные взгляды на применение силы опрокинули этот храм.
Как правило, закон влияет на поведение. Таково, разумеется, его предназначение. Однако приверженные легализму международные организации, режимы и правила, касающиеся международной безопасности, в большинстве случаев являются эпифеноменами, отражающими более глубинные причины. Они не определяют самостоятельно и независимо поведение государств, а становятся лишь следствием деятельности более мощных сил, формирующих это поведение. По мере того как движение глубинных потоков создает новые ситуации и новые отношения (новые «феномены»), государства позиционируют себя так, чтобы воспользоваться новыми возможностями для укрепления своего могущества. Нарушения правил, касающихся международной безопасности, происходят в тех случаях, когда такое позиционирование приводит к несоответствию между государством и застывшими организациями, не способными адаптироваться к новым условиям. Так, ранее успешно действовавшие правила превращаются в правила на бумаге.
Этот процесс коснулся даже наиболее разработанных законов, поддерживающих международную безопасность, которые некогда отражали глубинную геополитическую динамику. Что же касается законов худшего толка, созданных без учета этой динамики, то их жизнь еще более коротка, от них часто отказываются, как только возникает необходимость их выполнять. В обоих случаях, как показывает деградация ООН, юридическая сила таких законов недолговечна. Военно-штабной комитет ООН утратил силу практически сразу. С другой стороны, установленный Уставом ООН режим применения силы еще несколько лет формально продолжал действовать. Сам Совет Безопасности хромал на протяжении всего периода холодной войны, ненадолго воспрянув в 1990-х, а Косово и Ирак привели его к полному краху.
Когда-нибудь политики вернутся к чертежной доске. И тогда первый урок, который они извлекут из поражения Совета Безопасности, станет первым принципом создания новой организации: новый мировой правовой порядок, если он предназначен для эффективного функционирования, должен отражать положенную в его основание динамику права, культуры и безопасности. Если это не так, если его нормы вновь окажутся нереалистичными, не будут отражать действительное поведение государств и влияющих на них реальных сил, сообщество народов вновь породит лишь ворох законов на бумаге. Дисфункция системы ООН была в своей основе не юридической проблемой, а геополитической. Юридические искажения, ослабившие ее, явились следствием, а не причиной. «ООН была основана на допущении, – замечает, отстаивая свою точку зрения, Слотер, – что некоторые истины выходят за пределы политики». Именно так – в этом и заключается проблема. Если приверженные легализму институты намерены получать в свое распоряжение работающие, а не бумажные законы, они, как и «истины», которые они считают основополагающими, должны исходить из политических обязательств, а не наоборот.
Второй урок из провала ООН, связанный с первым, состоит в том, что правила должны устанавливаться в зависимости от реального поведения государства, а не от должного. «Первейшим требованием к разумной совокупности правовых норм, – писал Оливер Уэнделл Холмс, – является то, что она должна соответствовать действительным устремлениям и требованиям сообщества вне зависимости от того, правильны они или ошибочны». Это воззрение выглядит анафемой для тех, кто верит в естественное право, для кабинетных философов, которые «знают», какие принципы должны лежать в основе управления государствами, принимают они эти принципы или нет. Но эти идеалисты могли бы вспомнить, что международная правовая система все-таки добровольна. Хорошо это или нет, но ее законы основываются на согласии государств. Государства не связаны законами, с которыми они не согласны. Нравится это или нет, но такова вестфальская система, и она все еще действует. Можно сколько угодно делать вид, что система может быть основана на субъективных моральных принципах самих идеалистов, но это не изменит положение дел.
Следовательно, создатели истинно нового мирового порядка должны покинуть эти воздушные замки и отказаться от воображаемых истин, выходящих за пределы политики, таких, например, как теория справедливых войн или представление о равенстве суверенных государств. Эти и другие устаревшие догмы покоятся на архаических представлениях об универсальной истине, справедливости и морали. Сегодня наша планета, как это было редко в истории, раздроблена на части противоборствующими истинами, выходящими за пределы политики, людьми на всех континентах, которые – вместе с Цезарем Бернарда Шоу – искренне веруют, что «обычаи его племени и острова суть законы природы». Средневековые представления о естественном праве и естественных правах («нонсенс на ходулях», как назвал их Бентам) мало что дают. Они расклеивают удобные ярлыки для свойственных той или иной культуре предпочтений и, тем не менее, служат боевым кличем для всех воюющих.
Когда мир вступает в новую, переходную эру, необходимо избавляться от старого моралистического словаря, чтобы люди, принимающие решения, могли прагматически сосредоточиться на том, сколь действительно велики ставки. Правильные вопросы, ответы на которые необходимо дать, чтобы гарантировать мир и безопасность, совершенно очевидны: каковы наши цели? какими средствами мы собираемся их осуществлять? насколько действенны эти средства? если они неэффективны, то почему? существуют ли альтернативы? если они существуют, то чем для них придется пожертвовать? готовы ли мы пойти на такие жертвы? какова цена и выгода прочих альтернатив? какой поддержки они потребуют?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, не требуется никакой запредельной метафизики легализма. Здесь не нужны великие теории и нет места для убежденности в своей непогрешимости. Закон, говорил Холмс, живет не логикой, а опытом. Человечеству нет нужды достигать окончательного согласия относительно добра и зла. Перед ним стоит эмпирическая, а не теоретическая задача. Добиться согласия удастся быстрее, если отказаться от абстракций, выйти за пределы полемической риторики «правильного» и «неправильного» и прагматически сосредоточиться на конкретных потребностях и предпочтениях реальных людей, возможно испытывающих страдания без всякой необходимости. Политические стратеги, вероятно, пока не в состоянии ответить на эти вопросы. Те силы, которые разрушили Совет Безопасности, – «глубинные источники международной нестабильности», как назвал их Джордж Кеннан, – никуда не исчезнут, но, по меньшей мере, политики смогут задать себе правильные вопросы.
Крайне разрушительной производной естественного права является идея равной суверенности государств. Как указал Кеннан, представление о равенстве суверенитетов – это миф, и фактическое неравенство между государствами «выставляет на посмешище» эту концепцию. Предположение, что все государства равны, повсюду опровергается очевидностью того, что они не равны – ни по своей мощи, ни по своему благосостоянию, ни с точки зрения уважения международного порядка или прав человека. И тем не менее, принцип суверенного равенства одновременно пронизывает всю структуру ООН и не позволяет ей эффективно браться за разрешение возникающих кризисов, например, вследствие доступности ОМУ, которая вытекает именно из предположения о суверенном равенстве. Отношение к государствам, как к равным, мешает относиться к людям, как к равным. Если бы Югославия действительно имела такое же право на неприкосновенность, как и любое другое государство, ее граждане не пользовались бы сегодня теми же правами человека, что и граждане других государств, поскольку их права могли быть защищены только вторжением. В этом году абсурдность обращения со всеми государствами, как с равными, стала очевидна как никогда, когда обнаружилось, что решение Совета Безопасности может зависеть от позиции Анголы, Гвинеи или Камеруна – стран, представители которых сидели рядом и голос которых весил столько же, что и голоса Испании, Пакистана и Германии. Принцип равенства фактически даровал любому временному члену Совбеза возможность воспользоваться правом вето, лишив большинство того критического, девятого голоса, который был необходим для поддержки резолюции. Разумеется, в предоставлении Уставом ООН юридического права вето пяти постоянным членам Совета Безопасности подразумевалось создание противоядия против необузданного эгалитаризма. Но этот подход не сработал: юридическое право вето одновременно опускало США до уровня Франции и поднимало Францию над Индией, которая не была даже временным членом Совета Безопасности в момент обсуждения иракской проблемы. А между тем юридическое вето ничуть не уравновесило фактическое вето временных членов Совбеза. В результате получилось, что Совет Безопасности отразил действительный расклад сил в мире с точностью кривого зеркала. Отсюда третий великий урок этой зимы: нельзя ожидать, чтобы организации могли исправить искажения, кроющиеся в самой их структуре.
ВЫЖИВАНИЕ?
Есть немного причин полагать, что Совет Безопасности вскоре возродится, чтобы заниматься важнейшими вопросами безопасности вне зависимости от того, чем закончится война против Ирака. Если война окажется быстрой и успешной, если США обнаружат иракское ОМУ, которое будто бы не существует, и если создание государства в Ираке пройдет благополучно, стимулов возрождать Совет Безопасности будет крайне мало. В этом случае он отправится вслед за Лигой Наций. После этого американские стратеги станут относиться к Совету Безопасности примерно так же, как и к НАТО после Косово: never again. Его заменят коалиции единомышленников, создаваемые для определенных целей.
Если же, с другой стороны, война окажется затяжной и кровопролитной, если США не найдут в Ираке ОМУ, если создание там государства начнет пробуксовывать, это пойдет на пользу противникам войны, которые будут утверждать, что США не сели бы на мель, если бы оставались верны Уставу ООН. Однако неудачи Америки не пойдут на пользу Совету Безопасности. Возникнут и окрепнут враждебно настроенные коалиции, занявшие в Совбезе выжидательную позицию и парадоксальным образом затрудняющие попытки Америки в полном соответствии со своим долгом принимать участие в этом форуме, где для нее всегда будет наготове вето.
Время от времени Совет Безопасности все еще будет полезен для рассмотрения вопросов, не затрагивающих непосредственно высшую иерархию мировых сил. Достаточно сказать, что всем ведущим странам угрожает опасность терроризма, а также новая волна распространения ОМУ. Никто не выиграет, если допустит, чтобы эти угрозы осуществились. Но даже если требуемое решение проблемы не будет военным, стойкие взаимные подозрения постоянных членов Совбеза и потеря доверия к нему самому подорвут его эффективность в решении этих вопросов.
Чем бы ни окончилась война, на США, скорее всего, будет оказываться давление в целях ограничения возможности применения ими военной силы. Этому давлению они смогут противостоять. Несмотря на увещевания Ширака, война далеко не «всегда... наихудшее средство». В том, что касается многочисленных тиранов, начиная с Милошевича и кончая Гитлером, применение силы протиы них было лучшим выбором, чем дипломатия. К сожалению, может так статься, что применение силы окажется единственным и, следовательно, оптимальным способом решения проблемы распространения ОМУ. С точки зрения страданий мирного населения применение силы во многих случаях может оказаться более гуманным решением, чем экономические санкции, вследствие которых, как показало их применение к Ираку, умирают от голода больше детей, чем солдат. Наибольшей опасностью после второй войны в Персидском заливе будет не применение силы Соединенными Штатами, когда в этом нет необходимости, а то, что, капитулировав, испугавшись ужасов войны, дрогнув под напором общественных протестов и экономической конъюнктуры, они не станут применять силу тогда, когда это необходимо. Тот факт, что мир подвергается опасности из-за разрастающегося беспорядка, возлагает на США все большую ответственность: Америке следует неуклонно использовать свою мощь для того, чтобы остановить или замедлить распад.
Все те, кто верит в законность и правопорядок, с надеждой ждут, что великий караван человечества вновь продолжит свой путь. Выступая против центров беспорядка, Соединенные Штаты только выиграют от того, что направят часть мощи на создание новых международных механизмов, предназначенных для поддержания мира и безопасности во всем мире. Американское лидерство не будет длиться вечно, и благоразумие подсказывает необходимость создания организаций с реалистической структурой, способных защищать или поддерживать национальные интересы США даже в тех случаях, когда военная сила неэффективна или неуместна. Подобные организации способствовали бы усилению неоспоримого превосходства Америки и потенциальному продлению периода однополярности.
Между тем приверженцы легализма, должны реалистично оценивать перспективы создания в ближайшее время новой международной структуры на смену обветшавшему Совету Безопасности. Силы, приведшие к закату Совбеза, никуда не денутся. Со щитом или на щите – у Соединенных Штатов в новых условиях больше не появится причин вновь подчинить себя старым ограничениям. Победят или будут посрамлены их соперники, у них не найдется достаточных причин, чтобы отказаться от усилий по сдерживанию США. Нации по-прежнему будут стремиться к наращиванию могущества и поддержанию безопасности за счет других. Они продолжат спор о том, когда следует применять силу. Нравится нам это или нет, но так устроен мир. Первым шагом к возобновлению шествия человечества в направлении законности и правопорядка будет признание этого факта.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























