Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки

Николай Патрушев: Запад пытается ограничить нашу деятельность в Мировом океане
Иван Егоров
Российский флот, как военный, так и гражданский, ждут кардинальное обновление и модернизация. Об этом, а также о подледных газовозах на Севморпути, геополитике и попытках Запада выдавить нашу страну из Мирового океана, в том числе с помощью терактов и диверсий, в интервью обозревателю "РГ" рассказал помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.
Николай Платонович, конец 2024 года выдался богатым на неприятные, мягко говоря, морские события. Это, например, диверсия с подрывом сухогруза "Урса Майор" недалеко от Гибралтара и захват финнами танкера "Игл Эс", который следовал из Санкт-Петербурга. Новые "горячие" флибустьеры до сих пор обвиняют его экипаж якобы в повреждении подводного балтийского кабеля. На днях уже шведы задержали еще одно судно, которое тоже якобы повредило кабель. А британские военные заявили, что готовы задерживать российские суда у побережья Англии. Такое ощущение, что цель натовцев - вообще перекрыть нам выход в Атлантику...
Николай Патрушев: Страны Запада пытаются ограничить нашу деятельность в Мировом океане и для достижения этой цели не гнушаются любых методов. В том числе проводят информационные диверсии, полагая, что их откровенная ложь способна подорвать экономическую безопасность, обороноспособность и репутацию нашей страны. Для исполнения своих антироссийских планов не исключают использование и террористических методов. По мнению экспертов, террористическая атака против российского судна "Урса Майор" в Средиземном море могла быть организована одной из недружественных стран. Захват же на Балтике под надуманным предлогом "Игл Эс" иначе как актом современного пиратства вообще назвать сложно.
Вы знаете, что в январе произошло еще несколько случаев обрыва подводных кабелей, в которых без разбирательств Запад обвинил нашу страну, используя их в качестве повода для усиления военного присутствия в Балтийском море. В настоящее время Североатлантический альянс всерьез обсуждает возможность организовать досмотр судов в международных водах, что является грубейшим нарушением Конвенции ООН по морскому праву, гарантирующей беспрепятственный транзитный проход в открытом море.
О заинтересованности Запада в повреждении подводной инфраструктуры вы говорили, когда комментировали нежелание европейских государств расследовать причины диверсии на "Северных потоках". Известно, что недавно ВСУ предприняли попытку разрушить компрессорные станции газопровода "Турецкий поток"...
Николай Патрушев: Целенаправленное уничтожение гражданской инфраструктуры, провоцирование экологической катастрофы и попытки нанести экономический ущерб России и ее зарубежным партнерам вошло в практику киевского террористического режима. Обратите внимание, что всего за месяц до случившегося подконтрольный Вашингтону и Лондону бывший главком ВСУ Залужный говорил о планах его покровителей взорвать не только газопроводы "Северный поток", но и "Турецкий поток", проходящий по дну Черного моря.
Тесная спайка Запада с Киевом явно представляет собой целый комплекс угроз безопасности не только нашего государства, но и для других стран, заинтересованных в экономическом сотрудничестве с Россией.
Действия Киева вполне устраивают Запад, который прочно взял на вооружение терроризм для борьбы с "неугодными" по их классификации государствами.
Николай Патрушев: Совершенно верно. Недавно в интернете широко разошлись снимки, где главы западных стран по-дружески фотографируются с террористами. На одном из них Олаф Шольц встречается с неким Николаем Гайдуком, причастным к диверсии на газораспределительной станции в Калининграде в 2024 году. На другом Джо Байден благодарит за службу бойцов спецподразделений в Израиле, участвовавших в операциях в Палестине. Один из этих татуированных "рейнджеров" состоял в диверсионной группе, вторгшейся в Брянскую область, где в итоге был ликвидирован российскими спецслужбами. В западном мире исторически принято нанимать на службу откровенных преступников, при этом героизируя их. Вспомните, как Англия столетия цинично вела завоевания с помощью пиратов, поэтично называя их корсарами.
Английская корона закрывала глаза на мародерство, грабежи и насилие гражданского населения ради расширения своего влияния в мире. Пиратская и колониальная политика англосаксов продолжается и до настоящего времени.
Недавним заключением соглашения "о столетнем партнерстве" между Киевом и Лондоном Англия, по сути, добивается создания своей новой колонии на территории несостоявшейся Украины. Кроме того, она намеревается узаконить нахождение британских военных инструкторов в этой стране и реализовать свои планы по наращиванию военно-морского присутствия в Черном и Балтийском морях, а также бесцеремонно заявить о правах на судоходство их кораблей в Азовском море, являющемся внутренним морем Российской Федерации. Фактически этим документом туманный Альбион пытается прикрыть свою беспринципную политику демонстративного игнорирования международного права, а также подтверждает свою всестороннюю поддержку киевского неонацистского режима.
Состояние Военно-морского флота позволяет защищать морские границы России и обеспечивать безопасность наших судов от военных угроз
Не скрывающая своей русофобии Урсула фон дер Ляйен с трибуны Европарламента заявила, что задача нынешнего поколения - "снова бороться за свободу", сделав акцент на вооруженной борьбе с Россией. То есть Брюссель не собирается останавливать военный конфликт?
Николай Патрушев: Посмотрим на этот вопрос с точки зрения экономики. Зачем странам НАТО отказываться от своих военных планов? Маховик оборонно-промышленного комплекса США запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег - не в традициях американцев. На фоне антироссийских санкций и военной поддержки Украины темпы роста доходов американского ОПК достигли наивысших показателей. Не отстает от них и ОПК европейских стран, входящих в Североатлантический альянс. Передав Украине практически все просроченное устаревшее вооружение, Европа загрузила заказами и свои оборонные предприятия, создавая современное вооружение. Даже с этой точки зрения просматривается заинтересованность стран Запада в затягивании боевых действий.
Саммит стран НАТО Балтийского региона подтвердил настрой альянса на усиление военного присутствия в Балтийском море, что соответствует в целом планам Запада по милитаризации Мирового океана. А что мы можем противопоставить им? Что с нашим военным флотом?
Николай Патрушев: Прежде всего следует отметить, что состояние Военно-морского флота России позволяет защищать морские границы нашей страны, обеспечивать безопасность российских судов от военных угроз. В рамках работы Морской коллегии я посетил Балтийский, Черноморский, Тихоокеанский и Северный флоты, а также Каспийскую флотилию и могу отметить высокую боеспособность военного флота, профессионализм офицеров и матросов.
Значительно преображается кораблестроение. Владимир Путин уделяет этой отрасли отдельное внимание. В ушедшем 2024 году российский Военно-морской флот продолжил активно обновляться. В его состав вошли более трех десятков кораблей различных классов. Для создания широкого спектра продукции применяются современные технологии и материалы. Вместе с тем сегодня важно создать условия для повышения экономической эффективности судостроительного комплекса, развивать научно-технический задел, позволяющий создавать самые современные корабли и суда. Основополагающим принципом существования отрасли должна стать технологическая независимость.
Решение конкретных проблем, с которыми сталкиваются сегодня флот и судостроительная отрасль, будет отражено в дорабатываемом в настоящее время проекте Стратегии развития ВМФ России. В документе будут предусмотрены меры, направленные на строительство новых кораблей, обеспечение серийности их изготовления, разработку и организацию производства конкурентоспособной отечественной военно-морской продукции на российской научно-промышленной базе. Считаем необходимым, чтобы предприятия избавились даже от малейшей зависимости от поставок иностранного комплектующего оборудования. Среди прочего должны будут решены задачи регулирования ценообразования в кораблестроении.
Кстати, на итоговой в 2024 году коллегии минобороны Владимир Путин поставил задачу наращивать производство робототехнических комплексов и беспилотных систем различных классов и типов, в том числе и для флота. Началась их разработка?
Николай Патрушев: Могу сказать, что ВМФ России уже сегодня оснащается безэкипажными катерами. Их производство значительно увеличено с учетом опыта специальной военной операции. Над усовершенствованием БЭКов трудятся производители катеров, разработчики технологий и комплектующих, а также специалисты по их применению. Созданием новых видов безэкипажных катеров, по своим показателям превосходящих зарубежные образцы, займется создаваемый единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для ВМФ. К этой работе будут привлечены необходимые финансовые ресурсы, а также лучшие кадры - не только военные, но и гражданские, в том числе из ведущих компаний технологического сектора. При создании новых типов БЭКов предполагается использовать искусственный интеллект и технологии машинного обучения.
Кроме стратегии по развитию ВМФ, насколько мне известно, идет подготовка и других стратегических документов в сфере морской деятельности...
Николай Патрушев: В настоящее время активизирована работа по актуализации всей системы документов стратегического планирования в сфере морской деятельности. Кроме стратегии по развитию ВМФ это относится и к стратегии развития корабельного состава органов федеральной службы безопасности. А также к основам государственной политики России в области военно-морской деятельности и Стратегии развития судостроительной промышленности. В рамках Морской коллегии создана рабочая группа по подготовке проекта федерального закона о государственном регулировании судостроительной промышленности. Неправильно, что, в отличие от многих других стратегически важных отраслей, судостроение не имеет собственного базового федерального закона. По нашему мнению, закон будет способствовать обеспечению государственной поддержки динамичного развития этой высокотехнологической отрасли.
Если возвращаться к тому, с чего начиналось морское величие России, то согласно историческим хроникам впервые идея путешествия через Северный Ледовитый океан к границам Китая была высказана ровно 500 лет назад в книге "Карта Московии, составленная по рассказу посла Димитрия", изданной в Венеции. Это к вопросу о претензиях западников в XXI веке на Севморпуть и Арктику.
Николай Патрушев: Вы правы, выдвинутая Дмитрием Герасимовым идея похода по нашей национальной транспортной коммуникации родилась в 1525 году. Считаю, что эту дату мы обязаны использовать для популяризации развития Арктики и Северного морского пути, для сохранения памяти о славных страницах истории освоения русскими моряками северных морей. Мы должны гордиться и чувствовать себя сопричастными к достижениям предыдущих поколений и героев-современников в Арктике. Все северные моря, заливы, острова, мысы названы именами российских исследователей и находящихся на службе государства Российского иностранцев - например Витуса Беринга. Россия внесла важнейший вклад и в изучение Антарктиды. Кстати, 28 января, отмечается День открытия Антарктиды российской военно-морской экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в 1820 году.
Дальнейшее развитие России, повышение ее роли в мировой экономике напрямую зависит от освоения Арктики. В этой связи одним из приоритетных логистических проектов современной России становится Северный морской путь. С учетом бурно развивающегося Азиатско-Тихоокеанского региона разворот внешней торговли России на Восток является очевидным, а увеличение объемов перевозок грузов между Россией и АТР невозможно без логистических маршрутов, использующих северные пути.
Для бесперебойного функционирования Севморпути поставлены задачи по развитию портовой инфраструктуры, обеспечению безопасности судоходства, активному использованию внутренних водных путей для доставки грузов из регионов России и соседних стран к северным портам. Кроме того, важно создать эффективную долгосрочную финансово-экономическую модель использования Северного морского пути.
Несомненно, что для Севморпути нужны десятки танкеров, балкеров, контейнеровозов, в том числе ледового класса, аварийно-спасательные суда и ледоколы. Насколько быстро мы сможем их построить?
Николай Патрушев: В настоящее время формируется план строительства судов ледового класса на ближайшую и долгосрочную перспективу. При этом важно проработать дополнительные экономические механизмы пополнения и обновления работающего в условиях Арктики российского флота именно силами отечественной судостроительной промышленности. Речь идет о торговом, рыбопромысловом, научно-исследовательском флоте. Также важно уделить внимание разработке подледных газовозов.
Перспективным направлением также являются научные исследования в Арктике. Нужны точные результаты климатического и экологического мониторинга арктических морей. При этом надо понимать, что у климата нет границ. Резкое сокращение по инициативе Запада взаимодействия зарубежных ученых с нашей страной в вопросах изучения Арктики может негативно повлиять на сохранение природного разнообразия Мирового океана и развитие мировой науки. Забота о будущем планеты должна объединять усилия государств и укреплять научно-техническое взаимодействие.
Не менее важна и популяризация морской профессии и возвращение престижа службы на флоте. Молодежь не всегда знает морскую историю страны. Нет уже той романтики, когда мальчишки во всех портовых городах Советского Союза, а до этого Российской империи, все как один мечтали стать капитанами дальнего плавания или морскими офицерами. Не скрою, что в свое время и сам, во многом благодаря этой романтике, стал офицером флота и до сих пор с гордостью вспоминаю корабельную службу.
Николай Патрушев: Без понимания нашего морского прошлого мы не сможем уверенно прокладывать курс в будущее. Тем более что российская морская история не просто великая, но и безупречная в нравственном отношении. В отличие от западных мореплавателей, наших предков в далекие океаны вела жажда знаний, а не наживы. Русские моряки не вели колониальных завоеваний, не покоряли далекие народы, не навязывали чуждые им ценности. Вместо этого они выполняли мирную, созидательную и освободительную миссию.
Вспомним величайшие победы нашего флота под командованием Федора Федоровича Ушакова, которые способствовали освобождению от французских войск острова Корфу и городов Италии. Средиземноморский поход черноморской эскадры в конце XVIII века сегодня беспардонно вымарывается из учебников истории во многих европейских государствах.
Мы же обязаны уделять внимание и военно-морской истории, увековечивать память героев-моряков. Не случайно Владимир Владимирович Путин в прошлом году принял участие в церемонии открытия памятника адмиралу Ушакову. И обратите внимание - Ушаков не только великий флотоводец, не проигравший ни одного сражения, он еще причислен к лику святых. Это уникальный случай в истории.
Наши мореплаватели выступали как представители всего нашего народа, всегда были готовы прийти на помощь нуждающимся и оставляли по себе только добрую память. Я вспоминаю, как много лет назад в Сочи на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, общался со своим коллегой с Мадагаскара. Так вот, он тогда напомнил мне, что у его побережья есть остров Нуси-Бе, где в начале 1905 года несколько месяцев стояла русская эскадра во время своего похода. И подчеркнул, что местные жители до сих пор помнят русских моряков и с удовольствием вспоминают об их высоких человеческих качествах.
Да и те же американцы вряд ли забыли о помощи русских моряков в XIX веке.
Николай Патрушев: Примеров действительно много. Так, во время сильнейшего пожара в Сан-Франциско в 1863 году в гавани города стояла русская эскадра адмирала Андрея Александровича Попова, направленная во избежание вмешательства Англии в гражданскую войну в США. Для борьбы с пожаром и спасения людей в этот американский город были направлены четыреста офицеров и матросов. В память об этом событии в США создан мемориал. А в 1908 году моряки русской эскадры, находившейся на учениях в Средиземном море, без промедления прибыли в пострадавшую от разрушительного землетрясения итальянскую Мессину на Сицилии. В составе эскадры, в частности, был наш легендарный крейсер "Аврора". Из-под руин русские моряки извлекли более двух тысяч пострадавших, которых на кораблях отвозили в ближайшие города. А затем вновь возвращались к месту спасательной операции с медикаментами и продуктами. В память об этом поистине человеческом поступке одна из площадей в Мессине названа в честь русских моряков.
Традиции участия в гуманитарных операциях были продолжены в советские и постсоветские годы и продолжаются до сих пор.
На память приходит, как в 1974 году советские моряки более двух лет проводили сложнейшую операцию по разминированию порта Читтагонг в Бангладеш и освобождению его фарватера от затонувших судов. Пятьдесят лет назад в феврале 1975 года на острове Маврикий восстанавливали линии электропередачи и ремонтировали здания, разрушенные в результате тропического циклона. И совсем недавно в Средиземном море экипажи фрегата "Адмирал Горшков" и сухогруза "Пижма" специально изменили свой курс, чтобы спасти пассажиров немецкого круизного судна в территориальных водах Греции. Российские моряки и сегодня остаются готовыми самоотверженно работать во имя искоренения опасностей, угроз жизни и благополучия граждан своей страны и других государств.

Что делать, если Гольфстрим остановится, а вечная мерзлота перестанет быть вечной
Анатолий Юрков, Сергей Зимов
"За последние месяцы у меня не было лишних дней: выступал в Сколково, в Государственной Думе, на собрании экспертов "Горизонт 2040" (это о выборе стратегии для правительства), и на Петербургском экономическом форуме, где из уст гаранта прозвучало: Россия должна быть суверенна во всем, а значит и в вопросах климата. В итоге, я сел поделиться накопленным.
А тут еще появились серьезные работы о том, что Гольфстрим останавливается. Нам в этом случае грозит новое ледниковье и новое Смутное время. Текст получился большой.
Перечитал: все, вроде, по делу. И есть чем поделиться с читателями".
Такими новостями сопровождает очередную свою работу Сергей Афанасьевич Зимов, желанный автор "Российской газеты", и автор знаменитого проекта "Плейстоценовый парк", о котором много пишут зарубежные издания.
На климатическом форуме, который прошел осенью прошлого года в Египте, была сформулирована идея новой единой мировой "авраамической" религии: были презентованы новая "эко-библия", новая Книга Бытия и Исхода, и 10 заповедей "климатической справедливости". Цель нового зеленого курса - остановить потепление климата, а для этого нужно прекратить выбросы СО2 и метана, а их главные источники - люди и коровы. И ради этой цели адепты новой религии готовы на любые жертвы. Жертвы в прямом смысле этого слова. К закланию готовят миллионы людей и животных. Все привязанные к доллару страны взяли обязательства в ближайшем будущем выйти на углеродную нейтральность. Россия - в их числе.
Многим россиянам, в том числе и во власти, казалось, что борьба за климат для России не будет в тягость. Российские леса - это "легкие планеты", и не мы, а нам все будут должны. Но несложно было показать, что сколько лесные территории поглощают из атмосферы СО2 в ходе фотосинтеза, столько же и возвращают назад при разложении отмершей органики и при пожарах. А в "зачет" идет лишь углерод, изъятый из атмосферы с помощью человека, и где-то надежно законсервированный.
Согласованная с западом стратегия была разработана в НИУ "Высшая школа экономики". В изданной им книжке даже обширный список использованной литературы - полностью иностранные издания. Суть этой стратегии: квоты на СО2 сейчас такие высокие, что выгоднее всего торговать ими. Россия должна все сельхозземли засадить быстрорастущими деревьями. Так, молодые осиновые леса могут аккумулировать до тонны углерода на гектаре в год. Этим Россия закроет свой углеродный след (это 460 млн тонн углерода в год) - и заработает сотни миллиардов долларов. В этой книжке много написано о том, что насекомые питательны и полезны, но в ней нет итогового расчета. Сделаем его.
Чем плоха осина
Официальная площадь всех сельхозземель России 370 млн гектаров. Это включает все залежи, резервы и оленьи пастбища. Получается: даже если мы уничтожим все сельское хозяйство и засадим осиной всю эту территорию (и осина будет везде давать рекордный прирост), - мы не только ничего не заработаем на квотах, но даже не закроем наш углеродный след (сравним: 460 и 370).
Осина хороша лишь для производства спичек. Что с ней делать через 50-70 лет, когда эти бескрайние перегущенные посадки начнут отмирать и гореть огненным шквалом, выбрасывая в атмосферу весь накопленный углерод? Эта стратегия - путь к уничтожению нашего населения. В Шри-Ланке попробовали свернуть на "зеленый курс", и страна развалилась за год. Хорошо, что остров маленький, и резервы в мире еще были: добрые люди помогли, кто рисом, кто керосином.
Недра планеты сотни миллионов лет изымали из биосферы главный элемент жизни - углерод. И привели к опустыниванию планеты. Сжигая ископаемое топливо, мы помогаем биосфере. Помогаем растениям "дышать" и делаем климат более мягким. Возвращаем климат в комфортное состояние. Проблема в том, что любой переезд, даже в теплый комфортный дом - это "полпожара".
Для нашей страны и для всей биосферы рост СО2 и потепление - это благо, вопрос лишь с какой скоростью двигаться в этом направлении.
Мы видим, что зеленый курс опирается не на весь комплекс достоверных научных знаний, а на разрозненные факты. Да и в науках о земле еще много белых пятен. Например, непонятна причина ледниковых циклов: почему при этом меняется концентрация парниковых газов и что здесь причина, а что следствие?
Сегодняшнее теплое межледниковье длится уже 12 тысяч лет, и содержание углерода в атмосфере все это время было относительно стабильно - 600 ГТ (гигатонн). А на максимуме оледенения оно было 400 ГТ.
Рост СО2 и метана вызвал потепление? Или потепление привело к росту их концентраций? Откуда в атмосфере при этом появилось 200 "лишних" ГТ? Ученые рассуждали так: запасы углерода в геологическом резервуаре меняются очень медленно. Значит, поступление углерода в атмосферу было или из океана, или из сухопутных экосистем.
Ученые восстановили растительный покров ледниковой эпохи и выяснили, что в ледниковье в сухопутных экосистемах углерода было на 500 ГТ меньше, чем сегодня. Лесов почти не было, доминировали степи и саванны. Болот и торфяников тоже не было. И тогда получается, что на рубеже ледниковья и межледниковья океан, чтобы наполнить углеродом атмосферу и лесные экосистемы, выделил 700 ГТ углерода. Выходит, механизм, управляющий климатом, лежит в океане: океан выделяет СО2 - потепление, поглощает - похолодание. Что это за механизм?
Что таит океан?
Океан - очень консервативная система. Он легко поглощает или выделяет СО2, чтобы прийти в равновесие с атмосферой. Если в ней меняется концентрация СО2. Но сам ничего выделять не хочет. Есть только один простой способ заставить его выделить СО2. Углекислый газ хорошо растворяется в холодной воде и плохо в теплой. Если океан нагревать, он будет выделять СО2. Но сегодня большая часть океанской воды холодная. Океан на всю свою глубину заполнен холодной и потому тяжелой водой северных морей. Лишь в верхних 400 метрах вода теплая и легкая.
Получается, что на рубеже ледниковья и межледниковья океан не мог нагреваться и выделять СО2?
Ученые перебрали все мыслимые механизмы, чтобы заставить океан выделить 700 ГТ. Но он "не хочет" выделять нисколько. А решение проблемы лежит в мамонтовой степи.
В прошлом это была самая большая экосистема. Она простиралась от Испании до США и Канады. От Арктических островов до Китая. Вся незанятая льдом территория была занята ею. Климат в ледниковье был суровый, и почти везде, даже в Париже, на этой территории лежала мерзлота.
Сегодня аналогов этой экосистемы нет, и запасы углерода в этой экосистеме предполагались по аналогии с бедными саваннами и полярными пустынями. И для территории Сибири было принято в среднем 50 грамм углерода на квадратном метре.
Но на самом деле именно об этой экосистеме мы знаем больше всего. Она единственная полностью сохранилась до наших дней. В мерзлоте.
В Сибири, на Аляске и Юконе под современной маломощной почвой, которая оттаивает летом, лежат замороженные почвы мамонтовых степей. В них много хорошо сохранившихся корней трав, спящих микробов, костей бизонов, лошадей, мамонтов, львов, шерстистых носорогов, иногда их целиком замороженные трупы.
Ничего себе ошибочка
В пик оледенения на Аляске в апреле извергался вулкан, и толстый слой холодного пепла засыпал всю округу. Под мерзлым пеплом сохранились и снежный покров, и стерня скошенной травы, и экскременты животных. Углерод в этих почвах можно просто измерить. И это не десятки граммов, как предполагали, а десятки килограмм. Часто там, где из атмосферной пыли за время ледниковья накапливалось этих почв сотни килограмм. (Ошибка в тысячи раз.) И если с учетом этого провести ревизию глобального бюджета углерода, то получается, что океану не нужно было выделять 700 ГТ. Он в это время, наоборот, поглощал. Мамонтовая степь была крупнейшим резервуаром углерода, она аккумулировала в себе больше половины свободного углерода биосферы.
Получается: целое поколение специалистов по глобальному углеродному циклу искало "черную кошку в темной комнате".
Деревья у всех на виду. Но в современных лесах углерода всего 500 ГТ, а в лесах России 45 ГТ. В современных почвах мира органического углерода 1500 ГТ.
В богатых экосистемах тропиков органики в почву поступает больше чем на севере, но скорость ее разложения очень сильно зависит от температуры (на жаре продукты портятся за несколько часов, в холодильнике хранятся неделями, а в мерзлоте тысячи лет). Поэтому за счет очень медленного разложения органики в почвах севера в них ее содержится в десятки раз больше, чем в почвах тропиков. А рекордсмен мира среди современных почв - русский чернозем - до 100 кг углерода на квадратный метр.
При потеплении климата возрастает скорость разложения органики, и почвы теряют углерод. При похолодании - наоборот. Подробные расчеты показали, что при базовых сценариях сегодняшнего потепления почвы мира до конца века потеряют 230 ГТ углерода. Мерзлые почвы при потеплении тоже всегда теряют углерод. При потеплении мерзлота тает, спящие микробы просыпаются и начинают доедать то, что не успели съесть тысячи лет назад. Скорость этой декомпозиции приблизительно 1 процент от запасов углерода в год. Сегодня в мерзлоте лежит 1600 ГТ углерода, поэтому если вдруг она вся растает, то эмиссия СО2 будет 16 ГТ углерода в год (глобальная антропогенная при этом 10 ГТ в год).
Древние почвы лежат под современными, кислород проникает в глубину медленно, почвы в глубине часто переувлажнены, это может сильно сдерживать окисление органики. Но это на климат повлияет еще сильнее. При недостатке кислорода микробы превращают древнюю органику не в СО2, а в метан, который как парниковый газ в десятки раз сильнее. Мерзлота, тающая в анаэробных условиях, - это самый сильный биологический источник метана. Мерзлота и сезонно мерзлые почвы - это самые большие резервуары углерода. В сумме это 3000 ГТ. Для сравнения: во всех мировых месторождениях угля углерода 900 ГТ, а в месторождениях нефти - 200 ГТ.
Резервуар мерзлых почв для глобального бюджета углерода стал как слон в посудной лавке. Специалисты из "темной комнаты" мерзлоту не знают, они "спрятали голову в песок". Мерзлотоведы знают, что это такое, но многие из них уверены, что мерзлота вечная, никакого глобального потепления нет и не будет, мерзлота никогда не растает. А все остальные ученые надеялись, что таять мерзлота начнет не скоро, и ее таяние растянется на столетия.
Но в России климат уже потеплел на 3 градуса. Мерзлота начала таять, ее "кровля" местами уже опустилась ниже 4 метров. Это провоцирует большой каскад взаимоусиливающихся процессов, вызывающих потепление климата: больше СО2 и метана - теплее климат, больше растворяется в воздухе водяного пара - еще теплее, раньше тает снег и лед - темнее поверхность, - еще теплее, гуще деревья и кустарники, еще темнее поверхность и теплее, еще сильнее тает мерзлота, почвы выделяют еще больше парниковых газов, и т.д.
Сегодняшнее таяние мерзлоты спровоцировано сжиганием ископаемого топлива.
Рассмотрим, как в это время работает главный тепловой конвейер, отепляющий всю северную часть нашей планеты. Гольфстрим несет тропическую воду на север. Там она отдает свое тепло атмосфере. Часть потока вдоль поверхности океана возвращается на юг, это поверхностный круговорот. А часть потока доходит до кромки льдов и сильно охлаждается. Пресная вода наиболее плотная при +4 градусах, а морская при -1,8. Затем эта холодная и потому тяжелая вода опускается и растекается по дну океанов. Весь глубинный океан уже заполнен этой холодной тяжелой водой. Плотная северная вода сама не может опуститься в толщу воды с такой же плотностью. Но глубинная вода все время немного нагревается подводными вулканами и теплопотоком из недр. Вода из-за этого становится чуть теплее и легче. При громадной глубине океана даже этого перепада достаточно, чтобы поддерживать тепловой конвейер. Уже давно замечено, что этот конвейер замедляется, "работает с перебоями".
А если уже поздно?
Чтобы остановить этот тепловой конвейер, достаточно лишь немного снизить плотность поверхностных вод океана - разбавить их легкой пресной водой. Из-за потепления тают ледники, тает Гренландия. Ее ледяная шапка ежегодно оттаивает на 10-15 см, и по расчетам на моделях получается, что тепловой конвейер из-за этого может остановиться в ближайшие годы. Призывы сократить эмиссию СО2 стали еще громче: надо срочно остановить потепление и таяние льдов! А если уже поздно? Если процесс завтра остановится, и Европа без "водяного отопления" начнет замерзать? Срочно усиливать парниковое отопление? Срочно жечь уголь и выбрасывать СО2? Так может быть не стоит суетиться? Зачем сегодня бороться с парниковым отоплением, если завтра придется его снова включать?
В этих расчетах тепловой конвекции океанологи опять не заметили слона. Даже двух. Помимо тающей Гренландии, на планете есть еще два хорошо изученных и на порядок более мощных опреснителя океана. Первый - это Средиземное море. Оно на треть больше, чем ледник Гренландии. В него каждый год по поверхности Гибралтарского пролива затекает шесть "амазонок" воды с обычной океанской соленостью 35 промилле. В этом море каждый год испаряется метр воды. Эта уже пресная вода через атмосферу и реки опять возвращается на поверхность океана. Из-за этого испарения соленость оставшейся воды поднимается до 39 промилле. Это теплая, но очень плотная вода. Ею заполнено все глубокое море. И эта вода из него по дну Гибралтарского пролива перетекает в Атлантику. За счет большой солености она тяжелее, чем вода северных морей, поэтому она тоже опускается на дно океана, где смешивается с северной водой.
Другой мощный опреснитель - Красное море. Оно меньше, чем Средиземное море, но в нем каждый год испаряются два метра воды, и вытекающая на дно океана вода, хотя еще теплее - 19 градусов, но еще более рекордно плотная. Ее соленость 41 промилле. Если тепловой конвейер остановится, то из-за похолодания таяние Гренландии замедлится и остановится.
Но эти два соляных конвейера опреснителя продолжат работать и опреснять поверхность океана, и в скором времени вода на поверхности станет такой легкой, что перемешать ее с глубинными тяжелыми водами будет невозможно. Есть убедительные доказательства того, что во время последнего ледниковья большой тепловой конвейер не работал. В то время у поверхности океана доминировали виды организмов, предпочитающие опресненную воду. Соленость поверхностных вод была тогда на четыре промилле меньше, чем сегодня. Такую легкую воду никакими силами в холодную донную воду с обычной соленостью не опустить. Но со временем океан из этого устойчивого состояния, как показывает моделирование, должен выйти сам. Глубинные воды нагреваются теплопотоком из недр, и приблизительно через 100 тысяч лет за счет этого нагрева вода на дне станет такая же по плотности, как опресненная вода на поверхности северных морей. Тогда соль поднимется к поверхности, и начнется мощная конвекция.
Механизмы океана
Вновь нормальная соленая тяжелая вода северных морей будет легко опускаться в теплую воду глубинного океана, вытесняя теплую глубинную воду на поверхность. Приблизительно через 10-15 тыс. лет океан в итоге отдаст атмосфере все накопленное за 100 тыс. лет тепло и вновь весь заполнится холодной водой северных морей. А тепловой конвейер при этом вновь ослабнет настолько, что моря-опреснители вновь его заглушат. На Земле начнется новая холодная эпоха - станет больше снега, почвы остынут, начнет расширяться мерзлота, СО2 станет меньше... - включится большой каскад охлаждения. А в глубине океан начнет вновь накапливать тепло недр.
У океана есть свой механизм автоколебаний разрывного типа. Сегодня тепловой конвейер забарахлил не только потому, что тает Гренландия, а в первую очередь потому, что он уже выродился, и его перекрывают соляные конвейеры. В подтверждение таких ледниковых циклов есть надежное и физически простое доказательство.
60 лет назад ученые думали, что на дне должна лежать самая плотная вода. Если вода Красного моря самая плотная, то в прошлом на дне океана могла быть теплая вода. Сегодня и вода, и донные осадки на дне холодные. Но если тысячи лет назад океан был теплым, то в донных осадках на глубине сотен метров должно сохраниться остаточное тепло. По результатам экспедиций выходило, что в Средиземном, Черном, Красном и Японском морях теплопоток донных осадков с глубиной не меняется. Эти глубокие моря, отгороженные от Мирового океана мелководными проливами, и температура на их дне последние 20 тысяч лет была стабильна. А в глубоких, свыше 300 м, скважинах, пробуренных в открытом океане, отмечено сильное уменьшение с глубиной. Это подтверждают тепловые, ледниковые циклы океана. Температура на его дне за ледниковье поднималась до 25-30 градусов. Но очень немногие, кто читал и анализировал первичные отчеты, об этом знают. Все читали два обобщающих отчета, опубликованных в научных журналах. Но обсуждать эту тему прекратили. И о соляных конвейерах стараются не вспоминать и в моделях не использовать. "Сообществу темной комнаты" это не нужно. И так в научном базисе зеленого курса лежат грубая ошибка, недоучет важнейших механизмов и фальсификация данных. Это портит целую бочку меда, собранного поколениями ученых.
Кто управляет климатом?
Сейчас складывается уникальная, новая для природы ситуация: в океане начинается ледниковая стратификация, а в атмосфере из-за роста СО2 идет потепление, и начала таять мерзлота.
Коллективный Запад 30 лет считает себя главным в климатической повестке. Борьба с потеплением и СО2 - это его сакральная миссия. Это оправдание его гегемонии. И каков итог? Скорость роста концентрации парниковых газов в атмосфере только увеличилась.
Внутри единого организма можно распределять и сдерживать потребление ресурсов, но с глобализмом у Запада не получилось, а в режиме конкуренции все доступные ресурсы будут быстро использованы. США добывают и потребляют нефти больше всех, и личным примером должны показать, что нефть надо экономить. Инвестиции в нефтедобычу действительно падают, но с другой стороны, переизбраться на новый президентский срок в США можно лишь при низких ценах на бензин. Нефть в США будут жечь. Половина страны за Трампа, а он, как и многие россияне, считает, что потепление климата - "это продажная девка империализма". В Европе ядерная энергетика признана вредной для климата, а производство танков нет. Вчера они боролись со сжиганием угля, а сегодня прижало - и жгут его по полной. Климатические соглашения подпишут, но сделают это с мыслью, что "через 20 лет или ишак, или падишах...".
Китай обещал выйти на углеродную нейтральность к 2060 году, и, скорее всего, свое слово сдержит. Китай стал мировой фабрикой благодаря использованию собственного дешевого угля. Он его добывает и сжигает столько же, как и весь остальной мир. 20 лет назад средняя глубина угольных шахт Китая была 400 м, а сегодня уже 1200 м. А на глубине больше 2 км экономически доступны только алмазы и золото. Запасы доступного угля в Китае закончатся раньше указанного срока.
Еще недавно благодаря запасам подземных вод Саудовская Аравия была экспортером пшеницы. Но эта вода закончилась. Хлеб придется покупать. Саудиты будут продавать нефть, пока она дешевле этанола и растительного масла, жгут и будут жечь. Сильно сократится эмиссия СО2 может только из-за глобального экономического обвала и "тромбов" в каналах и проливах. Для этого все готово. Климатические фанатики готовы на любые жертвы.
Управлять климатом Запад не способен. Теоретически поднять в атмосферу десятки миллионов тонн оксидов серы возможно, для этого нужно за год сделать миллион рейсов тяжелых транспортников - по три тысячи вылетов в день. Это сравнимо с возможностями современной пассажирской авиации. Но у США сегодня только полсотни древних В-52, и замена их изношенных двигателей - не решаемая проблема, а стратегические резервы топлива полупусты. Из реального климатического оружия у США есть только ядерная зима. Рост концентрации СО2 и потепление продолжатся - мерзлота начала таять. При этом "гарантийный срок" Гольфстрима закончился, и он забарахлил. Сколько он еще продержится? Что в этой ситуации делать России?
У нас есть технологии, позволяющие замедлить таяние мерзлоты. А может быть, нам стоит ее ускорить? Побыстрее решить проблему сибирских холодов, сделать климат на планете более мягким, обезопасить себя от возможных атак климатическим оружием. И остановить новый ледниковый период?

Аркаим – прародина конной цивилизации
с лошадью человеку очень повезло
Владимир Тимаков
В своём неуклонном движении вперёд, к новым горизонтам могущества, человечество пережило минимум три грандиозные технологические революции, совершило три решительных шага на ступень выше.
Самый древний из них — Неолитическая революция, стартовавшая в Передней Азии в X тысячелетии до нашей эры, когда первобытные охотники и собиратели одомашнили целый набор злаковых и волокнистых культур, перейдя к осёдлому земледелию. Такая метаморфоза в ведении хозяйства позволила: создавать продовольственные резервы; строить фундаментальные здания, собранные в города; кормить профессиональных ремесленников, воинов и управленцев. Иными словами, земледелие заложило основы того структурированного общества, которое мы называем цивилизацией.
Самый недавний грандиозный технологический прорыв, коренным образом изменивший наш образ жизни, носит название Промышленной революции и приурочен к появлению машинных двигателей (сначала паровых, а затем и прочих) в XIX веке. Колыбелью этих перемен выступила Западная Европа.
А вот второму по счёту великому технологическому взлёту в исторической науке повезло меньше. Для него даже не нашлось ещё общепринятого названия, хотя значение этого выдающегося события для прогресса цивилизации вполне сопоставимо с первым и третьим. Речь идёт о приручении лошади, о превращении этого могучего копытного животного в самого надёжного помощника и верного друга человека.
Симфония энергии и пространства
На протяжении львиной доли своей цивилизованной истории, вплоть до пресловутой Промышленной революции, до внедрения паровых машин, нашим предкам приходилось полагаться, прежде всего, на такой источник энергии, как мускульная сила. И хотя человек постепенно осваивал и энергию ветра, и энергию воды (что выразилось, например, в распространении ветряных и водяных мельниц), мускульная сила продолжала доминировать в энергетическом балансе фактически до начала ХХ столетия. Очевидно, что в таких условиях приручение лошади означало взрывной рост хозяйственных возможностей: если средняя мощность лошади оценивается в 0,7–0,8 кВт (знакомая всем автомобилистам лошадиная сила составляет 735 ватт), то мощность человека на порядок ниже, не более 0,1 киловатта. Появление такого надёжного и сильного спутника буквально удесятерило человеческие силы.
Благодаря лошади люди смогли возделывать гораздо большие посевные площади, нежели прежде возделывали вручную. Лошадь надолго стала основным средством транспорта, многократно увеличивая товарооборот. Осёдланная вооружённым всадником лошадь радикально изменила расстановку сил на поле боя. Но самое, пожалуй, важное — лошадь позволила связать между собой прежде почти изолированные, удалённые друг от друга людские популяции, тем самым решительно ускорив прогресс.
На сегодня социологи практически единодушны во мнении: скорость накопления знаний и технологий, социальных и культурных достижений находится в положительной зависимости от количества людей, участвующих в информационном обмене. Чем больше партнёров вовлечено во взаимные контакты, обучаясь у своих визави и обучая других, тем быстрее развивается общество. По этой причине флагманами прогресса становятся либо те регионы, где особенно высока плотность населения (долины Нила, Хуанхэ, Месопотамии в древности), либо те, где овладели наиболее эффективными средствам коммуникации. (Соединённое морскими путями античное Средиземноморье или Западная Европа Нового времени, чьи корабли первыми покорили все мировые океаны.)
Приручение лошади немедленно раздвинуло горизонты межплеменных контактов, увеличив площадь потенциального информационного обмена в десятки раз. Удалённые на тысячу километров поселения, куда прежде могли добраться лишь редкие пешие смельчаки, рассказы которых по возвращении домой звучали как исповедь вернувшихся с того света, теперь, с появлением верховой езды, стали вполне досягаемыми. Народы, разделённые пространством, стали ближе друг к другу, взаимно обогатились новым знанием, получили доступ к новым ресурсам. Вот почему значение лошади в человеческой истории трудно переоценить.
Откуда есть пошла верхновая езда?
Но где же находится изначальный очаг свершившегося технологического переворота? Откуда конная цивилизация начала своё триумфальное шествие по просторам Земли?
Если с колыбелью первой, неолитической, и третьей, промышленной, революций всё более или менее ясно, то в отношении региона приоритетного одомашнивания лошади до сих пор не смолкают споры. Похоже, что окончательный вердикт в этой многолетней тяжбе поставили новейшие исследования палеогенетиков, опубликованные в октябре 2021 года в ведущем биологическом журнале планеты Nature[1]. Группа французских, пакистанских и испанских учёных сделала метаанализ, где свела вместе труды более ста научных коллективов (в том числе, почти двадцати российских), занимавшихся историей лошади. Удалось сравнить 273 генома древних диких и прирученных лошадей, живших на протяжении последних пятисот веков в разных уголках Евразии. Грандиозная работа, совершённая с применением самых современных методов определения возраста останков и их генетического родства, позволила сделать однозначный вывод о прародине практически всех современных скакунов.
Но, прежде чем перейти к выводам научной команды, совершившей убедительный экскурс в прошлое, скажем ещё несколько слов о значении этого эпохального одомашнивания.
Лошадь как уникальный дар творца
С лошадью человеку очень повезло. На нашей планете больше нет другого такого же подходящего кандидата на роль универсального живого двигателя, сочетающего недюжинную силу с добродушием, послушанием, обучаемостью и иными психологическими качествами, незаменимыми в процессе приручения. О непокорности иных копытных соответствующего размера (например, зебр, куланов или антилоп) подробно написано в научнопопулярном бестселлере Джареда Даймонда «Ружья, микробы и сталь»[2], где приведены ссылки на объёмистый список специальной литературы. В частности, Даймонд очень аргументированно доказывает, что в отсутствии конной тяги у народов Южной Африки виновата вовсе не «косность» местных жителей, а упрямый характер зебр. Несмотря на страстное желание опытных европейских селекционеров нашего времени приручить хотя бы один из четырёх наличных видов зебр (что, с учётом эстетического эффекта, выглядело очень выгодной перспективой), все попытки разбились о заносчивый нрав полосатых красавиц.
В отличие от иных своих копытных собратьев лошади обладают довольно стройной социальной организацией, опирающейся на инстинктивное подчинение более высокоранговым особям, прежде всего вожаку. При выращивании жеребят это врождённое качество «чинопочитания» легко переориентировать на человека, хозяина будущей лошади. Так, редкий даже для стадных животных инстинкт сыграл ключевую роль в приручении главного «двигателя» Второй технологической революции.
Тот факт, что древние дикие лошади обитали в Евразии, дал жителям нашего континента существенный козырь в соревновании с цивилизациями других регионов планеты. Так, например, в Америке вплоть до позднего палеолита существовало четыре вида родственных лошади непарнокопытных, но все они были уничтожены примерно 12 тысяч лет назад. Скорее всего, наивные животные, никогда прежде не встречавшиеся с человеком, оказались лёгкой добычей отважных охотников кловисской культуры, быстро распространившейся по Америке в ту эпоху и так же быстро угасшей вслед за исчезнувшей мегафауной[3]. Поскольку ни Красной книги, ни экологического движения, способного защитить уязвимые виды, в те времена не существовало, Новый Свет остался без ценных кандидатов в домашние животные. Это сильно затруднило развитие американских цивилизаций, оставшихся без потенциальной конной тяги и, следовательно, не сумевших осуществить Вторую технологическую революцию.
Дефицит подходящих для одомашнивания копытных оказался буквально роковым фактором при столкновении пеших индейцев с конными европейскими колонизаторами. По трагическому для коренных американцев ходу сражений времён Конкисты, где многотысячные армии аборигенов буквально рассеивались под ударами нескольких сотен всадников, мы можем попытаться представить события, разыгравшиеся и в Древней Евразии, когда оседлавшие лошадь воины впервые столкнулись с народами, ещё не имевшими такой грозной боевой техники.
Обделёнными на этом пиру истории остались и жители Тропической Африки, хотя они благодаря давним сухопутным контактам имели потенциальную возможность заимствовать лошадь у своих евразийских соседей. Однако массовому коневодству на Чёрном континенте помешало наличие мухи цеце. Это препятствие удалось устранить только в ХХ веке, когда современная фармакология помогла одолеть смертельную сонную болезнь, разносимую зловредными насекомыми.
Таким образом, явное технологическое превосходство, которым обладали жители Евразии по сравнению с населением Америки и Африки к началу эпохи Великих географических открытий, не в последнюю очередь связано с давним и эффективным использованием лошадей. Так где же впервые был обретён этот бонус?
Все современные лошади родом из одной семьи
Как подтверждают палеонтологи, у большинства домашних видов можно обнаружить один чёткий локус первичной доместификации. Например, для пшеницы — это «Плодородный полумесяц», регион Сирии, Турции и Ирака, где зёрна культурных сортов этого злака встречаются на тысячу и более лет раньше, чем в других районах земледелия, а все обнаруженные вне «Плодородного полумесяца» более поздние находки несут явные признаки генетического происхождения от исходных, древних образцов ближневосточного очага. Однако история приручения лошади носит более запутанный характер.
На сегодня можно говорить о нескольких независимых областях первичного укрощения диких скакунов, происходившего на рубеже IV и III тысячелетий до нашей эры. Среди этих очагов как минимум можно упомянуть (перечисление идёт не в хронологическом, а в географическом порядке, с запада на восток): Иберию, Анатолию, южные степи Русской равнины и междуречье Тобола и Иртыша. Такая полицентричность вполне объяснима упомянутыми выше уникальными качествами лошади как одного из немногих видов животных, легко идущего на контакт с человеком.
Это облегчило её одновременное приручение разными народами на заре бронзового века.
Однако изучение останков лошадей, относящихся к более позднему периоду, показало, что все они — потомки единственной генетической линии DOM2, возникшей лишь в одном из центров первичного одомашнивания. Эта линия с впечатляющей для той эпохи скоростью в течение менее чем одного тысячелетия, между 2000 и 1000 годами до н.э., не просто распространилась на всём пространстве Евразии, от Гибралтара до Жёлтого моря, но успешно вытеснила иные породы, прирученные в альтернативных регионах доместификации.
Отличительные особенности генотипа этого «победителя генетического соревнования» — наличие двух специфических аллелей GSDMC и ZFRN1, из которых первый отвечает за прочность позвоночника, а второй — за экспрессию серотонина в стрессовых ситуациях. Биологи убеждены, что генетический профиль самой успешной линии лошадей обеспечил два важных преимущества: с одной стороны, лошади DOM2 легче выдерживали поклажу и седоков, с другой — сохраняли спокойствие и не впадали в панику в критических обстоятельствах. Судя по всему, такие особенности позволили вывести первые породы боевых коней, без устали несущих тяжеловооружённых всадников и не пугающихся в разгар сражения.
Вполне закономерно, что потомки генетической линии DOM2 вытеснили всех остальных одомашненных конкурентов, не обладавших такими достоинствами. Сегодня нельзя утверждать, в какой степени триумфальное распространение этого удачного генотипа связано с завоевательными походами первых обладателей лучшего боевого коня, и в какой — с торговым обменом и мирным заимствованием усовершенствованной породы. В любом случае, культура, обладавшая таким сокровищем, оказала весомое влияние на историю Евразии в бронзовом веке.
Генетиками доказано, что лошади, подходящие на роль предков линии DOM2, встречались у носителей Майкопской (бассейн Кубани и Терека), поздней Ямной (нижнее течение Днепра, Дона и Волги) и Полтавкинской (среднее течение Волги и Урала) культур. Это означает, что регионом происхождения всех современных коней планеты являются, бесспорно, южные степи Русской равнины.
Самым же ранним историческим сообществом, где при раскопках зафиксированы уже исключительно кони новой породы, оказалась Синташтинская культура, охватывавшая на рубеже III–II тысячелетий до н.э. бассейны Урала, Белой и Тобола. Наиболее известным, хотя, вероятно, далеко не самым главным городом этой протоцивилизации является Аркаим.
Ось вращения евразийских колесниц
Данные палеогенетического анализа древних лошадей, указывающие на Южный Урал как на прародину мирового коневодства, совпадают с выводами археологов, обнаруживших в городищах Синташтинской культуры самые ранние колесницы со спицами, а также богатый арсенал конской упряжи, включая удила и псалии[4]. Всё это свидетельствует, что вслед за разведением оптимальной породы домашней лошади приуральский регион стал эпицентром развития технологий, связанных с верховой ездой и конным транспортом. Очень похоже, что именно отсюда колесницы попали в Переднюю Азию и в Индию, где их находки в погребениях датируются примерно двумя веками позже[5].
Открытия палеогенетиков, поставивших точку в споре о регионе происхождения современных домашних лошадей, проливают свет и на другую историческую загадку, связанную с Синташтинской протоцивилизацией. До сих пор оставался неразрешённым вопрос: как могла четыре тысячелетия назад существовать такая развитая культура, названная «Страной городов», в столь суровой природной зоне, как засушливые континентальные степи на берегах Урала и Тобола? Это же не плодородные долины Нила или Евфрата, где буквально прорастает вонзённая в землю палка, и даже не благословенные оливкововиноградные берега Эгейского моря? Какникак Южный Урал лежит в сердцевине той обширной области, которую по совокупности природных и климатических данных предпочтительнее называть не маккиндеровским термином «Хартленд», то есть «Сердцевинной Землёй», но «Хардлендом», или «Трудной Землёй». Здесь чрезвычайно тяжело вести рентабельное хозяйство, и действительно, в последующие за Синташтинской культурой три с половиной тысячелетия, вплоть до прихода русских, построивших Челябинск и Златоуст, на этой территории не возникало городской цивилизации, а плотность населения оставалась достаточно низкой.
Наличие у синташтинцев такого технологического козыря, как первые, удобные для долгой верховой езды и дальних перевозок кони, многое объясняет. В таком случае, на бедных пищевыми ресурсами землях Зауралья могла возникнуть военная цивилизация, пополняющая свой продовольственный и имущественный потенциал за счёт дальних походов на более богатые земли (аналог военного сообщества Запорожских и ранних Донских казаков или крымских татар Гиреевской династии). Второй возможный вариант — Синташтинская культура держалась за счёт экспорта сплавов из доступной для добычи уральской меди. С появлением сильной породы лошадей перевозки металлов к очагам земледельческих цивилизаций, на тысячи километров южнее, стали возможны благодаря гужевому транспорту. Современным аналогом такого оазиса благополучия посреди экстремальных для своей эпохи природных условий можно назвать город Норильск, чьё процветание на вечной мерзлоте, вдали от центров цивилизации, покоится на экспорте никеля, кобальта и палладия, или созвездие газодобывающих городов на полуострове Ямал. Какой из этих факторов — война или металлургия — лёг в экономический фундамент синташтинской «Страны городов»? Скорее всего, что оба, — люди, сумевшие вывести лучших на планете коней, не преминули бы воспользоваться всеми их преимуществами.
Объяснимым становится и довольно быстрое угасание «Страны городов» в окрестностях Синташты. Как только новые колёсные технологии и новая порода одомашненных лошадей получили широкое распространение, конкурентные козыри уральской протоцивилизации по сравнению с протоцивилизациями более тёплых и плодородных земель были утрачены. Соседи, освоившие технику кавалерийского боя, стали давать отпор. Потребители металла, получившие возможность отправлять собственные караваны в другие земли, могли найти новых поставщиков. К тому же и сами синташтинцы, насмотревшись на дальние края, где «жизнь веселей и богаче, ярче краски и лето теплей», сами могли решиться на переселение в новые земли. Более поздние, уже зафиксированные в исторических хрониках миграции жителей континентальной Евразии недвусмысленно указывают, что движение на запад (сарматы, авары, венгры, печенеги, половцы), юго-запад (киммерийцы, персы, турки-сельджуки) и юг (кушаны, эфталиты, узбеки) из центра материка было постоянным и, можно сказать, закономерным процессом для этой части света. Впрочем, археологи в качестве направления возможного исхода синташтинцев указывают и юго-восток, переселение в Синьцзян, где они могли дать начало индоевропейскому этносу тохаров.
Куда же могли уйти строители Аркаима и других соседних городов, прародины мирового коневодства, а по сути — колыбели Второй технологической революции? Пожалуй, если несравненные синташтинские кони в итоге заполнили всё пространство от Гибралтара до Жёлтого моря, вряд ли стоит ограничивать вероятное направление миграции синташтинцев одним-единственным регионом. Пользуясь своим, хотя бы и временным, преимуществом над соседями, жители уральской «Страны городов» располагали возможностью завоевать себе не одно место под южным солнцем, а сразу несколько. Логичной выглядит гипотеза, связывающая распространение конной культуры волго-уральских степей с распространением индоевропейских языков группы «Сатем», куда относятся индоарии, иранцы и славяне. Перекликается с этой версией и география хромосомной У-гаплогруппы R1a, обнаруженной в костях древних всадников, покоящихся в захоронениях Аркаима. Ныне это родственное семейство У-хромосом широко распространено среди жителей России, Украины, Польши, Пенджаба, Бенгалии, Белуджистана — то есть именно у славянских, иранских, индоарийских народов.
Ещё одним аргументом в пользу связи синташтинской конной экспансии и расселения протоариев является глоссохронологический анализ, проведённый выдающимся русским лингвистом Сергеем Старостиным. Он определил, что время разделения праиранских и праиндийских языков имело место около 2000 года до нашей эры[6]. Именно к этому периоду относятся и краткосрочный расцвет Синташтинской культуры, и старт триумфального шествия генетической линии лошадей DOM2 по Евразии. Если все перечисленные события не случайно совпали, но взаимосвязаны, тогда предки современных персов и предки современных индусов принадлежат, скорее всего, к двум разным волнам расселения из «Страны городов», после чего Синташтинская культура угасла, покинутая своими основателями.
Наследие первых кавалеристов
На сегодня достаточно доказательств, уже не мистических, а совершенно конкретных, естественнонаучных, убеждающих что «Страна городов» на Урале, включая Аркаим, является выдающимся памятником не просто общероссийского, но мирового значения. Как минимум это главный первичный очаг мирового коневодства, центр появления той уникальной линии лошадей, что во втором тысячелетии до нашей эры распространились по всему свету. Созданная первыми конниками Синташтинская культура стала колыбелью всемирной Второй технологической революции, приведшей к массовому применению лошадиной мускульной силы и связанной с лошадьми колёсной техники.
Символично, что регион, где впервые были приручены предки современных коней, совпадает с родовыми землями русского казачества: Донского, Запорожского, Астраханского, Яицкого, Оренбургского, Сибирского. И хотя прямую генеалогическую линию между жителями «Страны городов» и современными казаками отследить невозможно, очевидны и вклад творцов Синташтинской культуры в русский генофонд, и наследование влияющих на образ жизни ландшафтов, и преемственность ряда традиций степного воинства ХХ века до нашей эры и ХХ века после Рождества Христова.
Изучение знаковых событий бронзового века, связанных с рождением конной цивилизации, изменившей сначала облик нашего континента, а затем и всей планеты, — повод для тесного сотрудничества не только историков большой группы евразийских стран, но и широкой общественности, хранящей память о прошлом.
Примечание:
1 Librado P., Khan N., Fages A. et al. The origins and spread of domestic horses from the Western Eurasian steppes. Nature, 598, 634–640 (2021).
2 Diamohd J. Guns, germs and steel. The fates of human societies. 1997.
3 Подробнее см.: Марков А. Эволюция человека. Кн. 1. Обезьяны, кости и гены. — М., АСТ, 2016.
4 Подробнее см.: Марков А. Эволюция человека. Кн. 1. Обезьяны, кости и гены. — М., АСТ, 2016.
5 Зимин И. Меч Жуайёз. // Загадки истории. № 49, 2019.
6 Starostin S., Comparative-historical linguistics and lexicostatistics in Time Depth in Historical Linguistics, Vol. 1, eds. C. Renfrew, A. McMahon & L. Trask. Cambridge, 2000.

Россия—Африка
Аспекты сотрудничества
Дарья Осинина
На площадке Государственной Думы 20 марта 2023 года состоялось пленарное заседание Второй международной парламентской конференции "Россия — Африка", участие в котором приняли представители более 40 африканских государств. Данное мероприятие интересно с нескольких позиций. Во-первых, оно прошло в преддверии II Саммита "Россия — Африка", который пройдёт в июле в Санкт-Петербурге. Во-вторых, оно логичным образом вписывается в общую канву российско-африканских отношений последних двух лет и подчёркивает значимость африканского направления в современной внешнеполитической стратегии России. В-третьих, пленарное заседание парламентской конференции "Россия — Африка", на котором выступал президент Российской Федерации В.В. Путин, совпало с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. 20 марта борт китайского лидера приземлился в Москве, и днём состоялись первые неформальные переговоры. Данный визит стал первым внешнеполитическим турне после его переизбрания на третий срок, как и 10 лет назад. Всё это подчёркивает важность не только российско-китайских отношений, но прежде всего наличие общего взгляда РФ и КНР на формирование нового справедливого многополярного миропорядка, в котором особое место отводится Африке.
Из основных тезисов, прозвучавших на заседании, в первую очередь стоит отметить ценностный аспект. И российский лидер, и африканские партнёры апеллировали к исторической памяти, подчёркивая, что Россия никогда не продвигала колониальную повестку. Напротив, Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, выступал в качестве главной силы поддержки национально-освободительных движений. "У России нет колониального наследия в Африке, и ни одна из африканских стран не рассматривает Россию в качестве врага. Наоборот, вы помогали нам в освобождении, вы надёжный партнёр", — высказался Амос Масондо, председатель Национального совета провинций Парламента Южно-Африканской Республики.
В текущем контексте данный аспект особенно важен, так как сегодня идёт попытка укоренения неоколониального подхода к Африке со стороны западных стран, ограничения политической самостоятельности лидеров государств и борьба за африканские ресурсы. Так, в Конгресс США в 2022 году на рассмотрение был внесён законопроект о противодействии "враждебной активности" России в Африке, в рамках которого предусматривалось привлечение к ответственности африканских правительств, "причастных к пособничеству деятельности Москвы". Несмотря на то, что нижней палатой данный законопроект был принят абсолютным большинством голосов (415 из 435), Сенат США отправил его на доработку. Разумеется, подобные вещи являются прямым сигналом африканским государствам — США ужесточают модель сотрудничества, плотно "берясь" за регион.
В этом плане и российская, и африканская стороны выражали единство в противостоянии навязанной извне неоколониальной идеологии, отмечая желание крупнейших транснациональных компаний и западных государств взять под контроль российские и африканские природные ресурсы.
Второй важный аспект международной парламентской конференции касается заявлений представителей Мали и Буркина-Фасо, которые подчеркнули: "Безопасность — это неделимое общее благо". "Именно поэтому мы решили, поддерживая наш суверенитет, вступить в партнёрство с Россией. Это ключевое партнёрство для безопасности в нашей стране", — отметил председатель Законодательного собрания переходного периода Республики Буркина-Фасо Усман Бугума.
Стоит отметить, что именно на эти страны шло основное давление в 2022 году, представители Франции и Государственного департамента США в публичном пространстве делали жёсткие заявления и угрожали санкциями. К примеру, в начале октября 2022 года США чётко предупредили и.о. президента Буркина-Фасо, что не потерпят сотрудничества с любыми внешними силами, призывая Мали отказаться от соглашения о сотрудничестве с ЧВК "Вагнер". Меж тем в республике присутствует 5 тысяч французских военных и 1100 немецких. Озвученная представителями Мали и Буркина-Фасо позиция свидетельствует о том, что африканские лидеры понимают: западных акторов волнует страна как источник ресурсов и почва для геополитического противостояния, но практически никто из них не готов дать гарантий стабильности африканскому континенту. В этом смысле российская позиция и готовность к помощи и сотрудничеству весьма востребованы.
Третий аспект касается строительства новой архитектуры безопасности на континенте. О важности этого фактора говорили представители всех африканских делегаций. Тот факт, что вопросы обеспечения безопасности Африки обсуждались именно в Москве, не случаен. По данным нигерийской организации SBMIntel, с 2015 года Москва подписала соглашения о военном сотрудничестве с 27 африканскими странами, то есть почти с половиной континента. Ко всему прочему, Россия традиционно является площадкой для подготовки военных многих африканских государств, и сегодня их число только увеличивается. Более того, во второй половине февраля прошли совместные военно-морские учения России, Китая и ЮАР — партнёров по БРИКС. Наконец, в феврале 2023 года достигнуты договорённости о строительстве российской военной базы в Судане, что позволит России контролировать акваторию Красного моря и Суэцкий канал, то есть кратчайший путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря, равно как и Атлантического океана, а также контролировать поставки углеводородов из стран Персидского залива в ЕС через Баб-эль-Мандебский пролив.
Данное соглашение стало возможным несмотря на серьёзное давление со стороны США, которые предъявили ультиматум суданским властям. Для России, безусловно, это дипломатическая победа, потому что в начале 2010-х стоял вопрос появления российской военной базы в Джибути, ещё одной североафриканской стране, где соседствуют базы Китая и США, а также присутствуют военные контингенты Франции, Италии, Японии, Саудовской Аравии с целью контроля над Аденским заливом, открывающим дорогу на Ближний Восток. Тогда переговоры о строительстве российской военной базы не увенчались успехом. Сегодняшний проект строительства военной базы в Судане с лихвой может покрыть предыдущие неудачи, учитывая выгодное расположение Судана и готовность к сотрудничеству со стороны соседней Эритреи.
Четвёртый аспект касается выстраивания диалога между африканскими лидерами и российским бизнес-сообществом, которому был посвящён первый день международной парламентской конференции "Россия — Африка". Сегодня в Африке активно присутствует российская госкорпорация Росатом, занимающаяся, помимо других проектов, строительством и эксплуатацией атомных станций малой мощности (АСММ).
Наконец, пятый аспект касается пересмотра парадигмы однополярного мира, в том числе трансформации архитектуры институционального контура глобальных регуляторов. Парламентарии Зимбабве и Намибии призвали изменить состав Совета Безопасности ООН, включив в него представителей каждого континента мира. Данный тезис фактически дублирует отмеченную В.В. Путиным на Валдайском форуме в октябре 2022 года необходимость реформирования Совета Безопасности ООН через выравнивание регионального присутствия.
Вообще, вопрос реформирования Совбеза достаточно давно стоит на повестке, однако до недавнего времени Россия не была в числе движущих сил этого процесса по многим причинам. Основная из них заключалась в потенциальных кандидатах: Турция или Япония, — обе страны являются представителями западного блока.
Напротив, сегодня продвигаемая Россией и Китаем концепция справедливого географического представительства делает наиболее вероятным кандидатом на получение постоянного мандата в Совбезе ООН именно Африку. Учитывая историю российско-африканских взаимоотношений, а также текущее состояние партнёрства, вхождение практически любой африканской страны в состав постоянных членов Совбеза будет содействовать усилению позиций России. Причём российский подход к континенту отличается от американского, французского, британского и даже китайского: Россия, в отличие от остальных акторов, заходит через систему безопасности, а это в условиях глобальной турбулентности и внутриполитической нестабильности африканских государств самый востребованный формат сотрудничества.
Не стоит забывать, что схожий принцип справедливого географического представительства характерен также и для БРИКС, о своём желании присоединиться к которому заявили уже порядка 25 государств. На сегодняшний день заявки на вступление уже поданы Аргентиной, Алжиром и Ираном, также своё желание стать членами альянса озвучили Турция, Египет, Саудовская Аравия и др. Таким образом, идёт формирование региональных кластеров БРИКС, которые замкнут на себе ключевые хозяйственные, логистические или ресурсные цепочки, став региональными "полюсами" для притяжения остальных игроков.
В этом плане представителем Африки в БРИКС является ЮАР, а в ближайшее время ими станут Алжир и Египет. Египет важен альянсу с точки зрения контроля транспортных коридоров: Суэцкий канал, Новый Суэцкий канал, выходы к Красному и Средиземному морям. В свою очередь Алжир — один из крупнейших экспортёров углеводородов в мире, а также одна из стран, имеющих выход к Гибралтару.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что сегодня идёт усиление "молодых" интеграционных объединений, главным из которых является БРИКС. Ставка на справедливое географическое представительство, а также продвижение экономического принципа сотрудничества позволяет этому альянсу увеличивать и собственный политический вес. Расширение БРИКС до Алжира и Египта позволит объединению контролировать крупнейшие торговые пути и водные артерии вроде Суэцкого канала, Гибралтара и Баб-эль-Мандебского. В свою очередь, для Африки это станет серьёзным шагом для усиления своих позиций на мировой арене.
Таким образом, расширение БРИКС планируется в сторону тех стран, которые позиционируют себя как крупные региональные полюсы, но чей политический и экономический вес не учтён существующей системой. По сути, они являются новыми точками роста и основой для формирования нового миропорядка.
Необходимо учитывать, что архитектура каждого миропорядка формируется в период глобального противостояния или боевых действий, так как помимо сражений на поле боя стороны договариваются о правилах нового мира. К примеру, финансовый контур Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений начал формироваться в 1944 году с Бреттон-Вудской конференции, заложившей основы финансового порядка, и продолжил на конференциях в Ялте и Потсдаме, определивших политические расклады второй половины XX века. Идущие сегодня процессы расширения БРИКС и ШОС в условиях кризиса ООН и G7 формируют архитектуру нового мирового порядка.
В свою очередь, всё вышеотмеченное свидетельствует о том, что российская стратегия в Африке носит комплексный характер и затрагивает вопросы военно-политического, экономического и образовательного сотрудничества. А само африканское направление в условиях трансформации мирового порядка входит в число приоритетов российской внешней политики.
Об особенном статусе африканского направления в системе российских приоритетов свидетельствуют систематические встречи представителей России и Африки. Вторая международная парламентская конференция "Россия — Африка" и готовящийся саммит "Россия — Африка" являются свидетельством политической солидарности стран Африканского континента с Россией относительно пересмотра глобальных "правил игры" и формирования справедливого многополярного мира.
Автор - заместитель декана по международному сотрудничеству Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ

Тропою грома
Пентагон намерен сохранить военное присутствие на Ближнем Востоке.
США настроены на долгосрочное присутствие на Ближнем Востоке и будут стремиться его увеличивать разными средствами. Об этом заявил в прошлую субботу, 20 ноября, министр обороны США Ллойд Остин, выступая в столице Бахрейна на конференции «Манамский диалог», которая организована базирующимся в Лондоне Международным институтом стратегических исследований.
«У США довольно твёрдая и уверенная приверженность тому, чтобы Ближний Восток был безопасным <…>. Мы планируем сделать долгосрочные инвестиции в этот важнейший регион, в частности развивая сотрудничество в области безопасности, военную подготовку, профессиональное военное образование, повышая боеспособность, уровень разведки и проводя совместные учения», – указал глава оборонного ведомства, выступление которого транслировалось в прямом эфире на сайте конференции.
Остин подчеркнул, что видит одной из основных своих целей «углубление и расширение партнёрства» со странами Ближнего Востока. Для этого, по его словам, Вашингтон будет следовать двум ключевым принципам. «Во-первых, мы обновим и усовершенствуем наше сотрудничество <…> для сдерживания тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся в XXI веке <…>. Во-вторых, принимая во внимание то, что многие страны сталкиваются с различными угрозами безопасности, в том числе у своих границ, очень важно в этой связи прилагать многосторонние усилия для ответа на все эти вызовы», – добавил он.
Кроме того, глава Пентагона назвал существенным тот факт, что США приняли активное участие в процессе нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств, включая ОАЭ, Бахрейн и Марокко. По его мнению, это то, что сегодня «формирует новую реальность» на Ближнем Востоке.
Говоря о военном присутствии США в регионе, он дал понять, что численность американских вооружённых сил при необходимости может быть увеличена. «Мы обладаем реальной боевой силой на этом театре. Мы можем и будем её поддерживать. И если понадобится, мы можем перебросить дополнительные силы. И мы сделаем это быстро», – отметил Остин и добавил: «Никто не должен сомневаться в нашей решительности и в наших способностях защитить себя и тех, кто работает вместе с нами над обеспечением безопасности региона».
Как видим, вопреки поспешным суждениям некоторых экспертов о том, что после эвакуации своего воинского контингента из Афганистана США уйдут и с Ближнего Востока, Пентагон явно намерен оставаться в регионе…
Как сегодня складывается ситуация на Большом Ближнем Востоке и какие возможные перспективы её развития в ближайшее время? Эти и другие вопросы стали темой беседы нашего обозревателя с известными военными экспертами и арабистами – ведущим научным сотрудником ИМЭМО доктором политических наук Александром Фроловым и политологом Равилем Мустафином.
– Вы уже практически полвека плечом к плечу занимаетесь проблемами исламского мира. На ваш взгляд, за эти годы большие перемены произошли на Greater Middle East – на Большом Ближнем Востоке?
А.Ф.: Когда мы заканчивали учёбу в Военном институте иностранных языков в середине 1970-х годов, этот огромный регион, простирающийся от гор Афганистана на востоке, Африканского Рога, Аденского залива, Аравийского моря и Оманского залива на юге, гор и равнин Малой Азии и Восточного Средиземноморья на севере до Гибралтарского пролива и Марокко на побережье Атлантического океана, уже пришёл в движение и преподнёс нам немало сюрпризов.
Кэмп-дэвидский процесс, мир между Египтом и Израилем, стоивший жизни Анвару Садату, переформатирование союзнических отношений СССР со странами региона, афганская апрельская революция и последующий советских войск, изменившей отчасти отношение арабов к нашей стране. Можно вспомнить и об исламской революции в Иране, ошеломившей американцев потерей своего главного союзника в регионе и поставившей в недоумение Москву: антиимпериалистическая революция в антисоветской упаковке – как это можно? Предстояло многое понять. Осмыслить, почему народы региона не хотят жить по чужим правилам и лекалам.
Р.М.:Но тогда, лет 40–50 назад, Ближний Восток всё же ещё не представлял собой сплошного минного поля. Приезжая в ту или иную страну, можно было попасть в мирную жизнь – где-то война недавно закончилась, где-то ещё не началась. Но чувствовалось, что регион приходит в движение.
Иран в одночасье превратился из стратегического союзника США и Израиля в их заклятого врага. Расклад сил на Ближнем Востоке изменился, появилось государство, претендующее с антиамериканских позиций на лидерские позиции в исламском мире. Американцы пытались препятствовать появлению нового регионального центра силы, и для этого был выбран Ирак. Его стали форсированно накачивать деньгами и оружием, толкнули на Иран. Но потом в Вашингтоне поняли, что у Саддама Хусейна есть свои амбициозные планы, отнюдь не вписывающиеся в заокеанские замыслы. Впору было останавливать его самого, и Багдад заманили в кувейтскую западню. Так, сам Ирак стал новой мишенью…
А.Ф.: В свою очередь, начавшийся при Горбачёве уход СССР с Ближнего Востока в угоду отношениям с Западом имел пагубные последствия для региона. Начался период американского доминирования.
– Можно услышать мнение, что тот, кто контролирует Ближний Восток, контролирует весь мир. Насколько это соответствует действительности? И что принесло народа региона доминирование США?
А.Ф.: Сложно отделаться от ощущения, что всё, за что бы американцы на Ближнем Востоке за эти годы не брались, результат получался или не тот, на который они рассчитывали, или прямо противоположный поставленной задаче. Попытки нести арабам демократию в своём понимании оборачивались хаосом и анархией, порождением разного рода монстров типа разветвлённой террористической структуры «Аль-Каида»*.
Р.М.: А взять тот же Ирак, куда США пришли, чтобы свалить баасистский режим Саддама Хусейна. В итоге страна, по сути, лишилась государственности, погрузилась в перманентную войну всех против всех: арабов против курдов, шиитов против суннитов… Сегодня, когда рассказываешь иракским студентам, какой цветущей и многообещающей была их родина в 1970-е годы, они, выросшие под разрывами бомб и снарядов, не могут себе этого представить. В таком же удручающем состоянии американцы оставили и другое исламское государство – Афганистан, провоевав в нём два десятилетия.
В 2010 году Ближний Восток не без участия анлосаксов накрыла новая беда – «арабская весна», которая ещё глубже погрузила арабский мир в хаос и анархию. Во многих странах с вполне умеренными светскими режимами к власти стали рваться радикальные исламисты. Под раздачу попали как вполне лояльные западному миру режимы вроде египетского или тунисского, так и неугодные – ливийский, сирийский… Ливия фактически утратила свою государственность, Сирия как государство сохранилась, но её власти не контролируют значительные территории, особенно на севере и востоке. Экономике большинства стран антиправительственные выступления нанесли огромный ущерб, а сам регион стал ещё более конфликтогенным.
А.Ф.: Конечно, «арабская весна» имела и внутренние причины, социально-экономические корни. Так называемый политический ислам, «Братья-мусульмане»*… Но без вмешательства Запада стихийные, на первый взгляд, выступления не приобрели бы такого размаха. А в Ливии и Сирии мы наблюдали прямое военное вмешательство стран НАТО и некоторых аравийских монархий.
– И что же ждёт Ближний Восток сейчас?
А.Ф.:Ближний Восток сегодня выходит на новый этап своего развития. Вектор его движения не предопределён. В последние месяцы Саудовская Аравия начала восстанавливать разорванные связи с Ираном и Катаром и сокращать своё участие в гражданской войне Йемене. ОАЭ отказались фактически от вовлечённости в конфликты в Ливии и Йемене, они наладили отношения с Ираном, Катаром и Сирией. Ирак, где правительством руководят шииты, выступил посредником между Ираном и Саудовской Аравией.
Бахрейн завязал открытые отношения с Израилем, у Эр-Рияда свои тайные каналы общения. Никто, кроме откровенных маргиналов в исламском мире, уже не призывает сбросить израильтян в море. Египет и Израиль вместе работают над тем, чтобы разрядить напряжённость с ХАМАС в Газе.
Возникают новые ситуативные альянсы, к созданию которых причастна и Турция, где с приходом к власти представителей партии справедливости и развития заметно усилилась роль ислама в общественной жизни. Напомню и то, что до поражения в Первой мировой войне арабским миром управляли из Стамбула, и это ещё свежо в национальной памяти и турецких, и арабских элит. Вариантов развития событий немало, я бы не стал недооценивать перспектив политического ислама, замешанного на дрожжах антиамериканизма и неприятия западных либеральных ценностей. Успех талибов в Афганистане может стать первой ласточкой перемен в мусульманской умме в целом…
Р.М.: Говоря о нынешней политике Вашингтона в регионе, один из американских экспертов недавно заявил, что США не уходят полностью из него, а лишь отступают. И с этим мнением в общем-то нельзя не согласиться. Хотя если быть точнее, то речь идёт не об отступлении, а о перегруппировке, корректировке стратегии присутствия. Известные внутриполитические и экономические проблемы, рост напряжённости в отношениях с Китаем заставили США несколько ослабить свою хватку на Ближнем Востоке. Тем не менее Вашингтон не намерен сворачивать американское военное присутствие в регионе. «Наше регулярное военное присутствие в регионе обеспечивается на протяжении более чем 70 лет. И эта фундаментальная реальность не изменится», – подчеркнул на днях заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ.
Конечно же, пока об очередном военном вторжении США в страны региона речи не идёт. Но обострение на иранском направлении я бы исключать не стал. Израиль, не секрет, весьма обеспокоен технологическими успехами Ирана в области ракетостроения, обогащения урана. Американцы регулярно проводят с израильтянами военные учения, где отрабатываются различные варианты совместных действий.
А.Ф.: А кроме того, у США есть масса иных способов воздействия – от финансово-экономического до информационного. Доллар порой оказывается более разрушительным оружием, чем ядерная боеголовка или авианосец. Большой Ближний Восток продолжает идти «тропою грома»…
Владимир Кузарь, «Красная звезда»
* Террористическая организация, запрещённая в РФ.

Михаил Гиголашвили - о распаде СССР, европейских мигрантах и грузинском криминале
Текст: Павел Басинский
Живущий в Германии русский писатель грузинского происхождения Михаил Гиголашвили вошел в финал премии "Большая книга" с романом "Кока". Это и продолжение его знаменитого романа "Чертово колесо" (финал "Большой книги" в 2010 году и Приз читательских симпатий), и совершенно новый роман о европейских мигрантах из бывшего СССР. Я считаю Гиголашвили одним из самых интересных прозаиков современности с ярким, сочным языком и невероятно широким тематическим диапазоном. Мне давно хотелось с ним поговорить. Увы, сегодня это возможно только дистанционно. Но, кажется, у нас что-то получилось...
Вы родились в Тбилиси. Отец - известный профессор русской филологии, специалист по творчеству Горького. Мама - тоже русский филолог. Вы начинали как филолог, занимались Достоевским. Потом переехали в Германию. Сегодня вы - грузин, пишущий по-русски и живущий в Германии. Кем вы себя в первую очередь ощущаете?
Михаил Гиголашвили: Нет однозначного ответа. Я родился в 1954 году и полжизни прожил в Советском Союзе. В Грузии без русского языка тогда было не сделать карьеры, все учреждения работали на русском. Плюс большое число грузинской интеллигенции, еще по старинной царской традиции, говорило на русском языке. И в семье у меня говорили на русском, а слово "русский писатель" было равно слову "бог". Но когда судьба перенесла меня в Германию, я оказался на трех стульях: опыт жизни - из Грузии, язык - русский, действительность - немецкая. Грузинским писателем я себя назвать не рискую, так как пишу не на грузинском языке. Русским писателем тоже назвать трудно - я не этнический русский. Российским - тем более, я не живу в России. Про "немецкого писателя" и не говорю. Критик Виктор Топоров назвал статью обо мне "Свой среди чужих, чужой среди своих". Наверное, это самое правильное определение. Но оно накладывает свои обязательства. Я не считаю этичным говорить из-за границы россиянам или жителям Грузии, что им делать и как им жить. Свои мысли я провожу через своих персонажей. Может, так и лучше. Такая тройственность помогает увидеть многое со стороны.
Первый роман, который принес вам известность, - "Толмач". Это был результат вашего опыта работы переводчиком между беженцами из бывшего СССР и немецкими чиновниками. Роман написан с иронией в равной степени и к "узникам совести", за которых выдавали себя мигранты, и к тем, кому они вешали лапшу на уши. Но в этом романе есть и какая-то боль... Сейчас проблема беженцев - главная тема на повестке Европы. Что происходит с этим в Германии? "Третий мир" рано или поздно съест старушку-Европу или она справится и с этим?
Михаил Гиголашвили: Съесть, может, и не съест, но понадкусывает. Восток вносит свой менталитет всюду, куда идет. Это значит, что немцы начнут брать взятки (пока боятся), лениться, работать тяп-ляп, надеяться на авось... Если в России - приоритет государства, то Европа повернута к индивиду, иногда даже слишком, о чем и говорит вся эта история с затопившими Европу мигрантами. Они сами говорят, что будут идти до тех пор, пока их не остановят выстрелами. Но никто в Европе и в Европарламенте до сих пор не взял на себя ответственность выстрелы санкционировать. В 2015 году в Германию через открытые границы заходило в день около 5 тысяч (!) неопознанных мусульман. Беспринципный либерализм порой опаснее махрового консерватизма. Если бы тогда Австрия, Венгрия и балканские страны не закрыли физический проход беженцев в Северную Европу (в Южную никто не хочет, там своих захребетников хватает и с беженцами не цацкаются так, как немцы), то в Германию еще годами бы шли орды, а немцы с немым ужасом в глазах провожали бы их взглядами.
Тогда Германия была в шоке, смотрела это по ТВ и в реале, а Меркель хлопала глазами и на вопрос, не пора ли закрыть границы, отвечала: "Как я могу? У них война, мы должны действовать по конституции!" Как будто в конституции написано, что можно настежь открывать границы.
Есть и другое объяснение... Из-за хорошей медицины население Германии катастрофически стареет. Немки мало рожают. Работающих людей становится меньше. Немцы любят затевать неосуществимые проекты. Вот и решили впустить в страну "свежую кровь". Может, они и правы: в третьем-четвертом поколении эти арабы тоже переймут немецкий менталитет. Но лично мне это кажется не очень реальным. Как-то спросили школьников-выпускников турецкого происхождения, что для них важнее: конституция Германии или законы шариата? Три четверти выбрали шариат.
Я в Германии уже 30 лет. Успел застать ее на пике комфорта, пожить в чистой и прибранной стране, где все сверкало и благоухало в прямом смысле, а люди были добры и ласковы, жили в достатке, все красиво одеты, ухожены, ни одного нищего... Но в 89-м году пала Берлинская стена, после чего рай стал блекнуть и линять. Сейчас страна заполнена бездельно сидящими на скамейках арабо-неграми и разноцветными женщинами в косынках, которые катят в двойных колясках младенцев в окружении еще трех-четырех детей. А зачем их папе работать, когда у него оплачены государством квартира и медстраховка, выдано по 400 евро ему и жене (иногда и второй жене) на "карман" + по 250 евро на ребенка, что при наличии 5 детей уже 1250 евро, + разные льготы, и это все ежемесячно? Разумеется, занзибарские убийцы и сомалийские пираты предпочитают жить спокойно в Европе, курить траву, хавать плов и ничего не делать до конца жизни. Они селятся в больших городах, потому что в маленьких им скучно и не с кем в нарды играть. Мне искренне жаль беззащитную, добрую до глупости Европу!
Признаюсь честно, ваш роман об Иване Грозном "Тайный год" я осилить не смог. Я не считаю это его недостатком, это высший пилотаж работы с языком эпохи, с самим ее духом. Это скорее недостаточность читательских ресурсов. Слишком плотный материал! Даже, если угодно, слишком крутой. Как вам пришла идея писать о Грозном? Мне лично не понятно, почему в России эта фигура имеет такое влияние? Больше, чем Петр Первый. Почему мы упираемся в Грозного, словно это какой-то реальный современный политик, а не царь, о котором мы вообще-то мало что знаем?
Михаил Гиголашвили: Согласен, текст слишком плотен, но я этого и добивался - показать вязкость древнего времени, когда люди жили в ином темпе. Однако есть читатели, которые упивались этим романом, читали его по несколько страниц в день, растягивая как лакомство. Почему Грозный? Начало интереса лежит в моем предыдущем романе "Захват Московии", где в качестве вставной новеллы я поместил записки одного из немецких наемников Генриха фон Штадена. Эти записки заинтересовали меня, я начал читать сопутствующую литературу. И пять лет провел в 16-м веке, под крылом у Грозного, с которым я сжился.
Но главным толчком была проза Грозного, его письма к Курбскому. Раньше я думал, что первый русский писатель - протопоп Аввакум, но оказалось, что первый писатель жил на сотню лет раньше и носил корону повелителя всея Руси. Я был очарован его виртуозными переходами с высокого стиля на низкий, его метафорами, вовремя ввернутым библейским словцом. Удивило умелое чередование лести и угроз, похвал и запугиваний, ладана и ругани. Стиль его прозы отражает черты его характера: противоречивость решений, резкость поступков, склонность к юродству, страх перед Богом, неожиданные взрывы агрессии и последующего раскаяния.
Традиция изображать Грозного исключительно тупоумным кровавым тираном и садистом пошла с Карамзина и его "Истории Государства Российского". Но в русском фольклоре Грозный всегда выступает как мудрый правитель, который карает мздоимцев и изменников, строит города и храмы. Например: "Старину я вам скажу стародавнюю / Про царя было про Ивана про Васильевича / Уж он, наш белой царь, он хитер был, мудер /Он хитер и мудер, мудрей в свете его нет". Грозный в глазах народа был справедливым, хотя и жестким царем, который наказывал ненавистных народу бояр: "Первого боярина в котле велю сварить / Другого боярина велю на кол посадить / Третьего боярина скоро велю сказнить". Эта суровость к "плохим" боярам нравится простому народу, столетиями жаждущему справедливости и свободы. Закабаление крестьян началось в 17-м веке, а при Грозном его не было. Надо еще учесть, что в 17-м веке при царе Алексее Михайловиче Тишайшем после раскола церкви потекли реки крови старообрядцев. Это тоже заставляло людей вспоминать о временах Грозного, как о "тихих" временах.
Если его дед, Иван Великий, собрал в кулак русские княжества, то Грозный присоединил Казань и Астрахань. Его люди под началом купцов Строгановых перевалили через Урал, начали освоение Сибири. На юге он начал прибирать к рукам области Северного Кавказа, на западе противостоял польско-литовско-шведской коалиции. Внутри страны прекратил боярские усобицы и кормления, реорганизовал армию, приструнил крымчаков, составил земельные кадастры, ввел Судебник, создал систему церковно-приходских, певческих и иных школ, запретил рабский труд, упорядочил налоги, начал чеканку собственных денег, открыл первую типографию, заложил множество городов, крепостей и храмов.
Пересказать сюжет вашего последнего романа "Кока" невозможно. Столько героев, событий, приключений! Да и география впечатляет: Париж, Амстердам, Москва, Грузия... Здесь и грузинский криминал в Европе, и стихийные философы, под воздействием, скажем так, запрещенных у нас веществ рассуждающие о судьбах цивилизации, размере языка у синего кита и русско-грузинских отношениях... И голландские полицейские, врачи... И еще постоянная ностальгия Коки по Грузии, по детству, по бабушке... Грузинские воспоминания вносят в роман идиллические ноты. И еще "роман в романе", который ваш главный герой Кока пишет после тюрьмы, - о евангелистах Луке и Иуде (не том, который предал Христа). Явный булгаковский мотив. У меня в связи с этим два вопроса. Первый: европейская демократия показана у вас с не меньшим сарказмом, чем события в "перестроечной" Грузии. Грузинский криминалитет чувствует себя в Европе куда вольготнее, чем дома. Их воровские таланты отлично уживаются с мягкостью европейских "свобод". Это так?
Михаил Гиголашвили: Совершенно верно. В Европе, в Германии себя вольготно чувствует не только криминал из бывшего СССР (включая Грузию), но и сицилийская коза ностра, калабрийская ндрангета, албанская и сербская мафии, арабские и чеченские кланы, наркокартели из Южной Америки, словом, многие выбрали Европу. Почему? В Германии, например, слишком мягкое правосудие, гуманные суды, вежливая полиция, тюрьмы санаторного типа. Людей стараются не сажать, у полиции связаны руки - только поймаешь цветного барыгу, "зелёные" кричат: "Геноцид! Права человека!".
Постсоветская мафия, где грузинские воры играют важную роль, оседает обычно в теплых местах типа Турции, Греции, Испании, Кипра, Мальты... Европа поделена на зоны их влияния. Наркотики прибывают через Гамбург, Роттердам, Антверпен. Чеченская мафия держит в своих руках, помимо прочего, всю охрану на французском побережье - диско, казино, концерты. Албанцы ввозят наркотики, оружие и киллеров. Арабы и афганцы держат в руках наркотики. Огромная корпорация - восточно-европейская мафия, она поставляет живой товар, оружие, наркотики. Гашиш идет из Марокко через Гибралтар в Испанию, оттуда развозится по всей Европе, как и кокаин, который прибывает из Южной Америки в Барселону и Мадрид (иногда даже на подводных лодках).
Вопрос: если все всё знают, почему их не ловят и не сажают? Ответ известен по американским фильмам: преступные кланы окружены и защищены адвокатами, врачами, юристами, советниками, у них есть свои люди во всех сферах, поэтому в правовом государстве так просто их не взять. Но вот что интересно: обычные люди не сталкиваются с деятельностью криминала. Население ничего особо и не видит, все творится на виллах, в закрытых автомобилях. Такая же картина, как с коррупцией: здесь простые люди на бытовом уровне коррупцию не ощущают, а от того, что "Симменс" дал двести миллионов "Мерседесу", никому ни холодно, ни жарко. Криминал ведет себя тихо, я за 30 лет здесь не видел ни одной драки (за исключением "русских диско", где водка рекой). В больших городах, в злачных местах ситуация иная, но тоже в целом дружелюбная - без дела никто бутылкой не огреет. И к тем же наркоманам в Европе относятся не как к преступникам, а как к больным, которые нуждаются не в наказании, а в покое и лечении. Поэтому многие тюремные сроки за наркоту заменяются на лечение этого недуга.
А еще сейчас вышел закон, что арестанту за побег не добавляют срока, потому что стремление к свободе есть главное и неотъемлемое право человека. Была еще известная история, когда двое братьев-близнецов, арабов, ограбили ювелирный, оставили один отпечаток, но так как отпечатки у близнецов одинаковые, судья не мог решить, кто же из них грабитель, и отпустил обоих, исходя из формулы: "Пусть лучше виновный останется на свободе, чем пострадает невиновный".
И второй важный вопрос. Что привело вас к идее написать маленький роман на евангельскую тему? И почему именно Лука и Иуда? В отличие от Булгакова вы словно не решаетесь показать Иисуса-Иешуа. Он показан как бы издали, "невидимо". Это было принципиальное решение?
Михаил Гиголашвили: Вначале я хотел вообще Христа не показывать, но потом все-таки Он появился, очень ненадолго. "Роман в романе" "Иудея" в известной мере отражает весь роман. Кока, как и Иуда, гоним и унижен, а чудесное спасение Луки можно соотнести с выходом Коки из тюрьмы. Кстати, история "Иудеи" тоже непроста: я ее написал лет 40 назад, но потом, во время всяких жизненных пертурбаций и переездов, все три машинописных экземпляра пропали. И только недавно одна знакомая дама, разбирая бумажные завалы, нашла папку и передала ее мне, а я обработал и дописал текст. Мне показалась интересной моя концепция случившегося на Голгофе: воры и убийцы освободили "своего человека", вора Бар-Авву. Она позволяет по-иному взглянуть на это событие и снять проклятие с целого народа. Евреев просто не было на Голгофе, где в тот день проходила воровская сходка, спасшая своего вожака. Причем идею эту подсказал Коке в тюрьме вор Расписной. Но Булгаков, конечно, въелся во все поры.
У вас такая живая, ироничная проза! Вам не скучно жить в Германии? Во Франкфурте после восьми вечера человека на улице не встретишь. Набережная Майна пуста... В Висбадене, куда я однажды поехал, потому что там бывали Тургенев и Достоевский, я гулял по шикарному поселку с дорогими коттеджами. Была суббота, во дворах стояли машины. Ни одного человека не встретил. Ни звука! Ни лая собаки, ни детских криков. Не говорю уж о запахе шашлыков (шутка!). И только на протестантском кладбище встретил двух старичков. По-моему, они вышли прогуляться из могил. Я понимаю, это мое русское высокомерие говорит...
Михаил Гиголашвили: Никого на улицах нет потому, что у всех все есть - чего им по улицам шастать? Собаки здесь приучены не гавкать, а дети не кричат, не плачут и не капризничают, так как по большей части растут в семьях, где никто ни на кого голос не повышает. Я бы сравнил Германию с озером: посмотришь - тишь да гладь да божья благодать, а нырни в воду - там суета, крутеж рыб и кутеж раков, щуки снуют за пескарями, крабы строят жилища, угри извиваются за добычей. Так и в Германии - сверху тишина и всё в порядке, а загляни глубже, там жизнь кипит, но никому не мешает. По мне, так тишина лучше пьяного соседа, который не сегодня-завтра может устроить пожар при жарке шашлыков. Здесь принято максимально ограждать других людей от шума и всяческих беспокойств.
Конечно, бывает скучно. Но для прозаика скука - первый шаг к столу и бумаге. Конечно, я с завистью смотрю, как коллеги-писатели ездят по форумам и конференциям, встречаются с читателями, пьют и гуляют, а я сижу, как сыч, в немецкой провинции. Но в моем случае бодливой корове бог рога не дал, ибо "веселие Руси есть пити, не можем без того быти", а водка до добра не доводит, меня, в частности. Бывал не раз на волосок от скверных ситуаций, включая смерть. Так что утешаюсь мыслью, что Бог так меня спасает и на путь истинный наставляет... Что есть - это сильная ностальгия по детству в теплом и старом Тбилиси, по родителям, друзьям. Но этого не вернешь, жизнь обратно не отмотаешь...
Ваш роман "Чертово колесо" называют "романом-эпохой". Я читал его взахлеб и не понимал, что со мной происходит. Какое мне дело до грузинских событий "перестройки" и развала СССР? У меня своих проблем в России хватало. Но почему он так захватил? Объяснение не только в языке, и не только в умении показать огромное количество персонажей со своими речевыми характеристиками. Мне кажется, в этом романе отражено "бесовство" того времени. Сравнивать вас с Достоевским не буду, но в какой-то степени "Чертово колесо" - это, да, "Бесы" новой эпохи.
Михаил Гиголашвили: Большое спасибо за сравнение, никогда не думал, что мое имя будет стоять рядом с Достоевским через запятую. Конечно, это "бесовство" периода хаоса "перестройки". В обществе шел процесс развала и распада, и в экономике, и в головах. В 87-м еще было не совсем ясно, куда все двинется. Это было не только временем хаоса, но и надежд, когда к старому возврата уже нет и надо строить новое, хотя никто толком не знает, как это делать.
Из романа Михаила Гиголашвили "Толмач":
"Недавно по ТВ сцены из полицейской жизни Франкфурта-на-Майне показывали: немцы-полицаи, вооруженные до зубов, в бронежилетах и масках поймали 17-летнего барыгу-негритосика, поволокли его в участок и пытаются допрос снимать, а он, не будь дурак, молчит. И не только потому молчит, что у него право такое есть, а потому, что рот шариками кокаина забит. И полиция это знает, но у нее нет права залезать пальцами (и другими предметами) в "отверстия тела", поэтому она ничего сделать не может (все это - отрыжка Нюрнбергского процесса, немцы стали чересчур осторожны и вежливы, ибо опасаются, как бы их вновь во всех смертных грехах не обвинили). Постоял негритосик у стены, посверкал белками, немцы его 650 набарыженных евро ему возвращают и отпускают. За полгода у него это 58-й привод, а посадить не могут - факта нет!.. А почему, спрашивается, этого негритосика на родину не отправляют? А потому, что паспорта у него нет, а главное, он забыл страну происхождения. Вот забыл, где родился - и все тут. "Куда ж его отправлять?" - резонно объясняет полицай".
Сегодня в Российской Государственной детской библиотеке пройдет беседа Юрия Буйды и Михаила Гиголашвили. Беседа посвящена литературе и времени в современной русской прозе. Какими способами автор описывает время так, чтобы создавался максимальный эффект погружения? Какие словари и источники помогают писателю в его работе? Может ли время быть важнее для идеи книги, чем место действия, язык или герой повествования? Об этом поговорят известные писатели Юрий Буйда и Михаил Гиголашвили на примере своих новых книг "Сады Виверны" и "Кока". Модератор - Татьяна Стоянова, бренд-менеджер "Редакции Елены Шубиной" (издательство АСТ).
Посмотреть в прямом эфире беседу можно будет на сайте культура.рф 19 октября в 19.00.

ПОЛИТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ С КИТАЙСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ
ОДД АРНЕ ВЕСТАД
Профессор истории и мировой политики в Йельском университете. Автор книги «Беспокойная империя: Китай и мир после 1750 года».
КАК СТРЕМЛЕНИЕ КПК ДАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИТАЮ ФОРМИРУЕТ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПОВЕСТКУ ПЕКИНА || РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ
Hayton B. The Invention of China. Yale University Press. 320 pp. // Хейтон Б. Изобретение Китая. Издательство Йельского университета. 320 с.
Что такое Китай? Ответ менее очевиден, чем кажется. Что в первую очередь представляет собой эта огромная территория: просто страну, цивилизацию или политическую конструкцию? Это империя или национальное государство? Регион с разными культурами и языками или единый народ, тесно объединённый общими традициями и предками?
Большую часть двух последних тысячелетий территория, сегодня известная как Китай, являла собой центр империй. Некоторые из них были большими, простираясь на территорию Средней, Юго-восточной Азии, Гималаев и северной акватории Тихого Океана. Другие – небольшими и включали в себя лишь некоторые части современного Китая. Иногда на этой территории находилось несколько маленьких государств, конкурирующих за влияние, что не так сильно отличается от устройства Европы после падения Рима. Но в целом империя была скорее правилом, чем исключением.
Поскольку сегодняшний Китай наследует империям, трудно определить то, что находится «внутри» и «вне» этой страны, как любят говорить китайцы. Большая часть территории современной Китайской Народной Республики приобретена посредством завоеваний, производимых той или иной империей на протяжении длительного времени, – от экспансии династии Хан на юг современного Китая около двух тысяч лет назад до завоевания Тибета и Синьцзяна великой династией Цин немногим более двухсот лет тому назад.
Как и в других государствах, сохраняющихся долгое время, встраивание и интеграция приводят к образованию новых связей и самоопределения. Большинство людей, живущих в южной провинции Гуандун, сегодня считают себя китайцами; к этому менее склонны жители Тибета и Синьцзяна. Однако Компартия Китая (КПК) рассматривает их в качестве граждан КНР.
Ситуация ещё больше осложняется, если рассматривать Китай через цивилизационную, а не имперско-националистическую призму. Задолго до того, как первая империя появилась в регионе, примыкающем к Жёлтой реке, возникла культура, опиравшаяся на письменный язык и ряд идей. Посредством китайских иероглифов представления о человеческих отношениях, обществе и принципах упорядочения Вселенной распространились на окрестные территории, часть из которых весьма далеки от нынешних границ Китая: на Японию в современных границах, Корею и Вьетнам. К XI веку этот процесс породил сеть сообществ, разделявших и передававших технологии, религии, политические идеи, литературу и искусство. Центром их были империи, существовавшие на территории современного Китая, но и другие общества вносили существенный вклад. Цивилизация, ставшая итогом этого процесса, никогда не была синонимом единого государства или народа.
Это противоречие не давало покоя целым поколениям историков и культурных антропологов. Однако для любого, кто пытается править Китаем, вопросы идентичности, территории и культуры – не просто научные абстракции. На самом деле, и об этом можно прочесть в новой книге журналиста Билла Хейтона «Изобретение Китая», ответ на эти вопросы – критически важная задача управления, особенно после распада империи Великой Цин в 1912 г., на обломках которой КПК, в конце концов, выстроила современное государство.
Для партии определить, что представляет собой Китай и кто такой китаец, было не менее важной задачей, чем построение «социализма с китайскими особенностями».
В мастерски написанной прозе Хейтон в сжатом виде разбирает восемь «изобретений», которые представляются ему главными в этом процессе – от самого понятия «Китай» до дерзких притязаний на морскую акваторию (КПК настаивает, что границы Китая проходят на 1100 миль к югу от его южного побережья). Эта книга, конечно же, приведёт в бешенство китайских националистов, которые увидят в ней нападки на свои представления о китайской нации и государстве. Но она предлагает прекрасную точку отсчёта для понимания того, как и почему поиск Китаем своей идентичности стал формировать его международную политику.
Поднебесная (Срединная) империя
Хейтон закономерно начинает с концепции самого «Китая». Название страны, указывает он, – недавнее изобретение. До 1911 г. не было никакого «Чжунго» – так название страны звучит на мандаринском диалекте китайского языка и обычно переводится как Срединное государство. Существовала лишь Великая империя династии Цин, а до неё – империя династии Мин и так далее. Китайским националистам ХХ века понравился термин «Чжунго», потому что иногда он употреблялся в империях для обозначения центральных областей, а также указывал на центральное (срединное) место их проекта национального строительства на земном шаре.
Однако критика терминов должна быть аккуратной и не заходить слишком далеко. Хотя само понятие «Китай» появилось не так давно, идея главенствующего положения китайской культуры, представленной довольно цельной и сплочённой группой людей, значительно древнее. Быть может, её тогда и не называли «Китаем» или вообще не обозначали каким-то специальным словом, за исключением таких фраз как «наша культура», «наш письменный язык» или даже просто «мы». Эта более древняя идентичность была значительно менее выраженной по сравнению с идеалами современных националистов.
Тем не менее этой концепции твёрдо придерживались испокон веков, связывая её с конкретной цивилизацией, которую имеет смысл называть «китайской». Без такого чувства единения и сплочения народа у современных лидеров КНР не было бы фундамента для авторитарного стремления к дальнейшему объединению и стандартизации государства.
Странно, но современные китайские националисты отвергают это древнее понятие китайскости, стремясь заменить его новым определением «китайский народ», включая в него всех живущих в пределах нынешних границ страны. Например, с этой точки зрения, маньчжуры, мяо или тибетцы тоже считаются китайцами. Более того, они всегда были китайцами, даже если не всегда об этом знали, как учат лидеры КПК. Они входят в те 56 «народностей», которые составляют понятие «китайский народ» по версии КПК. Однако 92 процента этого населения принадлежит лишь к одному этносу хань – так КПК определяет тех, кто до 1949 г. были известны просто как «китайцы». Сегодня все высшие партийные руководители – представители этой коренной народности хань, и так было на протяжении всей истории коммунизма в Китае.
От империи к национальному государству
Для китайских националистов проблема определения территории Китая была ещё труднее задачи определения китайского народа. Первые несколько поколений лидеров после распада империи знали, что их страна – империя, ведущая себя так, как если бы она была национальным государством. Правда в том, что карта современного Китая удивительно напоминает карту Великой империи династии Цин. Это никак не вяжется с утверждением КПК, будто в XIX и первой половине XX века Китай пережил сто лет «национального унижения» от рук иностранных империалистов, которые отнимали китайские земли и убивали китайский народ. Есть одно старое остроумное замечание, что тысяча лет постоянного упадка сыграло на руку византийцам. Точно так же – по крайней мере, с территориальной точки зрения – Китай после ста лет мнимого унижения остался в удивительно хорошей форме.
Борьба современного Китая за определение своих границ, наверное, является главной причиной, по которой КПК приняла западную концепцию государственного суверенитета во всей её полноте. До эпохи доминирования Запада на планете у стран Азии были смутные понятия о суверенитете. Одна область могла присягнуть на верность двум разным государствам или сохранять свои полномочия в одной области и уступить права на управление другой областью соседней империи. Суверенитет был делимым и относительным; предметом переговоров в каждом поколении по мере того, как одни области усиливались, а другие слабели.
В отличие от прежних столетий, КПК одержима государственным территориальным суверенитетом в большей степени, чем почти любой другой режим в мире. Отчасти это связано с эпохой, когда западные страны и японцы диктовали свои условия Китаю в XIX веке и начале XX-го, пользуясь тем, что у китайцев тогда было слабое центральное правительство. Возможно, эти завоеватели не раскололи страну, но точно господствовали над ней, угнетая местное население. Однако есть более убедительное объяснение: КПК так настаивает на суверенитете Китая потому, что опасается за своё правление, которое могло бы быть оспорено на некоторых территориях, унаследованных партией от Великой империи Цин. Современный Китай способен точно выполнять международные соглашения или достигать урегулирования споров о границах с соседними странами. Но тот международный плюрализм, о котором говорит правительство Китая, действителен только для национальных государств. Внутри своих границ каждое такое государство делает то, что хочет, как Китай сегодня в Гонконге, Тибете и Синьцзяне – регионах, где КПК предприняло усилия по ограничению их автономии и подавлению местных идентичностей. Как пишет Хейтон, председатель Си Цзиньпин ясно дал понять, что будет «уделять больше внимания интеграции и меньше внимания институционализации многообразия».
То, что Китай настаивает на крайней разновидности суверенитета, не является нарушением международных норм, сложившихся в конце XIX века. С другой стороны, территориальная экспансия Китая – куда более дерзкая стратегия. Особенно это касается южной акватории Южно-Китайского моря, которое Вьетнам называет Восточным морем, а Филиппины – Западным Филиппинским морем. На протяжении двух последних десятилетий Китай с помощью жёстких мер пытался распространить территориальный суверенитет на эти воды, не обращая внимания на протесты соседних стран, также имеющих на них виды. Сооружая искусственные острова и военно-морские и ракетные базы на них, Китай милитаризировал территориальный спор и встал на путь неизбежной конфронтации с соседними странами Юго-Восточной Азии. Однако похоже, что для Пекина суверенитет – не только абсолютная, но и иерархическая категория: суверенитет Китая более суверенен, чем суверенитет какой-либо другой страны. Это создает тревожную закономерность в поведении Пекина по мере усиления его мощи и могущества.
Нигде такая позиция не вызывает больше тревоги, чем на Тайване. КПК претендует на полный суверенитет над островом. Под этим партия имеет в виду право захватить Тайвань силой, когда этого захочет, не считаясь с желаниями островитян. Подобные притязания Китая не уникальны: вспомните, например, о притязаниях Испании на Гибралтар. Разница в том, что в настоящее время раздаются всё более громкие голоса элитных групп, близких к власти в Пекине, с требованием, чтобы КПК воспользовалась своим мнимым правом заявить о претензиях на Тайвань. Конечно, одно дело хотеть что-то сделать, и совсем другое – фактически это произвести.
Попытка захвата Тайваня силой для Китая была бы чем-то сродни желанию прыгнуть с крутого утёса, чтобы доказать всем, что ты умеешь летать: последующая война стала бы страшным катаклизмом не только для Китая, но и для всего мира.
Порядок, направленный против Китая
В книге Хейтона доходчиво описывается не только то, что представляет собой Китай; также полезно руководство о том, чего Китай хочет. Хейтон предлагает два вывода: один слегка успокаивающий, а другой немного алармистский. Хотя КПК всё более авторитарна на родине и агрессивна за рубежом, ничто не говорит о том, что режим намерен уничтожить систему международных отношений, выстроенную Западом, который по-прежнему в ней доминирует.
Понятно, что внешнеполитическое поведение зависит от методов, которые Пекин намерен использовать, и от реакции западных держав. Но пока остаётся шанс, что КНР можно побудить к более тесному сотрудничеству с другими странами – по крайней мере, со временем.
В то же время большинство китайцев убеждены, что существующий международный порядок направлен против интересов их государства. Ход мыслей таков: более пятисот лет европейцы владели миром. Они уничтожали коренное население в одних странах, порабощали в других, колонизировали большую часть земного шара и взяли под контроль природные ресурсы. Таким образом, либеральный порядок, выстроенный европейцами и их потомками, отличается вопиющей несправедливостью. Не только потому, что он был воплощён в жизнь с помощью богатства и власти, приобретаемых методами геноцида, колониализма и порабощения народов, но и потому, что, когда Китай стал мировой державой, институты, нормы и организации порядка, в котором доминирует Запад, уже пустили глубокие корни. В таком мире китайцы всегда будут людьми второго сорта, равно как и их страна.
Иностранцам трудно разубедить китайцев. Многие из них считают смехотворным доводы Запада, что его общества были чужды либеральных принципов на протяжении столетий, но сегодня радикально изменились.
Тем временем правительства стран Запада подпитывают наиболее тёмные подводные течения китайского национализма, зачастую пренебрегая теми самыми нормами, ценностями и учреждениями, которые они, по их уверениям, защищают.
Трудно понять, к чему приведёт Китай такой безрадостный взгляд на статус-кво – разве что к некой разновидности международного нигилизма. Похоже, что и КПК это понимает, потому как партия борется с нелегальными ультранационалистическими группировками, подавляет их деятельность. В конце концов, шовинистический национализм крайнего толка может легко обратиться против партии и её правления, как это случилось, когда Россия упразднила Советский Союз. По этой причине, несмотря на безрадостное описание Хейтоном истоков политики идентичности, есть повод для надежды, что элементарное чувство самосохранения приведёт КПК к менее агрессивной разновидности национализма. Однако не стоит ожидать, что это случится в ближайшем будущем.
Опубликовано на сайте журнала Foreign Affairs 1 июня 2021 года. © Council on foreign relations, Inc.

ЭПИДЕМИИ И НАРОДЫ
УИЛЬЯМ ХАРДИ МАКНИЛ
(1917–2016)
Крупнейший американский историк, автор капитального труда «Восхождение Запада» (1963 г., издан на русском языке в 2004 г.), в котором получили развитие многие идеи британского историка и философа Арнольда Джозефа Тойнби. Макнил рассматривает всемирную историю как единый процесс, движущей силой которого выступают контакты между цивилизациями. Подобный подход лежит и в основе его монографии «Эпидемии и народы» (1976), представляющей первый в мировой исторической науке опыт системного изложения воздействия эпидемических заболеваний на человеческие сообщества. Эпидемии рассматриваются в книге в качестве одного из важнейших факторов, предопределивших ход развития истории, наряду с военными технологиями, эволюции которых посвящена ещё одна выходившая в России книга Макнила «В погоне за мощью. Технология, вооружённая сила и общество в XI–XX веках» (2008).
ВСПОМИНАЯ ОПЫТ ПРОШЛОГО
В настоящий момент русский перевод «Эпидемий и народов» готовит к выходу в свет Издательство Университета Дмитрия Пожарского, книга будет выпущена ориентировочно в первом квартале 2021 года. Отрывок из четвёртой главы книги «Влияние Монгольской империи на меняющиеся балансы инфекционных заболеваний, 1200–1500 гг.» публикуется в переводе Николая Проценко и Алексея Черняева с разрешения сына автора и правопреемника Уильяма Макнила, профессора Джорджтаунского университета (США).
Около 900 г. н.э. способы адаптации людей к эпидемиям, возникшим благодаря появлению регулярных коммуникаций между разными цивилизованными сообществами Евразии, сложились в относительно стабильную модель. Иными словами, к тому времени люди приспособились к cхождению в одном месте различных инфекционных заболеваний, которые прежде развивались сами по себе в отдельных частях Евразии и Африки. По всей видимости, все значимые группы населения ойкумены соприкоснулись с какой-либо эпидемической инфекцией, распространяющейся от человека к человеку. Хотя во многих местах подобные болезни появлялись лишь время от времени, когда увеличение численности уязвимых возрастных групп оказывалось тем «бикфордовым шнуром», который воспламенял пожар эпидемий.
Существовали два системных фактора нестабильности. Одним из них был устойчивый и всё более масштабный рост населения на восточной и западной оконечностях Евразии, ставший следствием того, что незадолго до 900 г. китайцы и европейцы преодолели прежние эпидемиологические и технологические ограничители. В конечном счёте это резко изменило макробалансы Старого Света, приведя к тому, что сначала Китай, а затем и Западная Европа приобрели огромное влияние в военной, экономической и культурной сферах. Вторым источником системной нестабильности в балансе евразийского мира в 900–1200 гг. было развитие морских и наземных моделей коммуникации.
Важным событием, оказавшим далеко идущее влияние на формы существования макро- и микропаразитов, стала интенсификация перемещения сухопутных караванов по Азии, достигшая пика при монгольских империях, основателем которых был Чингисхан (1162–1227). На вершине своего могущества (1279–1350) эти империи охватывали весь Китай и почти всю Россию (где независимость сохранил только Новгород), а также Центральную Азию, Иран и Ирак. Сеть коммуникаций, включавшая почтовых курьеров, способных преодолевать сотню миль в день на протяжении недель, и не столь быстрые торговые караваны и армии, которые маршировали в разных направлениях на большие расстояния, связывала эти империи воедино до 1350-х гг., когда в Китае вспыхнуло восстание, приведшее к 1368 г. к полному изгнанию монголов с самой богатой из завоёванных ими территорий.
Однако ещё до этого восстания тысячи людей перемещались по разным евразийским маршрутам, о чём в письменных документах зачастую оставались лишь обрывочные сведения. Например, знаменитое описание путешествия Марко Поло появилось благодаря чистой случайности. Записать его рассказы счёл нужным его товарищ по заключению в генуэзской темнице – в противном случае о существовании Марко Поло не осталось бы вообще никаких свидетельств.
Множество людей путешествовали на очень большие расстояния, преодолевая культурные и эпидемиологические границы. При этом они освоили северный маршрут, который прежде не использовался настолько интенсивно. Античный Шёлковый путь между Китаем и Сирией пересекал пустыни Центральной Азии, пролегая от одного оазиса к другому. Теперь в дополнение к этому старому пути караваны, солдаты и почтовые гонцы передвигались по привольной степи, создав бескрайнюю по территории человеческую сеть, которая связывала монгольскую ставку в Каракоруме с Казанью и Астраханью на Волге, Каффой в Крыму, Ханбалыком (Пекином) в Китае и многочисленными караван-сараями между ними.
В последующие столетия некоторые из этих грызунов стали хронически инфицированными чумной палочкой (Pasteurella pestis). Их норы обеспечивали микроклимат, подходящий для выживания чумной бациллы круглый год, несмотря на суровые зимы Сибири и Маньчжурии. В результате животные и насекомые, обитавшие в таких норах, стали сложным сообществом, внутри которого инфекция чумы могла существовать сколь угодно долго.
Когда норные грызуны евразийских степей стали переносчиками чумы, неизвестно. Их роль в предоставлении укрытия для бубонной инфекции была установлена в 1914 г. международной группой эпидемиологов, направленной для изучения причин вспышки человеческой чумы в Маньчжурии. В свою очередь, это исследование было основано на работе, проведённой в Волго-Донском регионе России ещё в 1890-е гг., которая показала, что разносчиками чумы были различные виды норных грызунов. К тому моменту паттерн данной инфекции был хорошо знаком на протяжении столетий, а местные жители обрели навыки, которые предотвращали риск заражения и передавались из поколения в поколение. Однако из этого ещё не следовало, как предполагали российские учёные, что инфекция появилась в доисторические времена – совсем наоборот[1]. По моему мнению, именно монгольские перемещения по прежде изолированным маршрутам, по всей видимости, впервые доставили чумную палочку грызунам евразийской степи.
[…]
Чтобы понять, как в результате начатых монголами передвижений людей началось распространение чумной палочки в Евразии, необходимо сделать следующее предположение: до монгольских завоеваний чума была эндемичной инфекцией в одном или более природных очагов в рамках сообществ норных грызунов. В этих регионах человеческие популяции, видимо, выработали привычную модель поведения, которая минимизировала шанс заражения. Один из таких природных очагов, вероятно, находился на пограничной территории между Индией, Китаем и Бирмой у подножия Гималаев, а ещё один, возможно, существовал в районе Великих Африканских озёр. Однако евразийские степи, простиравшиеся от Маньчжурии до Украины, наверняка ещё не являлись очагом чумы.
Это становится очевидно при сравнении истории чумы после её первого опустошительного появления в Европе в эпоху Юстиниана с событиями после 1346 г. – года пришествия Чёрной смерти. В первом случае чума фактически полностью пропала из Европы – последнее её упоминание в христианских источниках датировано 767 годом[2]. Арабские источники также не упоминают чуму по меньшей мере в течение 150 лет до 1340-х годов[3]. Поэтому можно предположить, что после ряда случайных перемещений от одного крупного города Средиземноморского региона к другому цепочка инфекции, объединявшая крыс, блох и людей, разорвалась, поскольку чумной палочке не удалось отыскать экологическую нишу, где она могла бы пребывать долгое время.
Напротив, начиная с 1346 г. чума оставалась хроническим явлением в Европе и на Ближнем Востоке вплоть до нашего времени[4]. И даже после того, как в XVII веке чума пресеклась в Северо-Западной Европе, Восточная Европа продолжала страдать от неё. Отчёты консулов позволяют довольно точно реконструировать историю чумы в оживлённом порту Смирны в Малой Азии в XVIII веке. Очевидно, что болезнь приходила вместе с караванами из внутренних районов (то есть с Анатолийского нагорья или степных территорий за его пределами) и распространялась морем из Смирны в другие порты. О том, что инфекция оставалась серьёзной проблемой, можно судить по такому факту: в промежутке между 1713 и 1792 гг. чума в Смирне полностью отсутствовала лишь двадцать лет, а в ходе девяти вспышек эпидемии уровень смертности доходил до 35% совокупного населения города[5].
Этот контраст между постоянно повторяющимся европейским опытом чумы после 1346 г. и явным отсутствием этой инфекции на территории Европы на протяжении более пяти с половиной столетий до 1346 г., свидетельствует о неких кардинальных событиях, благодаря которым подверженность Европы чуме усилилась. Известно, какие благоприятные возможности для расширения радиуса действия чумной бациллы предоставляли пароходы XIX века. Исходя из этого, кажется вероятным, что в XIV столетии чумная палочка вела себя аналогичным образом, впервые проникнув в популяции грызунов евразийской степи и тем самым дав начало эндемическим инфекционным заболеваниям, которые медики в 1920-х гг. обнаружили у норных грызунов в Маньчжурии и на Украине.
Несложно обнаружить и те обстоятельства, которые позволили чуме перенестись из её прежнего эндемического очага у подножий Гималаев в северные степи Евразии. Во второй половине XIII века (начиная с 1252–1253 гг.) монгольская конница проникла в Юньнань и Бирму, вступив в те регионы, где и сегодня дикие грызуны являются носителями чумной бациллы и где эта инфекция, вероятно, существовала за много столетий до появления монголов. Точно так же, как в 1855 г. непривычные для этого региона военные операции позволили чумной палочке пересечь бирманскую реку Салуин и начать путешествие по всему свету на протяжении XIX века, в XIII веке монгольские завоеватели, скорее всего, пренебрегали местными правилами и обычаями, призванными оградить человеческие сообщества от бубонной инфекции. Поэтому монголы, подобно китайским охотникам на сурков в XII веке, вероятно, заразились сами и способствовали необратимому прорыву чумы за пределы её прежнего географического ареала.
Превосходная скорость, которой обладали конные всадники, означала, что инфекция в XIII веке была способна расширять диапазон действия точно так же, как это происходило позднее, в XIX и ХХ столетиях. Инфицированные крысы и блохи могли – по меньшей мере время от времени – перемещаться в седельных мешках, набитых зерном или какой-то другой снедью. Стремительность, с которой передвигались монгольские войска, означала, что реки и подобные им барьеры распространения инфекции теперь можно было пересекать столь же быстро, как позднее – океаны. Поэтому не требуется особенного полёта фантазии, чтобы представить себе, как через какое-то время после 1252 г., когда монголы впервые вторглись в Юньнань и Бирму, чумная бацилла была доставлена ими популяциям грызунов в их родных степях и тем самым дала начало хронической модели инфекции, которую медицинские исследования обнаружили в Маньчжурии уже в наше время.
Конечно, мы не можем установить в точности, когда и как произошло это географическое перемещение – точно так же, как нельзя описать и точные пути, по которым бубонная инфекция добралась до диких грызунов Калифорнии или Аргентины. Исходя из аналогии между событиями XIX и XII столетий, можно предположить, что заражение «подземных городов» степных грызунов началось вскоре после того, как монгольские завоеватели в середине XIII века впервые сформировали цепочку перемещения всадников между Юньнанью-Бирмой и Монголией. Конечно, заражение Монголии не было эквивалентно заражению всей евразийской степи. На это требовалось время, поэтому весьма вероятно, что в течение почти ста лет чумная палочка перемещалась от одного сообщества грызунов к другому по евразийским степям точно так же, как это было в Северной Америке после 1900 года.
Одна из гипотез заключается в том, что вскоре после 1253 г., когда монгольские армии вернулись после набега на Юньнань и Бирму, чума вторглась в сообщества диких грызунов в Монголии и стала там эндемичным явлением. В последующие годы инфекция начала распространяться на запад по степи, чему, возможно, способствовали перемещения людей, поскольку заражённые крысы, блохи и люди переносили бациллу к новым сообществам грызунов. Далее, незадолго до 1346 г., масштаб эндемического заражения грызунов, вероятно, стал достигать своих естественных пределов[6].
Однако в целом эта реконструкция развития событий выглядит неправдоподобной. Проблема в том, что в китайских источниках ничего необычного не регистрируется вплоть до 1331 г., когда эпидемия в провинции Хэбэй, как утверждается, погубила девять десятых её населения. Только в 1353–1354 гг. имеющиеся записи сообщают о ещё большем распространении бедствия. В эти годы эпидемия поразила восемь далеко находящихся друг от друга провинций Китая, причём хронисты сообщают, что умерло до «двух третей населения». Даже если допустить, что в ведении записей были перерывы, вызванные локальными беспорядками и распадом рутинных административных процедур в ходе продолжительного завоевания Китая монголами (1209–1368), трудно поверить, что действительно масштабная гибель людей от болезни осталась бы без внимания составителей древних хроник, чьи списки бедствий являются единственным доступным источником информации о китайских эпидемиях.
Возможно, когда-нибудь тщательное изучение всех сохранившихся китайских текстов – а их объём исключительно велик, прольёт больше света на этот вопрос. Но пока подобные исследования не проведены, полагаю, необходимо допустить, что чума, вспышка которой погубила столько людей в Европе в 1346 г., появилась в Китае не ранее 1331 года. И если это так, то сложно поверить, что чумная палочка нашла своё новое пристанище в степных норах ещё в 1250-х годах. В таком случае встреча Китая с чумой состоялась бы задолго до 1331 г., так что огромные китайские города и великолепный двор Хубилай-хана (правившего в 1271–1294 гг.) едва ли могли бы процветать так, как нам об этом сообщил Марко Поло.
После 1331 г., а в особенности после 1353 г. Китай вступил в катастрофический период своей истории. Чума совпала с гражданской войной, когда недовольство монгольским владычеством вылилось в восстание, свержение чужеземных правителей и основание в 1368 г. новой династии Мин. Сочетание войны и чумы было сокрушительным для населения Китая. Наиболее достоверные оценки показывают, что оно сократилось с 123 млн человек в (приблизительно) 1200 г., перед началом монгольского вторжения, до 65 млн в 1393 г., поколение спустя после окончательного изгнания монголов[7]. Столь масштабное падение численности населения трудно объяснить жестокостью монголов. В двукратном сокращении числа китайцев определённо сыграла большую роль эпидемия, бубонная чума, которая сравнительно часто возвращалась после своих первых вспышек. В Европе, несомненно, она также является самым подходящим кандидатом на эту роль.
Наиболее вероятно, что между 1331 и 1346 гг. чума распространялась по Азии и Восточной Европе от одного караван-сарая к другому, а уже оттуда в близлежащие крупные города, одновременно попадая в подземные «города» степных грызунов. В надземных сообществах, объединявших человека, крысу и блоху, чумная палочка оставалась незваным и смертоносным гостем, который не мог закрепиться там навсегда, поскольку вызывал у своих носителей иммунные реакции и высокий уровень смертности. Но в степи среди норных грызунов бацилла нашла постоянное обиталище точно так же, как это произойдёт в аналогичных сообществах грызунов в Северной Америке, Южной Африке[8] и Южной Америке в наши дни.
Однако эпидемиологические сдвиги в евразийской степи были не единственным фактором европейской катастрофы. Для того, чтобы Чёрная смерть смогла нанести удар, потребовались бы ещё два условия. Во-первых, по всему европейскому континенту должны были распространиться популяции чёрных крыс с паразитами, способными заражать людей бубонной чумой. Во-вторых, Средиземноморье и Северную Европу должна была связать сеть морских маршрутов, благодаря которой заражённые крысы и блохи доставлялись во все порты на континенте. Распространение чёрных крыс в Северной Европе было результатом установления морских контактов между Средиземноморьем и северной частью континента. Начало этому было положено в 1291 г., когда некий генуэзский адмирал разгромил марокканский флот, который препятствовал свободному проходу через Гибралтарский пролив, и тем самым открыл его для христианских кораблей[9].
Совершенствование конструкции кораблей в XIII веке сделало навигацию круглогодичной и пересечение бурной Атлантики стало достаточно безопасным даже в зимние месяцы. При этом корабли, постоянно находящиеся на плаву, стали для крыс более безопасным средством перемещения на дальние расстояния. Их популяции могли распространяться далеко за пределы Средиземноморья, где они, похоже, преобладали во времена Юстиниана.
Наконец, во многих частях Северо-Западной Европы к XIV веку произошло нечто вроде насыщения [экологической ниши] людьми. Тот великий подъём на европейских фронтирах, который начался около 900 г., приводил к такому распространению земель сельскохозяйственного назначения, что на поверхности земли остались лишь редкие леса – по крайней мере так было в наиболее плотно заселённых регионах. Поскольку леса были жизненно важным источником топлива и строительных материалов, их возрастающая нехватка создавала тяжёлые проблемы для человеческих поселений. В Тоскане несоответствие между растущим крестьянским населением и подходящими для сельского хозяйства землями, видимо, возникло ещё раньше, так что депопуляция там началась за целое столетие до вспышки Чёрной смерти[10]. Помимо этого, в XIV веке начался «малый ледниковый период», всё чаще случались неурожаи и другие неурядицы, особенно в северных регионах[11].
Все эти обстоятельства сошлись воедино в середине XIV века, создав основу для появления чумной эпидемии. В 1346 г. в войсках монгольского хана, который осадил крупный торговый город Каффа в Крыму, начался мор. Вскоре инфекция появилась в самой Каффе, откуда распространилась на кораблях по Средиземноморью, а затем в Северной и Западной Европе.
Первоначальный шок 1346–1350 гг. был чудовищным, но уровень смертности значительно варьировался. Некоторые мелкие общины полностью вымерли, другие – например, Милан, – похоже, совершенно избежали болезни. Летальность чумы также могла усиливаться из-за того, что её разносили не только блохи, но она передавалась и от человека к человеку воздушно-капельным путём[12]. В Маньчжурии в 1921 г. инфекционное поражение лёгких подобным способом давало стопроцентный летальный исход – это был первый случай, когда современные медики могли наблюдать распространение чумы таким образом. Можно предположить, что и в Европе XIV века свирепствовала именно лёгочная форма чумы.
Но вне зависимости от того, какая разновидность чумы поразила европейцев XIV века, смертность оставалась очень высокой. В недавнее время уровень смертности среди заболевших бубонной чумой, передающейся через укусы блох, варьировался от 30 и 90%. Следует понимать, что до того, как антибиотики в 1943 г. низвели эту болезнь до тривиального случая, средняя смертность среди заболевших сохранялась на уровне 60–70%, вопреки всем современным мерам медицинского ухода[13].
Несмотря на столь высокий уровень вирулентности, связанность средневековой Европы была не настолько плотной, чтобы под угрозой находился каждый, хотя потерявший курс корабль и заражённая популяция крыс могли доставить чуму даже в далёкую Гренландию[14] и другие удалённые от центральной части Европы земли. Наиболее точные общие оценки показывают, что в Европе в 1346–1350 гг. от чумы умерла примерно треть населения. Данная цифра основана на экстраполяции на весь континент уровня смертности на Британских островах, где во время первого пришествия чумы погибло от 20 до 45% населения[15]. В Северной Италии и на побережье Французского Средиземноморья потери, вероятно, были выше, в Богемии и Польше гораздо меньше,[16] а для России и Балкан никаких оценок даже не предпринималось[17].
Когда болезнь возвращалась туда, где она бушевала раньше, те, кто выздоровел во время предыдущего удара, конечно, оставались к ней невосприимчивы, поэтому смертность имела тенденцию к концентрации среди тех, кто родился уже после предыдущего чумного года.
Но на большей части Европы даже потеря как минимум четверти населения поначалу не привела к отрицательным долгосрочным последствиям – напротив, высокое демографическое давление перед 1346 г. на доступные ресурсы предполагало, что желающих занять освободившиеся места будет предостаточно. Вероятно, имела место нехватка людей только на позициях, требовавших относительно высокой квалификации, – например, управляющих поместьями или учителей латыни. Однако повторяющиеся вспышки чумы в 1360-х и 1370-х гг. изменили ситуацию. Нехватка рабочей силы стала ощущаться в сельском хозяйстве и других областях применения неквалифицированного труда; социально-экономическая пирамида в разных частях Европы изменилась по-разному, и мрачная атмосфера, царящая в обществе, стала столь же хронической и неизбежной, как и сама чума. Одним словом, Европа вступала в новую эпоху, которая предполагала гораздо большее разнообразие, чем прежде, поскольку реакции и способы адаптации в разных частях континента шли по различающимся траекториям, но всё же везде они отличались и от моделей, которые преобладали до 1346 года[18].
[…]
Впрочем, одновременно с этим биологическим процессом шёл и процесс культурный, в ходе которого люди (а возможно, и крысы) узнавали, как минимизировать риск инфекции. Сама идея карантина присутствовала уже в 1346 г. – она опиралась на те библейские фрагменты, которые предписывали изгонять прокажённых. Сорокадневный карантин фактически стал стандартной мерой. Но поскольку до конца XIX века никто не знал о том, какую роль в распространении чумы играли блохи и крысы, карантинные меры не всегда были эффективны. Тем не менее, поскольку делать хоть что-то было психологически более предпочтительно, чем впадать в апатию и отчаяние, карантинные правила стали институализироваться – например, в Венеции (1348) и в Рагузе (Дубровнике) (1377). Пример этих двух торговых портов на Адриатике был в дальнейшем широко воспроизведён повсюду в Средиземноморье[19].
Требование, чтобы каждый корабль, прибывающий из мест, где имелось подозрение на чуму, становился на якорь в изолированном месте и оставался там сорок дней без общения с землёй, не всегда реализовывалось на практике, и даже когда это происходило, крысы и блохи могли попасть на берег, в то время как люди были лишены такой возможности. И всё же во многих случаях подобные меры предосторожности должны были сдерживать распространение чумы – если изоляцию удавалось обеспечить, сорока дней было вполне достаточно, чтобы цепочка инфекции выгорела дотла среди любой корабельной команды. Поэтому карантинные правила, которые в XVI веке стали всеобщими в портах христианской части Средиземноморья, были вполне убедительными.
Но чума просачивалась и через эти барьеры, оставаясь важным демографическим фактором во всех частях Европы в конце Средневековья и в начале Нового времени. Вспышки чумы были достаточно частыми, чтобы карантинные администрации всех крупных портов функционировали вплоть до XIX века, когда появление новых представлений об инфекционных болезнях привело к ослаблению старых правил[20]. Последняя значимая эпидемия чумы в западной части Средиземноморья произошла в 1720–1721 гг. в Марселе и его окрестностях, однако до XVII века спорадические появления чумы, уносившие за один год вплоть до трети или половины населения того или иного крупного города, были обычным явлением[21]. Например, венецианская статистика, которая ко второй половине XVI века стала вполне надёжной, показывает, что в 1575–1577 гг., а затем в 1630–1631 гг. от чумы умерла треть или больше населения города[22].
--
СНОСКИ
[1] В.Н. Фёдоров (V. N. Fyodorov, “The Question of the Existence of Natural Foci of Plague in Europe in the Past” // Journal of Hygiene, Epidemiology, Microbiology and Immunology [Рrague] 4 (1960), 135-41) утверждает о незапамятной древности бубонной инфекции, исходя из того единственного основания, что в древние геологические эпохи в Европе имелись подходящие для грызунов условия. Н. П. Миронов (N. P. Mironov, “The Past Existence of Foci of Plague in the Steppes of Southern Europe” // Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunology, 29 (1958), 1193-98) делает аналогичное утверждение с тем же обоснованием. Это абсурдно, поскольку одно существование сообщества грызунов, способного сохранять инфекцию чумы, не гарантирует фактического присутствия в нем чумной бациллы, что в полной мере доказывает распространение эндемической чумы среди грызунов Северной Америки в ХХ веке.
[2] J. N. Biraben and Jacques LeGoff, “La Peste dans le Haut Moyen Age” // Annales: Economies, Sociétés, Civilisations, 24 (1969), 1508.
[3] Michael Walter Dols, The Black Death in the Middle East (unpublished Ph.D. dissertion, Princeton, 1971). p. 29.
[4] Список зарегистрированных эпизодов чумы до 1894 года очень кстати собран в работе: Georg Sticker, Abhandlungenaus der Seuchengeschichte und Seuchenlehre, I (Giessen, 1908). Всесторонний список Штикера демонстрирует, что чума постоянно присутствовала в Европе на протяжении 15 лет после 1346 года, а поскольку многие её вспышки в этом списке определённо не отражены, можно совершенно не сомневаться, что человеческие инфекции были ещё более распространёнными.
[5] Daniel Panzac, “La Peste à Smyrne au XVIIIe Siécle”, Annales: Economies, Sociétés, Civilisations, 28 (1973), 1071-93. По моему мнению, в этой статье содержится доказательство того, что чума не была эндемичной для Смирны, а появлялась благодаря повторным заражениям с внутренних территорий, то есть приходила вместе с крысами, блохами и людьми, которые подхватывали инфекцию от диких степных грызунов. Именно эта статья стала стимулом для моей представленной в этой книге гипотезы о происхождении чумы XIV века.
[6] Густонаселённые сообщества норных грызунов существуют только в полупустынных степях – земледелие, уничтожающее их норы, обычно вытесняет такие сообщества с земель, которые достаточно орошаются дождями для обеспечения урожая зерновых. Следовательно, точные географические пределы эндемичного распространения чумы среди степных грызунов, несомненно, менялись на протяжении столетий – в XIV веке они могли простираться на запад от аналогичной границы ХХ века на большую часть или на всю нынешнюю Украину. Срв. N. P. Mironov, “The Past Existence of Foci of Plague in the Steppes of Southern Europe” // Journal of Microbiology, Epidemiology and Immunology, 29 (1958), 1193-98.
[7] Ping-ti. Ho, Studies on the Population of China, 1368-1953 (Cambridge, Massachusetts, 1959), p. 10. Ценные сводные данные недавних научных оценок изменения численности населения Китая в графическом виде представлены в: John D. Durand, “The Population Statistics of China, A.D. 2-1953” // Population Studies, 13 (1960), 247.
[8] D. H. S. Davis, “Plague in Africa from 1935 to 1949” // World Health Organization, Bulletin, 9 (1953), 665-700.
[9] Детали этого принципиального для европейской истории события см. в: Roberto Lopez, Genova Marinara nel Duecento: Benedetto Zaccaria, ammiraglio e mercanti (Messina-Milan, 1933).
[10] David Herlihy, “Population, Plague and Social Change in Rural Pistoia, 1201-1430” // Economic History Review, 18 (1965), 225-44.
[11] В Европе кульминацией начавшегося около 1300 года «малого ледникового периода» стал промежуток 1550–1850 годов; на смену ему пришёл более тёплый температурный режим ХХ века. Cрв. Emmanuel Le Roy Ladurie, Times of Feast, Times of Famine: A History of Climate Since the Year 1000 (New York, 1971), а также умозрительное объяснение долгосрочных климатических колебаний в: H. H. Lamb, The Changing Climate (London, 1966), pp. 170-94. Из китайских записей можно сделать вывод, что в Китае в целом разворачивались сопоставимые климатические изменения. График колебания температур см. в: Chu K’O-chen, “Chung kuo chin wuch’ ien nien laich’ ihou piench’ ien tech’ upuyen chiu” [Первоначальные исследования изменений климата Китая за последние пятьсот лет] // K’aokuksüehpao (1972), p. 37. Эту схему представил моему вниманию и перевёл Хаш Скоджин. Ключевой основой данного графика являются локальные записи, где отмечались годы, когда Янцзы замерзала зимой.
[12] Условия возникновения «лёгочной» чумы остаются невыясненными. Ряд специалистов отрицают значимость лёгочной чумы в Европе XIV века. Срв. J. F. D. Shrewsbury, A History of Bubonic Plague оn the British Isles (Cambridge, 1970), p. 6 и далее, а также контраргументацию в: C. Morris. “The Plague in Britain” // Historical Journal, 14 (1971), 205-15. Объяснение распространения инфекции из-за скоплений крыс на мукомольных мельницах, которое даёт Барбара Додуэлл, вероятно, удовлетворительным образом примиряет эпидемиологический подход Шрюсбери с историческими фактами. Додуэлл разработала свою гипотезу для объяснения того, каким образом чума могла проникать в слабозаселённые регионы, о чём свидетельствуют источники, хотя Шрюсбери заявлял о невозможности этого с эпидемиологической точки зрения. Педантичный учёный, мисс Додуэлл ещё не делала никаких публикаций относительно решения данной проблемы, однако в личной переписке великодушно поделилась своими идеями на сей счёт.
[13] Shrewsbury, op. cit., p. 406. Шрюсбери является специалистом-бактериологом по медицинским аспектам чумы, даже несмотря на то, что его исторические оценки остаются противоречивыми. Последняя вспышка чумы, происходившая при отсутствии благотворного влияния пенициллина и близких к нему антибиотиков, которые быстро уничтожают эту инфекцию, была в Бирме в 1947 году, когда сообщалось о 1192 умерших из 1518 заболевших, то есть уровень летальности составил 78%. Pollitzer, Plague (Geneva, 1954), p. 22.
[14] August Hirsch, Handbook of Geographical and Historical Pathology, I, 498.
[15] Josiah C. Russell, “Late Ancient and Medieval Population» // American Philosophical Society Transactions, 48 (1958), 40-45; Philip Ziegler, The Black Death (New York, 1969), pp. 224-31. Шрюсбери (Shrewsbury, op. cit., p. 123) настойчиво утверждает, что на территории Великобритании от бубонной чумы умерло всего 5% населения, исходя из предположения, что лёгочная чума себя там не проявила. Однако он допускает, что на фоне чумы последовал недиагностированный тиф, который увеличил смертность до 40–50%, о чём есть данные, относящиеся к английскому духовенству в 1346–1349 годах. Вопрос о том, можно ли хорошо запротоколированный и исключительно высокий уровень смертности среди этой группы экстраполировать на всё население, стал предметом значительных споров с того момента, когда Фрэнсис Эйден Гаскей (F. A. Gasquet, The Black Death of 1348 and 1349, 2nd ed. (London, 1908)) впервые обнаружил этот факт, внимательно изучая записи монастырей и епархий.
[16] Итальянские свидетельства обладают очень богатым потенциалом, но тщательное их изучение только началось. Срв. William M. Bowsky, “The Impact of the Black Death upon Sienese Government and Society” // Speculum, 39 (1964), 1-34; David Herlihy, “Population, Plague and Social Change in Rural Pistoia, 1201-1430” // Economic History Review, 18 (1966), 225-44; Elisabeth Carpentier, Une Ville Devant la Peste: Orvieto et la Peste Noire de 1348 (Paris, 1962). В некоторых городах Франции также имеется обилие нотариальных записей, которые могут предоставить сведения о погибших от чумы. Срв. Richard W. Emery, “The Black Death of 1348 in Perpignan” // Speculum, 42 (1967), 611-23, где уровень смертности от чумы среди нотариата в Перпиньяне оценивается в 58–68%.
[17] Тем не менее в России произошла серьёзная эпидемия чумы. Срв. Рассмотрение потерь от чумы в России и их социально-политических последствий в: Gustave Alef, “The Crisis of the Muscovite Aristocracy: A Factor in the Growth of Monarchical Power” // Forschungen zur osteuropaischen Geschichte, 15 (1970), 36-39; Lawrence Langer, «The Black Death in Russia: Its Effects upon Urban Labor» // Russian History, II (1975), 53-67.
[18] George Rosen, A History of Public Health (New York 1958), p. 67·
[19] Фундаментальная работа – Daniel Panzac, “La Peste à Smyrne au XVIIIe Siècle” // Annales: Economies, Sociétès, Civilisations, 28 (1973), 1071-93. Пол Кассар (Paul Cassar, Medical History of Malta (London, 1964), pp. 175-90) документирует появления чумы на Мальте до XIX и ХХ веков и описывает во всех подробностях традиционные методы карантина в этом средиземноморском порту.
[20] Георг Штикер (Georg Sticker, Abhandlungen aus der Seuchengeschichte, I, 222-36) насчитывает 87666 умерших, или 35% населения поражённых эпидемией частей Прованса. См. детали в: Paul Gaffarel et Mis de Duranty, Lа Peste de 1720 à Marseille et en France (Paris, 1911); J. N. Biraben, “Certain Demographic Characteristics of the Plague Epidemic in France”, 1720-22, Dаеdalus (1968), pp. 536-45.
[21] См. обзор в: Roger Mols, Introduction à la demographie historique des villes d’Europe du XIVe au XVIIIe siècle, 3 volumes (Louvain, 1954-56).
[22] Daniele Beltrami, Storia della Popolazione di Venezia (Padua, 1954). Детальное описание общественных мер, при помощи которых справлялись с чрезвычайной ситуацией чумы 1575– 1577 годов, срв. в: Ernst Rodenwalt, Pest in Venedig, 1557-77: Ein Beitrag zur Frage der Infektkette bei den Pestepidemien West Europa (Heidelberg, 1953).

ОТ ЛИЧНОГО К ОБЩЕСТВЕННОМУ
АЛЕКСАНДР БАУНОВ
Эксперт Московского центра Карнеги, главный редактор сайта Carnegie.ru
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПУТИНА КАК ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ И СОВРЕМЕННОСТИ
Этой осенью преобразился очередной уголок Москвы. Смоленская площадь, известная всему миру как синоним российской дипломатии, из плешивого пустыря в тени министерского небоскреба превратилась в общественное пространство, обустроенное по современной урбанистической моде. Владимир Путин лично открыл на ней памятник бывшему министру иностранных дел и премьеру Евгению Примакову, который больше всего запомнился самой радикальной в новейшей российской истории формой отмены визита в США – разворотом правительственного самолета над Атлантикой, когда натовские войска начали бомбардировки Югославии. Тому самому Примакову, который должен был победить на выборах 2000 г. команду Бориса Ельцина и ее нового фаворита Владимира Путина, но проиграл в медийной войне и отступил на старте.
Российский «стеснительный авторитаризм» не грешит прямым возвеличиванием своего лидера. К изумлению многих иностранцев, представляющих себе Россию по тоталитарным антиутопиям из кинематографа, здесь нет ни улиц, названых в честь правителя, ни его громадных портеров, ни статуй. Максимум, что позволяет себе лично скромный и уже по этой причине гибридный российский режим – это прославление образцов из прошлого с намеком на то, что их мечты сбываются.
Во время своего временного премьерства Владимир Путин почтил статуей Петра Столыпина — царского премьер-министра реформатора и патриота, строителя новой капиталистической России под государственным главенством, врага революционеров и слишком буквально понятого народовластия. Бронзовый Столыпин у дома правительства – памятник экономическому курсу Путина, тем самым двадцати годам покоя, после которых царский премьер обещал сделать Россию неузнаваемой, а Путин сделал – что по сравнению с советским временем, что с девяностыми – постоянной и удобной для нынешнего правления референтной точкой. Бронзовый Примаков – памятник собственному внешнеполитическому курсу, который эти двадцать лет покоя обеспечил. Он наметился при Примакове, но обрел полную силу при новом президенте. Это памятник тому самому развороту над Атлантикой – к себе самим и прочь от несправедливого Запада, который требует поддержки без вопросов, одобрения без совета, следования без равенства. Важно, как и со Столыпиным, что герой памятника наметил направление, но не прошел путь до конца, начал, но не реализовал. И тот, и другой – памятники не человеку-успеху, а человеку-идее, человеку-попытке. А реализованы и та, и другая сейчас.
Парадокс в том, что Путин поставил памятник не ушедшему деятелю собственного времени, а политику эпохи девяностых, от которых при каждом упоминании отталкивается. Ведь и разворот над Атлантикой произошел тогда, и особая позиция по югославской войне, Ираку, и возражения по поводу расширения НАТО, и отрицательное отношение к смене режимов, и обвинения в двойных стандартах – всё это относится ко времени, когда Россия считалась молодой демократией, которая движется на Запад, будущим союзником, чьи выборы были честными, пресса – свободной, а экономика – рыночной. Таким образом, путинская внешняя политика была сформулирована – как идея и как попытка – в ельцинский демократический период, к которому у Запада почти нет претензий и который там принято вспоминать с ностальгией.
Личное и сокровенное
Внешняя политика России называется «путинской» по тому же принципу, по которому всё после двадцати лет правления Владимира Путина (слегка, как неглубоким сном, прерванного на рубеже 2010-х гг.) в России можно назвать «путинским»: политическую систему, государственную машину, сельскохозяйственную и промышленную политику, финансы, моду, кухню, кинематограф, рассветы, закаты и движения комет. Так устроены все долгие правления, в этом их привлекательность для правящего.
Поскольку период, когда Путин персонифицирует российское государство, теоретически подходит к концу, должна подходить к концу и путинская внешняя политика, которая доставила Западу столько неприятностей, а за ней начаться какая-то другая, не путинская внешняя политика, которая неприятностей доставлять не будет.
Эта убежденность основана на том, что Путин и есть самая большая неприятность, которая могла случиться с Россией. В этом виде тезис не выглядит доказанным даже для самого поверхностного рассуждения, поэтому больше принят другой его вид: Путин – неприятность, которой могло бы не случиться. И такова же его внешняя политика – случайный узел на полезном канате, затяжка на гладком вязании, яма на дороге. Бронзовый Примаков призван напомнить, что это не обязательно так.
В персоналистском правлении все персонально, но, если выделить в деятельности Путина самое персональное, личное и сокровенное, – это внешняя политика. На всех прямых линиях и пресс-конференциях президент говорит о ней с очевидно большей увлеченностью, чем об остальном. Можно представить себе решения в области экономики, госстроительства, выборов, принятые не Путиным, не его репрессии, не его кадровые назначения, не его слияния и поглощения компаний. Но сколько-нибудь серьезных внешнеполитических решений, принятых не им, представить себе нельзя. Значит ли это, что их не случилось бы без него?
Правление Франсиско Франко в Испании – один из самых поучительных примеров персоналистского правления в развитом мире. Профиль каудильо чеканился на монетах до самого 1975 г., и все важные решения в стране были персональными. Тем не менее во внешней политике Испания ориентировалась сначала на державы «оси», затем, обличая весь в мир в двойных стандартах, добивалась членства в ООН, строила особые отношения с Америкой на прочном фундаменте антикоммунизма, а с 1960-х гг. во времена экономических реформ добивалась членства в ЕЭС, хотя так и не была принята до смены режима на демократический. Тогда же под бесконечные требования вернуть домой Гибралтар Испания – так же, как ее демократические соседи по Европе и даже более мирно, – распустила колониальную империю, отпустила Марокко и Гвинею, быстро сдалась в короткой войне за Сиди-Ифни и в момент смерти Франко не стала препятствовать мирной, хоть и не одобренной ООН, марокканской аннексии Испанской Западной Сахары (Испанской Западной Африки). При всех оттенках трудно представить себе, чтобы демократическое правительство на месте франкистского делало бы что-то совсем другое, противоположное. Персоналистским был способ действий, но не сами действия.
В декабре 2019 г. лауреат Нобелевской премии мира, лидер демократической оппозиции, которая стала властью, бывшая политическая узница и героиня западных газет Аун Сан Су Чжи оправдывала действия бирманских военных, своих недавних тюремщиков, против народности рохинджа в Международном суде по правам человека в Гааге на слушаниях по иску Гамбии, обвиняющей Мьянму в геноциде. Оказалось, что действия молодой демократии Мьянмы под руководством одной из самых известных в мире демократических оппозиционерок не сильно отличались от образа действий военной хунты. Разве что ее глава не поехал бы ответчиком в Гаагу.
Мы можем предположить, что российская внешняя политика тоже имеет ряд черт, которые существуют сами по себе – как силовые линии и магнитные поля, как гравитация и климат, но приписаны Путину по принципу: «а кому же еще». Разбирая внешнюю политику путинской России, надо определиться, где в ней Путин, а где Россия.
Витки спирали
Самый верный ответ на вопрос, чем занимался Путин в эти свои двадцать лет у власти: восстанавливал утраченный международный статус России. Сначала препятствовал его дальнейшему падению, а потом любовно выращивал и ограждал от внутренних и внешних посягательств. Это главный мотив всех действий в экономике, по отношению к оппозиции и главный принцип выбора будущего устройства власти после 2024 года.
Популярные и непопулярные меры, рыночные и антирыночные действия, наймы и увольнения, приговоры или их отсутствие нужно рассматривать под тем же углом, под которым их видят в Кремле: насколько они способствуют сохранению возвращенного международного престижа, который является формой национальной безопасности: чем больше престижа, тем безопаснее.
Предыдущий президент Борис Ельцин решал другую задачу: его приоритетами были рыночные реформы, демонтаж власти Коммунистической партии, создание и защита нового класса собственников, остановка распада России посредством ее большей федерализации, интеграция в мировую капиталистическую систему, в том числе на правах младшего партнера США.
Тем не менее оба президента России, которых принято противопоставлять друг другу, Ельцин и Путин, проделали сходную эволюцию во внешнеполитическом поведении, которая заняла примерно один и тот же срок – пять-семь лет.
Период Ельцина начался сворачиванием российского военного присутствия за рубежом, нестандартными для главы России визитами и дружбами, терпимым отношением к западным силовым акциям и стремлением вступить в западные структуры. А закончился жестким оппонированием западной военной операции в Сербии, борьбой против расширения НАТО и напоминанием о собственном ядерном оружии.
Период Путина начался сворачиванием остатков российского военного присутствия за рубежом – закрытия военных баз в Лурдесе на Кубе и в Камрани во Вьетнаме, напряженно-шутливым предложением вступить в НАТО, которое могло бы перерасти в серьезное, желанием присоединиться к единой Европе по формуле «все общее, кроме институтов», нерадостным, но относительно спокойным восприятием расширения НАТО и попыткой закамуфлировать его посредством привилегированного Совета Россия – НАТО, в котором, как говорили тогда чиновники, у России будет даже больше прав, чем у новых членов. А кончился гибридной войной и возвращением к статусу глобального противника, который мало того, что мешает реализовывать национальные интересы США в разных частях мира, но и атаковал Америку на ее собственной территории, нанес ей киберпоражение в виде избрания Дональда Трампа.
В противоположную сторону развивалась внешняя политика Дмитрия Медведева, который начал с войны, навязанной ему Михаилом Саакашвили, и перешел к поддержке западного варианта резолюции о бесполетной зоне в Ливии. Впрочем, его правление было короче, чем у коллег, а временная поддержка западных действий в Ливии обернулась раздосадованным: «мы не за это голосовали».
И для Ельцина, и для Путина поворотными моментами были действия Запада в Югославии, в Ираке, на Кавказе, в Восточной Европе, которые в России воспринимали как кричащую несправедливость не только президенты, но и большая часть населения. В каком смысле тогда можно говорить о персоналистской внешней политике Путина, если она по настроению совпадает с представлениями граждан о справедливом ответе на внешнеполитические обиды?
Продавец зонтиков
У России есть одна черта, которая отличает ее от всех стран западного лагеря и которая никуда не исчезла бы, стань Россия его членом. Россия может защитить себя сама. Больше того – Россия может защитить не только себя, но и других, предоставляя уникальные услуги в области безопасности и обороны: помог себе, помоги товарищу. Во всем западном мире есть только одна такая страна – Соединенные Штаты Америки. С Россией их было бы две.
Речь идет о защите от глобальных, тотальных угроз. От угрозы завоевания, раздела, оккупации, взятия столицы, смены власти насильственным путем, изменения границы извне и отторжения территорий. Эта способность России ставит ее в мире, независимо от несовершенства политических институтов, технологического отставания и среднего уровня экономики, на совершенно особенное место. Подобной способностью защитить самих себя и при желании – других обладают всего несколько стран. Судя по всему, эту группу государств Путин и называет «полностью» или «подлинно» суверенными, когда снова и снова настойчиво возвращается к теме суверенитета.
Составными частями этого понятия можно считать ядерное оружие и количество обычных вооружений, размер населения и территории, водного и воздушного пространства, обеспеченность природными ресурсами и промышленностью, способность самостоятельно заместить выбывшие вооружения, наличие достаточно большого числа людей, готовых сражаться за родину (территории и даже армии Франции и Германии в 1940 г. были сопоставимы, но настроения различны). И – это критически важно – способность нанести любому, абсолютно любому противнику ущерб, после которого он не сможет продолжить прежнее существование. Грубо говоря: Россия – страна, которую нельзя завоевать и сама попытка ее завоевания обойдется неоправданно дорого.
На протяжении нескольких десятилетий второй половины ХХ века таких стран было две – Соединенные Штаты и Советский Союз. В девяностые казалось, что остались только США. Позже к ним присоединился Китай. Несомненно, к группе слишком больших, чтобы пасть, относятся Индия и даже Пакистан. Изо всех сил старается взломать дверь и присоединиться к клубу Северная Корея, которая для этого попросту слишком мала. Данный недостаток она станет компенсировать дерзостью.
Однако даже ядерные Индия и Пакистан пока являются такими непобедимыми скорее на региональном уровне, чем на глобальном. Трудно представить себе их эффективную оккупацию, но вполне возможно – военное поражение или попытку его нанести, которая необязательно будет сопровождаться неприемлемым уроном для того, кто такую попытку предпримет. Чувство неотвратимости ответа, чувство фатальной его неизбежности совсем не так сильно, как в случае с Россией. То же относится к ядерным Великобритании и Франции, если рассматривать их отдельно, вне военного союза с Соединенными Штатами.
Из всех полностью суверенных и слишком больших для внешнего правления государств только в отношении России – как снаружи, так и внутри нее самой – возможен и продолжается разговор о том, может ли она и на каких условиях стать членом западного мира. В отношении Индии или Китая такой разговор не ведется.
То есть Россию продолжают рассматривать как возможного участника западного, европейского и атлантического мира, и главная претензия к ней по-прежнему состоит в том, что она не соответствует условиям этого потенциального членства.
Конечно, западный мир – общество демократий, а Россия не демократия. И все же Россия не так уж сильно отличается от множества стран, которые западный мир считает союзниками. Умеренный российский авторитаризм с рыночной экономикой и большой потребительской свободой похож на те режимы, которые США в период сдерживания коммунизма объявляли бастионами свободного мира.
Но есть одна претензия, одно условие, которое не относится к области справедливого и несправедливого. От западных демократий Россия отличается именно тем, что не нуждается в чужой защите, в частности – ей не нужны гарантии лидера западного мира, Соединенных Штатов Америки. Россия была бы в западном мире вторым государством, которое повторяло бы уникальные свойства США – способность защититься и защитить – и тем самым размывало бы уникальность и исключительность США на их канонический территории. Не нуждаясь в защите, Россия и внутри западного лагеря вела бы себя независимо, не имела бы стимулов подчиняться общим решениям. Репетиция будущего неповиновения произошла во время югославской и особенно косовской войны, когда Россия была членом «Большой восьмерки» и еще считалась идущей к соединению с западным миром.
На услуги альтернативного защитника в западном лагере нашелся бы спрос, игра на создании коалиции внутри коалиции, своего лагеря внутри западного была почти неизбежна, как и особое мнение по ряду вопросов. А значит, полноценное вхождение любой России – в том числе демократической – было почти немыслимым.
Метод избегания прошлого
На саммите глав стран СНГ в декабре 2019 года Владимир Путин прочел сорокаминутную лекцию о начале мировой войны, обещал написать статью, где распишет по дням и часам, как всё было, и покажет, что вины России тут нет – или она уж точно не больше, чем вина Запада. Президент, как утверждается, читает много книг по истории. Опрос о возможности сдачи Ленинграда вместо обороны в блокаде решил судьбу «Дождя» в национальных кабельных сетях. Очевидно, Путина не оставляет мысль о том, что можно выиграть на поле боя и проиграть на страницах газет и телеэкранах. Рубеж личной битвы Путина за историю – Россия ошибалась внутри (революция, репрессии, колхозы), но всегда была права (или вынужденно, контекстуально права) снаружи. Отступления признаются неудачными: совместная память о Катыни с прагматиком Дональдом Туском не улучшила отношений с Польшей.
Бывшая государственная граница СССР и границы суверенных государств на его месте для Путина очевидно разной прозрачности. Он неустанно объясняет Бушу, Меркель, Обаме, Трампу сложное внутреннее устройство Украины и Грузии, которые для них выглядят просто пятнами на карте – такими же, как Голландия или Эквадор. Нарушение этих призрачных, нарисованных большевиками границ – столь же призрачное преступление, за которое нельзя наказывать, как за настоящее.
Не колонии, а несправедливо утраченные части русской земли и русского этноса, который с украинцами и белорусами – почти один народ. И этот самый единый русский этнос подарил казахам, да и другим народам, их государственность (как если бы национальное строительство не происходило бы в любом случае).
Выход за украинские границы для Путина обусловлен их ментальной прозрачностью: они все еще административные, межреспубликанские, а не межгосударственные. С другой стороны, Россия пересекает их не просто так, а в тот момент, когда другая сторона пытается уничтожить их прежнюю гуманитарную и экономическую межреспубликанскую прозрачность, сделать их межгосударственными и даже межблоковыми, приблизить НАТО к Ростову и Курску. С точки зрения Запада, Россия напала на соседнее государство. С точки зрения России – наоборот. «Все войны Путина – оборонительные» – лучшая гипотеза для объяснения действий его России в мире.
Личные черты во внешней политике Путина могут скрываться совсем не там, где мы их ищем. Прежде всего, они окрашены опытом советского человека, не желающего повторять ошибок советских руководителей. И они не всегда соответствуют зарубежному мифу о Путине.
Важнейшая среди них – приверженность капитализму, который рассматривается как фундамент безопасности и конкурентоспособности России. СССР проиграл и распался, потому что пытался создать систему, полностью альтернативную рынку. В результате его плохо накормленное и неказисто одетое население превратилось в народ завистников, готовый, как говорилось в популярном анекдоте, объявить войну Финляндии и через день сдаться. В каком-то смысле так и произошло, только без объявления войны. Поэтому нужно не выдумывать альтернативу, а строить капитализм для себя.
Путин скептически относится к возникшему в девяностые классу крупных собственников, разделяет народное мнение, что большие состояния появились не благодаря талантам их обладателей, а благодаря умению вовремя захватить кусок государственного достояния. Поэтому он относится к частным активам без священного трепета и всегда готов, если посчитает нужным, перераспределить их в пользу государства или других, более патриотично настроенных либо подконтрольных собственников. Однако он не сделал за двадцать лет того, чего ждало на рубеже 1990-х – 2000-х гг. едва ли не большинство простых граждан: не отменил итоги приватизации и не вернулся к государственной экономике, то есть так и не превратил Россию в большую Белоруссию.
На месте лихого капитализма девяностых не возникла белорусская модель с госпланом, государственными заводами и совхозами. Путин – стихийный или, вернее, интуитивный рыночник, как и всякий трезвомыслящий человек его лет, который помнит советскую экономику. В первые годы у власти он поощрял вхождение российского класса крупных собственников в мировой клуб, поддерживал слияние деловых элит, предполагая, что это сделает Россию сильнее. Одобрял сделки вроде слияния ТНК и BP или сорвавшуюся попытку «Северстали» купить Arcelor. После 2008 г. и санкций 2014 г. был взят противоположный курс на репатриацию элиты и создание патриотического бизнеса, который живет, тратит и инвестирует в России. Проблем здесь пока не меньше, чем успехов, но сам рыночный тип отношений не становится предметом пересмотра. Даже с санкциями современная Россия – более конвенциональный участник глобальной рыночной экономики, чем СССР или любая другая соцстрана без санкций.
По той же причине Путин не форсирует социальное государство внутри страны. Раздутое социальное государство слишком дорого и подрывает глобальную конкурентоспособность России. Советский Союз проиграл, несмотря на социальные гарантии, которыми так хвалился перед собой и миром, а население распадающейся страны не вышло его защитить. Поэтому желанные меры, о которых граждане не устают говорить с социологами, вроде фиксированных цен на базовые товары, раннего выхода на пенсию, разовых массовых повышений зарплат и пенсий из государственной копилки – не принимаются.
Финансовая безопасность считается важнее рейтинга. В первые годы правления правительство России сохраняло очень низкие пенсии и зарплаты бюджетникам, по сути, принимало коррупционную ренту как форму вознаграждения чиновников, но ускоренными темпами расплатилось с зарубежными кредиторами. С тех пор внешний долг России остается одним из самых низких в мире. Тогда же ради балансировки бюджета монетизированы (с небольшой компенсацией, растворившейся в тогдашней высокой инфляции) сотни советских льгот, несмотря на протесты населения и падения рейтингов власти. Зато в 2009 г., когда мировой финансовый кризис грозил «олигархам» потерей бизнеса, Путин выделил им бюджетные средства на спасение от margin calls их компаний, под залог докризисной стоимости которых они брали кредиты. Не слишком популярная мера была призвана сохранить стратегические активы в руках российских бизнесменов. Точно так в совершенно другую эпоху, но по сходным соображениям «прозападный» Борис Ельцин не допустил зарубежный капитал к приватизации.
В 2014 г., несмотря на падение цен на нефть и распугавшие инвесторов санкции, Путин не стал задерживать переход рубля к полной конвертируемости. Правительство и ЦБ ничего не предприняли, хотя в этих условиях переход очень быстро спровоцировал двукратную девальвацию. Она вызвала недовольство среднего класса и сократила доступность импорта и путешествий, зато сохранила сбалансированность бюджета: валютная выручка давала теперь в два раза больше рублей, и это позволило выполнить бюджетные и социальные обязательства в рублевом выражении.
Кремль не остановился перед непопулярной пенсионной реформой, уронившей рейтинг президента, – наоборот, президент лично взялся объяснять ее населению.
Зато Путин готов на социальные траты там, где они направлены не просто на поддержку потребления или своей популярности, а там, где поддержка напрямую связана с темой безопасности. Материнский капитал – беспрецедентно реальная субсидия в мире символических российских пособий. С 2007 г. его размер вырос с 250 до 453 тысяч рублей. Массированное вложение в рождаемость – борьба с депопуляцией русских просторов – тоже рассматривается как вопрос безопасности.
По контрасту с архаичным характером политических институтов в его России и тем, что сам Путин является скорее аналоговым, чем цифровым и сетевым человеком, электронные государственные сервисы и быстрый интернет для максимально большого числа людей признаны способом сократить технологическое отставание и не пропустить пятую технологическую революцию. Технологическое отставание разрушило СССР, нового допустить нельзя.
Россию нельзя победить во внешнем противостоянии, единственный способ – сделать это изнутри. Внешнюю политику России часто трактуют как продолжение внутренней (война – средство повышения рейтинга). В действительности дело обстоит скорее наоборот: внутренняя политика в России Владимира Путина – продолжение внешней.
Все ограничения, наложенные на деятельность политических институтов и на гражданские свободы, все технологии управления выборами и прессой направлены на то, чтобы Россия, которую нельзя победить снаружи, не была побеждена изнутри.
Аполитичная политика
Забота о безопасности – следствие восприятия России как слабого, хрупкого государства. Поколение Путина, как и – пока еще – большинство ныне живущих граждан России, застало коллапс собственной страны, изменение ее границ, флага и гимна, потерю накоплений, утрату союзников и международного авторитета (модные в восьмидесятые, особенно при Михаиле Горбачёве, русские стали совсем немодными в девяностые), полную смену жизненных планов, хотя у многих в конечном счете корректировка произошла в лучшую сторону. В то же время еще поколение деда Владимира Путина и его ровесников из первых уст рассказывало своим внукам о полном разрушении предыдущей российской государственности, которая исчезла в огне и дыме революции и гражданской войны и возродилась в полную силу только после того, как вышла из смертельной опасности Второй мировой.
По всему видно, как Путин не любит революционеров и критически настроенную интеллигенцию, дважды в прошлом столетии разрушивших великую российскую державу. Даже если они действовали с лучшими намерениями, результатом воспользовались геополитические конкуренты – с худшими.
Большевики были слишком идеологизированы и политизированы, сказал он на большой пресс-конференции 2019 года в Кремле, и забыли о геополитике. Отсюда вывод: бессмысленно заниматься преобразованием страны изнутри, не думая о том, какие последствия это повлечет снаружи. Россия никогда не будет достаточно хороша для похвалы, Россию превозносят, только когда она слабеет, поэтому внешним аудитом действий российской власти вообще можно пренебречь. Имеют значения лишь оценки службы собственной безопасности – вроде той, в которой работал сам Путин.
Из принадлежности к спецслужбам – неверие в случайность и стихийность. В лесу может вырасти гриб, но не айфон. Да и гриб, вероятнее всего, кто-то и зачем-то посадил. Не бывает случайных протестов, статей, оговорок. Всё – части плана. Алексею Мордашову не удалось купить Arcelor не просто потому, что его переиграл Лакшми Миттал, а потому, что русский бизнес не хотели пустить в Европу. Подтверждение такому анализу всегда можно найти: достаточно посмотреть на историю «Южного» и второго «Северного» потоков. Сравниваем случайное с неслучайным, спонтанное с запланированным (такое ведь тоже бывает) и получаем картину мира, построенного по чужому генплану. А жителей спросили?
Так Россия, которая внутри культивирует стабильность, во внешнем мире оказывается проводником дестабилизации – вроде независимых депутатов на выборах в Мосгордуму 2019 года. И жертвой мирового «московского дела», когда ее пытаются за это наказать – в том числе поддерживая тех, кто дестабилизирует ее изнутри. На них она и отыгрывается.
К 75-летию Победы во Второй мировой войне Путин обещает написать статью, где покажет правомерность действий советского руководства в ее начале. В отличие от ленинского Совнаркома революционеров оно руководствовалось не идеологией, а геополитикой (отсюда и готовность подружиться с империалистами, и пакт с ненавистными фашистами), значит – действовало верно.
Это полностью соответствует современной российской внешней политике. Она по сравнению с советской – предельно безыдейна. Друзей и врагов больше не выбирают, сверяясь с руководящей линией. Мир не разделен на своих и чужих по идеологическому принципу, экономическому или государственному строю.
Строго говоря, друзей и врагов в старом смысле тоже нет. Друзья – любые страны, когда они не отрицают права России отстаивать свои интересы и заседать за столом мирового совета директоров. Противники – те, кто реализации этих прав препятствуют. Иногда это одни и те же страны. Отсюда немыслимая для советской и даже современной американской политики неразборчивость (официально называется «прагматизмом»): партнер может быть демократией или диктатурой, монархией или республикой, правительство – левым или правым: нужна не любовь, а признание интересов. Отсюда же – немыслимый для советской дипломатии одинаковый уровень отношений с государствами, враждующими друг с другом. Однако подход, такой успешный в мире развивающихся стран, вдруг начинает плохо работать с западными странами, где принципы и ценности – когда реально, когда декларативно – составляют часть внешней политики.
Похвалы геополитическому прагматизму советских правительств сталинского и последующих времен по сравнению с более радикальными соратниками (маоистский Китай был готов войной решить вопрос о превосходстве систем, Фидель Кастро – принести Кубу в жертву победе мировой социалистической идее) подтверждают, что Владимир Путин видит собственный режим по сравнению с режимами Ельцина и Горбачёва как власть эпохи реставрации. Но власть такую, которая должна зафиксировать не только убытки, но и прибыли, принесенные нежеланной, хотя и неизбежной революцией рубежа восьмидесятых-девяностых, а не просто вернуть все как было и поставить мебель, как она стояла при Людовике XVI. Иногда, впрочем, все равно получается, как при Людовике, например в разговорах про единый народ русских, белорусов и украинцев, хотя 30 лет в разных странах уже сделали народы разными.
Цель внешней политики российского президента тоже можно назвать контрреволюционной и реставрационной – пересмотреть итоги «конца истории» 1990-х гг. и вернуть утраченные позиции России в мире. Но методы не равны простой реставрации методов СССР. Основным способом восстановления утраченных позиций является тщательное избегание старых ошибок, которые привели СССР к геополитическому проигрышу.
Но ошибки забываются по мере удаления от них. Новые поколения помнят их смутно. Социологи говорят: общество, которое только что молилось на стабильность, больше не опасается неопределенности, оно вновь ждет перемен, даже радикальных. Журналисты независимых СМИ жалуются в частных разговорах – в непокорном Шиесе, где протестуют против ввоза мусора из Москвы, трудно найти ракурс палаточного лагеря, чтобы в кадр не попадал флаг с профилем Сталина.
Продление путинизма – так власть, судя по всему, видит транзит 2024 г. – принесет косметические изменения и отложит ответ на вопрос о внешней политике России после Путина. Если любая следующая власть возьмет курс на ее пересмотр, здесь, как и во внутренней политике, возможно два исхода. Один из них – уход от борьбы за советский статус несоветскими методами и реставрация не только цели сделать Россию снова великой, но и способа действия. Ограничитель в виде тщательного избегания, обтекания ошибок позднего СССР падет, но может выясниться, что личное, путинское во внешней политике России лежит не с той стороны спектра, где ожидается. За Путиным не мягче, а еще упрямее.
А интеллигентским, или технократическим, вариантом пересмотра накопившегося в нынешнем периоде наследия будет попытка обеспечить собственный статус и безопасность через отказ от самоутверждения вопреки Западу. Тогда нас ждет очередной сезон сближения с европейским миром на общей культурной платформе. В ходе которого, несмотря на несходство многих интересных подробностей, выяснится, что главный герой неисправим, и внешняя политика, которую мы называем «путинской», получит новое, еще неизвестное нам имя.

Танкерная война. Версия 2.0?
Американо-иранские противоречия в Ормузском проливе
Павел Гудев – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.
Резюме Уровень провокационной активности в Ормузском проливе со стороны как Ирана, так и США и их союзников зашкаливает. Стороны ходят по грани «красной линии», пересечение которой чревато прямой военной эскалацией. Взаимные обвинения и троллинг вряд ли приведут к чему-то хорошему.
Во время ирано-иракской войны 1980–1988 гг. обе стороны активно наносили удары по судам, прежде всего экспортирующим нефть из государств Персидского залива. В танкерную войну оказались втянуты не только Иран и Ирак, ее последствия испытало около 30 внерегиональных государств (включая США и СССР), суда и корабли которых пересекали опасные акватории. По статистике, за 1984–1987 гг. было повреждено почти 340 кораблей и судов (в основном – танкеров), убиты 116 гражданских и военных моряков, 167 – ранены. В 1987 г. Соединенные Штаты были вынуждены для обеспечения безопасности судоходства и транспортировки энергоресурсов не только качественно и количественно нарастить свое присутствие в районе Персидского залива, но и начать сопровождение сначала американских, а затем и всех гражданских судов, следовавших через его акватории.
Сегодня Вашингтон вновь предлагает создать международную коалицию для патрулирования Ормузского пролива с целью предотвращения инцидентов, связанных с незаконным задержанием Ираном нефтеналивных танкеров. Тегаран в ответ напоминает о своих возможностях полностью блокировать пролив, подчеркивая, правда, что мера эта крайне нежелательная, но абсолютно неизбежная в случае возрастания давления.
Хроника эскалации – 2019
Хронология обострения американо-иранских взаимоотношений в 2019 г. насчитывает целую серию инцидентов, по итогам которых стороны не стеснялись обвинять друг друга в спланированных провокациях. Началось все с майской «диверсионной» атаки на четыре торговых судна в портовых водах ОАЭ. Затем, 13 июня, торпедному нападению в Оманском заливе подверглись два танкера под японским и норвежским флагами, американская разведка возложила ответственность за «теракты» на Иран. 20 июня иранские силы ПВО сбили американский БПЛА за нарушение границы национального воздушного пространства. Президент Дональд Трамп лишь в последний момент отменил ракетный удар возмездия, но иранские сети демонстративно подвергаются кибератакам. 4 июля в районе Гибралтара силы специального назначения Великобритании задержали по запросу США танкер Grace-1, перевозящий иранскую нефть в Сирию, что якобы является нарушением санкций ЕС против правительства Башара Асада. Действия Ирана не заставили себя ждать: 19 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) задерживает танкер Stena Impero под британским флагом за нарушение правил судоходства. Это событие становится кульминацией того, что можно считать новой танкерной войной в Персидском заливе.
Попробуем разобраться, насколько легитимны действия той или иной стороны с политико-правовой точки зрения и кто больше или меньше замешан в провокациях.
Сведения о подрыве танкеров в водах ОАЭ и Оманском заливе настолько противоречивы, что эти сюжеты лучше оставить за пределами нашего анализа. Относительно сбитого американского беспилотника позиции противоположны: Соединенные Штаты настаивали на том, что он был сбит в международном, а Иран – в национальном воздушном пространстве. Какие версии возможны?
Некоторые эксперты поспешили связать это происшествие с давним американо-иранским спором о том, что такое «Ормузский пролив», какими правами здесь наделены третьи страны и где проходят границы тех или иных морских и воздушных зон.
Напомним, что США, вполне традиционно, считают этот пролив международным с правом транзитного прохода в рамках Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Последнее распространяется на все гражданские суда и военные корабли, а также включает в себя право полета гражданской/военной авиации, причем транзитный проход (в нашем случае – полет) не может быть приостановлен. Позиция Ирана основана на том, что Ормузский пролив в его самой узкой части полностью перекрыт территориальными морями двух государств – Ирана и Омана, на которые распространяется полный государственный суверенитет, включая воздушное пространство. Иран считает, что здесь действует более жестко регламентированное право мирного, а не транзитного прохода, которое, в свою очередь, не предусматривает свободы полетов, в том числе БПЛА. На уровне национального законодательства эту позицию разделяет и Оман.
Однако американский беспилотник был сбит около входа в Ормузский пролив со стороны Оманского залива, что не снимает вопроса о правовом статусе вод пролива, но поворачивает ситуацию в иное русло. Может быть, действительно, БПЛА нарушил здесь границу между международным и национальным воздушным пространством, которая совпадает с внешней границей 12-мильного территориального моря Ирана? Такой вариант вполне допустим, ведь БПЛА, вне всяких сомнений, осуществлял разведывательную деятельность. У Ирана было полное право на приостановление полета, хотя вопрос о соразмерности применимых мер со ссылкой на статью 51 Устава ООН (право на коллективную/индивидуальную самооборону) – предмет для отдельной дискуссии.
С меньшей долей вероятности, но все же – это могла быть ошибка или же провокация американцев. Так, они никогда не соглашались с внешними границами морских зон, в том числе территориального моря, которые установил Иран. Они полагали, что проведение Тегераном прямых исходных линий для отсчета предписанных Конвенцией 1982 г. морских зон суверенитета и юрисдикции осуществлено с явными нарушениями: на слишком большом расстоянии от берега и с заметным отклонением от его общего направления. Соответственно, разное понимание того, где проходит внешняя граница территориального моря Ирана, могло стать причиной случайного или же намеренного вторжения американского беспилотника в иранское воздушное пространство.
Еще одна версия заключается в том, что американский БПЛА не нарушал национального воздушного пространства, но находился в пределах иранского района полетной информации (Flight Information Region, FIR). Такой район включает в себя часть международного воздушного пространства, устанавливается для обеспечения полетно-информационного обслуживания, а регулирование в его рамках применимо исключительно к международным коммерческим полетам. Теоретически можно предположить, что местное командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР), наблюдая полет американского БПЛА в иранской FIR, могло ошибочно посчитать, что его деятельность осуществляется в иранском воздушном пространстве. В итоге решение о необходимости остановить полет БПЛА было принято на местах, без согласования с центральным руководством в Тегеране и на основе некорректного понимания норм и положений международного права. По мнению американских экспертов, именно такая интерпретация привела к тому, что президент Трамп решил в последний момент отложить ракетный удар.
Выпадом на выпад
Ситуация с задержанием в Гибралтарском проливе танкера с иранской нефтью, которая якобы предназначалась сирийскому режиму, допускает куда меньше толкований. Этот танкер замечен в постоянном отключении автоматической системы идентификации (AIS), значит, можно смело предположить, что он регулярно задействован в теневых схемах по транспортировке не совсем легальных грузов. Однако этого явно недостаточно для задержания. Согласимся с иранской позицией: фактически, это акт «экономического терроризма».
Его арест обнажил еще одну серьезную проблему, вернее – давний конфликт, касающийся британо-испанского спора относительно суверенитета над Гибралтаром. Испания оспаривает не только сегодняшние границы Гибралтара, считая, что определенная его часть не принадлежит Великобритании, но и утверждает, что Утрехтский договор 1713 г. не дает Лондону прав на установление каких-либо морских зон вокруг полуострова. Мадрид готов признать суверенитет Британии исключительно над портовыми водами Гибралтара. Однако власти Великобритании установили внешние границы территориального моря в 3 морские мили к востоку и югу от полуострова, и в 2 морские мили в Бухте Альхесирас (она же – Гибралтарский залив).
Складывается интересная картина: танкер с иранской нефтью через Гибралтарский пролив заходит в территориальное море Гибралтара, чтобы пополнить запасы провизии и запасных частей. Здесь же осуществляется его захват с помощью британского спецназа, скорее всего, по запросу из США, и судно помещается под арест властями Гибралтара. Таким образом, захват танкера произошел в водах, которые Испания считает своими, но никто не посчитал нужным ее уведомить и уж тем более запросить ее разрешения. Весьма вялая реакция испанского правительства на этот инцидент, выраженная, с одной стороны, в недовольстве ситуацией, а с другой – в констатации приверженности европейским санкциям, фактически размывает претензии Мадрида на данные акватории. Правовая позиция Испании, что в акватории Гибралтарского пролива есть только два прибрежных государства – Испания и Марокко – стала существенно менее прочной и последовательной.
Задержание Ираном судна, шедшего под британским флагом, – прямая реакция на арест в Гибралтаре танкера с иранской нефтью. При этом Тегеран настаивает, что причина остановки была серьезная: оно якобы пренебрегло установленными правилами прохода через Ормузский пролив и двигалось в «неверном» направлении – навстречу выходящим из Персидского залива судам. Правда, позже была предъявлена и другая версия: танкер якобы причастен к аварии с рыболовецким судном, но каким и где – никто не уточнял.
Если исходить из первой версии, то действительно – в Ормузском проливе введена Схема разделения движением судов (СРД), одобренная Международной морской организацией (IMO). В соответствии с ней, заход в Персидский залив осуществляется по северному коридору, а выход в Оманский залив – через южный коридор. Ширина коридоров около 2 морских миль, а между ними расположена зона «разделения» шириной от 2 до 3 морских миль.
Проблема, однако, в том, что расположение СРД в центральной, самой узкой части пролива (через которую как раз пролегал маршрут танкера) таково, что она полностью находится в территориальном море Омана. Это означает, что КСИР захватил танкер в водах, находящихся под суверенитетом Омана, и затем уже отконвоировал его в иранские воды. Такие действия с правовой точки зрения возможны только в случае, если бы нарушение произошло исключительно (!) в иранских водах и корабли КСИР осуществляли бы конвенционное право «преследования по горячим следам» (статья 111 Конвенции 1982 г.). А чтобы вторгнуться в оманские воды, Тегеран должен иметь двухстороннее соглашение с Маскатом о правомочности преследования и задержания в акватории его территориального моря.
Более того, если все же рассматривать Ормузский пролив как международный с правом транзитного прохода (позиция США), последний не может быть приостановлен, так как по своей сути – это видоизмененное в рамках Конвенции 1982 г. право свободы судоходства в отношении проливов. Припроливные страны вправе принимать меры по обеспечению безопасности судоходства, предотвращению загрязнений, которые, однако, не должны вести к лишению, нарушению или ущемлению права транзитного прохода. Поэтому задержание британского танкера на основе весьма спекулятивных обвинений – фактически акт разбоя на море со стороны Ирана.
При этом Иран, видимо, и дальше будет продолжать провокации против коммерческого судоходства в проливе. По последним данным, Тегеран создает помехи спутниковой навигации GPS, в том числе давая ложные сведения о геопозиции. Можно предположить, что Иран тем самым провоцирует суда и самолеты нарушать иранские морские и воздушные границы для их задержания.
Иран неоднократно заявлял, что в случае экономического и военно-политического шантажа он оставляет за собой право на ответные меры, в том числе на закрытие Ормузского пролива. Пока Иран лишь пугает американцев, а также экспортеров и импортеров ближневосточной нефти своей решимостью пойти на такой шаг. Но может ли он приостановить судоходство в проливе и каковы будут международно-правовые последствия?
Иран обладает достаточно серьезным военно-морским потенциалом для противостояния США и их союзникам в регионе. Прежде всего, это быстроходные катера КСИР (около 1,5 тыс.) – так называемый «москитный флот», оснащенный в том числе противокорабельными ракетами; противокорабельные комплексы (около двух десятков, радиус действия от 30 до 300 км), размещенные вдоль береговой линии, на островах и нефтяных платформах; надводные и подводные корабли ВМС Ирана с противокорабельными ракетами и торпедами (6 фрегатов, 3 корвета и ряд других кораблей рангом ниже, 3 дизельных подводных лодки класса «Варшавянка).
Однако использование сил и средств ВМС и КСИР для закрытия пролива – это фактически объявление войны. Поэтому наиболее простой, дешевый и эффективный способ – минные заграждения. Принимая во внимание узость Ормузского пролива – около 21 морской мили в самом узком месте – Ирану легко «завалить» большую часть судоходной акватории минами. Иранские минные запасы оцениваются примерно в 3–6 тыс. мин советского/российского, китайского и северокорейского, а также собственного производства. Для их размещения можно использовать как быстроходные катера, военные корабли, подводные лодки, так и коммерческие суда (например, рыболовецкие). Однако не всё так просто и очевидно.
Во-первых, современные танкеры, как правило, являются двухкорпусными, и даже взрыв мины не грозит им затоплением.
Во-вторых, опыт показывает, что судоходные компании достаточно быстро адаптируются к возникающим рискам и угрозам, – во время последних танкерных инцидентов поток нефтепродуктов из Персидского залива лишь в самом начале упал на 25%, а потом вновь стабилизировался на прежней отметке. Более того, страны региона подстрахованы на случай закрытия Ормузского пролива: ОАЭ и Саудовская Аравия могут обеспечить частичный экспорт своей продукции по трубопроводам. Наконец, сам Иран зависит от поставок своей нефти через акваторию пролива, правда, в последнее время этот объем существенно сократился – с 2,5 млн до 250–500 тыс. баррелей в сутки.
В-третьих, проблема разминирования акватории Ормузского пролива и Персидского залива с технической точки зрения решаема за счет применения кораблей- и вертолетов-тральщиков, а также роботизированного оборудования. Это вопрос исключительно времени. По предварительным подсчетам, разминирование около 10% акватории позволит полностью восстановить навигацию, а для того, чтобы достичь цифры в 80% потребуется около месяца.
Наконец, такие действия Ирана нелегитимны и должны осуществляться скрытно. И здесь встает вопрос: сколько мин сможет установить Тегеран, пока его действия не станут известны другим странам и участникам международного сообщества?
Нельзя забывать и о том, что суверенитет и юрисдикция Ирана распространяются не на всю акваторию Ормузского пролива, здесь есть морские зоны Омана и ОАЭ. Установка минных заграждений, например, в пределах территориальных вод этих государств – прямое нарушение их суверенитета и может трактоваться как применение силы против территориальной неприкосновенности и политической независимости (статья 2(4) Устава ООН).
Хотя морские мины в отличие от противопехотных не являются запрещенным видом оружия, их установка в мирное время может расцениваться как акт агрессии, поскольку ведет к блокированию морских портов государств Персидского залива. Последние, неся экономические потери от прекращения навигации через Ормузский пролив, могут посчитать себя вправе применить вооруженную силу против Ирана как средство самозащиты.
Поэтому, несмотря на грозные заявления Тегерана, даже ужесточение санкционного режима в его отношении не может быть законным поводом для перекрытия Ормузского пролива. Более того, сам факт угроз по ограничению мирного судоходства, а уж тем более посредством установки мин, может интерпретироваться как прямое нарушение норм и положений международного обычного права (то есть права, исходящего из практики или обычаев государств).
Международный суд ООН также не остался в стороне от рассмотрения вопроса о минных заграждениях. Существует три хрестоматийных решения: дело о проливе Корфу 1949 г. (Великобритания против Албании); дело, касающееся нарушения международного права и поощрения терроризма в Никарагуа 1986 г. (Никарагуа против США); дело о нефтяных платформах 2003 г. (Исламская Республика Иран против Соединенных Штатов).
В деле о проливе Корфу суд посчитал, что Албания несет полную ответственность за причиненный британским кораблям и экипажам ущерб вследствие установки минных заграждений, хотя это было сделано не ее кораблями, но с ее ведома. Она была обязана уведомить британцев об опасности, которой они подвергаются, следуя через пролив. Впоследствии Албания признала вину и в 1996 г. выплатила 2 млн долларов Великобритании. Однако принудительное разминирование, на котором настаивал Лондон, было признано нарушающим государственный суверенитет Албании.
В деле «Никарагуа против США» суд постановил, что установка Соединенными Штатами мин во внутренних водах и территориальном море Никарагуа было вмешательством во внутренние дела, использованием силы против другого государства и препятствовало мирной морской торговле. В частности, было сказано, что установка мин неизбежно затрагивает суверенитет прибрежного государства и что если право входа в порты ущемлено в результате установки мин другим государством, то нарушается свобода коммуникации и морской торговли. Суд отметил, что установка мин в водах другого государства без предупреждения или уведомления является не только противозаконным действием, но и нарушением принципов гуманитарного права, лежащим в основе Гаагской конвенции №VIII 1907 года. Действия Соединенных Штатов были признаны противоправными, так как ни в процессе установки мин, ни впоследствии они не предупредили участников международного судоходства о существовании и местах установки мин, что привело к гибели людей, созданию новых рисков, вследствие чего выросли ставки морского страхования.
Иск Ирана против США, касающийся американских атак на иранские нефтедобывающие платформы в 1987–1988 гг., для нас наиболее интересен. В его основе – реакция Вашингтона на подрывы на минах кувейтского танкера Sea Isle City под американским флагом и американского военного корабля Samuel B. Roberts, нарвавшегося на мину близ Бахрейна. Хотя минные заграждения в ходе «танкерной войны» ставили обе стороны (Иран и Ирак), США возложили всю ответственность исключительно на Иран. В качестве ответных мер американцы атаковали нефтедобывающие платформы Ирана, рассматривая свои действия как пример допустимой самообороны. Однако суд посчитал, что представленных Вашингтоном доказательств причастности Ирана к установлению минных заграждений недостаточно, и, соответственно, действия Соединенных Штатов в отношении нефтедобывающих платформ не могут считаться соразмерной самообороной.
Эти примеры в целом свидетельствуют о том, что для объявления войны Ирану, используя в качестве обоснования установку мин, потребуется убедительная доказательная база. Тем не менее нельзя сбрасывать со счетов тот факт, что американская концепция ведения боевых действий допускает применение силы в ответ на враждебные акты и даже на враждебные намерения. А неучастие США в исках, инициированных Никарагуа и Ираном, лишь подтверждает, что американцы не согласны с теми ограничениями, которые содержатся в решениях Международного суда ООН.
Еще один вопрос, который вытекает из последних событий в Персидском заливе: а действительно ли Соединенные Штаты, равно как и Иран, имеют право использовать военную силу в ответ на те или иные провокации?
Вашингтон обвинил Иран в попытках подрыва танкеров с помощью их минирования и практически приравнял эту ситуацию к намеренному применению силы/вооруженному нападению Ирана, в ответ на которое США и другие страны имеют право на самооборону. Хотя ранее Международный суд ООН встал на сторону Ирана и отказался приравнивать использование ракет или мин к полноценному вооруженному нападению, американская сторона осталась при своем: любая атака с помощью ракет или мин одного государства на другое дает право на самооборону.
Однако необходимо учитывать, что события 2019 г. не привели к каким-либо серьезным последствиям: не было человеческих жертв, а среди команды судов не было американских граждан. Позиции Норвегии и Японии, под чьими флагами ходят данные танкеры, остались сдержанными. Это дает основания полагать, что их точка зрения в большей степени соответствовала решениям Международного суда ООН по делу Никарагуа против США, когда было установлено, что только наиболее серьезные формы применения силы представляют собой вооруженное нападение и дают право на самооборону. Иран, кстати, тогда полностью поддержал такой подход, согласно которому понятие вооруженного нападения, приводящего к применению права на самооборону, должно толковаться более узко, чем понятие незаконного применения силы в статье 2(4) Устава ООН.
Но реакция Тегерана на сбитый американский беспилотник свидетельствует об определенном отходе Ирана от предыдущей концепции. В частности, вторжение в национальное воздушное пространство было трактовано как нарушение статьи 2(4) Устава ООН (воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства), которое автоматически влечет за собой возможность апелляции к статье 51 Устава ООН (право на коллективную или индивидуальную самооборону в ответ на вооруженное нападение). На уровне международного права существует фактически универсальное мнение, что не всякое нарушение статьи 2(4) влечет за собой право на использование статьи 51 Устава ООН. Однако вторжение беспилотника Тегеран расценил как вооруженное нападение. Несмотря на то, что его полет не нанес видимого ущерба, сам факт нарушения границы национального воздушного пространства Иран истолковал как достаточный для использования права на самооборону.
Такие метаморфозы свидетельствуют о принципиальном изменении позиции Ирана: сейчас любое применение силы рассматривается как вооруженное нападение и влечет за собой использование права на самооборону. Как ни парадоксально, это делает Иран куда ближе к философии восприятия подобных ситуаций Соединенными Штатами, которые полагают, что право на самооборону может быть использовано против любого незаконного применения силы. К сожалению, то, что Иран стал во все большей степени ориентироваться на американский подход, не снижает градус напряженности, а наоборот – провоцирует ее дальнейший рост в регионе.
Конвенция и конфликт интерпретаций
Применительно к Ормузскому проливу особое значение имеет Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Иран не является ее полноправным участником: он подписал, но не ратифицировал это соглашение. И хотя сам факт подписания Конвенции обязывает Тегеран как минимум не действовать против ее норм, его поведение в прилежащих акваториях зачатую весьма условно соотносится с ключевыми статьями этого международного договора.
Так, еще на этапе подписания Конвенции Иран заявил о праве требовать предварительного разрешения на проход военных кораблей иностранных государств через свое территориальное море для обеспечения и защиты своих интересов в области безопасности. В 1993 г. это положение, прямо противоречащее букве и духу Конвенции, было закреплено на уровне иранского национального законодательства. В соответствии с ним проход военных кораблей, подводных лодок, судов с ядерными силовыми установками или же каких-либо других плавательных средств, перевозящих опасные или вредные вещества, способные нанести ущерб окружающей среде, через территориальное море осуществляется при условии получения предварительного разрешения Ирана.
Конвенция дает прибрежному государству право осуществлять в 24-мильной прилежащей зоне контроль лишь в области предотвращения или же нарушения таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных законов. Иран же настаивает на своих правах по контролю за соблюдением морского и экологического законодательства, а также регулирования в сфере безопасности. Иран вразрез с положениями Конвенции претендует на право устанавливать соответствующие зоны охраны и безопасности в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны (ИЭЗ), хотя Конвенция говорит о том, что прибрежное государство наделено таким правом лишь по отношению к искусственным островам, установкам и сооружениям. Более того, Иран закрепил положение, согласно которому иностранная военная деятельность и практика, сбор информации и любая иная деятельность, несовместимая с правами и интересами Исламской Республики Иран, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе запрещены. Хотя в рамках Конвенции в пределах ИЭЗ должны действовать три из шести свобод открытого моря – судоходства, полетов, прокладки кабелей и трубопроводов, соответственно, прибрежное государство не имеет полномочий регулировать, а тем более запрещать любые виды военно-морской деятельности в пределах своей 200 мильной ИЭЗ.
Таким образом, позиция Ирана в отношении норм и положений Конвенции 1982 г. достаточно противоречива. С одной стороны, Тегеран допускает весьма расширенное толкование ее ключевых статей. С другой – практика показывает, что претензии Ирана пока не выходят за пределы принятых официальных документов. Иран в целом допускает транзитный проход американских кораблей и судов через Ормузский пролив: военные корабли США и союзников осуществляли различные виды военно-морских маневров в пределах иранской ИЭЗ во время войны в Персидском заливе; американские и иные зарубежные суда и корабли регулярно пересекают территориальные воды Ирана, не запрашивая предварительного разрешения.
На ситуацию в Ормузском проливе и американо-иранские отношения накладывают отпечаток давние разногласия относительно правового статуса пролива и режима прохода через него. Напомним, что Соединенные Штаты не только не ратифицировали, но и не подписали Конвенцию 1982 года. Однако, с их точки зрения, она является документом, кодифицирующим нормы обычного права (международных обычаев), обязательные для исполнения всеми государствами-членами международного сообщества. С позиции США, Ормузский пролив, соединяющий одну часть открытого моря/ИЭЗ с другой частью открытого моря/ИЭЗ, является международным проливом с правом транзитного прохода. Последнее – устоявшаяся норма обычного права, и Иран не обладает полномочиями как-либо его ограничивать. Подход США к Конвенции 1982 г. и праву транзитного прохода полностью соответствует их экономическим и военно-стратегическим интересам.
По их логике, другие страны, в том числе не участвующие в Конвенции (Иран, Северная Корея, Сирия, Ливия, и другие) обязаны исполнять нормы обычного права, якобы кодифицированные в этом документе.
Кроме того, США являются последовательными защитниками права транзита применительно ко всем проливам, которые используются или же могут быть использованы для международного судоходства. Они неоднократно выступали против претензий прибрежных государств, не признающих или ограничивающих право транзита, в отношении следующих проливов: Баб-эль-Мандебский, Бонифачо, Головнина, Зондский, Гибралтар, Ломбокский, Ормузский, Торресов, Фриза, а также проливы на трассе российского Северного морского пути и Канадского арктического архипелага, формирующие Северо-Западный проход.
США считают, что отсутствие юридически сформулированного права «транзитного прохода» до принятия Конвенции 1982 г. было обусловлено исключительно тем, что государства не имели возможности легально расширить границу своего территориального моря сверх положенных 3 морских миль, а не тем, что это было кем-либо запрещено. Соответственно, это не мешало американским кораблям и судам проходить по выделенным коридорам открытого моря в тех или иных международных проливах. Введение 12-мильного лимита территориального моря потребовало разработки условий транзита для того, чтобы сохранить права государств на проход через международные проливы. Однако США убеждены, что поскольку право прохода военных и гражданских судов через международные проливы существовало и до принятия Конвенции 1982 г., значит, это устоявшаяся норма международного обычного права.
Иран при подписании Конвенции 1982 г. воспользовался предоставленным ей правом выступить с отдельным заявлением, в котором выразил позицию как в отношении самой Конвенции, так и отдельных ее положений. В частности, Иран заявил: «Несмотря на предполагаемый характер Конвенции как конвенции общего применения и законодательного характера, ряд ее положений являются лишь продуктом quid pro quo (услуга за услугу – Авт.), которые не обязательно направлены на кодификацию существующих обычаев или установившихся видов использования (практики), рассматриваемых как носящих обязательный характер. Поэтому представляется естественным и согласующимся со статьей 34 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г., что только государства-участники Конвенции по морскому праву обладают полномочиями пользоваться предусмотренными в ней договорными правами. Вышеизложенные соображения относятся конкретно (но не исключительно) к нижеследующему:
Право транзитного прохода через проливы, используемые для международного судоходства (Часть III, раздел 2, статья 38).
Понятие "исключительная экономическая зона" (часть V).
Все вопросы, касающиеся Международного района морского дна и концепции "Общего наследия человечества" (Часть XI)».
Таким образом, позиция Ирана по транзитному проходу заключалась и заключается в том, что это исключительно договорная, а не обычная норма международного права. Это право, основанное на «контракте», и оно распространяется только на те страны, которые приняли на себя все обязательства, зафиксированные в Конвенции. А значит, Иран имеет потенциальную возможность не признавать право транзита через Ормузский пролив в отношении США до тех пор, пока те не присоединились к этому международному соглашению.
Иранская позиция в целом находит поддержку на уровне международной доктрины права. Еще в 1982 г. председатель III Конференции ООН по морскому праву Томи Т.Б. Ко заявил: «Эта Конвенция не является конвенцией, кодифицирующей правовые нормы. Утверждение о том, что, за исключением части XI, Конвенция представляет собой кодификацию обычного права либо отражает существующую международную практику, является неверным с фактической точки зрения и юридически необоснованным. Режим транзитного прохода через проливы, используемые для международного судоходства, и режим архипелажного прохода по морским коридорам являются двумя примерами из многих новых концепций, воплощенных в Конвенции».
Сегодня устоявшаяся точка зрения состоит в том, что транзитный проход стал новеллой международного морского права, закрепленной в Конвенции. И это положение движется в сторону того, чтобы в перспективе стать нормой международного обычного права. Соответственно, Иран имеет основания считать, что в Ормузском проливе в отношении США действует не конвенционное право транзитного прохода – предельно либеральная норма, а исключительно право мирного прохода – максимально регламентированная норма морского права, напрямую запрещающая те или иные виды деятельности (см.: статья 19(2) Конвенции 1982 г.). Правда, с одним существенным «расширением»: применительно к международным проливам такой проход не может быть приостановлен (статья 16(4) Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г.). Плюс, как мы уже упоминали выше, Иран ввел разрешительный порядок мирного прохода иностранных военных кораблей через его территориальные воды.
Интересно, что на III Конференции ООН по морском праву (1973–1982 гг.) Иран настаивал на том, что правом на мирный проход, который не может быть приостановлен, должны обладать исключительно государства, омываемые водами Персидского залива, так как эта акватория является полузамкнутым морским регионом, а проход судов и кораблей внерегиональных стран может носить явно немирный характер.
Соединенные Штаты не могут согласиться с такими ограничениями, хоть и зафиксированными исключительно на уровне иранского национального законодательства. Неслучайно, Иран – страна, в отношении которой США практически ежегодно проводят те или иные мероприятия в рамках программы Freedom of Navigation (FON). Причем своя логика присутствует и с американской стороны.
В частности, США полагают: сам факт расширения внешней границы территориального моря с 3 до 12 морских миль, предпринятого Ираном со ссылкой на Конвенцию 1982 г., говорит о том, что право мирного прохода через его территориальное море в Ормузском проливе было автоматически заменено на конвенционное право транзитного прохода. Это обусловлено тем, что расширение внешней границы территориального моря до 12 морских миль и введение права транзитного прохода были взаимосвязаны в рамках Конвенции 1982 г., они являлись составной частью так называемого «пакетного» подхода. Пакетный подход предполагает, что государство либо признает все положения Конвенции, либо отрицает все соглашение целиком. Установление 12-мильного лимита территориального моря, а также 200-мильного лимита исключительной экономической зоны стали краеугольными нововведениями Конвенции, которые находятся в прямой зависимости от других положений документа, в частности признания права транзитного прохода через международные проливы.
С американской точки зрения, непризнание Ираном конвенционного права транзита означает, что Тегеран, во-первых, не может пользоваться правом установления 12-мильной внешней границы территориального моря вдоль своего побережья, а, во-вторых, правом транзитного прохода своих судов и кораблей в других международных проливах. Таким образом, непризнание Тегераном права транзитного прохода фактически восстанавливает ситуацию, которая существовала до разработки и принятия Конвенции: в Ормузском проливе существует трехмильная зона территориального моря Ирана, за пределами которой все суда и корабли обладают всеми свободами открытого моря, включая свободу судоходства.
Как будет разрешен этот спор – предсказать трудно, очевидно лишь одно: принципиально разные позиции Вашингтона и Тегерана по Ормузскому проливу могут стать поводом для военных провокаций и даже локального военного столкновения.
* * *
Очень многие аспекты американо-иранских противоречий лежат в политико-правовой сфере. Было бы идеально урегулировать их в рамках международных судебных инстанций, однако надежды на такой исход мало. Соединенные Штаты традиционно скептически относятся к участию в международных судебных разбирательствах, инициированных против них. А Иран пойдёт на подобный шаг, только если ему придётся отвечать на крайне недружественные действия в его отношении.
При этом уровень провокационной активности со стороны Ирана, США и их союзников зашкаливает. Стороны ходят по грани «красной линии», пересечение которой может означать прямую военную эскалацию. Взаимные обвинения и троллинг тоже вряд ли приведут к чему-то хорошему. Поэтому предложение России по формированию международной группы, обеспечивающей коллективную безопасность в районе Персидского залива, с участием ключевых внерегионалов (Индии, Китая) – идеальная модель сохранения хрупкого мира и стабильности в этом морском регионе.

Война и мир для Ирана
Исламская Республика не стремится стать региональной сверхдержавой, обладающей ядерным оружием
Саид Гафуров
Напряжение в Персидском заливе нарастает — Великобритания заявила, что её военный флот будет сопровождать проходящие через Ормузский пролив суда под "Юнион Джеком". После задержания 4 июля иранского танкера Grace I властями британского Гибралтара Вашингтон пытается сформировать коалицию для патрулирования Ормузского пролива. Тегеран, в свою очередь, прилагает усилия "по обеспечению безопасности не только в Персидском заливе и Ормузском проливе, но и в Баб-эль-Мандебском проливе и Индийском океане".
Рассуждая о динамике текущей военно-политической ситуации на Среднем Востоке, начинать, по всей видимости, следует с концепции политических целей войны, изложенных Карлом фон Клаузевицем: "Первоначальные политические намерения подвергаются в течение войны значительным изменениям и, в конце концов, могут сделаться совершенно другими именно потому, что они определяются достигнутыми успехами и их вероятными последствиями". И такие изменения мы наблюдаем в позициях всех участников конфликта. Важно понимать, что внешняя и внутренняя политика стран Среднего Востока — точно так же, как американская, российская, китайская и любая иная, — является результирующей от усилий множества самых разнообразных сил, имеющих часто противоположные интересы. И подковёрная внутренняя борьба за влияние на внешнюю политику бывает очень жёсткой.
О чём думают в Тегеране?
Через влиятельные, но ангажированные СМИ: и на Западе, и на Востоке, — идёт массовая пиар-кампания, инициированная, в основном, Саудовской Аравией, что Иран якобы поддерживает восстания в арабских странах, планируя создание "шиитского полумесяца" в западной части Азии.
В мировом общественном мнении ставится вопрос о способности Ирана оказывать решающее влияние в регионе после "арабской весны". Но если весь мир воспринимает Исламскую Республику в качестве мощного участника Большой игры, то в самом Иране, к удивлению автора этих строк, в общественном мнении, и даже во взглядах государственных деятелей широко распространено довольно унылое позиционирование своей страны как государства Третьего мира, не способного быть самостоятельным субъектом глобального развития и мировой политики. Конечно, иранцам лучше известны их проблемы, но ведь, с другой стороны, большие объекты, как говорил поэт Сергей Есенин, лучше видны на расстоянии.
Тут очевидна и ошибка в модальности: фраза "может оказывать влияние на ситуацию в других странах" вовсе не тождественно выражению "оказывает влияние" или "хочет оказывать влияние". Конечно, по Бисмарку, для политики важны не намерения, а потенциал той или иной страны. Но, странным образом, вопрос об интенциях и мотивациях Исламской Республики на нынешнем этапе забывается. Американцев и разных прочих саудовцев пугает сама возможность такого влияния.
В Иране, как и везде, нет "единой политической воли". Это демократическое государство, в котором существуют различные политические тенденции, в том числе — связанные с поддержкой (или с отказом от поддержки) шиитских движений во всем мире, причём действующий президент Хасан Рухани считается представителем умеренной линии, тогда как существует много более радикальных политических сил, полагающих, что Тегеран должен гораздо активнее поддерживать и защищать своих единоверцев по всему миру.
Иран давно отказался от самой идеи экспорта исламской революции, которая даже изначально предполагала не столько внешнеполитические акции, сколько построение в Исламской Республике такого общества, которое стало бы примером, образцом государственного и общественного устройства для мусульман всего мира.
Помимо прочего, война, в том числе и прокси-война, — дело весьма дорогое, не столько для национальной экономики (давно известно: "война повышает кредит"), сколько для бюджета воюющей страны. Поэтому в Иране, переживающем ситуацию финансового и бюджетного кризиса, войны категорически не хотят, хотя и не боятся её.
Конечно, навязывать шиитскую версию ислама суннитам — это абсурд, но глупо спорить, что стремления к лидерству в мусульманском мире у Ирана и ряда других исламских стран, включая Саудовскую Аравию, отсутствуют. Но это вопрос идеологии, а не вооружённой борьбы. В Иране, кстати, есть свои сунниты, хотя их не очень много, но нет никаких свидетельств о каких-либо нарушениях их прав.
Пройдя через множество расколов, обеспечивая религиозное обоснование самым разным социальным течениям: от революционных, до ультрареакционных, — шиизм встретил XXI век не только государственной религией Ирана, но и важнейшим элементом конфессиональной ситуации в Ливане, Азербайджане, Ираке, а в других странах обеспечивая религиозной идеологией социальное недовольство многих угнетённых или считающих себя угнетёнными этнических и социальных групп.
Конечно, когда шииты на протяжении истории приходили к власти, особо справедливого и прекрасного общества им построить не удавалось, но, тем не менее, правы те аятоллы, которые говорили, что шиизм — это "добрый ислам, терпимый ислам, равновесный ислам, умеренный ислам". Трудно пережить столько веков гонений (устойчиво расширяя своё влияние) — и не обладать этими качествами.
Исторически главным союзником Тегерана в регионе была Сирия. Сближению двух стран способствовали геостратегические причины: и Иран, и Сирия граничат с Ираком, который при Саддаме Хусейне проводил агрессивную политику по отношению к своим соседям. Президент Сирии Хафез аль-Асад не был согласен с претензиями Саддама на роль лидера "левого блока" арабских государств, подкреплёнными военной мощью Ирака. Правящие сирийское и иракское крылья общеарабской Партии арабского социалистического возрождения (Баас или ПАСВ) враждовали не на шутку, обвиняя друг друга в предательстве. С Ираном Ирак бессмысленно и кроваво воевал 8 лет только для того, чтобы подписать мир на условиях возвращения к довоенной ситуации.
После оккупации Ирака странами НАТО Тегеран стал проводить умную и тонкую политику, нацеленную, в конечном счёте, на возвращение мира в Ирак. Немаловажную роль в этом играла и взвешенная политика сирийского руководства.
Политическое фиаско США в Ираке открыло двери для усиления иранского влияния в этой стране. При этом ни один духовный лидер иракских шиитов не призывал к перенесению в Ирак персидской модели общественного и государственного устройства. Ирану также нужен дружественный Ирак, а не уменьшенный клон самого себя.
В результате к концу второго десятилетия XXI века Иран стал одним из наиболее влиятельных внешних игроков в богатом нефтью Ираке, что, помимо всего прочего, даёт Исламской Республике сухопутный коридор для выхода к Средиземноморью через сирийские порты.
Помимо требований realpolitik, важное значение имел тот факт, что важная часть сирийского руководства принадлежала к алавитам, а для межобщинных отношений в исламе, начиная, наверное, с конца XVIII века, характерно сближение разных течений шиизма. Таким образом, сирийско-иранский союз приобретал дополнительное религиозное измерение, способствующее политическим договорённостям о благоприятном региональном балансе сил.
Этот альянс впоследствии расширился за счёт включения "Хезболлы", которую создали наиболее обездоленные массы шиитов южного Ливана. Ирония истории заключается в том, что западные страны сначала радовались созданию "Хезболлы", считая своим главным врагом в арабском мире левые, секулярные силы, которые чаще всего возглавлялись немусульманами.
"Хезболла", опираясь на поддержку Сирии и инструкторов иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сформировала мощную базу в Баальбеке в непосредственной близости от сирийской границы.
Союз Ирана, Сирии и "Хезболлы" был основан на поддержке Палестинского движения сопротивления режиму в Тель-Авиве. Успехи "Хезболлы", отразившей в 2006 году очередную агрессию израильской военщины, вторгшейся в Южный Ливан, придали этому союзу беспрецедентное чувство веры в себя, которое нашло отражение и в союзе с фракциями Палестинского сопротивления, не поддерживающими ФАТХ. С другой стороны, именно в Палестине саудовская пропаганда наиболее сильна, и иранские бизнесмены при экспорте своих товаров вынуждены учитывать антииранские настроения палестинцев.
Влияние Исламской Республики в мусульманском мире на протяжении последних двух десятилетий носит мирный по своей природе характер, основанный на экономическом сотрудничестве. Даже американская разведка и Пентагон подчёркивают, что "иранская угроза" носит невоенный характер, поскольку оборонные расходы Ирана ниже, чем аналогичные расходы остальных стран региона; военная доктрина Исламской Республики является оборонительной по своему характеру, а потому Иран имеет "ограниченные возможности для ведения военных действий за пределами страны".
Нужна ли Ирану атомная бомба?
На Западе хорошо понимают, что ядерного оружия (ЯО) у Ирана не только нет, но и нет возможности его создать даже в среднесрочной перспективе. Американские и европейские спецслужбы многократно это подтверждали.
Если проанализировать региональное расположение Ирана, находящегося на стыке Ближнего Востока, Южной и Центральной Азии, то нельзя не заметить, что он с четырёх сторон окружён ядерными странами. На севере это Россия, к востоку — Индия и Пакистан, создавшие уже не только ядерные боеприпасы, но и баллистические ракеты для их доставки. На западе от Исламской республики у Тель-Авива, отказавшегося подписать Договор о нераспространении ядерного оружия, есть несколько сотен различных ядерных боезарядов, а в Катаре расположена база ВВС США, где размещаются бомбардировщики, способные нести ЯО.
Военные ядерные исследования везде направлены на разработку не только ЯО, но и средств защиты от него. Оборонные (включая и гражданскую оборону) разработки в этой области гораздо важнее, чем собственно бомба, они должны вестись и ведутся повсюду. ДНЯО против этого не возражает.
Стремление Ирана реализовать в атомной области свои права как участника Договора о нераспространении ядерного оружия вызывают на Западе опасения в возможности двойного использования ядерных технологий, производства компонентов для создания ЯО. Но возможность и её реализация — это очень разные вещи.
В качестве стратегического оружия сдерживания атомная бомба Тегерану просто не нужна — для неё нет целей. В то же время, Иран является региональной супердержавой в сфере конвенционального оружия, а его технологические достижения только увеличивают отрыв от соседей.
Страны НАТО (за исключением малообжитой части Турции) расположены слишком далеко, и без массового производства безумно дорогих для не очень большой страны баллистических межконтинентальных ракет или стратегических бомбардировщиков Иран не сможет угрожать потенциальным противникам. Россия, с нашей огромной территорией и редким населением, — вообще для применения иранского ЯО цель сомнительная (до крупных центров от Ирана далековато). Остаются Индия и Пакистан, но с ними, учитывая наличие у них ЯО, воевать, во-первых, дело безнадёжное, а во-вторых, хиндустанцам выходить за пределы своего великого полуострова не свойственно — слишком они самодостаточны.
Однако есть один очень важный момент, довольно трудный для понимания русского человека. Люди, конечно, везде одинаковые — мы один биологический вид. Где бы человек ни жил — повсюду он от боли плачет, а от радости улыбается, везде детей женщины рожают в муках. Но условия, в которых существуют разные человеческие сообщества, влияют на мировоззрение, мироощущение и миропонимание, а опосредованно и на оборонную политику разных стран.
Так сложилась российская история, что мы живём тонким слоем, распластанным по огромным равнинам, которые мало подвержены стихийным катаклизмам, где самым страшным природным бедствием являются холода зимой, речные наводнения и пожары. Редкость населения и благостность жизни на равнинах порождают в нашем национальном сознании ощущение (ложное) возможности одолеть чудовищные титанические силы, порождённые природой и человеком.
Но есть и другие страны — например, Япония или Иран, — где люди постоянно, ни на секунду не переставая, живут в страхе перед возможным стихийным бедствием. Цунами или землетрясения для них — не картинка из телевизора, а реальность, часто пережитая лично и, безусловно, ставшая частью национального мировоззрения. Они гораздо сильнее опасаются могущества природы, чем мы. Так что не следует забывать — в этом отношении персы от нас отличаются очень сильно.
И поэтому речи иранских политиков об имманентном зле, заключённом в военном атоме, следует понимать именно в этом контексте — человек в тщете своей возомнил себя богоравным и пытается разбудить чудовищные силы материального мира, подтолкнуть стихию.
Они не лукавят, когда предостерегают от чрезмерной горделивости бесхвостых приматов вида хомо сапиенс. Для нас такие особенности миропонимания звучат парадоксально, для японцев же или иранцев не менее удивительно то, что нам такие элементарные вещи нужно разъяснять. Любой ядерный взрыв в горах Ирана породит тектонические подвижки такого масштаба, что мало не покажется никому.
Даже если допустить, что кто-то в Тегеране задумывается о создании ЯО, то следует признать, что рационально мыслящие лица, принимающие решения, прекрасно понимают, что стоит только один раз попробовать применить атомную бомбу против соседей (даже купленную на мировом "чёрном рынке" — что дешевле), — тут же последует такое возмездие, что даже представить страшно.
Лишь бы не было войны
Сейчас первоочередной задачей американской администрации, если не считать предвыборных аспектов, является решение внутренних экономических проблем США в условиях экономического кризиса и безнадёжной торговой войны с Китаем. Открытие нового фронта, при наличии уже имеющихся в Ираке, Сирии и Афганистане, — это, в нынешних условиях, верный рецепт провала на выборах, что американский президент очень хорошо понимает.
Реальный прогресс в решении ядерной проблемы Ирана может начаться только тогда, когда США сменит приоритет со "смены режима в Иране" на конструктивное взаимодействие с Исламской Республикой: контроль над ядерной программой параллельно поэтапному снятию санкций и, прежде всего, возвращение Тегерану замороженных в банках США финансовых активов Ирана. Но в состоянии ли это сделать Вашингтон, не вызвав монетарного и бюджетного коллапса (замороженные иностранные активы вкладываются в считающиеся "безрисковыми" долговые обязательства США)?
В условиях санкционного режима против Ирана, с его вековыми традициями караванной торговли, спекулянты потирают руки от радости. От западных санкций простой народ может, конечно, и пострадать, но на практике в реальных условиях мировой торговли они просто не работают. Например, в Пекине сделали вид, что забыли об имеющихся с Тегераном торгово-экономических проблемах, и сориентировали китайский бизнес на расширение торговли с Ираном, пользуясь возможностью вышибить оттуда южнокорейских и европейских конкурентов. После победы на выборах правительство Индии тоже столкнулось с давлением США по ряду торговых вопросов.
Верно, что в отношениях с Западом у Ирана нет большого простора для манёвра. Условия realpolitik дают преимущество тому, кто сильнее. Но Тегеран — защищающаяся сторона, и там научились, как говорят боксёры, "держать удар".
Тем важнее становится роль России. Дело даже не в том, что Иран является важнейшим партнёром нашей страны в Каспийском регионе и на Среднем Востоке в целом, — дело в том, что наши народы веками жили рядом, а нашим детям и внукам предстоит рядом жить и дальше.
Мы можем и обязаны проводить самостоятельную политику, а политика независимого игрока на международной арене не должна быть чрезмерно практичной и даже, можно сказать, циничной — в плане получения сиюминутной выгоды, но в ущерб долгосрочным отношениям с соседями или применения столь любимых Западом двойных стандартов. Если Россия — страна, с которой должны считаться везде и всегда, то нам нужны решительные действия и уверенная политика. И дело тут вовсе не в кадровых назначениях, а в наличии политической воли.
Нам пора возвращаться в Иран в полном объёме. Верно, что, кроме самих иранцев, никто нашему возвращению туда не обрадуется. Но нас там ждут. И мы можем открыть новому иранскому правительству возможность выбора, которого он пока фактически лишён.

Патриот России, англоман
27 мая разведчику и писателю Михаилу Любимову исполнилось 85 лет
Саркисов Григорий
Если публика не знает актёра – это плохой актёр. Если публика не знает действующего разведчика – это хороший разведчик. Наш сегодняшний собеседник – хороший разведчик, отдавший работе за рубежом многие годы жизни. И узнали мы о нём не сразу даже после ухода из Службы внешней разведки. Узнали, когда полковник внешней разведки в отставке, кандидат исторических наук Михаил Любимов начал писать статьи в газете «Совершенно секретно» и публиковать свои иронические шпионские романы.
– Михаил Петрович, ваша карьера началась шестьдесят один год назад, когда вы стали секретарём консульского отдела советского посольства в Хельсинки. Потом была работа в Великобритании и Дании, в центральном аппарате на Лубянке и в Ясеневе. А как вообще становятся разведчиками?
– Каждый приходит к этому своим путём. Я родился в Днепропетровске, и в какой-то вышедшей на Украине книге меня назвали – ха-ха! – «выдающимся украинским разведчиком»… Мама Людмила Вениаминовна со мной и родителями прошла через все ужасы бомбёжек и эвакуации из Киева в 1941 году, и в 1946 году скоропостижно скончалась. Ей было всего 38 лет. Окончил школу в Куйбышеве, нынешней Самаре, с золотой медалью и поступил в Московский институт международных отношений. Кстати, в те времена это был вполне демократичный вуз, там учились отнюдь не детки крупных бонз, большинство составляли ребята из провинции. Специализация у меня была англо-скандинавская, вторым языком был шведский, потом и датский выучил, они похожи. Хотел работать в системе МИДа, но «англичан» и тогда было в избытке. Ещё в студенческие годы, во время Московского фестиваля молодёжи и студентов в 1957 году, работал в группе переводчиков, со шведским языком. Рвался помогать «бороться с империалистами», сам предложил свои услуги заместителю руководителя этой группы – нетрудно было догадаться, что это был «человек из органов».
По тогдашним правилам с детьми своих сотрудников КГБ работать не рекомендовалось, а мой отец, Пётр Фёдорович, был сотрудником ЧК-ОГПУ с 1918 года, сидел в 1937 году, прошёл всю войну, в 1944–1949 годах, в разгар борьбы с бандеровцами, возглавлял во Львове СМЕРШ Прикарпатского военного округа. В Хельсинки я попал, можно сказать, случайно. Внезапно образовалась вакансия: забеременела секретарь консульского отдела…
– От финна? Или, не к ночи будь сказано, от американца?!
– Нет, слава богу, от нашего, но всё равно это было ЧП, и барышню отправили в Союз. А меня, с моим английским и шведским, – в Хельсинки.
– Вы ведь тогда не были женаты? А неженатых, насколько я помню, на работу за границу, да ещё в капиталистическую страну, не выпускали…
– Вдобавок ко всему, я был ещё и беспартийным, да и в институте среди комсомольских вожаков не значился. Не знаю, как сейчас, но тогда жизнь молодого дипломата была унылой, с иностранцами встречались в основном советники, а я целыми днями штамповал визы. Подружился с заведующим консульским отделом Григорием Голубом, он работал в разведке КГБ, пытался меня безуспешно использовать, однако в результате мне просто сделали предложение перейти в кадры разведки КГБ. В Москве окончил одногодичные курсы, женился и был нацелен на Англию.
– Ваша первая жена была дворянкой, чей род был тесно связан не только с Трубецкими и Долгорукими, но ещё и, говорят, с Романовыми. Начальников на Лубянке не смущало, что потомственный чекист женился на потомственной дворянке?
– Не знаю, что их там смущало или не смущало, но, во-первых, тогда дворянское происхождение никто не афишировал, а во-вторых, уже наступили более мягкие, «оттепельные» времена. В конце концов Ленин тоже был дворянином. А вот когда наш кадровик узнал, что моя жена ещё и актриса, он сильно смутился. Ну, было такое отношение к актрисам в КГБ, там тоже, извините, дураков хватало, хотя кто-то до сих пор думает, что в спецслужбах работали сплошь гении-штирлицы. Вот вы спросили о моей первой жене, а ведь её мама, моя тёща Елена Ивановна, была куда более «проблемной» дамой. Она служила в Театре Красной Армии, во время войны ездила с фронтовыми агитбригадами на передовую, попала в плен к немцам, и её отправили в Германию, где она работала в немецкой семье. Потом Елена Ивановна влюбилась во француза, бежала с ним в Нант, но всё кончилось тем, что вернулась в СССР, к маме и дочке. Органы её профильтровали, из театра – он считался «режимным объектом» – уволили и отправили в Вильнюс, где в Русском драматическом театре она «доигралась» до звания заслуженной артистки Литовской ССР.
– И с такой «проблемной» женой, и с ещё более «проблемной» тёщей вас взяли на работу в КГБ, да ещё в Службу внешней разведки?! Вы не боялись, что «подозрительные» анкеты жены и тёщи поставят крест на вашей карьере разведчика?
– Нет, не боялся. Я любил советскую власть и был счастливым дитём двадцатого съезда партии. Все три брака у меня были по любви. Как влюблялся – так и женился, так уж глупо я устроен. А когда любишь, об отделе кадров как-то не думаешь…
– Итак, вы перешли на работу в разведку КГБ. А если бы не было того разговора во время фестиваля, кем бы стал Михаил Любимов?
– Писателем. С молодости кропал прозу и лирические стихи, обожал Хемингуэя, особенно его ранние рассказы, даже написал стихотворение «На смерть Хемингуэя» и ещё много чего. Эти мои литературные опыты и сегодня хранятся в домашнем архиве. Естественно, ничего опубликовать не мог, но как-то показал свои творения критику Берте Брайниной, и она посоветовала поступить в Литературный институт. Но в писатели не пошёл – цензура пугала. Вот, думаю, начнут вычёркивать, то, сё… Я же не знал, что через много лет у нас будет куда более жёсткая цензура, только уже не идеологическая, а «денежная».
– А работа в разведке казалась романтичной?
– Тогда о нашей разведке почти ничего не знали, это сейчас о ней судачат и бабки, и блогеры. Даже мой отец ничего не мог сказать о первом главном управлении КГБ – так называлась разведка, – только говорил, что разведчики одеты в заграничные шмотки. Он не одобрял мою новую профессию, мечтал, чтобы я стал архитектором.
– Когда попали из Союза в Хельсинки – с вами не случилось «потребительского шока» при виде финских магазинов?
– Нет, я ведь тоже не из лесной землянки туда попал. Когда отец возглавлял СМЕРШ на Западной Украине, мы жили во Львове в огромном особняке с яблоневым садом и охраной. Другое дело, что сразу увидел контраст между сотрудниками МИДа и разведки КГБ. Если первые составляли информацию в основном по газетам, работали с девяти до шести, топали в офис пешочком, и лишь важные посольские чины ездили на старенькой «Победе», то сотрудники разведки постоянно встречались с иностранцами, мотались целый день на заграничных машинах и держались очень свободно. В этом смысле работа в разведке – смейтесь! – была для меня реализацией желанной свободы: я мог читать и смотреть абсолютно всё, встречаться с кем угодно, разумеется, информируя начальство. Постепенно избавлялся от некоторых советских бзиков. Помню, пришёл как-то в книжный магазин, хотел купить запрещённого у нас тогда «Доктора Живаго» Пастернака на русском языке. Но подумал, а вдруг наши узнают?..
Это сегодня ясно, что «монструозность» КГБ была мифом, Комитет вовсе не был таким «всемогущим», как его иногда изображают. Меня нередко спрашивают: вы что, не видели, что страна разваливается? Да всё мы видели. Само собой, Брежнева старым козлом вслух не называли, но понимали, что старцы из Политбюро до добра не доведут. Но КГБ – организация военная, мы подчиняемся приказам, а если каждый офицер начнёт рассуждать, как обычный гражданин, – не будет ни армии, ни спецслужб. Но тогда и государства не будет. Кстати, большинство руководителей КГБ и разведки были выходцами из ЦК КПСС, те же Андропов и Крючков.
– И чему вас научили на разведывательных курсах?
– Показали на практике, как ведётся наружное наблюдение, читали общие лекции об агентурной работе, мы учились стрелять, водить машину, уже позже ввели прыжки с парашютом. Хохочу, когда слышу, что разведчиков обучают хорошим манерам, правилам обхождения с людьми, даже умению разбираться в винах. Чепуха! В основном в этой разведывательной школе упирали на языки – и правильно делали! По институту я неплохо знал США и Англию, даже читал Шекспира в оригинале с глоссарием. Меня нацелили на Англию, я изучал по карте Лондон, английские справочники, составлял маршруты ухода от английской «наружки». Осенью 1961 года мы с женой Катей, нагрузившись кастрюлями и прочей утварью – зарплаты небольшие, а мы ожидали ребёнка – выехали в Лондон. Я к тому времени уже стал старшим лейтенантом, а в посольстве имел ранг третьего секретаря. Жили в полуподвальной комнатушке с окнами на мусорные ящики, естественно, с соседями – тогда посольство не оплачивало квартиры, экономили на всём.
– Британские журналисты так писали о вашем лондонском периоде: «Любимов имитировал симпатизирующего Западу дипломата, был завсегдатаем лондонских салонов и светских раутов, где часто появлялся с красавицей-женой актрисой, поддерживал близкие отношения с влиятельными политиками и крупными культурными и общественными деятелями». Тогда вы и получили среди лондонских друзей прозвище Смайли Майк…
– Слух о моём прозвище пустил мой знакомый, большой выдумщик Джон Ле Карре, он тогда работал в британской контрразведке. Иногда моё прозвище переводят как Улыбчивый Майк, но речь идёт именно о Смайли, по аналогии с именем одного из персонажей книги Ле Карре, это что-то вроде Шерлока Холмса. Для меня это был комплимент.
– Тогда вот вам ещё один британский комплимент. После того как в 1965 году вы были объявлены персоной нон грата и высланы из Англии, «Daily Express» написала: «Он был необычайно обаятелен, носил полосатый костюм, пошитый на Сэвил-роу, а иногда итонский галстук. На самом деле этот дружески настроенный русский был одним из самых талантливых и целеустремлённых молодых сотрудников КГБ и в дальнейшем возглавил весь антибританский шпионаж на Лубянке». Приятно?
– Приятно, хотя много преувеличений. Но и гадостей обо мне было написано немало. Я к таким комплиментам, как и к гадостям, отношусь спокойно. Что касается Лондона – пусть я там «засветился», – но в Англии прошла лучшая часть моей жизни. Британия прекрасна, и, как определили вздумавшие вербовать меня ребята из английских спецслужб, я представляю собой типичного англомана. То есть люблю Шекспира, виски «Гленливет», Винни-Пуха, регату в Хенли, скачки в Аскоте, Ковент- Гарден, твидовые пиджаки, фланелевые брюки, трубочный табак «Клан», джем из апельсиновых корочек, клуб «Атенеум» на Пэл-Мэл и улыбку Чеширского кота. Правда, я на дух не переношу английское лицемерие, политику консерваторов, и даже Черчилль не пользуется моими симпатиями. Я был искренним коммунистом и врагом частной собственности. Как-то это сочеталось с любовью к улыбке Чеширского кота…
– В чём конкретно заключается работа разведчика, действующего «под крышей» посольства?
– Главное – сбор информации. Это в кино разведчик скачет по крышам, как Тарзан, стреляет из авторучки, как Джеймс Бонд, и дерётся, как Джеки Чан. Знаменитый Ким Филби и вовсе ни разу не держал оружия в руке. Разведчик не крадётся с «магнумом» по ночным улицам – он собирает информацию от агентов, кстати, немногочисленных, общается с нужными людьми на приёмах, в парламенте, на встречах в ресторанах. Потом собранную информацию отправляют в Центр, там её обрабатывают аналитики, что-то включают в доклады «наверх», а что-то выбрасывают в корзину. Конечно, мечта любого разведчика – завербовать «птицу» покрупнее. Но можно по пальцам пересчитать тех, кому это удалось, и, поверьте, неудач здесь намного больше, чем побед. Вообще, вербовка – это вопрос удачи. В этом смысле повезло нашему видному разведчику генералу Соломатину – к нему в резидентуру в США пришёл шифровальщик Уокер и сам предложил свои услуги. Так завербовали и начальника русского отдела ЦРУ Эймса. Но такое случается очень редко.
– Эймс был «идейным» перебежчиком?
– Я не видел ни одного «идейного» перебежчика. Причиной тут может быть всё что угодно – желание заработать, обида на начальство или ещё что-то, но только не «идея». В Лондоне мне доводилось встречаться с выдающимися политиками, журналистами, чиновниками и общественными деятелями, я поддерживал контакты с лидерами лейбористской партии Кроссманом и Хили, со многими членами консервативной партии и сотрудниками Форин-офиса, хорошо знал писателей Сноу, Силлитоу, Брейна. Это были вовсе не тайные встречи, и мои британские собеседники, как и лидер молодых тори, потом министр Ник Скотт, считали, что Смайли Майк – обычный советский дипломат. Хотя, наверное, подозревали, что не совсем обычный…
– Вы завербовали кого-нибудь из этих интересных людей?
– Скажем так, иногда удавалось получить нужную информацию. Что касается вербовки, то люди даже не всегда осознают, что их уже завербовали. В Москву как-то приехал один из западных профсоюзных лидеров левых взглядов. Разговорились на приёме, я увидел, что наши взгляды совпадают, и предложил ему некоторые тезисы нашей пропаганды, в частности, о безъядерной зоне. Он дико обрадовался и вскричал: «Вот это дельный подход! Вы, наверное, из КГБ, а то ваши профсоюзники только болтают, а реально не сотрудничают!» Я предложил начальству работать с ним как с агентом, но мне сказали: «Зачем? Он и так на нас работает!»
– Не эффективнее ли было бы использовать для «продвижения взглядов» СМИ?
– Мы это всегда пытались делать. Иногда удавалось продвигать дезинформацию, или, как сейчас выражаются, фейки. Они, в отличие от нынешних времён, составлялись весьма тщательно, например, мы получали натовские секретные документы, вкрапляли туда кое-что нам выгодное и через разные каналы вбрасывали в СМИ. В перестройку Примакову даже пришлось извиняться за то, что мы сварганили фейк о заброске в СССР выращенного в ЦРУ колорадского жука. Американцы тоже «фейковали» (конечно, не так активно, как сейчас), к примеру, обвиняли нас в покушении на папу римского.
Спецслужбы знали толк в информационных войнах всегда. Другое дело, что раньше этим занимались высококлассные профессионалы, а сегодня фейки вбрасывают все кому не лень. Такая, с позволения сказать, «информационная война» вызывает у меня только раздражение. Измельчание СМИ, как и литературы, – уже мировая тенденция. Демократия в её американском понимании и зашкаливающая за все разумные пределы толерантность и доступность информации позволяют политикам играть на самых низменных чувствах.
Журналист должен уметь писать, он должен отвечать за каждое своё слово, тщательно проверять информацию и источники этой информации. А сегодня и у нас, и на Западе мало того что врут, так ведь ещё стало модно писать с ошибками, причём элементарная неграмотность выдаётся за признак особой «продвинутости». Такая американизированная демократия есть, к сожалению, и у нас в России.
– Не любите американцев?
– Да нет, к американцам, как к народу, я враждебности никогда не испытывал. Обожаю раннюю американскую литературу и джаз, да и американцы очень разные. Но не люблю их крикливую демократию, стремление к мировому господству, их ограниченность, тягу к узкой специализации во всём.
В начале 90-х годов я читал лекции в Гарварде, Джорджтаунском и Колумбийском университетах, и меня поразило, что наши бывшие соотечественники, эмигрировавшие в семидесятые годы, продолжали долбить какие-то замшелые мысли из далёкого прошлого. Словно и не было перестройки…
– Для вас развал СССР был трагедией?
– К сожалению, такой развал был итогом непродуманных действий Горбачёва и Ельцина. Перестройку начинали идеалисты, пытавшиеся создать социализм с человеческим лицом, но их быстро сменили мародёры-приватизаторы.
– Возможно, происходящее сегодня на Украине – ещё один отголосок развала Советского Союза. Вы родились в Днепропетровске, а значит, и Украина для вас – не чужая страна. Почему там случился Майдан? Это была спецоперация ЦРУ?
–Я приблизительно знаю американскую манеру вести дела. Они редко разрабатывают планы переворотов, но они всегда системно вгрызаются в события. Экс-директор ЦРУ Гейтс в мемуарах признавался, что и горбачёвскую перестройку в Вашингтоне поначалу восприняли как некий хитрый ход коварных коммунистов. И только в девяностые, уже при Ельцине, американцы подключились и стали заниматься перестройкой и Россией, двигать нужные им политические силы. Их основной инструмент – создание хаоса под видом насаждения демократии и свободы. На Украине решающую роль сыграли националистические настроения на западе страны и пагубная политика администрации Януковича. Американцам оставалось лишь слегка подталкивать процесс, что они и делали.
– Это можно считать реваншем бандеровцев?
– Да, частичный реванш случился, но бандеровцы никогда не были самостоятельной силой, их всегда содержали западные разведки. Мы же, напротив, пустили всё на самотёк, хотя в СССР с украинскими националистами не церемонились, даже в наших главных заграничных резидентурах работали специалисты по борьбе с националистическими центрами. В своё время, например, Ким Филби, служивший начальником русского отдела МИ-6, регулярно передавал нам информацию о забрасываемых на Украину и в Прибалтику агентах-парашютистах, которые должны были помогать «лесным братьям». Мы этих агентов брали тёпленькими, кого-то отправляли в лагеря, кого-то расстреливали, кого-то перевербовывали, и они работали уже на нас. Однако после развала СССР мы упустили Украину, посол-бизнесмен Черномырдин и тем более посол Зурабов оказались не на своём месте. И великое счастье, что украинцы свергли Януковича…
– Великое счастье?
– Конечно! У нас появился законный предлог применить силу и вернуть Крым, нашу главную военно-морскую базу на юге. Потеря Крыма означает и возможную потерю Кавказа, и угрозу целостности всей России. Посмотрите, как англичане держатся за Гибралтар, не возвращают его даже своему союзнику по НАТО Испании. А Ельцин запросто отдал Крым.
– Как, по-вашему, будут развиваться события на Украине в обозримом будущем?
– Думаю, Украина постепенно распадётся на несколько частей.
– А что нам-то делать?
– Учитывая нашу склонность к бардаку и наше гениальное умение проваливать даже самые верные проекты, лучше ничего не делать. Всё произойдёт само собой.
– Но Запад уже устроил нам санкционную войну…
– И что, мы развалились без их хамона? Скоро Россия станет родиной камамбера. Они всё время пытаются нас чему-то учить. Нас обвиняют во всех смертных грехах, включая «жестокую цензуру»…
– Зато нам рассказывают, что в США нет цензуры…
– Врут. В США есть цензура, только очень своеобразная. После того как в 1990 году в «Огоньке» вышел мой роман «Жизнь и приключения Алекса Уилки, шпиона» («И ад следовал за ним»), американцы предложили мне заключить договор и вручили аванс аж в 50 тысяч долларов. Несколько лет мы с женой шикарно путешествовали на эти денежки, благослови Бог издательство, однако американцы эту книгу так и не издали. Почему? Да потому что мой герой – патриот и не любит США, а по мысли издателя, должен быть предателем или идиотом, а лучше и тем и другим одновременно. Во всей этой истории торчали уши ЦРУ – американцам явно хотелось получить «правильный» роман отставного русского разведчика, а получили они только убытки.
– Это не было попыткой вербовки?
– Кто их знает! В спецслужбах всегда идиотов в избытке.
– А что вы, как разведчик, посчитали бы удачной вербовкой?
Я мечтал завербовать жар-птицу – шифровальщика США или НАТО, в Лондоне заводил «случайные» связи на лекциях, на конференциях, в пабах, на улице, даже в дансинг бегал в надежде подцепить на танцах жар-птицу. Но попадались, увы, прачки. Однажды на приёме «законтачил» главу Департамента связи Форин-офиса Айвора Винсента, ведавшего всей британской шифровальной службой. Мы понимали, что этот жук связан с контрразведкой, но чем чёрт не шутит… А вдруг он жарко прошепчет: «Майк, тебе не нужны шифры?»
В истории такое бывало. Однако однажды, когда мы с Айвором пили виски в кенсингтонском пабе, он отошёл «вымыть руки», а ко мне подсели два бродяжного вида мужика, один был небрит, от другого несло жареной рыбой. Это были ребятишки из английской контрразведки, и они начали меня вербовать. Я действовал, как учили: возмутился, послал небритых ребятишек из МИ-6 подальше, назвал их провокаторами и покинул паб. Вскоре наше посольство направило в Форин-офис ноту о провокации в отношении советского дипломата, в ответ британцы объявили меня персоной нон грата, и мне пришлось покинуть Туманный Альбион. Но – не жалею, не зову, не плачу: в Москве меня повысили и вскоре отправили в Данию.
– После «дела Скрипалей» опять начались разговоры о «мести КГБ» предателям. Скажите, есть у нас подразделение, занимающееся устранением перебежчиков?
– Сколько работал в КГБ – столько и слышал такие разговоры. Установка на ликвидацию предателей существовала только до 1959 года, последней операцией такого рода стало устранение Степана Бандеры в Мюнхене. Это была чётко проведённая спецоперация, и Бандеру ликвидировали совершенно справедливо, это был редкий негодяй, нацистский прислужник. В 1961 году, после перехода на Запад убийцы Бандеры и мирового скандала, Политбюро приняло решение о политическом вреде убийств за рубежом, и отдел, занимавшийся подобными спецоперациями, был расформирован. Кстати, почему такого шума не было, когда МОССАД выкрал военного преступника Эйхмана, которого израильтяне потом повесили? Обычный двойной стандарт. С тех пор мы никого не убивали. Исключение: предоставление ядовитого зонтика болгарам для убийства диссидента Маркова в Лондоне и ликвидация Амина во время вступления в Афганистан – до сих пор неясно, зачем. Так что, все эти рассказы о «мести КГБ» – не более чем мифы.
– Но уже можно слышать и разговоры об отравлении Войновича и Солженицына…
– Это только разговоры. Уверен: осторожный Андропов никогда бы такое не санкционировал. Но не забывайте о законе бардака.
– «Дело Скрипалей» – провокация британских спецслужб?
– В значительной степени – да! Но нет дыма без огня. А тут «дым» – был. Как была и парочка любителей готических соборов, я имею в виду знаменитых Петрова и Баширова. Увы, закон бардака – и впрямь один из главных законов политики и разведки, но чтобы уровень упал настолько…
Похоже, это обыкновенные спецназовцы, из тех, что за границей не бывают, языка не знают и тонкостям конспирации не обучены. Такие люди хороши на войне. Путин вытащил этих ребят за ушко на телевидение и на этом поставил точку. Зачем ему конфликт?
– То есть история со Скрипалями не санкционировалась «сверху»?
– Я бы сильно удивился, если бы это было так.
– Вы хорошо знали Юрия Андропова. Он не любил «резких движений»?
– Даже совсем наоборот, как говорил Сталин. Возможно, обжёгся в Венгрии, во время восстания в 1956-м. Вот говорят, что, став генсеком, он задумывал какие-то мощные реформы, но я в этом сильно сомневаюсь. Да, Юрий Владимирович был умён и образован, особенно в сравнении с другими старцами из Политбюро, не блиставшими интеллектом. Помню, в Дании я подарил Черненко игрушку – тролля. Он посмотрел непонимающе и спрашивает: что это? Это, отвечаю, тролль, игрушка такая датская, можете подарить внукам. А он головой помотал, пробурчал недовольно: «Тролль!» И я понял, что он просто никогда и слова такого не слышал… Конечно, в партии были не только такие персонажи. В окружении Андропова, например, были такие умницы, как Арбатов и Бовин, я очень уважал Загладина, Черняева, Шапошникова, очень продвинутых заместителей главы международного отдела Пономарёва. Но ведь не эти люди управляли страной.
Сейчас принято ругать Брежнева, но он умел принимать сильные решения, особенно вначале, когда сменил Хрущёва на посту руководителя страны. Беда в том, что он тащил за собой наверх толпу бездарей и интриганов, но это уже другой вопрос. Не могу не вспомнить и бывшего первого секретаря МГК КПСС Егорычева, это был выдающийся человек, один из немногих в партийной верхушке, кто имел своё мнение и не боялся его отстаивать. И я понимал, что приход Горбачёва и перестройка были затеяны не для приватизации всего союзного добра и не для передачи власти олигархам, а для того, чтобы сделать идею коммунизма более привлекательной, чтобы жизнь в стране стала свободнее.
– Но вы же сами подлили бензина в костёр таких разговоров, опубликовав в 1995 году в газете «Совершенно секретно» статью «Операция «Голгофа», где рассказали о якобы существовавшем плане перестройки, состоявшем в том, чтобы ввергнуть страну в хаос «дикого капитализма», а затем, используя негодование масс, вернуться к истокам социализма. Многие тогда приняли эту мистификацию за чистую монету, дело дошло до депутатских запросов в адрес спецслужб, а покойная ныне Галина Старовойтова даже опубликовала гневное письмо-опровержение…
– Дуракам закон не писан, но было весело, и «Голгофа» оказалась самой известной моей работой. Всё началось с того, что главный редактор газеты «Совершенно секретно» Артём Боровик как-то подошёл ко мне с идеей написать о перестройке что-то этакое, в духе «теории заговора». И я придумал «план Андропова». Тем более что тогда я как раз писал роман «Декамерон шпионов», в основе которого была похожая история. С самого начала это была мистификация, своего рода журналистский «прикол», «капустник», и мы даже не предполагали, что эту ерунду кто-то воспримет всерьёз.
– Михаил Петрович, в начале нашего разговора вы сказали, что не встречали «идейных» перебежчиков…
– И сейчас так скажу. На первом месте всегда стоят материальные мотивы, проще говоря, – деньги. Я видел по-настоящему идейных людей, работал с ними, они искренне верили в своё дело – например, интербригадовцы, воевавшие с фашистами в Испании. Такие никогда не предадут свою страну и своих товарищей. В Москве мне довелось два года работать с Кимом Филби, он был из тех, кто сознательно шёл на сотрудничество со Сталиным, чтобы победить фашизм. Такими были и идейные коминтерновцы, и члены «кембриджской пятёрки», и люди из антифашистской «Красной капеллы». Не хочется вспоминать, но Сталин практически разгромил нашу внешнюю разведку…
– Почему?!
– Думаю, Сталин считал самым главным разведчиком самого себя. И этому есть объяснение. Большевики были великими конспираторами (представьте Ленина в парике под чужой фамилией), они умели ловко маскироваться, уходить от слежки, при случае и сами могли завербовать кого угодно, у них был огромный опыт побегов из царских тюрем и ссылок, не говоря уже об опыте «экспроприации» денег из банков. Старые революционеры, конечно же, верили в победу коммунизма на Земле, об этом писал Ленин, а разведчики были революционерами и попали под раздачу во время «зачистки» троцкистов-бухаринцев. Так разведка и была раздавлена сталинским катком.
– А ведь разведчики, рискуя жизнью, работали на СССР…
– Конечно! И самая их грандиозная победа – наш атомный шпионаж, благодаря которому был обеспечен ядерный паритет, до сих пор удерживающий горячие головы от развязывания ядерной войны. Зорге, Филби и вся «пятёрка», Малли, Быстролетов, Фукс, «Красная капелла», резидентура Шандора Радо – список велик. Неплохо назло американцам назвать улицу, на которой стоит посольство США в Москве, именем супругов Розенбергов, казнённых в Штатах за атомный шпионаж в пользу СССР. То, что сделала советская разведка в те годы, действительно спасло мир от катастрофы.
– Увы, рядом с героями есть и предатели. Как они просачиваются в разведку? Ведь каждый человек в спецслужбах подвергается многократной проверке, изучается вдоль и поперёк. Вот и вам пришлось работать с одним из самых известных советских перебежчиков, Олегом Гордиевским…
– Он был моим заместителем в Дании в 1976 году и «по совместительству» агентом английской разведки. По анкете всё блестяще: папа служил в НКВД, брат – в нелегальной разведке, жена Лена – капитан КГБ. Потом он с ней развёлся, но и вторая его жена Лейла, тоже обросла родственниками из органов. Успехов особых не имел, амбиций много. Пил Гордиевский до безобразия мало, и к тому же не ругался матом, что сразу бросалось в глаза во время весёлых посольских застолий… Нет, Олег Антонович не был мизантропом и букой, он умел расположить к себе собеседника. Это был один из немногих знакомых мне гебистов – почитателей Баха, к тому же знавший толк в живописи и собиравший картины, его обожали посольские дамы, которым он читал лекции о нравах загнивающего Запада. По-английски не говорил, его «коньком» был датский. Поначалу умники из МИ-6 подозревали его в гомосексуализме и даже попытались подсунуть смазливого педика для вербовки Олега Антоновича…
– И почему этот во всех отношениях идеальный человек вдруг стал предателем?
– Могу предположить, он лелеял тайное желание стать главным антисоветским перебежчиком. И в этом преуспел: его принимали как дорогого гостя Рейган и Тэтчер, он стал желанным экспертом по СССР на страницах западных СМИ, получил высший британский орден святых Михаила и Георгия.
– А на чём он попался?
– А он и не попадался, в 1985 году его выдал начальник русского отдела ЦРУ Олдрич Эймс, сдавший нашим резидентам в США нескольких американских агентов, в том числе генерала ГРУ Полякова и нескольких полковников КГБ, которых почти сразу расстреляли. А поскольку ЦРУ плотно контактировало с МИ-6, можно предположить, что Эймс что-то сообщил и о Гордиевском. Того срочно вызвали в Москву под предлогом утверждения резидентом. А потом англичане тайно вывезли его в Хельсинки в багажнике посольской машины. Об этом я много писал, давайте лучше поговорим о литературе, мне это сейчас ближе.
– Давайте о литературе. Вас нередко называют родоначальником отечественного жанра иронического шпионского романа. Почему бывшие разведчики нередко берутся за перо и становятся весьма успешными писателями?
– Ну, насчёт «родоначальника жанра» вы преувеличиваете. Пишу я, конечно, не без иронии, но разведка вообще дело такое… ироническое. Например, ночью в лесу залезаю в тайник, а оттуда выскакивает заяц. Чуть, извините, в штаны не наложил… Почему бывшие разведчики становятся писателями? Хороший разведчик – человековед, инженер человеческих душ, если по старинке. В разведке происходят интереснейшие истории, глубокие психологические и политические драмы. Разве это не хлеб для писателя?
– Какую из ваших книг вы считаете самой удачной?
– Наверное, это самая первая моя книга, роман «Жизнь и приключения Алекса Уилки, шпиона» («И ад следовал за ним»), опубликованный в 1990 году в «Огоньке». Это одно из первых произведений в советской печати, рассказывающее о жизни наших нелегалов за рубежом. По ней Владимир Бортко сделал фильм «Душа шпиона». Может я вообще автор одной книги… Хотя, конечно, все мои книги дороги мне: и мемуарный роман «Записки непутёвого резидента, или Блуждающий огонёк», и сборник очерков «Шпионы, которых я люблю и ненавижу», и вышедший в 1998 году сатирический роман «Декамерон шпионов». Отдельно здесь стоит книга «Гуляния с Чеширским котом», это своего рода исследование души и нравов англичан, я сравниваю там британцев и русских. Последняя работа – «Вариант шедевра», это мемуары.
– Некоторые «знающие люди» утверждают, что в книге «И ад следовал за ним» подавляющее большинство эпизодов автобиографичны, а главный антигерой – «крыса» внутри русской разведки – списан с перебежчика Гордиевского. Это так?
– У меня все книги автобиографичны, я не скрываю даже людей, с которыми работал, правда, кое-что пришлось зашифровать или изменить. Иногда у меня дурацкий переизбыток юмора, за это меня деликатно стегал Лев Аннинский. Но я не умею писать иначе, мне неинтересно.
Сейчас думаю не о романах, а о душе. Вспоминаю встречу с епископом Родзянко, я пытался выяснить у него отношение церкви к разведке. Очень, знаете ли, боялся, что попаду в ад. Он успокоил: мол, православная церковь ценит разведку, и в Библии тоже описано, как соратник Моисея, Иисус Навин с помощью лазутчиков берёт Иерихон. Епископ посулил мне рай, если покаюсь, и заверил, что это относится ко всем, даже к убийцам. Так что я спокоен.
– Говорят, у вас очень хорошие связи во власти, и вы даже общаетесь с одним бывшим подполковником КГБ…
– И капрал стал императором Наполеоном. Нет, к сожалению, с Владимиром Владимировичем никогда не встречался, и от власти я очень далёк, как и власть от меня. Но я «совок» и «крымнашист».
– Вы и в 85 лет – в неплохой физической форме. Занимаетесь спортом?
– Нет, опыт показывает, что слишком много занимающиеся спортом раньше глупеют и больше болеют. Я и гулять-то не большой любитель, косточки побаливают. Сижу с пушистым котом и любимой женой на диване, смотрю телевизор, читаю книги – вот и весь мой спорт.
Думаю, что жизнь – бессмысленная штука. Яблоко мне на голову не упало, научных открытий я не сделал, в общем, синица море не зажгла. Но жизнь – прекрасна, и разве это не прекрасно?

Было бы желание
Десять способов решения неразрешимого территориального спора
И.Ю. Окунев – кандидат политических наук, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО МИД России.
Резюме В международной практике накоплен достаточный инструментарий, позволяющий решить практически любой территориальный спор. Успех зависит только от компетенции переговорщиков и политической воли руководства.
Территориальные споры – одни из самых сложно разрешимых на свете. Так уж повелось, что именно территория воспринимается как наиболее ценный ресурс, значение которого со временем сакрализуется. Этот тезис хорошо иллюстрируется последними российско-японскими переговорами, в которых обе стороны явно готовы идти навстречу, но найти взаимоприемлемое решение пока не удается.
На наш взгляд, причина заключается и в том, что в современной политике доминирует представление о «неделимости суверенитета», т.е. что территория может принадлежать либо целиком одному государству, либо целиком и полностью другому. На самом деле это положение ошибочно, в мировой истории множество примеров смешанного суверенитета, позволяющего реализовывать национальные интересы двух народов на одной и той же территории. Данная статья представляет собой попытку показать исторические примеры таких форм управления территорией в надежде, что подобный экскурс поможет дипломатам и политикам расширить набор вариантов разрешения территориальных споров.
Создать трансграничный регион
Трансграничным регионом называют объединение сопредельных территорий стран, направленное на институционализацию пограничного сотрудничества. В географическом смысле трансграничные регионы представляют собой минимальную единицу интеграции. Однако это не означает наименьшую степень интегрированности данных объектов. Да, они иногда создаются как опорные зоны будущей межгосударственной интеграции (китайские трансграничные зоны торговли на границе с Россией и странами Центральной Азии). Но чаще уже являются стадией углубления межгосударственной интеграции, переводя ее на региональный и локальный уровень (еврорегионы в ЕС).
Создание трансграничных регионов решает комплекс взаимозависимых проблем: устраняет исторические барьеры, способствует социально-экономическому развитию приграничных территорий, находящихся в своих странах в периферийном положении, преодолевает барьерные функции государственной границы, повышает уровень безопасности и улучшает имидж страны.
Попытки институционализации трансграничного взаимодействия известны с XIX века (например, испано-французская комиссия по сотрудничеству в районе Пиренеев), но наибольшего развития они достигли в послевоенное время в Европе, и в первую очередь благодаря целенаправленной политике Евросоюза.
Можно выделить следующие виды трансграничных регионов:
рабочие трансграничные сообщества как формат широкого межрегионального сотрудничества, не предусматривающего создания надгосударственных органов управления (Ассоциация альпийских государств, Совет Баренцева/Евроарктического региона, Союз государств реки Мано);
трансграничные зоны передвижения, в которых для жителей соседних регионов отменяются визы для краткосрочных поездок (например, на российско-норвежском, российско-польском и российско-литовском пограничье);
трансграничные зоны торговли, стимулирующие приграничные торговые связи и товарооборот (особенно популярны в Китае; так, на российско-китайской границе существуют в Благовещенске-Хэйхэ, Пограничном-Суйфэньхэ, Забайкальске-Маньчжурии и Зарубино-Хуньчуне);
трансграничные агломерации, в которых сотрудничество идет в рамках разделенных границей городов (например, евроокруга Страсбург-Ортенау, Фрайбург-Эльзас, Саар-Мозель и Лилль-Кортрейк);
интегрированные трансграничные регионы с высокой долей кооперации и ее многофакторностью, с одной стороны, и постоянством и независимостью управленческой структуры, с другой (еврорегионы германо-нидерландский ЕВРЕГИО, Конференция Боденского озера).
Степень институционализации и активности трансграничных регионов разнится от континента к континенту: если в Европе почти невозможно найти регион, не участвующий в структурах такого рода, то для других континентов эта форма интеграции пока остается скорее исключением.
Сдать территорию в аренду
Арендованная территория – это суверенная территория, временно переданная другому государству для владения или пользования. Выделяются два типа:
Суверенные – суверенитет над которыми временно передан страной-арендодателем стране-арендатору (британский Гонконг в Китае в 1898–1997 гг.).
Несуверенные (концессии) – суверенитет над которыми остается у страны-арендодателя, а страна-арендатор получает лишь временные права на использование территории и распространения своего законодательства (российский Байконур в Казахстане в 1992–2050 гг.).
Аренда территории была характерна для периода усугубления внешнего влияния в Китае во второй половине XIX века. В это время в аренду Великобритании передан Гонконг, Португалии – Макао, Франции – Гуанчжоувань, Германии – Цзяо-Чжоу и Японии – Тайвань. Россия в 1898 г. на 25 лет получила в аренду Квантунскую область на юго-западной оконечности Ляодунского полуострова, включая военно-морской порт Порт-Артур, торговый порт Дальний (нынешний Далянь) и старую китайскую столицу области город Цзиньчжоу. После поражения в русско-японской войне эти земли отошли к Японии и вернулись уже Советскому Союзу после Второй мировой войны. Окончательная передача территории под китайскую юрисдикцию состоялась в 1955 году. Последние арендованные территории – Гонконг и Макао – в статусе специальных административных районов вернулись в состав Китая в 1997 и 1999 гг. соответственно.
Арендованные территории также являются важным фактором российско-финских отношений. В 1940–1950 гг. Советский Союз арендовал у северного соседа полуострова Ханко и Порккала-Удд и разместил там военно-морские базы. В обмен в 1942 г. Финляндия получила в аренду сектор Сайменского канала, находящийся в Ленинградской области. Канал соединяет озеро Сайма с Балтийским морем в районе бывшего финского города Выборг и имеет стратегическое значение, поскольку обеспечивает внутренним районам страны доступ к морской торговле. В постсоветское время аренда продлена до 2063 года. На территории канала действует финское законодательство, в частности в области судоплавания, и не применяются таможенные ограничения России. Использование канала для перевозки войск, вооружений и боеприпасов не допускается, а российским судам обеспечивается свободный проход по российской части канала.
Арендуемый Россией у Казахстана с 1992 г. город Байконур вместе с одноименным космодромом является крупнейшей арендованной территорией в мире и обладает уникальным политико-правовым статусом. Оставаясь суверенной территорией Казахстана, он существует в российском правовом поле. Обладая статусом города федерального значения Российской Федерации (наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Севастополем), Байконур при этом не имеет конституционного статуса субъекта Российской Федерации. В Совете Федерации РФ не представлены органы его законодательной и исполнительной власти. Глава администрации города назначается президентами двух государств, а представительные органы местного самоуправления не создаются. В Байконуре действует российский суд, полиция, школы, больницы и отделения почты.
Сделать поселения на территории свободными коммунами
Ряд территориальных сообществ в мире выпадает из единого политического пространства. Они образуют утопические самоподдерживающиеся поселения, называемые коммунами. Их жители, не претендуя на государственный суверенитет, устанавливают свои правила совместного проживания.
Типичная коммуна обладает следующими признаками:
наличие объединяющей утопической идеи (социально-политического, религиозного или экологического характера), часто связанной с намерением достичь идеального общества;
доминирование коллективной собственности;
социально-экономическая и экологическая замкнутость от внешнего мира.
Обычно в коммуне проживает от нескольких десятков до нескольких сотен человек. В основном это люди среднего и старшего возраста, занятые в общих сферах (чаще всего в сельском хозяйстве). Почти не осталось общин, самостоятельно обеспечивающих обучение детей, поэтому молодежь обычно покидает коммуны по мере взросления. Вопреки досужим слухам, большинство коммун гетеросексуальны и моногамны, хотя встречаются и сообщества «свободной любви» (например, ZEGG в Германии или Krista в США) или коммуны полного воздержания от половой близости. Большинство коммун управляются демократическими процедурами, хотя встречаются и анархические, авторитарные и даже тоталитарные примеры. Международная общественная ассоциация «Движение за идейные общины» (ДЗИО) обеспечивает взаимодействие между общинами всего мира.
Самыми старыми коммунами в мире, по-видимому, являются поселения гуттеритов (например, коммуна Bon Homme, существующая с 1874 г.). Течение, отстаивающее принцип общего имущества, возникло как ответвление анабаптизма в Германии, но после скитаний по Восточной Европе перебралось в Северную Америку. Гуттериты живут сельским трудом и мелким кустарным промыслом, сохраняют свой хуттерский язык (близкий к немецкому), придерживаются пацифизма и не служат в армии и, наконец, отстаивают право не фотографироваться даже на документы, поскольку это противоречит первой библейской заповеди. На коммуны гуттеритов похожи религиозно близкие сообщества брудерхоф, разбросанные по всему миру от Англии до Парагвая. А вот амиши и меннониты, также проживающие в США и Канаде и придерживающиеся традиционного образа жизни (в частности, первые не признают современные технологии), все же не являются типичными коммунами, потому что не придерживаются принципа обобществления собственности.
Другой старый пример коммун – израильские сельскохозяйственные кибуцы, первый из которых, Дгания, был основан в 1910 году. Сегодня их уже около 300, и в них проживает порядка 2,5% населения страны, что является самой высокой долей жителей коммун в мире. Больше всего коммун в США – более 2 тысяч. Кроме Америки и Израиля, они распространены в странах Западной Европы и Латинской Америки, в Австралии, Новой Зеландии и Индии. Некоторые коммуны столь активны в политической сфере, что даже начинают восприниматься в качестве квазигосударств (например, Христиания в Дании).
Сделать спорную территорию суверенным регионом
Из всех типов территориальных единиц государства самые широкие права имеют суверенные регионы. В отличие от других автономий, наделенных отдельными полномочиями, суверенные регионы обладают суверенитетом и представляют собой что-то вроде государства в государстве. Вершиной суверенности можно считать их право на сецессию – односторонний выход из состава материнского государства. Из-за столь широких полномочий такие образования часто путают с государствами (как Монашескую республику Афон), несамоуправляющимися территориями (как Аландские острова) или непризнанными государствами (как Азад Кашмир). Получается, что суверенные регионы объединяют отдельные черты всех этих понятий. Рассмотрим эти три примера подробнее.
Автономное монашеское государство Святой Горы (Афон) является суверенным регионом Греции. Его статус существенно отличается от других территориальных единиц страны, фактически регион обладает полной автономией и даже элементами суверенитета. Изолированно расположенный на полуострове Халкидики, Афон представляет собой крупнейшее в мире средоточие православных мужских монастырей. Особое сакральное значение полуострова для христианства (считается земным уделом Богородицы) предопределило то, что единственным разрешенным занятием на Афоне стало моление. Поэтому сюда не допускаются туристы, неправославные и женщины (и даже домашние животные женского пола), а всем остальным необходимо благословение на служение от поместной церкви. Для того чтобы попасть в Афон, нужно получить диамонитирион (аналог визы) в соседних греческих Салониках или Уранополисе. Фактически у данного государства нет ни политической, ни экономической системы, потому что жизнь ведется по монастырским уставам, и административный центр Карье наделен исключительно координирующими функциями. Традиции автономного существования на Афоне очень давние, ведут отсчет с VII в. и не прерывались ни османами, ни нацистами. Но исторически православные государства (в первую очередь Россия) претендовали на совместное управление территорией и даже в 1917 г. вводили сюда войска, а нахождение в составе Греции служит защитой от внешнего вмешательства.
Аландские острова в Балтийском море входят в состав Финляндии, но независимы от нее в вопросах образования, здравоохранения, культуры, транспорта, экологии и связи. Жители островов имеют отдельное гражданство и не служат в финской армии. Единственным официальным языком является шведский. Во время гражданской войны 1918 г. в Финляндии почти все жители Аландских островов проголосовали на референдуме за воссоединение со Швецией, но та хотела все оформить по международному праву и не нашла союзников, готовых портить отношения с новым государством в ситуации распада Российской империи. Аландские острова проводили референдум о вступлении в ЕС, на котором добились исключения из налогового союза. Благодаря этому все балтийские паромы, делая десятиминутную остановку на островах, могут торговать беспошлинно, что позволяет островитянам иметь один из самых высоких показателей уровня жизни в мире. На 30 тыс. человек на Аландах действует восемь консульств, и регион является членом Северного совета. Российское консульство на Аландских островах (бывшей самой западной провинции Российской империи) служит гарантом демилитаризованного (с 1856 г.) статуса архипелага.
Азад Кашмир возник в результате индо-пакистанского конфликта из-за северного княжества Джамму и Кашмир. Индия, основываясь на решении бывшего руководства преимущественно мусульманского княжества, претендует на всю его территорию, хотя отдельные его части контролируются Пакистаном и Китаем. Формально суверенный Азад Кашмир находится в западной части бывшего княжества и фактически управляется из Исламабада.
Суверенные регионы имеются и на постсоветском пространстве. Они являются наследием права республик СССР на выход из состава государства. Это положение способствовало юридическому закреплению подобного статуса за некоторыми автономиями новых независимых государств. Какие-то были позже отменены (как в Татарстане или Чечне в России), а некоторые де-юре сохраняются (как Гагаузия в Молдавии или Каракалпакия в Узбекистане).
Сделать спорную территорию ассоциированным государством
Резолюция ГА ООН 1541 (XV) определяет формы самоопределения несамоуправляющихся территорий: превращение в суверенное государство, слияние с другими государствами и, наконец, свободное объединение с независимым государством. Как раз третий вариант и реализуется в форме ассоциированного государства. Формирование ассоциации с другим государством должно быть результатом свободного и добровольного выбора населения страны, сделанного с применением понятных и демократических процедур.
Ассоциированное государство, передавая другому государству часть своего суверенитета и соглашаясь на зависимость в реализации тех или иных вопросов внутренней или внешней политики, сохраняет, во-первых, право на определение своего внутреннего устройства (при необходимой консультации с государством-партнером) и, во-вторых, право на односторонний выход из ассоциации посредством демократического волеизъявления.
Статус ассоциированных государств изначально использовался как переходный на пути деколонизации. В 1967 г. в ассоциацию с Великобританией вступили ее бывшие вест-индские колонии: Антигуа, Доминика, Гренада, Сент-Китс, Невис и Ангилья, Сент-Люсия и Сент-Винсент. По прошествии нескольких лет все они, кроме Ангильи, стали независимыми государствами. Ангилья же представляет собой пример инволюции: отказавшись от статуса ассоциированного государства в составе Сент-Китс и Невиса, она вернулась к положению зависимой британской территории.
Тем не менее статус ассоциированного государства может быть и вполне стабильным, что подтверждают существующие на современной политической карте ассоциированные государства США (Маршалловы острова, Микронезия, Палау) и Новой Зеландии (Острова Кука, Ниуэ).
Острова Кука и Ниуэ имеют статус ассоциированных государств Новой Зеландии с 1965 и 1974 гг., соответственно. Данный статус позволяет им, с одной стороны, получать финансовую поддержку из Веллингтона и доверять ему те вопросы внешней и внутренней политики, которые не являются существенными для островов, а с другой – там, где политические интересы присутствуют, их реализовывать. Несмотря на то что обе территории не входят в ООН, это не мешает им устанавливать дипломатические отношения с суверенными государствами, в т.ч. США, ЕС и Китаем, открывать посольства и вступать в международные организации, не разрывая при этом дружественных отношений с метрополией.
Ниуэ, пожалуй, обладает самым большим дипломатическим корпусом в мире относительно численности населения страны. На чуть более полутора тысяч человек имеется три посольства за рубежом, дипломатические отношения с дюжиной государств и членство в паре десятков международных организаций.
Статус ассоциированных государств США в 1986 г. получили Маршалловы острова и Микронезия, а в 1994 г. – Палау. Все три океанических государства были частями подопечной территории США в Тихом океане и после переходного периода решили стать ассоциированными государствами бывшей метрополии. Они обладают внутренним самоуправлением, ведут собственную внешнюю политику и даже входят в ООН, но в рамках ассоциации согласились на размещение военных баз на своей территории, передачу Америке части суверенитета, касающейся вопросов обороны, в обмен на что получили доступ к финансовой поддержке из бюджета США. При голосованиях на Генеральной ассамблее ООН эти страны почти всегда солидарны с патроном.
В еще одной зависимой территории Соединенных Штатов – Пуэрто-Рико – существует движение за самоопределение в форме ассоциированного государства (получило название «суверентизм»), однако в последнее время оно уступает движению за полное слияние с США в качестве 51-го штата. Пуэрториканцы несколько раз проводили референдумы, на которых подтверждали этот выбор, но американский Конгресс пока сопротивляется такому решению, поскольку оно потребует значительных финансовых ресурсов и изменит баланс сил между республиканцами и демократами на федеральных выборах в пользу последних.
Создать буферную зону
Буферная зона представляет собой узкую полосу земли шириной от нескольких метров до нескольких километров, созданную международными институтами для контроля линии разграничения между конфликтующими сторонами на период миротворческого процесса. С территории зоны обычно выселяется население и устанавливается демилитаризованный режим.
Буферные зоны появились в ходе гражданских конфликтов периода холодной войны – в 1953 г. по 38-й параллели между Северной и Южной Кореей, а в 1954 г. по 17-й параллели между Северным и Южным Вьетнамом. Обе зоны управлялись без международного участия и оказались крайне нестабильными. Вьетнамская постоянно была театром военных действий и окончательно упразднена в 1976 г. после объединения Вьетнама. Корейская же, несмотря на серию пограничных столкновений, существует по сей день, хотя степень ее демилитаризованности вызывает сомнения.
Впоследствии зоны создавались под эгидой миротворческих миссий ООН:
«Зеленая линия» – буферная зона, создана в 1964 г. ООН между Кипром и частично признанным Северным Кипром и управляется Вооруженными силами ООН по поддержанию мира на Кипре – ВСООНК;
«Пурпурная линия» на Голанских высотах создана в 1974 г. между Израилем и Сирией и управляется Силами ООН по разделению и наблюдению – СООННР;
между Израилем и Ливаном буферная зона создана в 1978 г. и управляется Временными силами ООН в Ливане – ЮНИФИЛ;
на ирако-кувейтской границе буферная зона создана в 1991 г. и до 2003 г. управлялась Ирако-кувейтской миссией ООН по наблюдению – ИКМООНН.
Существуют буферные зоны под эгидой и других международных организаций. В 1982 г., не получив мандата от ООН, США, Израиль и Египет создали собственную миссию Международных сил и наблюдателей для управления многоуровневой буферной зоной на Синайском полуострове.
С 1999 г. действует буферная зона на границе Сербии и Косово под контролем Сил для Косово НАТО (КФОР). В 2013 г. принято решение о 10-километровой буферной зоне под управлением Африканского союза на границе Судана и Южного Судана.
Передать территорию во временную внешнюю администрацию
Временная администрация вводится международными организациями (как правило, ООН) на суверенных территориях в целях миротворчества и государственного строительства. На определенный период часть полномочий, вплоть до осуществления законодательной, исполнительной и судебной власти передается специальной международной миссии. Обычно временная администрация создается в постконфликтный период для формирования новых институтов государственной власти и проведения демократических выборов.
Целый ряд миссий ООН служит для установления временной администрации в различных регионах мира:
временная администрация в Западном Ириане (о-в Новая Гвинея) создана в 1962–63 гг. для мирного перехода территории от Нидерландов к Индонезии (операция Временная исполнительная власть ООН – ЮНТЕА);
временная администрация в Камбодже создана в 1992–93 гг. для прекращения вьетнамской оккупации, принятия конституции и выборов в органы исполнительной власти (операция Временный орган ООН в Камбодже – ЮНТАК);
временная администрация в Восточной Славонии, Баранье и Западном Среме (ВАООНВС) создана в 1996–98 гг. для реинтеграции данных регионов в состав Хорватии после ликвидации самопровозглашенной Республики Сербская Краина;
временная администрация ООН в Восточном Тиморе (ВАООНВТ) создана в 1999–2002 гг. на период формирования органов государственной власти после референдума о независимости Восточного Тимора от Индонезии.
На сегодняшний день в мире под частичным международным управлением находятся Косово и округ Брчко (Босния и Герцеговина).
Временная администрация ООН в Косово (МООНК) создана в 1999 г. для формирования правительства в условиях широкой автономии региона в составе Сербии. После провозглашения независимости Косово задачи миссии значительно скорректировались, и в 2012 г. функции внешнего управления были прекращены, но миссия продолжает работать, сосредоточившись на вопросах безопасности, стабильности и прав человека. Отдельные задачи миссии переданы другим организациям – НАТО (безопасность), ОБСЕ (демократизация и создание институтов) и ЕС (законность, правопорядок, восстановление и экономическое развитие).
Миссия ООН в Боснии и Герцеговине (МООНБГ) действовала с 1995 по 2002 годы. В ее задачи входила координация по выполнению Дейтонского мирного соглашения, в частности переход власти к Совету по выполнению мирного соглашения. Совет принял решение о введении временной администрации Верховного представителя для округа Брчко, занимающего стратегическое положение в обеспечении связи между разрозненными частями Республики Сербской и Мусульмано-хорватской федерацией в составе страны.
Сделать спорную территорию свободной
Свободные территории выпадают из сложившейся системы международных отношений, в которой статус пространств определяется через понятие суверенитета. Это обособленные политические образования (суверенное государство или его часть), находящиеся под международным управлением. Свободные территории не являются полноценно суверенными, поскольку в ключевых вопросах, в первую очередь связанных с безопасностью и внешней политикой, управляются международным сообществом, но в то же время не являются и международными, поскольку не принадлежат всему мировому сообществу, сохраняя независимость в вопросах самоуправления. Свободные территории также следует отличать от зависимых территорий, находящихся под международным управлением – мандатных и подопечных территорий. Свободные территории изначально были суверенными, в то время как мандатные и подопечные территории создавались для наделения их суверенитетом или передачи под управление другого суверенного государства.
Как правило, свободные территории создаются для замораживания территориальных притязаний и смягчения напряженности в межгосударственных отношениях. Например, План ООН по разделу Палестины 1947 г. предполагал для Иерусалима и Вифлеема статус свободной территории под управлением ООН, однако он не реализовался из-за начала арабо-израильской войны. Особенно часто этот инструмент использовался в первой половине XX века.
Международная зона Танжер (1912–1956) появилась на южном побережье Гибралтарского пролива. Статус города был установлен Лигой Наций: номинально он оставался под контролем Марокко, но фактически управлялся Францией, Испанией и Великобританией. Власть в Танжере осуществлялась законодательным собранием в составе 4 французов, 4 испанцев, 3 англичан, 2 итальянцев, 1 американца, 1 бельгийца, 1 голландца и 1 португальца, назначаемых консулами соответствующих стран, и 9 подданных султана. Зона была ликвидирована после деколонизации Марокко.
Свободный город Фиуме (1920–1924) получил свой статус в результате подписания Рапалльского договора между Италией и Югославией. Важный порт в Адриатическом море стал причиной территориального спора двух стран после распада Австро-Венгерской империи. Формально независимый город-государство был признан США, Великобританией и Францией, однако с 1922 г. фактически управлялся Италией, а еще через два года присоединился к ней официально. После Второй мировой войны город вошел в Югославию, а сегодня под названием Риека входит в состав Хорватии.
Вольный город Данциг (1920–1939) на берегу Балтийского моря был образован после Первой мировой войны по Версальскому мирному договору. Он передавался под управление Лиги Наций и должен был войти в таможенный союз с Польшей, которая представляла его и во внешнеполитических сношениях. В самоуправлявшемся городе были очень сильны пронацистские настроения, и именно с атаки Берлина на Данциг 1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая война, после которой город под именем Гданьск вошел в состав Польши.
Территория Саарского бассейна (1920–1935) и Протекторат Саар (1947–1956) возникли в результате франко-германского противостояния за обладание ресурсами Саарского угольного бассейна в ходе двух мировых войн. После Первой – Саар был передан на 15 лет под управление Лиге Наций. Район управлялся комиссией из представителей англо-французских оккупационных сил, но в 1935 г. на референдуме высказался за воссоединение с нацистской Германией. По итогам Второй Саар вошел в состав оккупационной зоны Франции, которая собиралась создать там буферное государство под совместным управлением Западноевропейского союза, но жители вновь высказались за воссоединение с Германией. Тем не менее именно в Сааре впервые удалось объединить угольную и сталелитейную промышленность двух вечных соперников, что стало первым шагом к созданию Евросоюза.
Мемельский край (1920–1923) в Восточной Пруссии также по Версальскому договору был отделен от Германии и перешел под мандат Лиги Наций с фактически французской администрацией. Однако планы по созданию вольного города нарушило восстание составлявших большинство в городе литовцев, в результате которого город на Балтийском море отошел Литве, где и находится до сих пор под названием Клайпеда.
Свободная территория Триест (1947–1954) в северной Адриатике была выделена под управление ООН из состава Италии после Второй мировой войны, чтобы разрешить территориальный конфликт с Югославией вокруг Истрии. Вскоре территория была разделена между двумя странами, при этом сам город остался в составе Италии, но Югославии был обещан свободный доступ к порту. После распада Югославии теперь уже в словенской и хорватской частях Истрии начали возрождаться ирредентистские настроения.
На современной политической карте мира, пожалуй, единственным примером свободной территории можно считать Шпицберген. Архипелаг вместе с островом Медвежьим в Северном Ледовитом океане до XX в. был ничейной территорией, на которой шла ограниченная экономическая деятельность различных государств, в первую очередь России и Швеции. В 1920 г. заключен Шпицбергенский трактат, по которому территория переходила под суверенитет отколовшейся от Швеции Норвегии, однако в отношении нее устанавливался международно-правовой режим, благами которого могли пользоваться все страны – подписанты трактата. За архипелагом закреплен демилитаризованный статус, и все государства – подписанты трактата имеют равные права хозяйствования, мореплавания и научной деятельности. На данный момент экономическую деятельность на острове продолжают только Норвегия и Россия. В единственном сохранившемся российском поселке Баренцбург работает российская государственная компания «Арктикуголь», которая не платит налоги Норвегии, использует только русский язык, а в расчетах – собственную валюту. Россияне могут посещать Шпицберген без визы при условии, что прибывают туда прямым чартерным рейсом из России. Стратегическая ценность Шпицбергена для России объясняется важностью контроля над демилитаризованным статусом архипелага, входящего в состав страны НАТО и находящегося в районе, примыкающем к российскому сектору Арктики.
Сделать спорную территорию ничейной
Ничейная территория (terra nullius) – пространство, не находящееся под чьим-либо суверенитетом, но и не являющееся международной территорией. Изначально данный термин относился к неизведанным землям, в отношении которых правовой режим был не определен. Однако в XX веке таких уголков земного шара не осталось, поэтому понятие используется только в узком смысле – для обозначения территорий, от суверенитета над которыми отказались другие государства. Отказ от территории происходит по одной из трех причин: либо под давлением международного сообщества, скажем, после поражения в войне, либо с целью организовать обмен территориями, либо из-за невозможности эффективного управления. Во всех случаях после отказа от территории одной страной ее не включило в свой состав никакое другое признанное государство, равно как и международное сообщество не признало эту территорию общей.
Так, например, ничейными территориями могли стать колониальные владения Японии, от которых та отказалась по Сан-Францисскому мирному договору. От некоторых территорий Япония отказалась без передачи конкретному государству – от Курильских островов и японского сектора Антарктиды (Земля Мэри Бэрд и Земля Элсуорта). Тем не менее статус данных земель был определен другими странами: Курилы входят в состав России, а за Антарктидой признан статус международной территории. Бывший японский сектор Антарктиды до сих пор остается единственным, на который не претендует ни одна держава мира, что делает его похожим на ничейную территорию.
Появление ничейных территорий, называвшихся нейтральными зонами, было характерно для определения границы между британскими колониями в Месопотамии и Саудовской Аравией (тогда султанатом Неджд). Определение таких зон по договору о границе 1922 г. было связано с невозможностью эффективно управлять границей в пустыне, которую регулярно нарушали кочевые племена с обеих сторон. Нейтральная зона на саудовско-кувейтской границе сохранялась до 1970 г., а на саудовско-иракской – до 1991 года.
Редкими примерами ничейных территорий на современной политической карте мира являются Горня Сига на сербо-хорватской и Бир-Тавиль на судано-египетской границах. Они появились из-за неудачных попыток урегулировать территориальные споры. После распада Югославии и войны за Сербскую Краину у Сербии и Хорватии есть взаимные территориальные претензии на некоторые пограничные территории. Однако ни одна из стран не претендует на лесистую ненаселенную область Горня Сига (7 км²) на берегу Дуная, чтобы не лишиться более важных спорных территорий. История сектора Бир-Тавиль связана с изменением в 1902 г. Британской империей границы между Египтом и Суданом, находившимися у нее в зависимости. Судану в обмен на незаселенный сектор Бир-Тавиль в пустыне был передан Халаибский треугольник с выходом в Красное море. Сегодня Египет не признает договор 1902 г. и, соответственно, свой суверенитет над Бир-Тавилем, сохраняя контроль за Халаибом. Судан же признает границу, установленную британцами, по которой Бир-Тавиль стране не принадлежит. В итоге оба государства отказались от суверенных прав на данную территорию, и здесь не действует какое-либо законодательство.
Установить режим совместного управления
Как правило, территория подпадает под суверенитет одного государства, однако в истории были примеры совместного управления двумя, тремя или даже четырьмя государствами. Кондоминиумы – очень эффективный способ разрешения территориальных конфликтов.
Кондоминиумы не стоит путать с международными территориями (например, Антарктидой), которые принадлежат всем странам мира, поскольку в кондоминиумах всегда четко определены управляющие страны. В ряде случаев кондоминиумы очень близки к свободным территориям и режимам управления замкнутыми морями, международными реками и озерами (Каспийское море, Боденское озеро, реки Дунай, Рейн и Мозель). Тем не менее в описанных случаях речь идет о регламентации договаривающимися сторонами деятельности только в отдельных вопросах (мирный транзит, свобода экономической деятельности), тогда как в кондоминиумах управляющие государства распространяют суверенитет на все аспекты функционирования территории. Отличаются кондоминиумы и от временных администраций (округ Брчко в Боснии и Герцеговине), поскольку не имеют временных ограничений.
Кондоминиумы существовали в трех видах:
Феодальные кондоминиумы – де-факто независимые микрогосударства, соуправляемые главами соседних крупных держав, возникших в эпоху феодальной раздробленности (испано-португальское Коуту Мишту в 1139–1868 гг., Маастрихт в 1204–1794 гг. под управлением епископа Льежского и герцога Брабантского);
Пограничные кондоминиумы – поселения под общим управлением, создававшиеся для урегулирования территориальных споров (русско-датский Фэлледсдистрикт на Кольском полуострове в 1684–1826 гг., бельгийско-германский Мореснет в 1816–1919 гг.);
Колониальные кондоминиумы – совместные зависимые территории, которыми не удавалось управлять в одиночку (русско-японский Сахалин в 1855–75 гг., англо-египетский Судан в 1899–1956 гг., англо-французские Новые Гебриды (нынешнее Вануату) в 1906–1980 гг.).
Соправление трех государств встречается редко, к незначительному числу примеров тридоминиумов можно отнести англо-австралийско-новозеландское Науру в 1923–1968 гг., англо-американо-германское Самоа в 1889–1899 гг. и прусско-австро-российский Вольный город Краков в 1815–1846 годах. Известен по меньшей мере один пример кватродоминума – Княжество Самос в Эгейском море в 1834–1912 гг. управлялось Турцией, Россией, Великобританией и Францией, но потом вошло в состав Греции.
Единственным дошедшим до нас примером феодального кондоминиума является Андорра. Главами государства в ней с момента создания в 1278 г. являются президент Франции (к нему эта должность после Французской революции перешла от графов де Фуа) и архиепископ Урхельский из Испании. Фактически страна является парламентской республикой, но формально все документы до сих пор утверждаются в Париже и Урхеле. В 1993 г. соправители расширили суверенитет Андорры: ей предоставили право самостоятельно заниматься внешней политикой (после чего она была принята в ООН) и, например, разрешено не накрывать ежегодный пир с обязательными местными сырами, петухами и куропатками, что четко оговаривалось в изначальном договоре. Единственная за многовековую историю попытка добиться полной независимости была предпринята андоррцами в 1934 г. под предводительством русского эмигранта и авантюриста Бориса Скосырева, который объявил себя королем Андорры, однако через несколько дней издал указ об открытии в столице казино и был арестован испанской жандармерией.
Кондоминиумы не обязательно должны быть формой управления зависимыми территориями. Сегодня встречаются примеры соправления частями инкорпорированной территории государства, которые близки к пограничному виду исторических кондоминиумов. Так, старейший существующий кондоминиум в мире – крошечный Остров фазанов – возник после подписания на нем Пиренейского мира между Испанией и Францией в 1659 году. Это уникальный пример не совместного, а поочередного управления двумя странами: полгода остров принадлежит испанскому муниципалитету Ирун, а вторую половину – французскому муниципалитету Андай. Во времена войны кондоминиум объявлялся нейтрализованной территорией, на которой проходили встречи монархов и обмен пленными. Еще пример – деревня Хадт, расположенная между Оманом и эксклавом Масфут эмирата Аджман (ОАЭ), находится под совместным контролем султана и эмира.
* * *
Представленный список решений и примеров, возможно, не исчерпывающий, но достаточный для того, чтобы понять, что в международной практике накоплен достаточный инструментарий, позволяющий решить любой территориальный спор. Успех зависит только от компетенции переговорщиков и политической воли руководства.

Россия тихоокеанская
дальневосточник — человек вольный, предприимчивый и бесстрашный, он не боится бурь, он не боится необъятных просторов, не боится неведомого
Александр Проханов
Владивосток — город опорный, город-оплот. Это город-столп, один из многих, что расставлены русским человеком по гигантской столбовой дороге. Столп Екатеринбург, столп Тобольск, столп Новосибирск, столп Красноярск, столпы и Иркутск, и Чита, столп Хабаровск и, наконец, у самой кромки моря, куда долетела русская мечта — столп Владивосток.
На этих столпах держится гигантский свод государства Российского. И эта великая тяжесть русского неба, великая крепость и упорство русской земли чувствуется во Владивостоке. Сюда веками двигались ватаги казаков, отряды стрельцов, переселенцы, богомольцы, каторжане. Двигались священники, землепроходцы, разведчики императорского Генерального штаба и учёные Петербургской академии. Дошли и поставили у кромки океана славный град Владивосток.
Город на холмах, город волнуется, как океанская волна: то взлетает ввысь к небу, то погружается в долины. Среди домов вдруг открывается залив, и на нём — грозные контуры боевых кораблей. И снова с другой стороны города открывается океан и на нём — вереницы сухогрузов и танкеров. В городе пахнет морем, пахнет океанами, пахнет лесами и травами далёких континентов. Здесь сохранились купеческие особняки, лабазы, здесь — памятники красным партизанам, которые помнят "штурмовые ночи Спасска, волочаевские дни". Здесь — знаменитая подводная лодка и чудесный златоглавый православный храм.
Владивосток — столичный город, в нём — Академия наук с учёными мужами, знаниям которых могут позавидовать Петербург и Москва. Здесь — великолепный университет и чудесный Мариинский театр, филиал Петербургского. Дальневосточник по-своему гордец: не всякий город смотрит своими окнами в бескрайнюю синеву океана. И ты вдруг услышишь у местного философа и витии, что Владивосток — это второй Константинополь, второй Царьград, ибо и здесь, как там, у Босфора и Дарданелл, — бухта Золотой Рог. И на тебя вдруг дохнёт дуновение Херсонеса, и ты особенно остро ощутишь здесь, во Владивостоке, величие народа, который создал невиданное государство в 12 часовых поясов, слил в этом государстве великие реки, громадные горные хребты, неоглядные долины и степи. Окружил это государство тремя океанами и нарёк его государством Российским.
Прекрасна Новосильцевская батарея с десятком могучих береговых орудий, нацеленных в океан. Это шедевр русских крепостных сооружений. Своей мягкой пластикой — овальными арками, округлыми выступами — батарея напоминает русские церкви, быть может, потому, что для русского человека в его оружии таится святость. И крохотная иконка, врезанная в бетонную толщу батареи, где Георгий Победоносец скачет на своём неутомимом коне, — предмет молитвенного поклонения этому великому оружию. Фортификатор Алексей Шошин построил вокруг Владивостока сотни подобных батарей, создав по периметру города неприступную крепость. И, закончив последний бастион, он сказал: "Русские здесь остаются навсегда". Остров Русский, отделённый от города проливом, был военным преддверием в город. Здесь располагались орудия, гарнизоны, мореходные училища, системы военной навигации и слежения. Военные покинули остров, и на нём Дальневосточный университет раскинул свои великолепные аудитории, учебные корпуса, лаборатории, продолжает строиться, одеваясь в стекло и бетон. Сюда из Владивостока приезжает цветущая молодёжь, получая специальности инженеров, юристов, природоведов — молодое племя дальневосточников, в которых так нуждается бурно растущий край.
Писатель Василий Авченко, продолжающий в своих книгах традицию Арсеньева с его "Дебрями Уссурийского края", традицию Фадеева с его "Разгромом", говорил мне, что это новое поколение дальневосточников, любознательных, творческих, деятельных, стремится в будущее, где ему чудится новое слово жизни, новые представления о русской мечте, которая долетела до Тихого океана и метнулась дальше, в бесконечный его простор. Великолепен мост, соединяющий Владивосток с островом Русский. Его стропы похожи на струны арфы, на которой невидимые, протянутые из неба, пальцы играют восхитительную музыку русских сфер. Эта музыка летит через гигантский континент Евразии. Её слышит другой мост, Крымский, отвечая дальневосточному мосту своей божественной музыкой. Это два моста-побратима, их строили одни и те же люди — те же инженеры и конструкторы. Оба моста явились символами русской мечты, одна из которых через Крым устремилась в Атлантику, другая, долетев до Владивостока, метнулась в тихоокеанскую синь.
Русские люди, пройдя по суше половину Земли, вышли к океану и стали вглядываться в его туманную синеву, желая увидеть в нём сказочное чудо. Но там, в океанских просторах, русского человека поджидали драконы: китайский дракон, японский дракон, корейский дракон, драконы Америки, Индии, Индонезии. Каждый из этих драконов был загадочен, грозен, сулил столкновения. Эти драконы схватывались один с другим, связывались в клубки, и русскому человеку пришлось войти в соприкосновение с этими драконами. Он к ним приглядывался, стремился понять. С одними воевал и сражался, с другими — торговал, к третьим — осторожно приглядывался, уповая на дружбу.
С академиком РАН, географом Петром Яковлевичем Баклановым мы рассуждали о русском человеке, который здесь, во Владивостоке, в Приморье, из континентального человека вдруг превратился в человека океанского. Здесь у русского человека возникло иное измерение, иное таинственное мироощущение, что повлекло его по водам, и он вошёл в соприкосновение с невиданными гигантскими цивилизациями, о которых прежде почти не подозревал.
Русская мечта коснулась мечты китайской, мечты корейской, мечты японской, американской мечты. И с каждой из них нужно было завязать диалог, понять сокровенную сущность этих великих загадочных цивилизаций, показать им себя, и показать так, чтобы они не увидели в тебе врага. Академик считает, что миссия России, русской цивилизации, русской мечты здесь, на тихоокеанских просторах, среди других, часто враждующих цивилизаций, — внести сюда идеал гармонии, красоты, соразмерность, что обеспечит человечеству XXI и XXII веков невиданный волшебный рывок. Сюда, во Владивосток, долетает железный путь Транссибирской магистрали, врезается в океан и расходится пучком океанских дорог, ведущих, одна — в Китай и Японию, другая — в Корею и Америку, а третья — великим Северным морским путём — к Полярной звезде.
Порт Находка гудит, дрожит, скрежещет кранами, ревёт подплывающими сухогрузами. День и ночь работают терминалы порта. Весь огромный залив по периметру уставлен кранами, похожими на чудовищ, пришедших на океанский берег ящеров. Здесь русский уголь, русское дерево, русский металл грузятся на пароходы, и их нетерпеливо ждут в странах Тихоокеанского бассейна, вплоть до Филиппин и Австралии.
Порт тяжеловесный, громоздкий, на деле — тонко настроенная машина со своими биениями, графиками, хрупкими импульсами.
В диспетчерском пункте терминала директор Дмитрий Григорьевич Друян, стоя перед мониторами, рассказывал мне о хрупкой кибернетике порта, о сухогрузах, которые отчаливают от пристаней Японии, Вьетнама, о других сухогрузах из Китая и Индии, которые приближаются к порту Находка. О третьих сухогрузах — из Филиппин и Южной Кореи, которые стоят у пирса под погрузкой. И краны своими ковшами черпают из угольных гор драгоценный уголь, переносят его по воздуху к кораблям, погружают их в трубы. И этот кузбасский уголь, который даёт жизнь шахтёрскому Кузбассу, отправляется в страны Океании, где сгорает в топках электростанций, засыпается в плавильные печи. На этот русский уголь выстраиваются долгие очереди. При погрузке на город летит угольная пыль, и, сражаясь с этой угольной пылью, корабли у пирса занавешиваются гигантскими холстинами, а специальные поливочные машины ходят вдоль бортов и опрыскивают водяной пудрой корабельные борта и портовые сооружения.
Отсюда от Владивостока, от порта Находки, от прибрежного города Большой Камень, начинается Северный морской путь. Бескрайняя дорога по Охотскому морю на север, до Чукотки, до Берингова пролива, сквозь который, ведомые ледоколами, проходят караваны судов в Ледовитый океан и движутся вдоль северной кромки России, продираясь сквозь полярные льды до Ямала с его газовыми и нефтяными полями, и дальше — к Кольскому полуострову, в Норвегию, до Северной Европы, до самой Испании.
Великолепен судостроительный завод в Большом Камне "Звезда". Не та "Звезда", что тут же, в Большом Камне, осуществляет военные заказы. А сверхновая "Звезда" — молодая дальневосточная верфь, где закладываются первые русские супертанкеры, непомерных размеров газовозы, что станут перевозить ямальский газ в страны Европы и Азии. Здесь строятся маломерные суда, призванные обслуживать газовые и нефтяные платформы шельфа, ещё не существующие, но уже заложенные на других российских верфях. Завод строит танкеры и сам продолжает строиться. От его стальных конструкций, просторных цехов, молодых чудесных лиц рабочих веет светом и силой. Люди режут металл, гнут гигантские стальные листы, сваривают их в непомерных размеров блоки. Свозят эти блоки в сборочные цеха, где их соединяют, насыщают трубопроводами, электрическими кабелями, приборами, создавая могучее тело танкера, системами космической навигации с чуткими локаторами, позволяющими танкеру среди полярных штормов и качек причаливать к бетонному пирсу так, чтобы газопровод, соединяющий огромный береговой завод с газохранилищем танкера, не почувствовал удара океанской стихии.
Директор завода Сергей Иванович Целуйко — петербуржец. Но за три года, что строят завод, стал дальневосточником. Этот завод — изделие XXI века. Труд, которым заняты здесь люди, одухотворён возвышенной целью. Дальневосточная мечта о силе, просторе, красоте делает этих людей первопроходцами. Они торят путь от Большого Камня до Гибралтара. А такая доля выпадает не всякому, и они дорожат этой русской дальневосточной долей.
На крейсере "Варяг" среди его зенитно-ракетных комплексов, могучих ракет "море— море", скорострельных пушек, ажурных антенн и ребристых надстроек я беседовал с командующим Тихоокеанского флота Сергеем Иосифовичем Авакянцем. Само пребывание на этом могучем корабле, который только что вернулся из Средиземноморского похода, одно его имя — крейсер "Варяг" — погружает тебя в славное русское прошлое, в беспримерный подвиг того легендарного "Варяга", что выдержал неравный бой с японцами, и о котором по сей день в русских застольях, на русских парадах поётся: "Врагу не сдаётся наш гордый "Варяг"! Пощады никто не желает!" Командующий с горечью рассказывает о смутных 90-х, когда истреблялся флот, и действующие боеспособные корабли продавались за бесценок за границу или резались автогеном на металлолом. Флот мелел, лишался боевых кораблей, и моряки, ходившие на этих кораблях к экватору и к югу Африки, чувствовали себя самыми несчастными в мире людьми. Сегодня Тихоокеанский флот пополняется новыми кораблями: фрегатами, корветами, подводными лодками. Флот способен выполнять боевые операции на любом удалении от родных берегов, по-прежнему остаётся океанским флотом. Именно корабли Тихоокеанского флота первыми через Суэцкий пролив вошли в Средиземное море и начали патрулировать вдоль сирийских и ливанских берегов, дожидаясь, когда к ним присоединятся корабли Северного, Балтийского и Черноморского флотов. У командующего нет ни малейших сомнений, что Курильские острова есть неоспоримая русская территория. Они дают гарантию Тихоокеанскому флоту оставаться флотом Мирового океана. Бессмысленны и зловредны всякие домыслы о возможности отказа от Курильских островов.
Сейчас экипаж "Варяга", отдыхая от недавнего похода, уже готовится к следующему, когда уйдёт в Средиземное море, в зону боевых действий, подтверждая присутствие России в солнечном сплетении мира — на Ближнем Востоке.
Дальневосточник — человек вольный, предприимчивый и бесстрашный, он не боится бурь, он не боится необъятных просторов, не боится неведомого. Это неведомое и делает его дальневосточником. Перестройка и 90-е годы подавили дальневосточника. Они оборвали у него крылья, они остановили полёт русской мечты здесь, у Тихого океана. Люди потеряли работу, потеряли боевые корабли, потеряли торговый и рыболовный флот. Стали пустеть посёлки и города, уезжали рабочие и учёные, жизнь становилась бедной, невыносимой и бессмысленной. Московские перестроечники собирались закрыть Дальневосточное отделение Российской академии наук. Новые военные стратеги говорили, что России не нужен Тихоокеанский флот. Образ дальневосточника стал туманиться, двоиться, стираться. Сегодня дальневосточник собирает не просто флот, строит не просто заводы и осваивает Северный морской путь, он возвращает себе волю к полёту, к постижению непостижимого, к освоению недоступного. Он вновь становится мечтателем, фантазёром.
Обладатель дальневосточного гектара Владимир Владимирович Столяров пригласил меня к себе в гости. В недавнем прошлом морской офицер, он сошёл с корабля на берег и стал фермером. Получив дальневосточный гектар, построил на нём дом. Этот дом, вознесённый на вершину холма, виден далеко с дороги. Он фантастичен, этот дом. Забудьте про избу о четырёх углах, забудьте про сруб из добротного тёса, забудьте о кровле на два ската. С дороги видна громадная, фантастическая в своих размерах, сфера. В такие оболочки помещают корабельные радары и станции дальнего обзора. Из таких сфер складываются космические поселения. В таких сферах на Землю спускаются из космоса инопланетяне. Возле дома стоит солнечная батарея, которая освещает строение и служит для зарядки мобильных телефонов. В этом доме, где ещё идут работы и пахнет смолистым деревом, уютно, тепло, сквозь громадные, похожие на иллюминаторы, окна видна вся неоглядная окрестная даль. Хозяин — очаровательный, весёлый, доброжелательный, показывает своё хозяйство с бульдозером и автомобилями, расчищенные от камней участки, вдоль которых посажены молодые деревья. Он хочет новизны, свежести, необычайных ощущений. Ступив с палубы на твёрдую сушу, хочет сохранить в своём фермерском укладе необъятность океана, воспоминания о Филиппинах и Индонезии, куда ходил его корабль. Если он полетит на Луну, там ему не придётся думать об архитектуре своего лунного поселения. Он просто возьмёт на Луну свою сферическую дальневосточную избу.
Артём Трембовлев, член общественной организации "Надежда". Он стал известен и популярен в Находке, когда организовал протест горожан, страдающих от угольной пыли. Он ходил по домам и дворам, уговаривал людей выйти на митинг, писал воззвания, петиции и жалобы, пока не добился своего: хозяева угольных терминалов приняли, наконец, меры, защищающие город от угольной пыли. Он — неуёмный, терпеливый, страстный. Он говорит, что его задача — разбудить людей от печального сна, от уныния, заставить их биться за свои права. Он разбудил людей, но прежде разбудил себя. В его жизни был случай, который заставил его очнуться и вернул ему дальневосточную пассионарность.
Дальний Восток славен своей удивительной и неповторимой природой. Своей уссурийской тайгой с дубами и кедрами, с таинственным корнем женьшеня. В 90-е годы, когда люди стремились выжить, они в нарушение всех законов и правил губили природу: вырубали под корень реликтовые кедры, охотясь без лицензий, убивали оленей, стреляли в леопардов и тигров. Дело дошло до того, что уссурийский леопард, эта драгоценная популяция хищной пятнистой кошки, практически исчезла. От неё осталось только 30 животных. И среди них — одна-единственная самка, способная рожать потомство. Нашлись энтузиасты, которые поставили целью спасти драгоценную породу. Появился национальный парк, который именуется "Земля леопарда". Его директор Виктор Владимирович Бардюк рассказывал мне, как зоологи, звероводы, ботаники спасают леопарда от гибели. Их усилиями уже вдвое увеличена популяция. Они борются с пожарами, которые каждое лето надвигаются на национальный парк, отстаивают его, едва не погибая в огне. Они борются с браконьерами, которых уже отвадили от драгоценных лесов, ведут наблюдение за каждой особью, расставляя для этого по лесным урочищам фотоловушки. Леопард, крадучись, проходит мимо камеры, срабатывает фотоприцел… И зоологам достаются драгоценные снимки леопарда. Каждый новый родившийся леопард берётся на учёт. Каждому леопарду присваивается свой порядковый номер, за каждым животным закрепляется человек, доброхот, благотворитель, который даёт леопарду имя и является для леопарда своеобразным крёстным отцом. В "Земле леопардов" помимо грациозных пятнистых кошек обитают прекрасные дальневосточные люди, испытывающие благоговение ко всему живому: к леопарду, к цветку, к звезде небесной.
Губернатор Приморья Олег Николаевич Кожемяко, занятый строительством дорог, университетов, школ, портов, строительством новых посёлков и возрождением старых, среди этой авангардной дальневосточной работы полагает, что вернуть Дальнему Востоку население, изрядно поредевшее за годы уныния и печали, можно не только строительством комфортного жилья, удобной инфраструктуры, вложением денег в экономику, образование, медицину. Вся эта математика цифр, исчислений, денежных потоков, численность квартир и больничных мест ничего не значит без невидимого, неисчисляемого таинственного фактора, который делает человека мечтателем, творцом, пытливым исследователем мироздания.
Русская мечта, вернувшаяся сегодня на Дальний Восток, одухотворяет все земные дела и уложения, придаёт человеческой жизни высший смысл. Россия дальневосточная делает русскую жизнь необычайной, возвышенной и духовной, устремляется в бескрайнюю синеву океана и ищет в этой синеве несказанное царство, всё то же, заповедное, в древних сказках, в старообрядческих псалмах, в фантазиях странников, в чаяниях революционеров. Эта мечта — о великом государстве, жизнь в котором свободна от тьмы, от корысти и ненависти, полна красоты и любви.

Порошенко сбежит из страны
США сделали ставку на Зеленского
Олег Царёв Александр Нагорный Андрей Фефелов
"ЗАВТРА". Олег Анатольевич, какие тенденции первого тура вы можете отметить? Как они могут повлиять на второй тур?
Олег ЦАРЁВ. Первый "звоночек" для Порошенко прозвучал ещё когда он пытался провести чрезвычайное положение через Верховную раду, а олигархи его не поддержали. Все, за исключением Блока Петра Порошенко, выступили категорически против чрезвычайного положения. Дальше стало понятно, что Пётр Порошенко потерял поддержку олигархов. Потому что Украина — олигархическая страна, здесь президента всегда выбирали олигархическим консенсусом.
Потом все, кто наблюдал за выборами, видели судорожные попытки Порошенко наладить отношения с республиканцами, устроив руками Луценко скандал с американским послом Мэри Йованович. Однако результат был отрицательный: он побил горшки с демократами, но не наладил отношения с республиканцами. И когда я узнал, что люди из штаба Трампа приехали в офис Зеленского, то понял, что шансов у Порошенко нет. Изначально уголовное дело против окружения Порошенко и демократов организовывал бывший мэр Нью-Йорка, советник Трампа Руди Джулиани. Был известный скандал: он прилетел на Украину, но в Борисполе его остановили. Джулиани вернулся в США просто в бешенстве от Порошенко. Получилось, что Петро Алексеевич сжёг мосты с демократами после истории с Йованович, но до этого он сжёг их с республиканцами. Команда Джулиани, команда Трампа сейчас работает с Зеленским. А людей Сороса с Украины будут выдавливать.
Некоторое время назад я прогнозировал, что во второй тур выборов выходят Порошенко и Зеленский, и Порошенко проиграет порядка 24%. Но это было две недели назад, до ряда известных скандалов. Теперь, думаю, разрыв будет ещё больше. И ничего Порошенко не сделает.
Изначально Владимир Зеленский — технический кандидат, один из многих, которые должны были обеспечить победу Юлии Владимировны. Он ходил еженедельно к Тимошенко на совещания вместе с такими, как Наливайченко. И ходить перестал только тогда, когда все увидели его рейтинг. Кстати, в этот период его пригласили в посольство Израиля, и сказали, что Израиль готов его поддерживать. Обратите внимание, что подобной встречи с такими формулами не было ни с Тимошенко, ни с Порошенко.
"ЗАВТРА". Бросается в глаза, что министр внутренних дел Аваков неожиданно выступил против Порошенко. Получается, что в ходе выборов сложилась неформальная коалиция: Зеленский как остриё ледокола, к нему примыкает Тимошенко со своей партией и ещё ряд политических организаций, плюс неожиданно появляется мощная поддержка со стороны Министерства внутренних дел, а также правых националистов и бандеровцев. Каким образом могла сложиться такая коалиция?
Олег ЦАРЁВ. И Игорь Коломойский, и Юлия Тимошенко достаточно долгое время вели переговоры с Арсеном Аваковым. Не забывайте о том, что в своё время Аваков был членом фракции Блока Юлии Тимошенко. Он же тогда, используя свои связи, поднял Меркель на защиту Тимошенко. Благодаря Авакову визит любого зарубежного VIP-гостя заканчивался или начинался с посещения тюрьмы, в которой находилась Тимошенко. Так что ничего удивительного в том, что они договорились, нет.
"ЗАВТРА". Кажется, что за ширмой всех этих коалиций находится Коломойский, который дёргает за ниточки и фактически выстраивает политический процесс?
Олег ЦАРЁВ. Многим так кажется, и самому Коломойскому именно так хочется думать. На самом деле, у Коломойского есть всего два варианта ближайшего будущего. Первый: он каким-то образом резко снижает свои амбиции и остаётся в политической жизни Украины. Второй: его убирают с Украины. Поверьте мне, у американцев достаточно возможностей сделать так, чтобы он никогда не мог покинуть Израиль. Зеленский сам по себе очень удобен американцам как президент. Это новый человек, не связанный с прежними политическими элитами. И если "подпереть" его своими кадрами, то можно, наконец, приступить к трансформациям внутри Украины, которые устроят Вашингтон.
Хотя Украина интересует американцев постольку-поскольку. Ведь то, что мы наблюдаем на Украине — лишь отражение внутриполитической борьбы в США. В Штатах сейчас развивается уголовное дело против окружения Порошенко. Ставленники Обамы разворовывали американскую помощь через окружение Порошенко. Занималась этим Яресько, причём начинала она это делать ещё при Януковиче. Апофеоз, конечно же, был уже при Порошенко. Именно поэтому её взяли на ту должность, которую она занимала. Дело однозначно будет развиваться, потому что это хороший удар по Байдену и другим влиятельным фигурам Демпартии.
А республиканцы однозначно будут взращивать элиту, ориентированную на себя. Впрочем, люди, которые сейчас помогают Зеленскому, рассматривают Украину как бизнес-проект. Команда Зеленского посчитала, что окружение президента и сам президент смогут зарабатывать около двух миллиардов долларов в год. Это таможня, Нафтогаз, налоговая и так далее и тому подобное. Есть даже примерные бюджеты. Отдельной строкой стоит "раздевание" Порошенко.
"ЗАВТРА". Его будут трясти, как Буратино?
Олег ЦАРЁВ. Скорее на него нападут, как пираньи, и будут откусывать всё, что можно откусить. Ситуация у Порошенко очень сложная. Во время последнего визита представителя Госдепа, он просил протекцию — в случае чего уехать в США. Ему отказали. Израиль отказал ещё раньше. Его жена предлагала уехать в Испанию, но там Петра Алексеевича ждёт уголовное дело, поскольку из-за своей жадности Порошенко даже виллу проплатил через гибралтарский офшор. Остаются Канада и Молдавия. С Канадой может получиться, потому он показал себя борцом с "москалями". Ну а Молдавия — совсем грустный для него вариант. Да и вряд ли возможный — потому что в последнее время у него испортились отношения с Плахотнюком.
"ЗАВТРА". А что будет значить победа Зеленского для России?
Олег ЦАРЁВ. В России было две партии: сторонников Порошенко и сторонников Тимошенко. Я не буду называть имён, но одни считали, что надо поддерживать отношения с Порошенко, потому что он однозначно выиграет. Иные выстраивали отношения и помогали Тимошенко. Обе партии проиграли, потому что выиграл Зеленский. Но поскольку Игорь Валерьевич Коломойский плодотворно выстраивал отношения с РФ на протяжении многих лет, то, скорее всего, возобладает точка зрения, что выборы надо признавать. И будут даже попытки вместе сформулировать, что не только Зеленский победил, но и мы, Российская Федерация, выиграли у Порошенко. И появится надежда, что проблемы России, связанные с Украиной, каким-то образом будут решаться. С Порошенко-то было бы больше определённости. Его победа почти наверняка означает непризнание выборов. И раз такая ситуация, то придётся признавать Донбасс. Потому что люди там — пять лет под обстрелами, без будущего. А любой другой кандидат, приходящий к власти, имеет период, который можно обозначить как "медовый месяц" или "медовые полгода" (даже "медовый год"). Это время, пока избиратели будут верить и прощать ему ошибки, а мировое сообщество выдаст кредит доверия. А Порошенко среди европейских лидеров уже нерукопожатен. Если он выиграет выборы, то все поймут, что это фальсификация. И его и так небольшой статус станет ещё меньше. Порошенко — слабый президент, он больше подходит для России. При Зеленском вероятность возврата Донбасса в Украину куда выше, чем при Порошенко.
Надо учитывать, что Владимир Зеленский кардинально отличается от своего киногероя Голобородько, с которым его ассоциируют избиратели. Это очень жёсткий руководитель. Да, он не очень разбирается в политике и экономике, но в ходе кампании он показал себя как лидер, готовый перешагивать через людей и унижать подчинённых. Знаю это изнутри, ибо мои знакомые работают в его штабе. Не боюсь этого говорить, потому что вычислить этих людей невозможно.
У Зеленского очень сильная позиция. Даже поражение для него не фатально. Скачок рейтинга ему обеспечен. На парламентские выборы он приведёт ещё больше людей, его партия может получить до половины голосов избирателей. И Порошенко ничего не сможет сделать. Более того, получился бы президент с урезанными полномочиями, потому что вернули бы старую Конституцию. А дальше на Украине началось бы противостояние между президентом и парламентом, которое закончилось бы импичментом и тюрьмой для Порошенко.
"ЗАВТРА". А что на украинском направлении стоит делать Кремлю (России), и чего делать не надо? Каким образом можно наиболее эффективно воздействовать на процессы, которые там протекают? С учётом того, что за прошедшие пять лет Москва вела себя достаточно индифферентно.
Олег ЦАРЁВ. Когда говорят: "Пусть Россия что-нибудь сделает", — мне становится страшно. Россия попыталась поддержать Юрия Бойко и тем самым ударила по Юлии Тимошенко. Честно говоря, я очень рад, что Россия в этих выборах, за исключением истории с Бойко, практически не участвовала.
При этом я чётко понимаю, что задачи ударить по Тимошенко не было. Я знаю, что структуры Бойко, Вилкула во втором туре готовы были поддерживать Тимошенко. Но получилось то, что получилось. И это был очередной промах…
Многие ошибки Москвы уходят ещё в советское прошлое, даже в начало формирования Советского Союза. Не говоря уже про отсутствие работы с Украиной после распада СССР и фактический отказ в поддержке сил Юго-Востока после событий Майдана. Во время моей президентской избирательной кампании, я объехал все города Юго-Востока, в том числе чтобы напрямую пообщаться с народными лидерами, которые выводили людей на протест против Майдана. У меня была прямая связь с губернаторами, с руководителями областных управлений СБУ и милиции. Все понимали, что ничего хорошего впереди нет, что реальная перспектива — это увольнение с работы, а может, и тюрьма, и смерть. И были готовы, если не отделяться, то заявлять о неподчинении Киеву. Но для этого нужно было понимание, что если не мировое сообщество, то хотя бы Россия поддержит.
Этого не произошло, и потом не случилось наступления на Мариуполь и Харьков. И с каждым днём "коридор возможностей" уменьшался. Правда, сейчас большинство моих товарищей-политэмигрантов собирается вернуться на Украину. Потому что они враги прошлой власти, уголовных дел на них особо и нет. Или дела закрыты, ничего доказать не получилось. И потихонечку начнётся такое просачивание. Но я вернуться всё равно не смогу…
Беседовали Александр Нагорный и Андрей Фефелов

Ангел смерти
о расовых, культурных и религиозных изменениях в Старом Свете
Андрей Фурсов
Пора чудес прошла, и нам
Отыскивать приходится причины
Всему, что совершается на свете.
У. Шекспир "Генрих V"
Нам нравится эта работа —
называть вещи своими именами.
К. Маркс
Сто лет назад Освальд Шпенглер опубликовал свою знаменитую книгу "Закат западного мира", более известную как "Закат Европы". Шпенглер реагировал на крушение в ходе и в результате мировой войны того, что Карл Поланьи назвал "цивилизацией XIX века". Теперь мы знаем, что в 1918 г. закат только начинался. Его дальнейшими вехами стали:
— 1945 г., когда Европа прекратила играть роль геополитического (геоисторического) субъекта и оказалась поделена на зоны влияния, как когда-то и предупреждал Наполеон, между Россией и США;
— 1968 г., когда так называемая студенческая революция, а точнее, то, что скрывалось за ней, нанесла страшный удар по сохранявшимся европейским ценностям, резко ускорив процесс американизации, деевропеизации Европы и превращения Запада в Постзапад.
Финальную точку в виде большой грязной кляксы ставит так называемый миграционный кризис 2015 г. "Так называемый" — поскольку, по мнению ряда экспертов, он в значительно большей степени похож на хорошо спланированную и подготовленную сетевую военно-политическую операцию, комбинирующую проведение нелегальных операций в области манипуляции антропотоками, стратегических коммуникаций, крупной логистики и, конечно же, психологических (психоисторических) кампаний с нанесением мощных психоударов. Цель данной операции — создание управляемого хаоса; средство — организация широкомасштабных, невиданных со времён Второй мировой войны потоков беженцев и нелегальных мигрантов. Управляемый хаос в данном случае бьёт по евробюрократии, деморализуя её, по Евросоюзу, демонстрируя полную политическую импотенцию его руководства. Последнее не замедлило признаться в этом. Так, 2 сентября 2015 г. министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак после заседания правительства страны признал, что Шенгенская зона де-факто перестала существовать из-за массового наплыва беженцев из Ближнего Востока и Северной Африки; на сентябрь 2015 г. их число составило более полумиллиона человек, рвущихся не абы куда, как это обычно происходит с людьми, бегущими от горя, беды и угрозы смерти, а туда, "где чисто и светло", — в страны с максимально высокими государственными дотациями: Германию, Швецию, на худой конец — Францию или Италию.
17 сентября 2015 г. официальный представитель МВФ Джерри Райс оценил ситуацию в Европе как "гуманитарный кризис небывалого масштаба". И хотя, повторю, на тот момент в Европе оказалось всего около полумиллиона беженцев, европейские власти обуял такой страх, что им виделись уже 30—35 млн в ближайшее время (выступление руководителя МИД Венгрии от 19 сентября). Впрочем, было от чего испугаться: так называемые беженцы, большую часть которых составляли молодые здоровые мужчины, не собирались ни работать, ни ассимилироваться; они хотели одного — жить на дотации, не работая. Речь, таким образом, идёт о новой волне переселения народов Юг — Север, о заселении Европы чуждыми ей в этническом, культурно-религиозном и расовом отношении массами — Реконкисте наоборот. Массы эти со всей очевидностью настроены на реализацию криминально-паразитического освоения зоны обитания сытого, робкого, утратившего и ценности, и волю к сопротивлению белого европейского человека. Что он, приученный к комфорту и толерастии, может противопоставить социальным хищникам, сбившимся (организованным) в этнические банды?
Развёртывание миграционного кризиса наглядно продемонстрировало не просто неготовность, а неспособность западноевропейцев не то что противостоять чужому и чуждому, но даже защищаться от него, сохранять достоинство в столкновении с ним. В данном смысле это финал заката Европы в Лунку Истории, финал, который Шпенглеру и присниться не мог. Автор "Заката Западного мира", при всём его пессимизме, относился к тому поколению немцев и европейцев, которые готовы были встать с веком наравне, т.е. принять его вызов, а не прятать "тело жирное" в "утёсах" комфорта.
Миграционный кризис — это то явление, сквозь призму которого, как через гигантское увеличительное стекло, можно разглядеть немало важных тенденций развития Европы не только в XXI, но и в ушедшем ХХ в. — именно в нём была всерьёз заварена та каша, которую нам и нашим детям, а скорее всего, и внукам придётся расхлёбывать в XXI в. Этот кризис — "момент истины" заката Европы, западного мира, его превращения в Постзапад. Исторические нити тянутся от миграционного кризиса в прошлое, и для того, чтобы понять его — и закат — необходимо взглянуть и на Вторую мировую, и на поздний Рим, и на современную постзападную науку, и на классовые корни неолиберальной контрреволюции и глобализации — только так можно сложить пазл, отыскать причины происходящего и назвать их своими именами.
Да, сегодня мы видим финал заката, поскольку речь идёт об этнокультурном и расовом замещении белых европейцев, вытеснении их из истории. Французский философ Рено Камю так и называет этот процесс: “le grand remplacement” — "великое замещение". Выходит, прав был Шпенглер, полагая, что XXI в. будет для Европы последним? Финал этот обретает ещё более финалистичные и закатные черты, поскольку вся ситуация была спровоцирована руководством экономически сильнейшего государства Европы — Германии. Триггером стало новогоднее (31 декабря 2014 г.) послание "доброй бабушки" Ангелы Меркель, которая, по сути, пригласила мигрантов в Германию. В мае 2015 г. ещё один добряк за чужой счёт, министр внутренних дел Лотар де Мезьер, заявил в Берлине, что Германия готова принять 450 тыс. беженцев. Уже в следующем месяце толпы мигрантов ломанулись в Германию, и вскоре немцам пришлось увеличить цифру приёма до 800 тыс. Начался кризис, причём не только немецкий, но и европейский. В то время как простые немцы, итальянцы, греки проклинали Меркель и крутили пальцами у виска ("бабка спятила"), европейские, а точнее атлантистские издания взахлёб нахваливали её. Сама же Меркель в самый разгар кризиса в сентябре 2015 г. думала не о его решении, не о немцах, а о другом: она обратилась к Марку Цукербергу с просьбой остановить каким-то образом её критику гражданами ФРГ в Facebook. Цукерберг ответил, что он работает над этим. А что же ему не "работать"? США только рады ослаблению Евросоюза, именно так воздействовал миграционный кризис на это неорганичное образование.
Запомним это новогоднее послание последнего дня 2014 г. и отправимся из него почти на 30 лет назад, в год 1973-й, когда внешне, по крайней мере, для подавляющего большинства европейцев, ничто не предвещало грядущих бед. Правда, заканчивалось "счастливое тридцатилетие" 1945—1975 гг., но о том, что оно заканчивается, мало кто думал: большинство, словно охваченное синдромом Сидония Аполлинария, жило инерцией 1950—1960-х. Знаки на стене, тем более предупреждения о них — "омен", почти никто не замечал.
Почти никто. Но не все.
В 1973 г. во Франции вышел роман писателя и путешественника Жана Распая "Лагерь святош" (“Le Camp des saints”). Он быстро стал бестселлером. В романе описывается массовая миграция из Третьего мира, которая накрывает Европу, и прежде всего Францию. Специфическим спусковым крючком обвальной миграции становится заявление бельгийского правительства о том, что оно готово принять нуждающихся детей из Третьего мира. Ну чем не предвосхищение послания "бабушки Ангелы"? В романе бельгийская инициатива тоже провоцирует кризис. Его началом становятся события в Калькутте, где толпы матерей сметают ворота бельгийского консульства, затаптывают консула и требуют немедленной отправки детей в Европу. Бельгийцы пытаются отыграть назад — но поздно. Вскоре у индийской толпы появляется лидер-мессия, уродливый калека, который призывает всех плыть на лодках в Европу и осуществлять мирный захват — никто не осмелится стрелять в женщин и детей. И вот армада плывёт — долго. Наконец после многих месяцев пути она появляется у южного побережья Франции. Бóльшая часть жителей района, где высаживаются мигранты, в ужасе. Однако кое-кто радуется.
В романе есть следующий эпизод. Старый высококультурный профессор в своём доме слушает Моцарта как раз в момент высадки пришельцев. Местное население бежит, и профессор думает, что остался один. В этот момент в его дом вламывается молодой француз типа хиппи и начинает глумиться над стариком, говоря, что его время, его культура и его страна кончились, и прославляя новую страну, которую создадут на месте Франции пришельцы из Третьего мира и такие французы, как этот студент. Профессор не спорит с вторгнувшимся: "Да, то, что мой мир не доживёт до утра, более чем вероятно, но я собираюсь полностью насладиться его последними мгновениями". С этими словами он достаёт револьвер и убивает наглеца.
Между тем, столкнувшись с мирным ненасильственным наступлением мигрантов, все госструктуры Франции оказываются беспомощными. Ни политики, ни военные не хотят брать на себя ответственность жёсткого решения проблемы — а иного нет. В то же время известные медиафигуры приветствуют высадившихся и требуют, чтобы власти приняли их. Роман заканчивается тем, что Франция капитулирует, принимает высадившийся миллион, и понятно, какова позиция автора: впустить пришельцев, чужих — значит уничтожить французов, их культуру, их мораль.
Несмотря на то, что книга Распая стартовала как бестселлер, очень быстро вокруг неё возник заговор молчания. То, что "Лагерь святош" был переведён на несколько европейских языков и к 2006 г. в Европе вышло 500 тыс. экземпляров, — это заслуга антимиграционных организаций, которые оплатили издание.
В 1985 г. Распай вернулся к теме миграции в статье, написанной для Le Figaro Magazine в соавторстве с уважаемым демографом Жан-Фернаном Дюмоном. Статью "Будет ли Франция французской в 2015 году?" напечатали на первой странице и сопроводили рисунком: Марианна (национальный символ Франции) в чадре. Авторы статьи писали, что в перспективе рост неевропейского населения несёт угрозу французским ценностям и культуре.
На Распая и его соавтора обрушился вал критики растревоженного крысятника правительственных чиновников и проплаченных учёных. Жоржина Дюфуа, министр общественных дел, назвала статью "отголоском нацистских теорий"; министр культуры Жак Ланг определил статью как "смешную и гротескную", а "Лё Фигаро Магазин" он обвинил как орган расистской пропаганды. Тогдашний премьер-министр Франции Лоран Фабиус не нашёл ничего лучше, как начать спешно убеждать всех в том, что иммигранты вносят большой вклад в богатство Франции — а ведь Распай и Дюмон писали не о доступных пониманию Фабиуса приземлённых вещах вроде богатства, а о чём-то более серьёзном.
Критики статьи, понимая, что их аргументация носит эмоционально-пропагандистский характер, должны были противопоставить ей хоть что-то реальное, но с этим выходило плохо. Та же Дюфуа попыталась опровергнуть оценку Распая и Дюмона, согласно которым во Францию каждый год прибывало 59 тыс. мигрантов, — и села в лужу: статистика за 1989 г. дала ещё большую цифру — 62 тыс. Время показало правоту писателя и демографа: в 2006 г. Франция приняла 193 тыс. мигрантов, в 2013-м — уже 235 тыс.
В том же 1985 г. в предисловии к переизданию "Лагеря святош" Распай написал, что его предсказания о гибели западной цивилизации оказались верны. Распай относится к тому редкому, вымирающему типу высококультурных и обладающих напряжённым цивилизационным и этнорасовым сознанием европейцев, которые помнят предупреждение Стефана Цвейга: всё, что вы любите, даже если речь идёт о величайшей цивилизации в истории, может быть сметено и уничтожено теми, кто не достоин этого. То есть агрессивными чужими, добавлю я.
В июне 1991 г. 66-летний писатель опубликовал в газете "Фигаро" статью "Родина, преданная республикой". Международная лига борьбы против расизма и антисемитизма попыталась подать на него в суд, однако суд отклонил иск.
Символично, что в один из дней 2001 г. в 4 часа утра лодка с 1500 курдами-беженцами из Ирака пристала к южному берегу Франции. Высадившись, курды бросились стучать в двери местных жителей, чтобы те их впустили. Всё это происходило всего лишь в 50 метрах от того дома, где в 1972 г. в течение 18 месяцев Распай писал свой пророческий роман. Нынешняя европейская реальность не просто соответствует пророчеству, но во многом перевыполнила его.
И последний штрих. После выхода в отставку известного антикоммуниста и антисоветчика директора (1970—1981 гг.) французской спецслужбы SDECE Александра де Маранша просочилась информация, что ещё в середине 1970-х годов он участвовал в секретных переговорах представителей Западной Европы с королём Марокко Хасаном II. Речь шла ни много ни мало о строительстве под Гибралтарским проливом тоннеля, который должен облегчить доставку мигрантов из Северной и Тропической Африки в Европу. Переговоры ни к чему не привели, ничего не было построено, но тем не менее мигранты на рубеже ХХ—XXI вв. "затопили" Европу и безо всякого тоннеля. Пока что это не "огнём и мечом", но точно "Потоп", и не видно в Европе героев типа пана Володыевского, способного защитить её своей саблей, или Яна Собеского, отогнавшего турок от стен Вены в 1683 г. В данном контексте, однако, важно другое: уже в 1970-е годы сильные мира сего планировали миграционный поток из Третьего мира в Европу.
Зачем? И только ли дело в экономике?
Экономическая потребность в мигрантах возникла в Европе после Второй мировой войны. В частности, в Великобритании Акт об иммиграции был принят в 1948 г., и в том же году в страну на корабле Empire Windrush прибыли первые мигранты из Вест-Индии. Процесс шёл постепенно, и никто или почти никто не предполагал, во что это выльется. А когда — в 1960-е — вылилось, оказалось, что понимания, как решать вопрос, нет; британское правительство просто не знало, что делать с миграцией. К концу 1960-х ситуация обострилась до того, что в апреле 1968 г. 75% опрошенных британцев высказались за ужесточение контроля над иммиграцией, а вскоре эта цифра выросла до 83%. 20 апреля 1968 г., реагируя на настроения сограждан, министр обороны в теневом правительстве консерваторов Джон Энох Пауэлл (1912—1998) произнёс знаменитую речь "Реки крови". В ней он весьма жёстко высказался по вопросу о миграции, отметив опасность принятия в страну "пятидесяти тысяч иждивенцев каждый год": "Когда я смотрю в будущее, мрачные предчувствия охватывают меня, и как римлянин (Вергилий. — А.Ф.) я вижу Тибр, полный крови". 74% британцев поддержали позицию Пауэлла. Однако несмотря на это, теневой премьер (и "по совместительству" матёрый педофил) Эдвард Хит тут же изгнал Пауэлла из кабинета, получив за это осуждение со стороны 69% британцев.
По мнению аналитиков, у Пауэлла были все шансы потеснить Хита, стать лидером консерваторов и в перспективе выиграть выборы. Кстати, не исключено, что в этом случае иначе сложилась бы политическая карьера Маргарет Тэтчер. Ей расчистили место, выдавив Хита с помощью убийственного компромата; на Пауэлла, которого Хит убрал как конкурента, такого компромата не было.
В 1970-е и особенно в 1980-е годы, при Тэтчер, мигрантов в Великобритании стало столько, что политика уменьшения их численности при сохранении существующего в Великобритании политического режима оказалась невозможна: точка невозврата была пройдена, и это — одно из "достижений" Тэтчер. Именно в годы её правления, как заметил Эндрю Норман Уилсон, автор трилогии о британской истории XIX—XX вв. ("Викторианцы", "После викторианцев", "Наши времена"), Великобритания перестала быть чьим-то домом и стала "домом ничейным" (“nobody’s house”).
В 1980—1990-е годы миграция в Великобританию разворачивалась под знаменем мультикультурализма. Особенно усердствовало правительство Тони Блэра (с 1997 г.), широко раскрывшего двери для мигрантов. По мнению обозревателей, большую и весьма зловещую роль в этом сыграла министр по делам предоставления убежища и иммиграции (Asylum and Immigration Ministry) Барбара Рош. Приводя в качестве примера свою еврейскую семью, перебравшуюся в Великобританию в XIX в., она пыталась убедить всех, что в миграции вообще нет ничего нового, что Англия всегда была страной мигрантов, например, норманнов, завоевавших её после битвы при Гастингсе в 1066 г.
Это, конечно же, ложь: норманны в XI в. составляли 5% населения Англии, тогда как в 2002 г. перепись населения Англии и Уэльса констатировала: в ближайшие 10—15 лет белое население Лондона станет меньшинством, а мусульманское население страны удвоится. Согласно переписи 2012 г., только 44,9% жителей Лондона определяли себя в качестве белых британцев, а число британцев, живущих в стране, но родившихся за её пределами, выросло на 3 млн. В 2014 г. женщины, родившиеся за пределами Великобритании, обеспечили 27% новорождённых в Англии и Уэльсе; у 33% детей по крайней мере один родитель был иммигрантом. Удивительно ли, что именно в Англии число приверженцев христианства уменьшается наиболее быстрыми темпами? Кроме того, норманны в расовом и религиозном отношении не отличались от большей части жителей острова.
Разумеется, всё это не аргументы для "роковой" Барбары Рош: она кликушествовала, что даже упоминание о политике иммиграции, не говоря уже о дискуссии по этому вопросу, — проявление расизма, а любые опасения по вопросу миграции — расизм, фашизм и исламофобия. И это при том, что в целом белые британцы относились к мигрантам довольно терпимо или, используя мерзкий термин, "толерантно". Обращаю внимание на агрессивность сторонников мультикультурализма и отсутствие толерантности, к которой они так любят призывать. Очень часто они блокируют, пресекают попытки даже нейтрального, спокойного обсуждения проблемы, квалифицируя их как расизм, нацизм, ксенофобию и… нетолерантность.
Нынешняя ситуация в Великобритании такова: в 23 из 33 районов (borough) Лондона белые стали меньшинством, а власти и СМИ горячо приветствуют этот факт — не менее горячо, чем гомосексуальные браки. Число тех, кто определяет себя как христиан, уменьшилось с 72% до 59% (т.е. с 37 млн до 32 млн), тогда как число мусульман выросло с 1,5 млн до 2,7 млн. На первый взгляд, соотношение не кажется угрожающим. Однако, как считают эксперты, во-первых, приведённые цифры не учитывают нелегальных мигрантов; во-вторых, вопрос не в количестве, а в качестве: мусульмане намного более активны в своей вере, лучше организованы и готовы к конфликтам с применением насилия; в-третьих, поэтому, т.е. из боязни, а также в соответствии с логикой толерантности и мультикультурализма власти, как правило, встают на сторону мусульман. В своей готовности умиротворения (термин “appeasement” когда-то употреблялся применительно к политике Чемберлена по отношению к Гитлеру — ради мира любой ценой) британские власти готовы запретить ношение крестика школьниками и рождественские ёлки, чтобы не оскорблять религиозные чувства мусульман. Есть и просто вопиющие случаи. Приведу два.
Случай первый. В 2009 г. по возвращении из Афганистана Королевский английский полк прошёл парадом по г. Лутону. Многие местные белые британцы (белые составляют 45% жителей Лутона) вышли приветствовать военных. Одновременно члены исламистской группы "Аль-Мухаджирун" громко протестовали, называя солдат "убийцами", "детоубийцами" и т.п. Когда белые британцы попытались утихомирить исламистов, полиция бросилась на помощь последним, пригрозив белым арестом. В ответ последние решили создать группу English Defence League (Лига английской обороны), которая в течение нескольких лет организовывала акции протеста против насильственных действий исламистов. Полиция, как правило, никогда не принимала сторону Лиги, не реагировала на нападения исламистов на членов Лиги, несколько раз арестовывала её руководителя Тома Робинсона, а затем вообще отправила его в тюрьму.
Случай второй. В январе 2011 г. в Лондоне в суде Олд-Бэйли судили банду из девяти пакистанцев и двух выходцев из Северной Африки, которые в Оксфордшире в течение нескольких лет похищали, насиловали и продавали в качестве секс-рабынь девочек 11-15 лет. При этом одну из них её владелец по имени Мухаммад заклеймил клеймом с буквой "М". Большая часть девочек были белыми британками. Расследование показало, что бандиты действовали в полном соответствии с характерными для ислама взглядами на то, как нужно относиться к женщинам и детям–немусульманам.
Пресса, освещавшая суд, не осмелилась написать о членах банды как о мусульманах, она лицемерно писала об "азиатах". Однако не только журналисты, подчёркивает Дуглас Мюррей, автор книги "Странная смерть Европы", но даже полицейские и судьи вели себя так, будто их работа — нечто вроде посреднической деятельности между сферой фактов и обществом. Аналогичным образом в подобных случаях ведёт себя пресса практически во всех европейских странах. Например, в Роттердаме в 1997—2014 гг. была зафиксирована секс-эксплуатация 1400 детей в мусульманских общинах. Пресса и власть сделали всё, чтобы приглушить скандал. И только настойчивость журналистов, порой всего одного-двух, не боящихся ни угроз исламистов, ни либеральных обвинений в "профессиональном" или "институциональном" расизме, позволяет прорывать заговор.
Продолжение следует

Там, где летают «медведи»
Российские стратегические бомбардировщики несут службу в самых удалённых регионах планеты
МОСКВА ЗА НАМИ!
Громадная – кажется, в полнеба – белоснежная птица беззвучно приближалась к аэродрому. Казалось, она недвижно зависла над полосой, наконец, коснулась колёсами полосы и покатилась по бетону, медленно опуская нос. И, встав на все шасси, полыхнула рыжими цветками тормозных парашютов. Самый большой в мире реактивный ракетоносец Ту-160 выполнил посадку на аэродроме базирования.
Авиабаза «Энгельс».
Здесь базируется 22-я гвардейская тяжёлая бомбардировочная авиационная Донбасская Краснознамённая дивизия - «длинная рука» нашей стратегической ядерной триады. Её ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, носители крылатых ракет дальнего действия, способные достать противника в любой точке планеты, - это гордость нашей военной авиации. Только самые передовые, технологически развитые страны имеют в составе своих ВВС тяжёлые дальние стратегические ракетоносцы – сплав самых современных технологий, опыта и, в определённом роде, – амбиций, ибо стране с мизерным уровнем притязаний на роль в современном мире такие корабли просто не нужны.
…Полковник Олег Пчела командует дивизией чуть больше года. До этого он двадцать пять лет летал на фронтовых бомбардировщиках Су-24 – совсем ином классе самолётов, и кое-кто поначалу даже ворчал, что, мол, не нашлось у начальников своего «стратега», прислали «фронтовика». Но когда всего за год комдив переучился на новейший Ту-160 (а сейчас заканчивает получение самостоятельных допусков по всем видам применения), дивизия его приняла безоговорочно. А сам комдив получил у подчинённых за глаза прозвище «неугомонный». И знак «лётчик-снайпер» на его тужурке весомо дополняет это прозвище.
…Трудно поверить, но первые десять лет службы лётчик Пчела практически не летал. Это были девяностые – годы распада и умирания нашей авиации, когда полкам на год выделяли лимит топлива, которого не хватало даже на пару недель нормальной боевой подготовки. В 1991 году он, оказавшись после училища в полку переучивания на территории Украины, был одним из тех, кто отказался принять украинскую присягу, несмотря на посулы нового «панства», обещавшего большие гроши и карьеру в ВСУ. Почти год скитался по гарнизонам, находясь то за штатом, то попадая под очередное сокращение. Авиационные полки тогда разгоняли десятками.
Пчела пережил всё – бесквартирье, перебои в зарплате, когда он водил с собой в лётную столовую трёхлетнего сына, чтобы просто его накормить, и уносил домой жене «сэкономленный» бутерброд. Но труднее всего было пережить отлучение от неба. Авиация была прикована к земле. Летали единицы. Сослуживцы увольнялись десятками, утратив всякую надежду осуществить мечту жизни – летать, но Пчела упорно держался за профессию. Он будет летать! И его время настало. В 2001 году, после того, как президентом страны стал Владимир Путин, правительство вспомнило об армии. Началось её восстановление. Ожили аэродромы. И за пятнадцать лет Олег Пчела прошёл путь от лётчика без класса до лётчика-снайпера, что даже в советское время часто было недостижимой мечтой многих авиаторов…
…Энгельс – это не только пункт базирования стратегических ракетоносцев, но и крупнейший военный авиаузел на пути на Дальний Восток и обратно. Почти каждый день здесь совершают посадки, дозаправляются и улетают дальше или остаются ночевать военные транспортники, истребители, бомбардировщики вертолёты. Жизнь на аэродроме не замирает никогда, кроме, разве что, редкого закрытия по погоде, когда туманы с Волги или снегопады «выключают» Энгельс. Но и то – всего на несколько часов, пока погода не улучшится или «аэродромщики» не расчистят полосу. Аэродром-то стратегический!
- А как иначе? Ведь за нами Москва! – улыбается комдив. Это старая «энгельсовская» шутка: Саратов по часовому поясу опережает Москву на час, что даёт простор для всякого рода лётных баек и подколок…
ПОДОРОЖНАЯ МОЛИТВА
…Подготовка к вылету начитается ранним утром. Уже в семь утра экипаж на аэродроме. Медосмотр. Предполётные указания. Получение кислородных масок, сухпайков, табельного оружия. Оружие – пистолеты ПМ – выдаются в специальном оружейном ящичке. При любом полёте за границу России их обязательно иметь на борту. После крылатых ракет, систем РЭБ, артиллерийских установок эта «линия защиты» выглядит по-детски трогательно. Как деревянное ружьё. Но таковы требования.
Ракетоносец Ту-95МС, с бортовым номером «27», носящий имя «Изборск», - один из самых молодых кораблей в полку: всего двадцать шесть лет в строю! Но за эти годы успел уже облетать полмира. Поучаствовал и в уничтожении боевиков в Сирии, выполнял дальние перелёты.
Сегодня у него почти привычный маршрут - «за угол», так лётчики называют полёты над Северным морем, когда «бомбёры» огибают «угол» Кольского полуострова и вдоль берегов Норвегии уходят до Британии, а иногда и до Гибралтара…
…Автобус выныривает из морозной темноты на залитую мертвенным электрическим светом стоянку. На ней серебристо-серый в искусственном свете громадный воздушный корабль. Рядом равнодушно и холодно дремлют, прикрыв остекление глаз брезентовыми веками, его собратья. Но «Изборск» уже проснулся. Чехлы и заглушки давно сняты и сложены на специальную тележку, стеклянные глаза кабины поблёскивают в лучах прожекторов, словно бы он внимательно наблюдает за происходящим вокруг. По электрическим нервам проводки молниями разносятся импульсы команд и проверочных запросов. Корабль откликается зелёными огоньками готовности, негромким пением запускаемых приборов. И вот «вэсэу» - вспомогательная силовая установка – вдохнула воздух, и со свистом выдохнула, набирая обороты. Это забилось сердце корабля. И в его стальных артериях тотчас ожила и побежала по трубопроводам ледяная кровь – топливо, наполняя вены и капилляры двигателей ещё пока скрытой мощью. Его «лимфа» - гидравлика – заполнила цилиндры и шланги, давая гиганту силу управлять воздушными потоками движениями рулей и закрылков. Разом ожили, раскрасились зелёно-жёлтыми гирляндами все пульты и приборные панели. «Изборск» к полёту готов!
Приняты доклады техников, и экипаж друг за другом взбирается по высокой узкой стремянке в тёмную прорубь кабины, рассаживается по местам, запелёнывается в лямки и жгуты парашютов. И начинается характерная трескотня включаемых тумблеров. Ещё раз проверяются все системы корабля. Всё в норме, всё готово к полёту.
Запуск! Сдвигаются с места громадные – каждая в человеческий рост – лопасти винтов, медленно, словно спросонья, начинают вращение, убыстряются и вскоре бесследно размазываются в сияющие диски. Особый, звенящий рев движков буквально затапливает окрестность. Убрана стремянка, закрыто чрево кабины. Последний осмотр техника. Наконец он поднимает вверх большой палец правой руки и тут же вытягивает её вправо, давая добро на руление. Воздушный гигант медленно, с особой грацией ставосьмидесятитонного мастодонта, трогается с места и неторопливо покидает стоянку.
На исполнительном старте – край полосы – скороговоркой читается «взлётная» молитва – контрольная карта, согласно которой все члены экипажа проверяют готовность корабля к взлёту:
- Компасы?
- Десять, на взлёт! – откликается штурман майор Владислав Якушевский
- Курсоглиссадные приборы?
- Включены.
- Управление передним колесом?
- На пять, включено. – Это уже «правак» - правый лётчик – капитан Роман Сидоров
- Закрылки?
- Двадцать три, на взлёт. – Отзывается «правак».
- Винты до упора?
- По команде! – докладывает бортинженер капитан Юрий Гальперин
…Кому-то может показаться странной эта эфирная викторина, но за ней огромный опыт предыдущих поколений авиаторов. Она позволяет уже на самом пороге неба отловить ошибку или пропущенный элемент. И тем самым спасти жизни экипажа и воздушный корабль…
Командир корабля майор Илья Евстефеев запрашивает командно-диспетчерский пункт:
- Двадцать седьмой, осмотр по карте, разрешите взлёт?
С КДП в наушниках хриплый «эфирный» голос руководителя полётов:
- Двадцать седьмой, ветер слева, сорок пять градусов, до пяти метров, взлёт разрешаю.
- Взлетаю! - тотчас отзывается Евстефеев:
И уже экипажу:
- Двигатели к взлёту, винты на упор!
И спустя пару мгновений:
- Экипаж, взлетаю, держать газ, ноги с тормозов!
Ракетоносец резко трогается, словно пришпоренный набирает скорость, крупно вздрагивая на швах плит бетонки. Скорость пятьдесят, сто пятьдесят, двести, триста…
Штурвал на себя – и «Изборск» послушно задирает нос в небо. Отрыв!..
НЕБЕСНАЯ СЕМЁРКА
Экипаж бомбардировщика – это особая общность людей. Практически семья, где все друг друга понимают с полуслова, с брошенного вскользь взгляда. Только в семье на притирку уходят годы и годы, а вот экипаж достигает такой общей сенсорики всего за несколько месяцев. Но это месяцы упорных тренировок, отработки заданий и экзаменов. Здесь у каждого своё место, своя роль, свой набор функций, тщательно сшитый со всеми остальными. Именно так достигается то уникальное единство, которое называется экипажем. Единство людей, единство людей и техники, которое делает воздушного гиганта живым исполином. И у каждого экипажа свой характер. При всей общности требований, навыках пилотирования, задачах, у каждого экипажа свои особенности, свой «почерк», хорошо видимый профессионалам. Кто-то в небе более резкий, напористый, жёсткий. Кто-то наоборот – осторожный, расчётливый, спокойный…
Командир Евстефеев, можно сказать, вырос при аэродроме. Здесь, под Саратовом совсем недалеко его родная деревня, и с раннего детства над его головой кружили сверкающие серебром боевые птицы. Неудивительно, что уже после девятого класса Илья пришёл в лётную школу ДОСААФ, а оттуда поступил в Балашёвское лётное…
Его же закончил и «правак» - правый лётчик, помощник командира корабля (так величается его должность) Роман Сидоров. Очень скоро он тоже станет командиром воздушного гиганта, а пока он «вторая» правая рука Евстефеева…
Штурманов на Ту-95 тоже два. Майор Владислав Якушевский и старший лейтенант Павел Дементьев. И это понятно: огромные дальности, на которые уходят от своей базы «медведи», - это такие же огромные нагрузки, лежащие на плечах штурманов. И хотя современная электроника сильно облегчает работу штурманам, работы им всё равно хватает. Ведь «бомбер» не просто летит по маршруту из пункта «А» в пункт «Б», как гражданский лайнер. Он выполняет боевые задачи: маневрирует, выходит на цель, уклоняется – в каждом таком манёвре есть работа у штурмана…
За «здоровьем» «медведя» в полёте следит опытный бортинженер капитан Юрий Гальперин. В авиации он с 2000 года. Перед ним пульты технического состояния всех систем корабля. Конструкторы Ту-95 создали уникальный по надёжности самолёт. Многократное резервирование всех жизненно важных узлов даёт такой запас прочности, что даже при отказах в полёте сразу нескольких из них бомбардировщик может продолжать выполнение задачи. И Гальперин, можно сказать, - диспетчер борьбы за живучесть небесного гиганта. К счастью, отказы бывают очень редко…
Через проход, на расстоянии вытянутой руки от него, радист, по-военному – оператор бортовых систем связи майор Роман Сапрыкин. На нём поддержание постоянного контакта с командными пунктами стратегической авиации. Даже если корабль находится на другой стороне земного шара, где-нибудь у Аляски, связь должна поддерживаться непрерывно. Ведь самолёт несёт боевое дежурство, а это значит – в любой момент должен быть готов получить боевую задачу и выполнить её.
Среди разных блоков и систем связи каким-то доисторическим динозавром смотрится телеграфный ключ аппарата Морзе. Кажется, пережиток прошлого. Ан нет! Он и сегодня используется вовсю. Для связи на сверхдальних расстояниях, на длинных волнах он не заменим…
Самая одинокая в российских ВВС работа – у оператора кормовых артиллерийских установок, старшего прапорщика Владимира Карпухина. Его служба, пожалуй, уникальная – весь полёт он находится в герметичной кабине один. Боевое место – узкая капсула в самом хвосту корабля, ощетинившаяся двумя спаренным стволами пушек «гэша двадцать три». Кроме внутренней связи никакого другого доступа к нему нет. С момента, как прапорщик захлопывает крышку люка, и до момента, когда Ту-95 вернувшись на аэродром, выключит движки, прапорщик не увидит ни одного человека. Такая уж у него работа – проводить в небе многие сотни часов в полном одиночестве. Этакий Монте-Кристо Ту-95…
Только по внутренней связи иногда окликнет командир:
- «Корма» ты там как, не уснул?
Командир шутит. Спать в узкой капсуле стрелка нужно ещё исхитриться…
- Никак нет, командир. Бдим…
Карпухин – один из «мамонтов» авиации. В строю уже 31 год! Начинал служить ещё при СССР. Потом был распад Союза. Казалось бы, прапорщику до этого дела особого нет. Служи себе и служи. Но Карпухин, которого распад застал в Белоруссии, принимать белорусскую присягу отказался и уехал в Россию.
…Не всякий офицер тогда был так верен своей присяге…
Потом были годы службы на аэродроме в различных подразделениях, пока, наконец, военная судьба не привела его в кабину артиллерийской установки бомбардировщика «Ту-95» с именем «Изборск» на борту…
ВОТ ПОВЕРНУ ЗА «УГОЛОК»…
…Ту-95МС корабль легендарный. В строю с 1952 года – шестьдесят пять лет! Уже четвёртое поколение лётчиков летает на нём. Казалось бы, глубокий старик, дедушка советской, а теперь российской авиации… Ан нет! Ту-95 – «Bear» («медведь» по натовской классификации) – это грозный небесный воин. Во-первых, это самый быстрый турбовинтовой стратегический ракетоносец в мире. Единственный в своём классе. Огромный: размах крыльев пятьдесят метров – ровно половина футбольного поля. При этом турбовинтовые двигатели обеспечивают ему, по сравнению с реактивными собратьями, скрытность. Разведывательные спутники, «нацеленные» на горячий след реактивных двигателей «стратегов», его просто не видят. Фактически не имеющий ограничения по дальности – с дозаправкой некоторые экипажи находились в воздухе больше сорока восьми часов – он способен своими крылатыми ядерными ракетами дотянуться до противника за тысячи километров. Этакий седой богатырь «холодной войны», готовый к любым вызовам. Именно с Ту-95 30 октября 1961 года была сброшена на полигон «Новая земля» «царь-бомба» - термоядерная сверхмощная, в пятьдесят мегатонн бомба. И именно Ту-95 в течение года наносили удары высокоточными ракетами по объектам террористов в Сирии…
…Полёт «стратега» - это мастерство, помноженное на выносливость и терпение. Час за часом «медведь» взбирается по планете на север, в арктические широты, внизу за спиной осталась великая среднерусская равнина, пройдены Архангельск и Мурманск. Над Белым морем первая дозаправка. Чёрный силуэт «танкера» Ил-78 медленно надвигается, расплываясь и закрывая небо над кабиной. Заправщик выпускает заправочный шланг с сетчатым конусом, в который нужно попасть «клювом» заправочной штанги. Расстояние между кораблями всего двадцать шесть метров. Сетчатый конус выписывает какие-то невероятные пируэты, и, кажется, попасть в него просто невозможно. Но опытные руки командира мягко, почти неуловимо «наводят» копьё штанги на конус и, выбрав какой-то только ему понятный момент, делают выпад ракетоносцем, попадают точно в центр конуса. Захват! И уже через несколько секунд на панели загорается доклад о готовности принимать топливо. Заправка!
…Кажется, что два корабля словно бы застыли в небе, слегка покачиваясь. Но это иллюзия! На самом деле две громады, каждая весом почти в двести тон, пронзают воздух со скоростью восемьсот километров в час. Одно неверное движение – и катастрофа неизбежна. Но мастерство экипажей исключает такую вероятность, закончив приём топлива, корабли расходятся, покачав на прощание плоскостями – до новой встречи в небе! А справа за бортом на горизонте из облачности выглянула тёмная, уходящая вдаль плита Кольского полуострова – знаменитый «угол», как его называют лётчики за характерную форму.
…Стоило повернуть «за угол», как ожили лампы предупреждения о радиолокационном облучении, и из синевы проявилась пара точек, стремительно набухающая стрельчатыми формами, – истребители НАТО. Норвежские F-16. Они быстро приближаются, беря «медведя» в сопровождение. Самолёты так близко, что можно рассмотреть лица пилотов в гермошлемах и кислородных масках. Ту-95 – это авиационная легенда, и каждая встреча с ним для натовцев – это событие. Норвежцы вовсю щёлкают фотоаппаратами, устраивая целую фотосессию с русским «медведем». Наши на это смотрят с философским терпением: пока все держатся в рамках авиационных приличий – почему нет? Таких же фотографий хватает и у каждого нашего «стратега». Противостояние в небе – штука специфическая: здесь все профессионалы и способны оценить профессионализм других. Пока идёт соревнование лётного мастерства, выдержки, воли. Пока…
В ближнем бою главное оружие «медведя» - кормовая огневая установка, две сдвоенных скорострельных пушки ГШ-23.
«Норвеги» уже просто не знают, какой ещё кадр придумать, и один из них резкой бочкой перемещается над нашим ракетоносцем, занимая место в пеленге своего напарника – так, чтобы тот оказался в кадре на фоне «медведя». Такое нахальное маневрирование спускать нельзя. И командир кладёт руку на рычаги управления двигателями. Если на сопровождении скорость – преимущество истребителей, то неторопливость – оружие бомбардировщика. Евстефеев сбрасывает скорость, истребители резко уносятся вперёд, но затем тоже сбрасывают скорость и выравниваются с «Изборском». Но в этом соревновании у них нет шансов. Ту-95 уверенно себя чувствует там, где реактивные истребители просто потеряют воздух под крылом и рухнут на землю. Скорость ещё «прибрана», и «норвеги» вынуждены уйти вперёд, начать крутить виражи, чтобы не потерять скорость, не отрываясь от «медведя». Ведут себя точно как лайки в лесу, обнаружившие и окружившие лесного великана. Но это продолжается недолго. Скоро пара отваливает в сторону и растворяется в синеве за спиной. Закончилась их зона ответственности. Скоро пожалуют британцы…
Что же, можно теперь и поиграть в кошки-мышки. Командир поворачивает штурвал, разворачивая корабль на обратный курс, словно бы он собрался домой. Для норвежских расчётов ПВО возникает дилемма. В британскую зону русские так и не вошли. Дежурная пара «норвегов» возвращается на аэродром на дозаправку, а поднимать новую на сопровождение возвращающегося «медведя», конечно, можно, но большого смысла не имеет. Выждав несколько минут, чтобы на всех натовских локаторах «прописался» обратный курс, и убедившись, что «смена» истребителей не пришла, командир резко идёт на снижение, на малые высоты, к воде, и там снова меняет курс. Солнце стремительно переползает на левый борт. «Медведь» лезет в «бутылку» - в Северное море между Британией и Норвегией…
ПУТЬ ДОМОЙ
…«Изборск» вошёл в родное воздушное пространство, когда ранняя зимняя ночь уже плотно накрыла материк. За спиной полёт на малой высоте, манёвры уклонения, отработка выхода на цель.
Когда «натовцы» снова обнаружили «медведя», он уже возвращался домой, выполнив полётное задание. На этот раз истребители плотно вели Евстефеева почти до «угла», и только появление в небе наших «сушек» заставило «норвегов» отвалить домой. Фотосессия со своими была уже дружеской услугой за снятых с хвоста «натовцев». Что делать: «медведь» - это действительно легенда…
На подлёте к Архангельску угольная, прожжённая искрами звёзд ночь вдруг заполыхала громадными – в полнеба – изумрудными полотнищами северного сияния. Казалось, «Изборск» летит в каком-то неизвестном, неземном пространстве. Сияющее, переливающееся зелёным огнём небо, малахитовый ковёр облаков внизу. Светло, словно днём. Весь экипаж замер, наслаждаясь величественным зрелищем. Казалось, оно не кончится никогда, но чем южнее опускался по планете корабль, тем сильнее сдвигалось, уходило назад сияние, уступая место привычной земной тьме.
И там, на самом дне этой тьмы, где-то за горизонтом уже готовился встречать «Изборск» родной аэродром. Приближался, всё более явственно звучал в эфире, ждал. И двигатели громадного корабля сменили тон с тяжёлого угрюмого боевого медвежьего рёва на басовитое пение, легко, играючи неся «похудевший» на треть самолёт. Боевой «медведь» возвращался домой. Возвращался победителем…
Фото Вадима Савицкого
Владислав Шурыгин

«Вывод криптовалюты в белые деньги – серьезная проблема криптоиндустрии»
Дмитрий Мачихин, CEO компании Midex IT
Беседовала: Юлия Лю, редактор направления IT и инноваций
Кто такие эдвайзеры, зачем они нужны стартапам при планировании ICO и стоит ли полагаться на их оценку при выборе токенов для покупки? Нужно ли платить налоги при продаже криптовалюты, живя в России? Об этом в интервью Bankir.Ru рассказал CEO компании Midex IT, юрист и эдвайзер Дмитрий Мачихин.
— Кто такой эдвайзер и зачем он нужен во время ICO?
— Эдвайзер (adviser, «консультант») – человек, дающий советы. Эдвайзер ручается за проект своей репутацией и помогает команде стратегическими советами, по сути выступая визионером. Мы в Midex разбили визионирование на три части: юридическую, банковскую и финтех.
Институт эдвайзеров только зарождается. Сейчас эдвайзеры делятся на два типа. Первый – люди, действительно дающие советы. Второй – люди-картинки, ставящие свои фото на сайт компании, идущей на ICO, но реально в детали проекта не вникающие. Я против такого типа консультантов, потому что этот подход размывает доверие к институту эдвайзинга.
— Как стартапы расплачиваются с эдвайзерами за услуги?
— Рынок оплаты услуг уже сформировался. Изначально эдвайзеры получали процент в токенах со сборов. Сейчас многие начали наглеть и просить из этого процента половину выплатить токенами, половину – в криптовалюте. Разница в том, что «крипта» – это пусть и волатильный, но ликвидный актив, а токен, пока он не начал торговаться на рынке, – всего лишь внутренний инструмент. Существует крайняя стадия, когда эдвайзеры берут фиат, причем предоплатой.
— Это, наверное, очень раскрученные эдвайзеры?
— Дело не в уровне экспертизы, а в загруженности. Фиат берут очень занятые эдвайзеры, которым некогда заниматься проектом в полной мере. На самом деле если уделять проекту много времени, то его токены могут принести больше денег после ICO, чем фиат, полученный до. Люди берут 2 500 долларов за эдвайзинг, чтобы получить со стартапа хоть что-то. Когда компания идет на ICO, все понимают, что рисков очень много.
— Успешность эдвайзеров определяется какими-нибудь рейтингами?
— Да. Рейтинги публикуются (https://icobench.com/people) на ICObench (https://icobench.com). Успешность эдвайзера определяется исходя из количества проектов и их совокупной оценки. Проекты оцениваются по шкале от одного до пяти баллов. Скажем, если у меня десять проектов с оценкой пять, то, значит, у меня 50 баллов. Рейтинг динамически меняется. Изначально я был на 16-м месте среди эдвайзеров в мире. Сейчас – на 14-м.
Одни из самых известных в мире эдвайзеров и блокчейн-евангелистов – Джон Матонис и Брок Пирс. К примеру, Брок Пирс входит в один из наиболее успешных проектов – EOS. Его подход весьма примечателен: он не интересуется процентами с ICO и во всех проектах работает за долю. За счет этого, на мой взгляд, он смог заработать внушительный капитал.
— Скажем, я вижу интересный проект и хочу купить его токены. Открываю white paper и долистываю до раздела эдвайзеров. Все перечисленные имена мне незнакомы, и в рейтинге ICObench их нет. Как мне понять, заслуживает ли эдвайзер доверия? Гуглить?
— Гуглить – это высший уровень проверки. Чаще всего инвесторы ограничиваются LinkedIn. Видят хорошие фотографии, хороший костюм, заходят в Facebook. Читают, что эдвайзер работал на руководящих должностях в крутом банке или Google. Видят проекты, в которых он засвечен, и принимают решение.
Гуглят немногие, хотя это важно, потому что популярный эдвайзер, во-первых, может быть засвечен в скаме. Во-вторых, эдвайзер может быть перегружен всевозможными проектами и не занимается большинством из них в реальности.
— Что я могу сделать, чтобы защитить свои интересы, и как мне наказать плохих людей, если меня обманули?
— В первую очередь за проект отвечает команда. Эдвайзеры отвечают во вторую. Согласно законодательству США, эдвайзеры могут быть наказаны вплоть до лишения свободы и штрафами. В России в экономических преступлениях причинно-следственные связи выстроены иначе, и привлечь к ответственности эдвайзера нереально.
Я стал заниматься юридической стороной проектов в 2014 году, начав с консультирования стартапов, и постепенно перешел к ICO. Принципиально нового с юридической точки зрения в ICO ничего нет. Если речь идет о мошенничестве, то это преднамеренное преступление, за которое должны отвечать и команда, и эдвайзеры. Если проект просто не взлетел, то эдвайзеры тут ни при чем. Хотя следствие покажет.
— Почему команде важно подобрать хороших эдвайзеров?
— В среднем у команды шесть-семь эдвайзеров, которые должны тщательно изучить проект и убедиться в его жизнеспособности. Однако большинство людей не уделяет эдвайзингу серьезного внимания. Согласно опубликованной статистике, из 1 500 опрошенных лишь 4% заявили о том, что именно эдвайзеры играют важнейшую роль в проекте. Ценность эдвайзеров размылась из-за людей, «торгующих лицом». Однако, на мой взгляд, эдвайзинг – это важный и нужный институт с большим будущим.
— Как вы выбираете проекты для эдвайзинга? Каким критериям должен соответствовать проект, чтобы вы сказали да?
— Я смотрю, кто еще выступает эдвайзером. Желательно, чтобы это были люди с международной известностью. Кроме того, мне важно, чтобы у меня были общие знакомые с командой – наличие общей тусовки. Мне не очень важно, какой проект предлагают люди, если это, конечно, не скам и не мошенничество. Гораздо важнее, кто эти люди.
— Для вас команда важнее, чем продукт?
— Да.
— Вы верите, что стоящая команда может раскрутить любой проект?
— Да. Мне всегда важнее люди.
— У вас в портфеле токены многих проектов?
— К сожалению, да. И я понимаю, что часть из них не взлетит никогда. Однако я эти токены не сливаю, поскольку это нанесет им явный ущерб. Прижмет – продам. Я делаю ставку на другое.
— На что?
— Помимо руководства IT-компанией Midex, я еще и партнер юридической компании. Нам интересно помогать проектам с точки зрения юридической обвязки. У нас команда, которой надо платить реальными деньгами, а не токенами. В этом контексте мне, конечно, интереснее стандартные клиенты, а не эдвайзинг.
— Какие проекты из вашего портфеля вы считаете интересными и перспективными?
— Сейчас я эдвайзер в десяти российских проектах. Плюс есть проекты, которые идут на ICO. И больше не беру. Например, я консультирую MyWish – проект, который делает смарт-контракты для завещаний и разводов. До этих ребят никто в мире не додумался, что люди, имеющие криптовалюты, женятся, разводятся, умирают. MyWish обеспечивает автоматическое разделение криптоактивов пополам между супругами в случае развода. Если кошелек человека недоступен некоторое время, то MyWish считает, что с ним что-то случилось, и «крипта» автоматически переводится на заранее выбранный кошелек. За это проект берет комиссию. Идея довольно простая, однако под нее была собрана неплохая для российского ICO с маленьким бюджетом сумма в 3 миллиона долларов.
Из крупных проектов, где я выступаю эдвайзером, отмечу блокчейн-лотерею TrueFlip, собравшую на ICO биткоины на сумму, эквивалентную 10 миллионам долларов.
— В какой стране стартапу стоит проводить ICO?
— В России нельзя провести настоящее ICO. Мы сформулировали фреймворк, согласно которому выбираем юрисдикцию для ICO. Важное значение имеют бизнес-процессы, суть токена, бенефициары, налогообложение, кешфлоу. Получив ответ на эти вопросы, я решаю, какую страну выбрать. Популярны Гибралтар, Сингапур, Гонконг, Эстония. Есть возможность проводить ICO в США. Сейчас теряет популярность Великобритания.
Главный вопрос заключается в степени наглости команды. Если команда хочет изначально сделать белый бизнес, то придется потратиться: оплатить услуги юристов, регистраторов, позаботиться о каждом аспекте.
— Скажем, я купила токены, они попали на биржу и выстрелили. Теперь я хочу их продать и выйти в фиат честно, заплатив налоги. Скажите мне как юрист, как это правильно сделать?
— Вывод возможен через ряд платежных сервисов. При этом при поступлении средств к вам на счет желательно добровольно заполнить декларацию о доходе и уплатить налог в размере 13% от дохода.
— Наша налоговая отслеживает людей, которые зарабатывают на криптоактивах?
— Пока нет. Данные, конечно, собираются, но пока это просто сбор информации. А в США налоговая получила данные 14 тысяч пользователей криптобиржи Coinbase: налоговики узнали, кто куда что отправлял и сколько получил за каждую трансакцию. Я думаю, что в течение года этим людям придется заплатить налоги. Мы в России придем к этому через три-четыре года. При этом система начнет работать в полную силу не ранее чем через пять лет.
— А до этого времени можно получать доходы с криптоактивов, не платить налоги и не иметь проблем?
— Да. Для отслеживания доходов граждан от «крипты» нужны очень дорогие специалисты, которых налоговая не может себе позволить. Однако что касается правоохранительных органов, тут Россия впереди планеты всей: следят и берут на карандаш. Сейчас записываются данные всех, кто выводит средства с криптобирж.
— И как с этим быть?
— Никак. Налоги возникают при появлении рубля. Если я получаю доход в долларах, то должен их продать за рубли и заплатить налог. Пока – добровольно. Вывод криптовалюты в белые фиатные деньги – одна из самых серьезных проблем криптоиндустрии. Криптовалютного НДФЛ в России не будет никогда. Проще криптовалюты просто запретить.

Валентин Катасонов: Деньги доживают последний век
Инна Деготькова
О том, кто такие «хозяева денег», как защитить российскую экономику от мародеров и как предотвратить оглупление масс – интервью «НИ» с председателем «Русского экономического общества» им. С.Ф.Шарапова, профессором МГИМО Валентином Катасоновым.
- Какой исход выборов в США наиболее благоприятен для России?
- Кто выгоднее для России, трудно сказать, но я больше симпатизирую все-таки Дональду Трампу. Даже будучи жестким нашим оппонентом, он представляется мне более понятным и логичным. У Хиллари же не будет никакой внятности. Я допускаю, что Трамп будет ввести жесткую политику в отношении России, но пусть лучше так, потому что Клинтон будет вести политику подлую.
- Завершились парламентские выборы в России. Кардинально ничего не поменялось, тем не менее, как вам новый состав Думы? Какими преобразованиями, в первую очередь, должны взяться законодатели?
- Меня очень настораживает, что на ключевые должности в комитетах Госдумы назначается все те же люди: Крашенинников, Макаров. В итоге «единороссы» встали во главе 15 комитетов. Такая «стабильность» - первый признак того, что меняться в стране ничего не будет. А менять надо и срочно.
- Что и как нужно менять, по вашему мнению?
- Не устаю повторять, что мы живем в мире, в котором реальная власть принадлежит банкирам. Приобретая казначейские бумаги США, Россия практически беспроцентно и бессрочно кредитует американскую экономику.
Для поддержания экономики нужны инвестиционные проекты, деньги должны направляться в них, а не в казначейские бумаги Штатов для обслуживания интересов ФРС. В этом случае поддерживается баланс денежной и товарной массы. А сейчас принцип такой: лучшее средство от головной боли - это гильотина. ЦБ только и делает, что разыгрывает спектакль под названием «Борьба с инфляцией», и инфляция, значит, избыток денег в экономике. Для сравнения: коэффициент монетизации российской экономики находится на уровне африканских стран и составляет 40-50%, в Китае - 150 %. Коэффициент монетизации – это денежная масса по отношению к внутреннему валовому продукту. Иными словами, это количество денег в экономике, которыми население и предприятия рассчитываются друг с другом. А вся эта пресловутая «борьба с инфляцией» ведет лишь к удушению российской экономики. Собственно, это первое, что нужно изменить.
- Министр экономического развития Алексей Улюкаев утверждает, что скоро мы выйдем на траекторию развития экономики. Для этого есть предпосылки?
- Это тоже спектакль. Для роста необходимо еще одно кардинальное преобразование: нужно ликвидировать офшоры. Это делается быстро одним президентским указом. Если сегодня любая мелкая фирма предлагает создать офшорную структуру за 24 часа, то чтобы свернуть всю офшорную деятельность месяца более чем достаточно. Те организации, которые не примут новые условия, должны подлежать национализации. При этом ограничение или введение запретов на свободное движение капитала ведь не является какой-то радикальной мерой, практически все страны БРИКС за исключением РФ ввели те или иные формы механизмы регулирования движения капитала. После этого мы сможем эффективно пополнять золотовалютные резервы, которые, к слову, нужно использовать не для того, чтобы поддерживать курс рубля, а для того, чтобы сформировать некий физический резерв. Понятно, что утекшие в офшоры миллиарды мы не вернем, но можно остановить отток. Я думаю, именно из-за оттока капитала произошел обвал рубля в 2014 году, тогда из страны было выведено рекордное количество денег - 151 млрд. долларов. Сейчас в России появляется спекулятивный капитал, а это главный признак того, что обвал рубля произойдет снова. По моим оценкам, вероятность нового обвала - примерно 90%.
Следующий этап – выход из Всемирной торговой организации, куда нас втянули в 2012 году. Сегодня ВТО недееспособна просто потому, что США, которые некогда задавали тон работе организации, сами же ее разваливают. Объявляя санкции, под которыми находится половина мира и Россия в том числе, США нарушают принципы ВТО. Кроме того, Америка ведет переговоры о Трансатлантическом и Транстихоокеанском партнерстве, превращая ВТО в некую ширму, которая никому уже не нужна. Для России альтернативой ВТО может стать дееспособная экономическая и валютная группировка стран, что-то вроде Евразийского экономического союза, но не БРИКС – в БРИКС я не очень верю. Создание такой группировки фактически будет означать установление той интеграции, которая некогда существовала в пределах Советского Союза. Если мы решим эту задачу, то можно будет говорить уже и об интеграции с другими соседями, в том числе Индией и Китаем.
Бюджетная политика тоже, безусловно, требует преобразований. Невозможно решить все социальные проблемы с изменением ставки подоходного налога. Должна быть прогрессивная шкала налогообложения, если мы хотя бы мягко увеличить налоговую нагрузку и пополнить бюджет за счет тех, кто получает большие деньги. Тогда и секвестрование бюджета не понадобится.
- В одном из своих комментариев вы сказали, что министр Улюкаев неподконтролен премьеру Дмитрию Медведеву. А тем временем в СМИ муссировалась тема конфликта главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной с Улюкаевым. Как при таком раздрае в правительстве рулить страной?
- Меня часто спрашивают, почему цифры, которые озвучивает Улюкаев, не состыковывается с цифрами, которые озвучивает Медведев. Да потому что ни Улюкаев, ни Медведев даже не представляют себе, как работают ведомства и министерства, в которых, в свою очередь, напрочь расшатана исполнительская дисциплина. Я периодически читаю документы, подготовленные Минфином и МЭР – они даже неграмотно составлены! А мы ждем каких-то интеллектуальных прорывов. Кадры решают все! Но набор сотрудников в министерства и ведомства идет по какому-то непонятному принципу – из целого департамента с численностью в 100 сотрудников хотят и умеют работать лишь 2-3 человека.
Знаете, я каждый год наблюдаю за таким событием как Гайдаровский форум. На нем, как правило, появляются практически все члены правительства. Так вот у меня создается ощущение, что они все впервые друг друга видят на этом мероприятии. И обычно на нем начинаются какие-то разборки, споры, причем не копеечные, а принципиальные. Раньше меня это очень удручало, и я начал задумываться, почему так происходит. А потом пришел к выводу, что, судя по всему, у каждого министра есть свой куратор сверху, перед которым они стараются отличиться и отчитаться, не думая ни о чем другом. При этом я имею в виду не только премьер-министра или администрацию президента, есть подозрения, что кураторы заокеанские.
- Получается, что всем правят заокеанское кураторы и большие боссы, а само правительство ни на что не влияет?
- Зачастую, у министерств, как ни странно, нет даже полномочий на что-то влиять. Своим студентам я даю задание изучить по документам, что такое Министерство экономического развития, посмотреть положение, нормативы, выступление министра и определить, какие обязанности возложены на это министерство и в чем заключаются его полномочия. Оказывается, что никаких полномочий МЭР не имеет, а занимается в основном прогнозированием. Кому нужно это прогнозирование? Ни один прогноз Улюкаева не сбылся. Зато обилие цифр создает иллюзию бурной деятельности. То есть министерство занимается вербальной интервенцией, с помощью которой пытается изменить ожидания участников рынка и не более того. Что касается Министерства финансов, то оно никаких серьезных идей не выдвигает и продолжает работать по кудринской модели: то есть занимается урезанием и секвестрованием расходной части бюджета.
- Бытует мнение, что мы живем в олигархическом государстве. Интересы олигархов власти тоже обслуживают?
- Как ни странно, но мне хотелось бы сказать несколько слов в защиту наших олигархов. На самом деле, они просто транзитные фигуры, поставленные в 90-е годы. А вот за ними стоят олигархи действительно мирового калибра. Приведу один пример. Все мы помним историю ЮКОСа и Ходорковского. Когда началось расследование по делу ЮКОСа, беспрецедентно глубокое и тащательное для того времени, выяснилось, что компания управлялась через цепочку офшоров, а конченым офшором было гибралтарская фирма, бенефициаром которой являлся Яков Ротшильд. Так что Ходорковский был просто пешкой Ротшильда и обслуживал чьи-то интересы. Я работал рядом с Ходороквским некоторые время, и у меня уже тогда начало складываться впечатление, что это так.
То есть все нити в олигархической России ведут далеко на запад, именно поэтому я так серьезно настроен против офшоров. На Западе с ними еще можно жить, в них выводится прибыль с целью уклонения от уплаты налогов, у нас в офшоры выводятся активы в физическом и юридическом смысле.
- Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард недавно заявила о признаках улучшения в российской экономике. Может быть, и правда все налаживается?
- Мне кажется, ее заявления носят лишь конъюнктурный характер. Никаких структурных изменений в российской экономике не происходит, продлеваются санкции, от которых все уже порядком устали и Европа в том числе. Самой Кристин Лагард тоже не позавидуешь: она постоянно находится между молотом и наковальней. С одной стороны ей нужно обслуживать интересы Дяди Сэма (США ключевой акционер МВФ), с другой – ей нужно сохранять остатки репутации МВФ, изрядно подпорченной за последние два года в связи с Украиной. Не будь этого препятствия со стороны США, она бы более объективно оценивала экономику России и Украины. Самое интересное, по принципам МВФ вообще не должен работать с Украиной, в которой ведутся военные действия.
- Европа устала от санкций, но тем не менее заявила о намерении их продлить. На нее давят США?
- Помимо массы политических причин Европа соглашается участвовать в санкциях по экономическим мотивам. Не зря же Германию называют американской колонией. Я буквально на днях смотрел баланс торговли между США и ЕС и отметил, что Европа имеет большое активное сальдо в торговле что с Америкой. Евросоюз понимает, что, если будет пререкаться, Дядя Сэм может ввести какие-то ограничения по торговле, а это очень серьезная морковка. Кроме того, европейские банки за размещение российских бондов и другие операции нещадно штрафуют – банки уже около 100 млрд. рублей заплатили по штрафам. Европа, конечно, хочет закончить со всеми этими санкциями. Она была зажиревшей и расслабленной на протяжении десятилетий, но теперь медленно приходит в чувства. Начинаются протестные движения против навязанных Америкой соглашений и действий. Недавно была демонстрация против соглашения о Трансатлантическом партнерстве, которое Барак Обама спешил заключить до президентских выборов. А соглашение о Тихоокеанском партнерстве, достигнутое ровно год в Атланте, страны тихо бойкотировали: на сегодняшний день ни одно государство его не ратифицировало. Втянутые в игру США страны, поняли, что вступив в партнерство, они потеряют торговлю с Россией, Китаем и Индией. В общем, следующему хозяину Белого дома придется начинать все с нуля.
- Из-за кризиса в России и мире страдают люди, страдают некоторые отрасли производства, бизнес. А кто, наоборот, выигрывает и зарабатывает на этом?
- На самом деле «винеров» не так много. В России назревает предреволюционная ситуация. А кто выиграл от прошлой революции, 100 лет назад? Никто. А если говорить о победителях в глобальном масштабе, то тут все понятно: Россия – это часть мирового проекта, управляемого хаосом. То есть победители те, кто и управляет этим хаосом, эпицентром которого сейчас является Ближний Восток. Все это ведь заваривают даже не президенты, а хозяева денег - акционеры ФРС. Управляемый хаос им нужен для того, чтобы за счет разницы потенциалов поддерживать статус печатного станка ФРС. Главная задача хозяев денег - стать хозяевами мира.
- То есть деньги – это не цель, а средство?
- Да, одна из моих последних книг называется «Смерть денег» и в ней я пишу, что деньги доживают свой последний век в том виде, в котором существуют. Модель меняется в сторону виртуализации. Сейчас банкиров пытаются загнать в электронно-банковский концлагерь, перевести на безналичный расчет, чтобы приблизиться к конечной цели – мировой власти. А мировой власти деньги будут не особенно нужны. Вместо них могут появиться какие-то условные знаки как инструмент учета и контроля, а сами банки тоже станут такими же инструментами. Как говорил Ленин: «Нам нужен учет и контроль». В этой новой модели есть признаки социализма, но идею равенства, заложенную в нем, можно по-разному понимать. В концлагере тоже существует равенство. Это только на первый взгляд кажется, что банковский капитализм и социализм являются антиподами, оказывается, существуют интересные сочетание обеих моделей.
- То есть нам стоит готовиться к худшему или хуже уже некуда?
- У нас, слава богу, нет войны. Поэтому когда люди начинают ныть, как у нас все плохо и ужасно, я говорю: «Почитайте хорошую книгу по истории России, были времена и намного хуже». Сейчас грех жаловаться, надо трудиться, причем не только физически, но и умственно. Нужно прийти к осознанию, что модель, в которой мы живем, нам навязана. Чтобы избежать соблазнов и искушений, нужны большие интеллектуальные и духовные усилия над собой. Я преподаю в университете и вижу, что даже все образовательные программы настроены на то, чтобы сделать из Homo sapiens Homo economicus, а это такой дурак, которым руководят только рефлексы удовольствия, страха, хватательные рефлексы. Именно на Homo economicus и зарабатывают хозяева денег. Мы должны противостоять этому и оставаться человеком.
-Как разрушить эту навязанную модель существования?
- Нужно образовывать, просвещать, объяснять людям, как все устроено. Власть ведь строится на известном принципе «разделяй и властвуй» и прочно стоит на ногах благодаря тому, что основная масса людей глупее и порочнее, чем сами властители. Поэтому нас развращают и оглупляют. Если не поддаваться оглуплению, власть утратит свою силу и сама уйдет без кровавых революций, которые нашему обществу противопоказаны. Ведь иногда больного можно вылечить не операцией по удалению опухоли, а начать с химиотерапии, которая убьет злокачественные клетки. Политика всегда первична, а мы сейчас на крутом вираже истории, когда политика всегда доминирует над экономикой. После того, как мы решим политические вопросы, можно заняться экономическими проблемами. Пока в наших силах – лишь защитить экономику, ее остатки, которые еще живут и функционируют. Экономика – наш дом и мы должны защитить его от мародеров и спекулянтов, которые каждый кирпичик хотят продать как можно выгоднее. Поэтому все, что я описывал выше - реорганизация Центробанка, устранение офшоров, меры лишь защитные, но не созидательные. Экономика – это позитивный процесс, которым нам пока рано заниматься.

Российские военные летчики готовятся 12 августа встретить свой профессиональный праздник – день Военно-воздушных сил. Сегодня Военно-воздушные силы отмечают праздник в составе молодых Воздушно-космических сил, которые были сформированы год назад на базе ВВС, войск противовоздушной, противоракетной и противокосмической обороны, а также космических сил. Уже через месяц после создания этот новый вид вооруженных сил получил боевое крещение. С 30 сентября 2015 года по просьбе президента Сирии Башара Асада российская авиация во взаимодействии с силами флота наносит удары по объектам экстремистских группировок "Исламское государство" и "Джебхат-ан-Нусра". В то же время в России идет масштабное перевооружение Воздушно-космических сил. Войска готовятся принять на вооружение истребители пятого поколения, в разработке находятся новейшие бомбардировщики и истребители-перехватчики, готовятся к испытаниям истребители МиГ-35, восстанавливается производство стратегических ракетоносцев типа Ту-160.
Накануне дня ВВС корреспондент РИА Новости Иван Сураев побеседовал с главнокомандующим Военно-воздушных сил в период с 1991 по 1998 годы Петром Дейнекиным. Экс-главком рассказал об основных уроках операции Воздушно-космических сил в Сирии, о перспективах беспилотной и гидроавиации и основных проблемах современных российских ВКС.
— Петр Степанович, поздравляю вас с профессиональным праздником. Не могли бы вы пояснить, почему сегодня в России существуют две традиции отмечать день ВВС – 12 и 18 августа. Откуда такая путаница?
— Как правило, путаница у людей бывает от незнания. 12 августа – это День ВВС, а 18 августа – День Воздушного флота. День годового праздника для управления военно-воздушного флота был высочайше установлен российским императором Николаем II в честь покровителя авиаторов св. пророка Илии – 20 июля 1916 года. Сейчас эта дата незаслуженно забыта и почти никем не отмечается.
Вместе с тем к празднику воздушного флота вернулись в 1933 году. Именно тогда Сталин объявил о том, что если раньше у СССР не было авиационной промышленности, то "она у нас есть теперь". Тогда же был установлен и новый День Воздушного флота – 18 августа. Под воздушным флотом понималась военная и гражданская авиация, авиация НКВД, ОСОАВИАХИМА и главного управления авиационной промышленности. Конечно же, главной скрипкой в воздушном флоте были военно-воздушные силы, однако конкретного праздника именно для ВВС установлено не было. И только в новой России по указу президента Ельцина был установлен день ВВС – 12 августа. Таким образом, мы вернулись к нашим старым и славным традициям, когда авиаторы России отмечали свой профессиональный праздник в течение "авиационной недели".
— В каком состоянии, на ваш взгляд, подошли к сегодняшнему дню наши ВВС, каковы их основные достижения на сегодняшний день и главные проблемы, которые необходимо решить в ближайшие годы?
— Свою 104-ю годовщину Военно-воздушные силы встречают достойно, однако не в самом своем могучем составе. Они еще не восстановили даже ту боевую мощь, которая была у них десять лет назад. Тем менее меры, принятые руководством министерства обороны с 2012 года, заметно улучшили ситуацию и во многом исправили ошибки предыдущих лет.
Сегодня наша авиация проходит масштабное перевооружение, оборонно-промышленный комплекс работает над проектами самолетов будущего. Восстанавливается наша аэродромная сеть не только в Арктике, но за далекими пределами России: во Вьетнаме, на островах в Тихом океане и в Сирии.
Не могу не отметить повысившийся престиж военной службы среди молодых людей. Набирает обороты объединенная академия ВВС имени Жуковского и Гагарина, переехавшая из Москвы в Воронеж. Конкурс среди абитуриентов вырос до четырех человек на место. К сожалению, возместить кадровый провал прежних лет в сжатые сроки не удастся.
— Как можно решить данную проблему?
— С учетом современной международной обстановки нам необходимо принять дополнительные и неотложные меры по подготовке летных кадров на государственном уровне, и такие нереализованные возможности у нас в стране имеются. Считаю досадным упущением, что для обороны страны не готовится такой мощный резерв, как персонал гражданской авиации, где трудятся до 16 тысяч пилотов, а это гораздо больше, чем количество боевых летчиков в ВКС.
Имеется и другая серьезная проблема, а именно сосредоточение всей летной подготовки в одном учебном заведении – в Краснодарском летном университете. Там число аэродромов и авиационных полков выросло до масштабов воздушной армии. Таким огромным коллективом одному начальнику управлять сложно, а они еще и летают всю неделю ежедневно от зари до зари. Тут надо бы скорректировать систему подготовки летных кадров так, чтобы у каждого начальника было не более трех, ну пяти подчиненных. А в общем-то, у меня оптимистичный настрой и вера в способность современных руководителей решать задачи не хуже нас, старших поколений. Они молодцы!
— Прошел год с тех пор, как Военно-воздушные силы объединились с другими войсками, сформировав совершенно новый вид вооруженных сил под аббревиатурой – ВКС. Как вы оцениваете данное решение, какие задачи удалось решить российскому военному руководству данной реформой?
— Надо отдать должное тем, кто стоял у истоков этой идеи. Дело в том, что бурные дискуссии на тему строительства вооруженных сил в государственных и военных сферах продолжались не один десяток лет. Как говорится, "никто не хотел умирать". Однако еще в 90-х годах мы отказались-таки от прежней, пятивидовой, структуры: Сухопутные войска, ВВС, Военно-морской флот, Войска ПВО и Ракетные войска стратегического назначения и перешли на трехвидовую структуру, по сферам вооруженной борьбы: небо – авиации, океан – флоту, земная твердь – сухопутным войскам. А формирование ВКС, как нового и современного вида вооруженных сил, теперь даже ленивым представляется закономерным. И то, что главкомом ВКС назначен герой-авиатор, после событий в Сирии не вызывает сомнений.
— Что касается сирийской операции, как вы оцениваете работу наших летчиков?
— Спасибо за вопрос. Скажу, что за последний год всего 400 российских военных летчиков высоко вознесли мировой авторитет нашей державы. При этом я не умаляю участия в операции Военно-морского флота и других войск, но главной ударной силой России была все же авиация.
Начнем с нашей военно-транспортной авиации. Она проделала титаническую работу по доставке оружия, грузов и личного состава, а теперь занимается и доставкой в Сирию гуманитарных грузов. Дальняя авиация в первом массированном авиационном ударе применила высокоточные дальнобойные крылатые ракеты, причем с двух направлений: с запада, со стороны Гибралтара, и с северо-востока, с территории России. В дальнейшем надобность в применении дорогостоящих стратегических крылатых ракет отпала и дальняя авиация выполняла поставленные задачи обычными авиабомбами с самолетов типа Ту-22М3.
Отважно выполнили свои задачи летчики фронтовой и армейской авиации. К сожалению, здесь не обошлось без потерь, однако войны в небе без потерь не бывает.
— Какими самолетами, помимо тех, что участвовали в авиаударах по позициям экстремистов, по-вашему, могла бы быть усилена наша авиагруппировка в САР?
— Количество и типы самолетов, которые привлекались к ведению войны, определяются тем командующим, который лично отвечает за исход всей операции в целом. А там еще раз был подтвержден постулат о том, что группировкой должен командовать общевойсковой полководец, у которого в оперативном подчинении должны быть авиация, сухопутные войска и флот.
В Сирии на высоком уровне было организовано управление войсками. Такого управления у нас не было ни в Афганистане, ни в других вооруженных конфликтах.
Прошу также отметить мужество вашего брата-журналиста, который находился не в московской редакции, а под огнем на передовой. И если раньше мы проигрывали битвы в электронном и печатном пространстве, то теперь этот недостаток устранен. Любая бомбардировка или доставка гуманитарной помощи широко тиражируется, и мы просто лишаем наших идеологических противников повода злословить в адрес российской армии.
Завершая обсуждение данной темы, остается серьезным вопрос: хватит ли имеющегося в составе ВКС боевого летного состава на ведение более масштабной войны, причем с активным противодействием со стороны ПВО противника? Прямо скажу, вряд ли. Безусловно, надо укреплять все виды вооруженных сил, но конечным фактором боевой мощи любой страны всегда будет господство в воздухе. Поэтому приоритет развития нашей армии должен отдаваться Воздушно-космическим силам.
— Перейдем к текущему развитию нашей боевой авиации. Сегодня ВКС РФ готовятся принять на вооружение истребители пятого поколения Т-50 (ПАК ФА), в разработке новейшие бомбардировщики и перехватчики (ПАК ДА и ПАК ДП), тем не менее уже сейчас активно ведется обсуждение боевой авиации шестого поколения, которая, как предполагается, начнет летать примерно с 2025 года. Какими особенностями, по вашему мнению, будут обладать самолеты шестого поколения, будут ли они с экипажами или беспилотными?
— Изначально были большие сомнения в отношении применения беспилотников, а теперь только ленивый не применяет их во всевозможных отраслях, начиная от сельского хозяйства и заканчивая боевым применением. Поэтому уверен, что не за горами тот день, когда самолеты смогут летать без пилота. Но будущее за разумным сочетанием пилотируемых и беспилотных самолетов.
— Последние годы мало что слышно о разработке российских самолетов-амфибий. Чем это объясняется, на ваш взгляд, речь идет о нехватке средств у нынешнего военного руководства либо оно в целом себя зарекомендовало как недостаточно перспективное?
— Сегодня не только Россия, но и другие державы гидроавиацию в крупных масштабах не развивают. В период между Первой и Второй мировыми войнами многие увлекались этим направлением, но в итоге, как и в свое время дирижабли, гидроавиация была признана бесперспективной. Для успешной работы с воды нужна поверхность с невысокой волной, а использовать такую авиацию можно только любителям на реках и озерах.
— В завершение беседы хотел бы спросить — на каком месте в мире по степени оснащенности современной техникой и уровню боевой подготовки находятся наши ВКС. Военно-воздушные силы каких стран являются нашими ближайшими конкурентами? По каким показателям мы их опережаем, а по каким все еще отстаем?
— Конкуренты в военном деле у нас все те же – США и НАТО. На высоком уровне по-прежнему находится авиационная промышленность Великобритании, Франции и Германии. Однако ни одна из них не дотягивает в данной отрасли до России. Здесь стоит напомнить, что в советское время Москва отставала от Вашингтона по авиационным двигателям, системам навигации, радиоэлектронной борьбы и высокоточному оружию. Сейчас же мы не отстаем, но догоняем. Так что все у нас впереди.

Ален де Бенуа: «Правящие в Евросоюзе элиты сегодня полностью оторваны от народа»
Юрий КОВАЛЕНКО, Париж
Ален де Бенуа — видный французский философ, писатель и публицист, автор более 50 книг, последовательный критик либерализма, основатель и идеолог движения «Новые правые». В эксклюзивном интервью «Культуре» он прокомментировал последствия Brexit для Европы.
культура: Чем Вы объясняете убедительную победу сторонников Brexit?
де Бенуа: Это массовый протест против ЕС и всех глобальных элит. Народ начинает понимать, что брошен и предан правящими партиями, которые никак не защищают его от последствий глобализации, прежде всего от неконтролируемой миграции. В данном случае очень важно, что на референдуме противостояли не консерваторы и лейбористы, а противники и сторонники Brexit из обоих лагерей. Голосование в очередной раз подтвердило тот факт, что деление на правых и левых устарело.
культура: Какими последствиями чреват Brexit для ЕС? Результаты плебисцита уже сравнивают с землетрясением и революцией…
де Бенуа: Это, несомненно, историческое событие. Выход из Евросоюза одного из главных государств не останется незамеченным. Хотя Великобритания никогда и не была мотором ЕС, он, безусловно, оказался ослаблен: повержена сама идея, согласно которой европейское строительство является необратимым процессом. Во время греческого кризиса еврократы считали немыслимым уход Афин. Но по сравнению с Великобританией Греция — совсем маленькая страна.
культура: Не спровоцирует ли Brexit «эффект домино»? Нельзя исключать, что такие страны, как Нидерланды, Венгрия, Чехия не проведут похожие референдумы.
де Бенуа: Сегодня все задаются данным вопросом. Повлечет ли Brexit всеобщую волну протеста, что приведет к распаду Евросоюза? Сравним ли Brexit с падением Берлинской стены, завершившимся крахом коммунистической системы? Судить об этом преждевременно. Однако каждый раз, когда проводились подобные голосования, население этих стран выражало огромное недоверие Брюсселю и даже категорический отказ от общеевропейской системы. Великобритания послужит примером: жизнь продолжается и после выхода из Евросоюза.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже объявил о проведении в октябре референдума по миграционным квотам, навязываемым ЕС. (Результат не вызывает никаких сомнений.) Того же требуют другие евроскептически настроенные партии. Однако стоящий у власти политический истеблишмент отказывается от плебисцита. Они извлекли из Brexit единственный урок: ни в коем случае нельзя давать слово народу.
культура: Бывший американский посол в России Майкл Макфол назвал Brexit «победой Путина». Кремль ответил: Москва на этот процесс никак не влияла, и напомнил, что ЕС — наш главный торгово-экономический партнер.
де Бенуа: Не стоит придавать какого-либо значения таким высказываниям. Известно, что американцы пытаются демонизировать российского президента, объясняя все, что их не устраивает, «победой Москвы». Путин занимал в этом вопросе позицию стороннего наблюдателя. Он давно уже не питает иллюзий по поводу способности европейцев проводить независимую политику. Более того, в день всебританского голосования Индия и Пакистан подписали документы в целях получения членства в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). К сожалению, западная пресса практически ничего не написала об этом важнейшем событии. Европа начинает распадаться в тот момент, когда терпит крах сама идея «международного сообщества» под эгидой США. Это говорит о многом.
культура: Лондон активно ратовал за антироссийские санкции. Можно ли теперь надеяться на улучшение отношений между Евросоюзом и Москвой?
де Бенуа: Трудно сказать. Во Франции многие прекрасно понимают, что санкции против России были одновременно ошибкой и абсурдом. Тем не менее Германия не хочет дистанцироваться от американцев. Думаю, от санкций откажутся, но не сразу.
культура: Повлияет ли Brexit на украинский кризис? Остаются ли у Киева какие-то шансы вступить в ЕС, который, похоже, готов объявить мораторий на прием новых членов?
де Бенуа: Украина представляет собой искусственно созданную страну. Собственно говоря, их две — Западная и Восточная. Над ними сегодня возвышается квазимафиозное государство. Киев рассчитывает на членство в ЕС, воображая, что получит необходимые финансы. Однако почти разоренный Евросоюз не имеет для этого средств. Вступление Украины в ЕС, которое я считаю маловероятным, лишь усугубит кризис и не принесет ничего хорошего самим украинцам.
культура: Некоторые эксперты и политики утверждают, что в референдуме «необразованные, серые массы, включая стариков», взяли верх над «умными и просвещенными людьми».
де Бенуа: В таких спесивых и самоуверенных заявлениях вижу типичное выражение классового презрения. Очередное доказательство того, что самопровозглашенные элиты сегодня полностью оторваны от народа.
Именно они и объявляют, что широкие массы, а к ним приписывают и средний класс, состоят, дескать, из невежд. Нашим элитам было бы лучше задаться вопросом о своей ответственности за положение дел и о том, почему народ отвергает их с такой энергией и постоянством.
культура: Есть и те, кто предлагает организовать новый референдум, способный отменить результаты первого…
де Бенуа: Это маловероятно, хотя подобные прецеденты существуют. Англия, скорее всего, попытается, как Норвегия, сохранить доступ к общему рынку ЕС. С технической точки зрения уход из Евросоюза потребует много времени. Но то, о чем вы упоминаете, свидетельствует об отношении правящих классов к народу: если население «голосует плохо», пускай голосует снова до тех пор, пока не «проголосует хорошо»! Некоторые деятели хотят либо вообще отменить референдумы, либо запретить их проведение по некоторым вопросам. Так или иначе, мы являемся свидетелями отказа от демократии. Она предполагает суверенитет народа и совпадение точек зрения правящего класса и тех, кем он управляет, а также участие в государственных делах всех граждан.
культура: Изменит ли ЕС миграционную политику? «Массовая миграция на протяжении многих лет в Соединенное Королевство привела к трансформации страны и, в частности, ее столицы — в город, где англичане уже больше не находятся в Англии», — напоминает известный публицист Эрик Земмур.
де Бенуа: Авантюристская миграционная политика Ангелы Меркель, несомненно, серьезно повлияла на результат референдума. Однако следует признать, английское правительство само виновато в массовом нашествии иностранцев. И один только уход из Евросоюза вряд ли сможет что-то изменить.
культура: Усилит ли Brexit позиции евроскептиков во всех странах?
де Бенуа: Это более чем вероятно. Есть некое подобие диалектической связи между Brexit и подъемом популистских движений в Европе и даже за ее пределами. Успех Brexit связан с феноменом «Национального фронта» во Франции, Австрийской партии свободы, СИРИЗА в Греции, «Подемос» в Испании, а также с победой движения «Пять звезд» на муниципальных выборах в Риме, поддержкой Трампа и Сандерса в Соединенных Штатах.
культура: Не грозит ли Соединенному Королевству превратиться в Королевство разъединенное?
де Бенуа: Главными последствиями Brexit станут не экономические или финансовые, а политические перемены. В Великобритании референдум уже привел к серьезному кризису. Brexit подстегнет стремление Шотландии к независимости, реанимирует дебаты о статусе Ольстера и даже Гибралтара. Двум ведущим партиям — консерваторам и лейбористам — придется пересмотреть политические линии. А лондонский Сити попробует усилить свою позицию налогового рая.
культура: Станет ли Евросоюз менее зависимым от США после ухода Великобритании?
де Бенуа: Такое можно предположить, но я в это не верю. ЕС видел своей целью создание не мощной «Европы — державы», а «Европы — рынка». Лидеры ЕС — приверженцы либеральной идеологии капитализма. Они мечтают об «открытом обществе», о свободных обменах товарами, услугами, капиталами — иными словами, мыслят только рыночными категориями. Конечно, с уходом Великобритании американцы потеряли верного «Троянского коня» (Обама даже приезжал в Англию, чтобы выступать против Brexit). Но нужен ли он сегодня Штатам? Так или иначе, главным рабочим языком брюссельских институтов останется английский, который отныне не является национальным ни в одном из государств — членов ЕС, за исключением Ирландии.
культура: Теперь Германия окончательно займет в Европе доминирующие позиции?
де Бенуа: Более чем когда либо. До сих пор ЕС базировался на равновесии трех государств — Франции, Великобритании, Германии. После нарушения баланса на последнюю приходится почти треть ВВП и 40 процентов промышленности Евросоюза. Сюда надо добавить усиливающийся политический вес Берлина, в то время как влияние Франции стремительно падает.
культура: В нынешнем виде Шенгенское пространство обречено?
де Бенуа: С Шенгеном покончено. Если бы Евросоюз был способен защищать свои общие внешние рубежи, сегодня мы бы не видели появления границ внутренних.

В сетях архаики
Пять стратегических векторов конфликта в Сирии
Дмитрий Евстафьев – кандидат политических наук, профессор департамента интегрированных коммуникаций факультета коммуникаций, медиа и дизайна Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Резюме Сирийский конфликт показал возможность глубокой виртуализации политики и создания устойчивых сконструированных сущностей, бытующих исключительно в коммуникационном пространстве. Наиболее примечательной из них оказалась «умеренная оппозиция».
Междуречье Тигра и Евфрата и Большой Левант, а говоря современным языком, территория Сирии, Ливана и Ирака – почти идеальное место, где можно наблюдать проявление основных противоречий современного мира. Ряд немедленных последствий конфликта очевидны, как и то, что отсутствует полноценная кооперативная база для стратегического взаимодействия ключевых государств. Это, правда, не исключает определенного, хотя и ограниченного сотрудничества не только на военном этапе, но и в процессе политического и социально-экономического воссоздания.
Конфликт выявил несколько долгосрочных векторов развития, эффект которых пока в полной мере не ясен, но они, безусловно, имеют как минимум среднесрочный характер и могут начать определять политические процессы не только на Ближнем и Среднем Востоке.
Вектор 1. Сочетание этно-религиозных, политических и экономических факторов
Конфликт в Сирии вряд ли можно назвать цивилизационным в чистом виде, хотя возникший разлом имеет очень глубокий характер. Есть классические цивилизационные идентификаторы, которые Сэмюэл Хантингтон формулировал на основе этно-религиозных и культурно-поведенческих отличий, они находят подтверждения в длительной исторической перспективе. Но в данном случае проявился и ряд специфических аспектов дестабилизации, которые невозможно свести ни к национальным, ни к этническим.
Даже в самой широкой трактовке «национального» оно утрачивает значение решающего фактора размежевания. Управление такого рода конфликтами существенно осложняется, ведь сердцевиной всегда являлось национальное государство и его институты, пусть и по-разному понимаемые. Но кроме процессов, обусловленных невозможностью и далее сохранять национальные государства в рамках колониальной эпохи (Ирак, Сирия, Иордания, да и Ливия – классические примеры), наметилась перспектива передела пространства ради получения экономических выгод. То есть фактор этно-конфессиональной напряженности все больше воздействует на систему международных отношений, но дополняется экономически мотивированной дестабилизацией. На фоне торможения глобализации и в условиях кризиса стратегий догоняющего развития это особенно бросается в глаза.
Многогранный характер разломов и их последствий – главный стратегический вектор развития мира. Сирия – первый очаг конфликта, где это явственно проявилось, хотя пока и в ограниченной степени. Страна не играет важной роли в мировой экономике и остается второстепенным элементом логистической системы. Столкновение интересов будет куда ожесточеннее, если в его центре окажутся территории, более значимые с точки зрения всеобщих экономических потоков.
Традиционные транспортные и инфраструктурные коридоры и объекты, имеющие глобальное или трансрегиональное значение, давно находятся либо в «белой зоне» взаимоотношений мировых держав (регулируются юридически обязывающими соглашениями), либо хотя бы в «серой» (неформальные договоренности). Пример первого рода – знаменитая «конвенция Монтрё», которую стараются соблюдать даже в периоды максимального обострения отношений (как, например, в ходе нынешнего украинского кризиса или российско-грузинской войны). Пример второго рода – режим судоходства в Гибралтаре, Баб-эль-Мандебском проливе и некоторых других специфических регионах мира.
Однако новые логистические направления, возникающие в ходе перекройки карты мира, попадают в зону неопределенности – и правовой, и политической. Один из наиболее острых вопросов проекта «Экономический пояс Шелкового пути» – стандарты, которыми он будет регулироваться. Стремление КНР построить коридор исключительно на национальных нормах и принципах едва ли вызовет энтузиазм остальных участников. Можно не сомневаться, что тема правил игры возникнет и в связи с такими перспективными логистическими пространствами, как Никарагуанский канал и Северный морской путь (даже несмотря на то, что российский суверенитет над ним пока никто не оспаривает).
Вектор 2. Столкновение сетевой структуры и иерархичности
Девяностые годы XX века были отмечены бурным ростом интереса к сетевым структурам. Считалось, что они эффективнее иерархических, более адаптивны, да и вообще идут на смену прежним моделям управления. Концепция и политическая практика «цветных революций» заключалась в подрыве иерархической конструкции (государства) за счет гибкости и мобильности сетевых образований. Сетевое глобальное пространство, которое, как казалось, заменит скучное господство иерархии, виделось миром транснациональных компаний. Сами по себе они, безусловно, иерархические, но, становясь действующими лицами глобального сообщества, стимулируют переход процессов социально-экономической глобализации в сетевую форму.
Интересно, что на этапе зрелой глобализации (конец 1990-х гг. и нулевые) ТНК нормально уживались и даже взаимодействовали с транснациональными неправительственными организациями, хотя последние, как правило, объявляли себя борцами против засилья глобального бизнеса. Например, значительная часть мирового экологического движения деликатно смолчала по поводу сланцевой нефте- и газодобычи. Или, скажем, первоначально антиглобалистски настроенное «Движение за справедливую цену» сейчас активно используется крупнейшими глобальными корпорациями (тем же «Старбаксом») в маркетинговых целях. То есть чисто теоретически существовала возможность симфонии между ними, равно как и вероятность возникновения сетевого универсума, в котором государственная принадлежность индивида была бы вторичной по сравнению с его принадлежностью к той или иной сети.
Принято констатировать, что «сетевики» уступили в конкуренции с «иерархами», поскольку национальное государство сохранилось в качестве базовой единицы системы международных отношений. На деле ситуация далеко не так однозначна. Противоборство продолжается, и конфликт в Сирии и Ираке дал ему новый импульс.
Однако сетевыми структурами, в наибольшей степени освоившими механизмы глобализации, оказались радикально-религиозные сообщества, глобальный криминал и террористический интернационал. Собственно, рост их влияния в последние пять-семь лет, вероятно, можно связать с тем, что в условиях явного торможения глобализации (прежде всего социальной и социально-экономической) сетевые структуры действительно проявили больше операционной гибкости и воспользовались возможностями передела геополитического пространства и ключевых финансовых потоков.
Сирийский конфликт доказал способность сетевых структур оказывать социальные услуги в подконтрольных им районах. Неформальные группы занимались этим и раньше, порой более успешно, нежели государство. Однако и ХАМАС в секторе Газа, и «Хезболла» на юге Ливана действовали скорее как обычные иерархии, которые подменили собой государство на контролируемой территории. А вот ИГИЛ в Ракке и Дамаске, и «Джабхат ан-Нусра» в Алеппо и Идлибе (обе организации запрещены в России. – Ред.) оставались однозначно сетевыми.
Другой вопрос, что сетям ни разу не удавалось удержать власть. Более того, для «сетевиков» принципиальной задачей был не столько разгром иерархической структуры того или иного государства, сколько врастание в нее и превращение себя в подобие власти, то есть иерархии. Где-то это получалось (Сербия, Тунис, Грузия), где-то нет (Египет), где-то приводило к тяжелой долгосрочной дестабилизации (Украина). Но модель проникновения сетевого элемента в иерархическую конструкцию везде по сути одна и та же. В Сирии впервые в новейшей истории столкнулись чисто сетевая структура (ИГИЛ) и классическое, хотя и «сложносочиненное» государство. ИГИЛ, рожденное именно как сеть и остававшееся ею на протяжении большей части конфликта, ставило задачей разрушение государства как такового. Попытки обозначить собственную иерархичность (государственность) не оказали заметного воздействия ни на ход боевых действий, ни на концептуальную и идеологическую составляющие радикал-исламистского сообщества. Более того, сетевой характер организации исламистского пространства в Сирии и Ираке сохраняется, несмотря на угрозу военного поражения.
Интересно, что сетевой, по сути, характер постмайданной государственности не преодолен и на Украине, несмотря на жесткий нажим извне. В том, что Киеву следует вернуться к иерархичности в политике и сфере применения насилия (в частности, ликвидировать силовое крыло сетевой государственности – т.н. добровольческие батальоны), были едины и США, и Россия, и ЕС, и ОБСЕ. По мере ослабевания внешнего политического контроля над украинской политикой сетевой характер государственности имеет тенденцию к воспроизводству.
Показательно и то, как концепция «русского мира» все больше становится антиподом российской государственности. Она оказывается направлена против государственных институтов, которые представляются слишком косными, неспособными к динамическому расширению и в недостаточной степени отражающими «народность».
Ключевой вопрос, который питает противоречие между иерархическими и сетевыми моделями управления, – способность классического для XIX–XX столетий национального или многонационального государства с доминирующим этносом обеспечивать эффективную обратную связь между политическими институтами и обществом. Второй по значимости вопрос – насколько верхушка может «эмансипироваться» от общественных настроений. История гражданской войны в Сирии и судьба политической элиты во главе с Башаром Асадом преподала немало уроков. По мере того как нарастал «дефицит реакции» верхов на мнение общества, вакуум заполнялся именно сетевыми структурами. А они, похоже, обеспечивают большее «пространство соприкосновения» с обществом.
Попытки начать государственное строительство в Сирии «с нуля», как фактически предлагают США и Запад (демонтаж модели, центром которой являются алавиты), значат, что «новая сирийская государственность» станет возводиться в прямой конкуренции с сетевыми образцами «псевдогосударственности» ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры», международно признанных террористов. Предложение Москвы сохранить «асадовскую оболочку», наполняя ее новым содержанием, выглядят куда более стратегически осмысленно.
По сути, мы имели первый опыт наблюдений за усилиями по институционализации сетевой государственности. Впервые в качестве основы для государственного строительства востребована антисистемная идеология.
Сетевой вызов, вероятно, будет острым и для ислама как наиболее активно развивающейся идеологической системы современности. В какой-то степени это естественно для религии, в которой фактически нет клира как иерархической структуры, поэтому считалось, что прецедент уникален, его невозможно перенести на другие цивилизационные модели. Теперь, однако, речь идет о сетевизации управления насилием, порождаемого идеологией, которая использует исламскую оболочку, но наполняет ее иным содержанием. И это вполне применимо и за пределами ислама, во всяком случае в его классической трактовке.
Вектор 3. Стратегическое противостояние монополярности и полицентричности
Концепция многополярности при всей активной теоретической проработке и информационной подпитке, прежде всего со стороны Китая и спонсируемых им научных кругов, пока практического воплощения не получила. Более того, ни ЕС, ни КНР как потенциальные полюсы силы не смогли конвертировать свое преимущество по определенным типам ресурсов (нормативная и «мягкая» сила в случае Евросоюза и экономическая мощь в случае Китая) в новый геополитический статус. Пекин сделал ставку на врастание в биполярность через глобальную экономику и отказался от возможности бороться за статус второго полюса. Конкуренция с США проявляется скорее в формировании региональных коалиций, разных по составу, целям и задачам, которые невозможно в полной мере перенести в другие части мира.
Предпринята попытка утверждения как минимум двух новых центров силы – Турции и Саудовской Аравии, которые ставят геополитические цели, превышающие их собственный ресурс. В возникшую ситуацию вмешался Иран, который также хотел реализовать как экономическую, так и прежде всего политическую составляющую своего потенциала центра силы. Несмотря на локальность применения силовых инструментов, последствия того, что новые центры стимулировали вооруженные конфликты, выходили далеко за рамки большого Ближнего Востока.
Особенно это видно на примере Турции, которая интенсивно пыталась реализовывать уже не столько политическую или экономическую, сколько геополитическую программу неоосманизма. Схожую политику – естественно, с учетом возможностей и реальных условий – проводят другие страны: Польша, Индия, Бразилия, а в недалекой перспективе при условии стабилизации экономической ситуации, вероятно, к ним могут присоединиться Индонезия, Египет. Саудовская Аравия уже способна сформировать собственную коалицию на основе клиентских отношений с рядом арабских и африканских государств. Возникают полноценные субсистемы зависимости, обладающие собственной логикой развития. На этом фоне государства полузабытой «оси зла» выглядят почти безопасно, поскольку ни одно из них не обладало возможностями для существенного изменения международной системы.
Москва работает в этой парадигме, реализуя на локальном пространстве свое преимущество в отдельных видах мощи. Естественно, потенциал России существенно больше, нежели у обычного центра силы. И она также пытается действовать в логике создания собственной субсистемы союзнических связей, хотя это пока получается политически неэффективно, а экономически – затратно.
С другой стороны, выявилась группа стран, которые, обладая возможностями для более «самостоятельного плавания», заинтересованы в сохранении системы и ключевых тенденций глобализации. Это прежде всего государства, которые встраиваются в новые институты американоцентричной архитектуры – Транстихоокеанское партнерство или Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство. Ряд значимых потенциальных центров, например, Вьетнам, Южная Корея, Германия, продемонстрировали стремление остаться в рамках классических форматов глобализации, использовав монополярность в своих национальных интересах. И это важная тенденция, подтверждающая гипотезу о нелинейности, разнонаправленности геополитических процессов.
Главная проблема современной американской политики заключается в стратегической неспособности обеспечить управление амбициями ключевых игроков и встроить их в систему глобальной монополярности. Именно растерянность перед полицентричностью вызвала к жизни так повеселивший мировую общественность набор угроз глобальной безопасности, который вполне серьезно изложил Барак Обама в своем выступлении в ООН (Россия, Эбола, ИГИЛ).
Можно отчасти согласиться с мнением ряда специалистов о том, что американский военный активизм нулевых и десятых годов ознаменовал кризис однополярности. Основанную на ней систему уже нельзя было поддерживать в сбалансированном состоянии без прямого силового воздействия.
В мире тормозящей глобализации моделью для потенциальных центров силы стало не только вхождение в те или иные экономические системы, но прежде всего наращивание военных возможностей. Вероятно, справедливы прогнозы относительно медленного, а главное – асимметричного размывания монополярности. Это происходит и на качественном уровне – утрата Соединенными Штатами превосходства в компонентах национальной мощи, и на региональном – потеря Вашингтоном доминирующего положения в конкретных регионах мира. Отмирание монополярности – если, конечно, не произойдет значимых событий, которые развернут этот тренд или катализируют его – не будет носить характер одномоментного обвала, смены модели.
США, скорее всего, упустили время для корректировки глобальных институтов, чтобы они отвечали вызовам новой эпохи. Шаги в этом направлении сделаны – например, изменение системы квот в МВФ в пользу стран БРИКС. Но ситуация уже приобрела ярко выраженную силовую окраску, и эффект частичного экономического умиротворения существенно ниже, чем он мог бы быть в других условиях. Виной тому, вероятно, фиксация нового статуса военной силы и политической воли ее применять, продемонстрированная в ходе конфликта в Сирии и Ираке и не только там. Действия КНДР, целевой аудиторией которых были все же не Соединенные Штаты, а Китай и Япония, не менее показательны и подтверждают гипотезу о том, что в формирующейся системе международных отношений военно-силовой потенциал легко монетизируется.
Вектор 4. Столкновение высоких технологий и архаики в военной сфере
Как показала операция российских ВКС в Сирии, наличие высокотехнологичных вооружений последних поколений (ракеты «Калибр», высокоточное оружие воздушного базирования) не дало абсолютного преимущества сирийской армии на поле боя, хотя и обеспечило благоприятную ситуацию по двум важным показателям. С одной стороны, применение именно высокоточного оружия позволило избежать неблагоприятных гуманитарных последствий, которые были бы для России весьма чувствительными. С другой – дало возможность сравнительно быстро восстановить паритет в управлении войсками между сирийской правительственной армией и боевиками.
Однако в дальнейшем военно-технологическое превосходство перестало быть решающим. Более того, российские ВКС перешли к широкому использованию классических, можно сказать, пред-высокоточных боеприпасов (например, с самолетов Ту-22М3), и это не сказалось негативно на качестве воздушно-огневой поддержки. Зачастую общая интенсивность боевых действий была важнее. Это так, даже если отрешиться от вопроса о стоимости-эффективности применения различных видов вооружения, что в условиях нетотального конфликта является одним из важнейших факторов.
Еще более показательна относительно низкая эффективность боевых действий «западной коалиции», которая почти исключительно использовала высокотехнологичные вооружения и добилась лишь имитационных результатов, фактически проиграв ИГИЛ на поле боя.
Правомерны сомнения во всей методологии расчета субстратегического баланса сил, на которой зиждется утверждение о безусловной американской военно-силовой гегемонии. В ее основе, мол, непревзойденная мобильность вооруженных сил, дополненная преимуществом в высокотехнологичном вооружении. Но если военно-техническое превосходство не дает решающего превосходства даже в асимметричных конфликтах (с заведомо более слабыми противниками), насколько вообще надежна основа военно-силовой монополярности?
Конфликт в Сирии и Ираке показал, насколько ограничен потенциал высокотехнологичных воздушно-наземных операций, если он не сопровождается действиями сухопутных войск или их дееспособного суррогата. Например, частных охранных компаний или подразделений добровольцев, ополчений, которые будут фронтально противостоять противнику, получая воздушную поддержку в виде качественного, но не решающего бонуса. Особенно если боевые действия выходят за рамки классического для биполярного мира квазиколониального конфликта.
Под вопросом вся концепция технологизации боя как единственной основы военного доминирования Севера в условиях демографического и ресурсного превалирования Юга. Именно такой взгляд преобладал после холодной войны. Первые сомнения в правильности «качественной асимметрии» как подхода к ведению боевых действий возникли в ходе «Второй ливанской войны» 2006 г. – операции израильской армии (ЦАХАЛ) против подразделения «Хезболлы» и ее союзников в Ливане. Тотальное технологическое преимущество израильтян не позволило им добиться безоговорочных результатов на поле боя, а соотношение потерь оказалось неблагоприятным. Однако тогда это обстоятельство восприняли как разовый «сбой эффективности».
Важно изучать формы и методы участия разных государств в сирийском конфликте. Наиболее интересный пример – Иран, который создал и продемонстрировал в Сирии, кажется, самую гибкую из апробированных в военных конфликтах последних лет систему силовых инструментов. Иран обкатал и классические военные подразделения, и возможности военных советников (хотя эффект их деятельности, вероятно, более спорный), и подразделения внутренней безопасности (кстати, опыт участия КСИР именно в локальном конфликте может оказаться востребованным в дальнейшем), и полувоенные аффилированные подразделения («Хезболла», причем как ливанская, так, вероятно, и иранская), и внешне самостоятельные подразделения «шиитских добровольцев». Иран испробовал военный потенциал на любой вкус, исходя из максимально широкого спектра потенциальных вооруженных конфликтов, которые могут затронуть его интересы. Конечно, Тегерану есть над чем работать, но у его потенциальных оппонентов в регионе или нет и такого опыта, или имеется опыт скорее негативный, как, например, у Саудовской Аравии в Йемене.
Вектор 5. Усложняющееся взаимодействие социальной реальности и «информационного общества»
Сирийский конфликт показал пример глубокой виртуализации политики (даже ее силовой составляющей) и создания устойчивых сконструированных сущностей исключительно для коммуникационного пространства. Наиболее примечательна «умеренная оппозиция». Появление этого понятия и признание ее в качестве важнейшего элемента конфликта показывает глубину манипулятивных возможностей информационного общества, построенного на принципах интегрированных коммуникаций. Но есть и другая сторона вопроса.
Исламистские структуры сравнительно легко осваивают новейшие формы манипуляций. Информационное общество прорастает в архаизированные социальные структуры, последние же берут на вооружение новейшие технологии. Следствием становится глобализация архаических социальных укладов и поведенческих парадигм.
Этот феномен имеет отложенный эффект, который, впрочем, может со временем оказаться едва ли не самым значимым. События сорока лет показали высокий темп архаизации обществ во всем мире. Формальной отправной точкой, вероятно, стоит считать череду потрясений: начало радикального исламского противодействия центральной власти в Афганистане при Мухаммаде Дауде (1976–1977 гг.), «хлебные бунты» в Египте (1977 г.), показавшие силу архаических социальных институтов во вроде бы модернистских городах, исламистское восстание в сирийском Алеппо (1979 г.), Исламская революция в Иране (1978–1979 гг.). Окончательной легитимацией этих процессов можно считать референдум об исламском устройстве Пакистана, проведенный президентом-автократом Зия-уль-Хаком. Он знаменовал не просто откат в прошлое, а признание новой стратегической модели развития общества, всерьез претендовавшего до этого на промышленную модернизацию.
Но все подобные проявления воспринимались преимущественно как нечто, касающееся развивающегося мира. Ирак, Афганистан, Пакистан, Ливия, Нигерия, отчасти даже Египет превратились из относительно модернистских обществ в архаические не только по форме, но и по сути. Архаизацию удалось несколько замедлить в Алжире, Тунисе, Индонезии, Таджикистане, но, очевидно, только на время. Развитие информационного общества не только не сдерживало скольжение в прошлое, но и, очевидно, было одним из его инструментов. Оно и обеспечило внедрение в сознание мысли о том, что архаические социальные и экономические уклады вполне приемлемы.
Последняя волна нестабильности на Ближнем Востоке и все большая информационная прозрачность постмодернистских обществ делает возможным перенос социальной архаизации из развивающегося мира в сообщество стран с развитой экономикой. Этому способствует деструкция базовых социальных институтов западного мира. Безусловно, процесс небыстрый, и он далек от «точки невозврата», однако отрицать его бессмысленно. Признаки очевидны в Великобритании (например, т.н. шариатские патрули) и Франции. Они все более заметны в Германии, Бельгии. И в том числе это касается такого базового общественного института, как образование.
Перевод борьбы против ИГИЛ в реальную сферу не привел к исчезновению виртуального конфликта. Эту составляющую просто оттеснили на периферию, и она обрела другие формы. Конечно, в точке соприкосновения с реальностью действия виртуальное измерение перестает быть доминирующим. Но там, где этого соприкосновения нет или оно носит несколько иной характер (например, в странах Евросоюза главным является ожидание терроризма и нарастающий страх перед последствиями миграции), баланс между виртуальным и реальным может быть иным. Что допускает возможность воссоздания сконструированной реальности условной ИГИЛ на принципиально иной операционной площадке – за пределами Леванта и Ближнего Востока.
Давно обещанное противоборство Север–Юг, вероятно, уже идет через конкуренцию модернистских и архаических социальных институтов, и более конкурентоспособными оказываются архаические. Они эффективнее используют возможности информационного общества. Это обстоятельство отмечал скандальный немецкий политик Тило Сарацин в нашумевшей книге «Германия: самоликвидация». Деконструкции подвергаются классические социокультурные институты, прежде всего те, которые имеют организационное воплощение. Так разъедается каркас современного устройства западного типа. Оно замещается – пока на локальном уровне – архаизированными институциональными суррогатами. Высокотехнологичное информационное общество, безусловно, относящееся к атрибутам европейского постмодерна, успешно используется для архаизации социального пространства Европы.
Вместо заключения
Рассмотренные векторы – явления долгосрочные, в полной мере их эффект проявится лишь через некоторое время. Однако именно они определят структуру и особенности системы международных отношений, если торможение глобализации станет не только политической, но и операционной реальностью.
Реализация всех этих векторов – в комплексе или по отдельности – предполагает расширение зоны нестабильности, поскольку во всех случаях в той или иной степени предполагается использование силовых инструментов. Собственно, конфликт в Сирии и Ираке даже больше, нежели ситуация вокруг применения экономических санкций против России, показал значимость и потенциальный эффект различных силовых инструментов в современном мире: от почти классических войн союзников (proxy warfare) через новую парадигму гибридных войн к применению стратегических вооружений. Не показал конфликт в Сирии только одного – пределов допустимой эскалации. И это – главная угроза для системы международных отношений.
Внешняя политика России носит относительно деидеологизированный характер, в какой-то мере она приближается к практикам периода разрядки, когда пропаганда играет лишь роль ширмы для решения прагматических, во многом технологических задач. Однако идеологизация внешней политики США постоянно нарастает, определяя политические действия. Это делает маловероятной стратегию ограниченного партнерства, а частные случаи взаимодействия (например, сотрудничество против ИГИЛ) оказываются заложниками пропагандистской инерции.
Ситуация будет выглядеть менее безнадежно, если признать, что управлять возникшими векторами развития можно лишь отчасти, особенно в период глобальной экономической нестабильности. Тогда не исключены хотя бы попытки разговора с Соединенными Штатами (а они обеспечат лояльность своих европейских сателлитов) о пределах дестабилизации в современной системе международных отношений.
С другой стороны, конструктивное взаимодействие между Россией и Западом зависит от способности расширить рамки относительно малоконфликтной повестки дня между Москвой и Вашингтоном, которая, как показала практика, остается сердцевиной многостороннего взаимодействия. Это сложно, но возможно – с целью замедления глобальных деструктивных процессов.
Стратегическая задача России на ближайшие пять-семь лет вполне ясна. Необходимо дополнить эффективный военный потенциал (который, конечно, нужно расширять) возможностями стратегического конструирования и управления как минимум субглобальными геополитическими процессами. Только очень наивные люди могут предполагать, что обозначившиеся в Сирии и Ираке тенденции не проявятся на постсоветском пространстве. Но для адекватного реагирования нужна совершенно иная экономическая база и более эффективные социальные и управленческие институты.

Асимметричная демократия: эскиз будущего Европарламента
В.И. Брутер – эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований.
Резюме Объединенной Европе никак не удается договориться о равном подходе к большинству гуманитарно - политических проблем.
Сейчас много говорят о двойных стандартах в отношения между Россией и Западом. Но двойные стандарты в Европе не только для «внешнего применения», они еще и для «внутреннего». Объединенной Европе никак не удается договориться о равном подходе к большинству гуманитарно - политических проблем.
Достаточно вспомнить основные вехи. Массовое «безгражданство» для русскоязычных в Латвии и Эстонии. Которое не закончилось, спустя почти 25 лет – жизнь целого поколения. Высылка из Франции румынских цыган (ромов). Которые, между прочим, полноценные граждане Евросоюза. В общем, вполне естественно, что Европа подошла к референдумам об отделении Шотландии и Каталонии. И это только начало. В сложившейся ситуации референдум о выходе Великобритании из ЕС будет вполне естественным продолжением. Причем с заранее известным результатом.
После подписания Лиссабонского договора Евросоюз так и не смог (хотя бы в самой общей форме) зафиксировать единый подход к правам регионов и этнических меньшинств. Это только усиливает напряжение и мешает создать новое качество. Сейчас перед выборами в ЕП совершенно очевидно, что новый Европарламент с новыми уже полномочиями не сможет снять основные проблемы, которые существуют в Европе. Официально говорится, что «формула выборов в Европарламент находится в компетенции стран – членов ЕС». Собственно против этого никто не возражает. Действительно вряд ли формулы во Франции и на Кипре обязательно должны совпадать. А вот базовые принципы, на основании которых это «формула» создается, могут и должны быть общими. А возможно даже едиными. Сейчас все, скорее наоборот.
Социология свидетельствует: значительная часть граждан ЕС полагает, что процесс идет «не туда». Никогда еще процент евроскептиков не был так высок, причем речь, в первую очередь, идет о крупнейших странах Европы – Великобритании, Франции, Польше, Италии.
«Равноправие»
Никакого равноправия для меньшинств и регионов в Европе никогда не существовало. Причем речь идет не о Новой Европе, а о Старой, и не только о «старых временах», но и о вполне сегодняшних. Разумеется, нельзя говорить о том, что в Европейском политическом пространстве ничего положительного происходит. Права этнических меньшинств, в целом, расширяются. С большими проблемами, но расширяются. Децентрализация власти происходит. Самоуправления получают дополнительные возможности, прежде всего в бюджетной сфере. Но процесс идет чрезвычайно медленно и не поспевает за изменением ситуации. Каталония и Шотландия – очевидный показатель того, что скорость, с которой
движется Евросоюз, и скорость, с которой меняются отношения внутри стран, заметно отличается. ЕС никуда и ни за чем не успевает. Причем Шотландия – это на данный момент очень цивилизованный способ решения проблемы. Так будет не всегда и не везде.
Новый состав ЕП не решит эти проблемы, это видно уже сейчас. Скорее, наоборот, во вновь избранном парламенте следует ожидать значительно больших противоречий между политическими силами мейнстрима и евроскептиками, которые значительно усилится. Как результат, проблем станет больше, а эффективности меньше.
Рис.1. Разделение внутри стран ЕС на избирательные округа по региональному принципу.
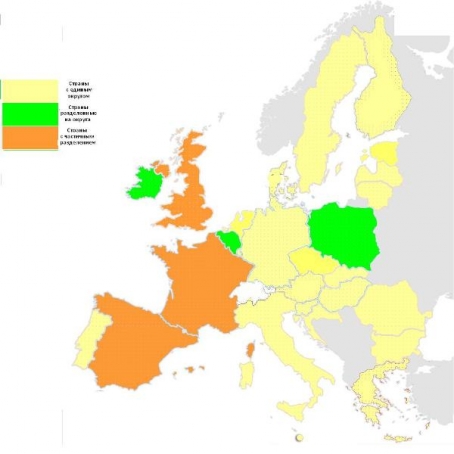
Как видно из Рис.1 лишь 3 страны ЕС из 28 полностью разделяют страну по региональному признаку на выборах в ЕП. Это тем более странно, что национальные выборы практически все страны проводят по регионам и округам. Очевидно, что отказ от представительства регионов связан со стремлением к сверхцентрализации. А стремление к сверхцентрализации связано с желанием крупнейших партий «контролировать как можно больше» и получить за счет этого большее количество мест в ЕП.
В результате получается следующее:
- регионы представлены совершенно непропорционально. Если большинству европейских стран (особенно это относится к новой Европе) во внутренней политике удалось победить засилье столиц, то на общеевропейском уровне оно продолжает доминировать. В результате ЕП в большой степени выглядит как Парламент «европейских столиц».
- часть регионов вообще не представлена. Дело доходит до курьезов. Балеарская региональная партия MES (находящаяся в региональном парламенте) посчитала, что при любом оптимистичном (15–20%) результате выборов, она все равно не сможет претендовать на депутатский мандат и…снялась с выборов, предложив всем своим сторонникам голосовать за «любую другую региональную партию».
С этническими меньшинствами все еще хуже. Во-первых, ЕС так и не может определить единый подход к статусу, что позволило бы считать меньшинствами всех тех, кто сам себя к ним относит. Посему, в различных странах (в большей степени это относится к новой Европе) постоянно идет «дискуссия» о том, кого считать меньшинством, а кого нет. В результате силезцы в Польше, гагаузы в Болгарии, аромуны и меглены в Румынии, буньевцы и шокцы в Хорватии, жемайты в Литве, латгалы в Латвии, моравы в Чехии лишены статуса и в определенной мере оказываются ущемленными с точки зрения прав. Во-вторых, Евросоюз никак не может выработать позицию по тем автохтонным меньшинствам, которые в силу различных обстоятельств, в недостаточной мере «социализованы». В первую очередь это относится к ромам и саами. В настоящий момент в ЕП нет ни одного представителя ромов (за последние 15 лет было двое представителей – оба от Венгрии), и скорее всего в новом составе ЕП тоже никого не будет. Саамов нет не только в ЕП, но и в парламенте Швеции (впервые представитель народа саами избран в парламент Финляндии). Это называется дискриминация по этническому признаку.
Недавние драматические антиромские проявления в Европе и являются следствием подобной дискриминации. Отсутствие представительства в органах власти не позволяет разделить ответственность с избранными представителями этноса. Дальше все по известной формуле. Нет диалога – есть проблемы.
Рис. 2. Вероятная представленность этнических меньшинств в ЕП по итогам выборов.
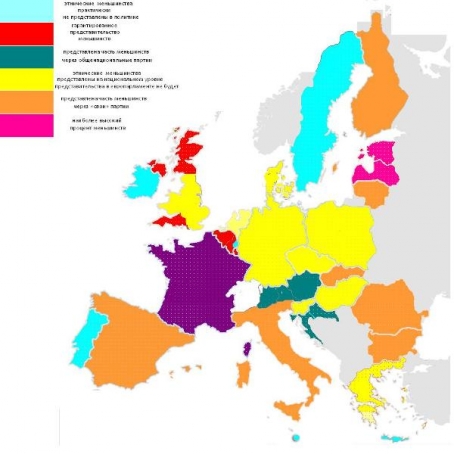
При этом, как видно на рис.2, среди стран ЕС практически нет таких, где автохтонные меньшинства не были бы представлены на различных уровнях власти. И опять необходимо констатировать, что представительство неравномерное, несправедливое и лишено единого подхода к проблеме.
1. Европа не гарантирует представительство автохтонных меньшинств. Даже тех, кто признается в этом качестве в самих странах – членах ЕС. Странно, но факт. От демократической и продвинутой Испании в нынешнем составе ЕП вообще нет галисийцев, балеарцев, канарцев, валенсийцев. Об арагонцах даже и речь не идет.
2. Большие испанские меньшинства, конечно, могут постоять за «себя сами», но многие не в состоянии это сделать. Если для сербов, украинцев, белорусов, русских старообрядцев это плохо, но не страшно, то для многих подобная дискриминация «смертельна» – она просто ликвидирует горизонт возможностей.
3. Караимы, польско-литовские татары, реликтовые этносы Северной Италии – германоязычные (мокены, чимбры), ретороманцы (ладины, фриулы, нонезы, соланжи и т.д.), банатские болгары (католики), карашовены, лужицкие сорбы, фризы не будут представлены в ЕП и не имеют возможности быть избранными при нынешней формуле. Список практически бесконечный. Даже у польских кашубов, скорее всего, не будет представительства в ЕП. несмотря на очень хорошее представительство в польском Сейме и в Сеймике Поморского воеводства.
4. Диаспоры «титульных этносов» ЕС тоже представлены неравномерно и не очень справедливо. Если венгерские и немецкие меньшинства присутствуют очень солидно, то, например, польские, чешские, хорватские представлены слабо или их нет вообще. Все это неслучайно. В этом месте сходятся интересы европейской и национальных бюрократий. Которые (как всегда) хотят меньше «отдать» (тем более подозрительным меньшинствам) и больше «оставить себе».
В качестве иллюстрации классический пример того, как 11 заморских департаментов (включая Новую Каледонию и Таити) оказались объединены в один округ, где разыгрываются 3 мандата. Иначе как издевательством над здравым смыслом это назвать нельзя. Никак нельзя понять как территории, удаленные друг от друга на тысячи километров и не имеющие прямой связи, могут голосовать по общим партийным спискам. Но в сравнении в Объединенным королевством это еще хорошее решение. Британцы вообще отказывают в праве участвовать в выборах ЕП жителям Нормандских островов, острова Мэн. Уже не говоря о владениях в Америке и Океании. А вот Гибралтар в выборах участвует. Хотя и не является частью UK. Правда его приписали к одному из английских округов. Так что шансов на представительство у него не будет.
5. На рис.2 наиболее популярные цвета – желтый и оранжевый. Оранжевый относится к меньшинствам Испании, германской, венгерской диаспорам, полякам Литвы, шведам в Финляндии и туркам в Болгарии. В общем, немного, несмотря на то, что меньшинства есть практически в каждой стране.
Желтый цвет очень показателен. Если на национальном уровне с меньшинствами, так или иначе, приходится говорить, то на уровне ЕП их можно (а кому-то и нужно) игнорировать.
Все это еще раз способствует асимметричности, кособокости получившейся структуры. Из народного проекта получается бюрократический, значительному числу граждан безразличный. Отсюда и рост евроскептицизма. Если либеральные идеи не работают, или не доводятся до конца, то на их место приходят идеи более радикальные, изоляционистские, консервативные. Система становится менее устойчивой.
«Энтропия»
Рис 3. Динамика суммарного рейтинга (2009 -2014 гг.) двух крупнейших партий по каждой стране (основная партия власти + основная партия оппозиции).
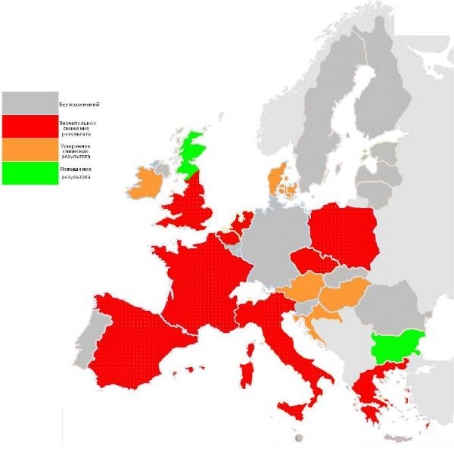
Еще никогда в Старой Европе не было так много «больших коалиций» как сейчас. Германия, Австрия, Италия, Греция. В Великобритании вообще первый коалиционный кабинет со времен Военного Правительства Уинстона Черчилля времен Второй мировой. Сейчас в Западной Европе осталось только два «одноцветных» правительства. Левое во Франции и правое в Испании. Во Франции рейтинг относительно недавно избранного президента и правящей партии в пределах 20%, что является антирекордом. В Испании у Народной партии рейтинг чуть выше, но и она проиграет любые выборы в национальный парламент. Все это же относится и к Великобритании с Грецией.
Это опять-таки не случайно. Еще никогда за последние годы европейский политический мейнстрим не был так непопулярен. А в подобной ситуации идеологические однородные правительства – это слишком большая роскошь.
На рис.3 хорошо видно, что красный цвет доминирует. В первую очередь, в крупных странах Старой Европы. Серый цвет преобладает в Северной Европе, где традиционно много партий, представленных в парламентах, а правительства и ранее никогда не были «одноцветными». Отсюда и относительная стабильность в рейтингах партий, хотя рейтинги самих правительств невысоки. На ближайших выборах в Швеции и Дании очень высока вероятность смены правящих коалиций.
Во Франции, Англии, Испании, Нидерландах все совсем необычно. Еще никогда рейтинги правящих партий не были здесь такими низкими.
Прогноз на 25 мая
По различным оценкам, «правящая» в Европе Народная партия потеряет на выборах 25 мая 20–25% мандатов, т.е. вместо 275 будет около 200. Таких «сдвигов» в электоральных настроениях европейцев не было с 1979 года, когда были проведены первые прямые выборы в ЕП.
При этом социалисты – главные «друзья – соперники» правоцентристов дополнительных мест не получат. Все «уйдет» евроскептикам, которые при желании могут сформировать третью по величине фракцию в ЕП, и новым, иногда даже несистемным, политическим формированиям. Борьба между кандидатом от «правых» Жан-Клодом Юнкером (экс-премьер Люксембурга) и «левых» Мартином Шульцем (действующий председатель ЕП) идет с преимуществом в несколько мандатов. Однако кто бы ни победил, ему необходимо будет создать очень широкую коалицию, чтобы обеспечить свое избрание на пост председателя Еврокомиссии, которое пройдет в ЕП.
По данным социологии, евроскептики побеждают на выборах во Франции и Англии. Польский ПиС (Право и Справедливость) Ярослава Качинского борется за первое место с правящей Гражданской Платформой премьер-министра Дональда Туска. Итальянские «Пять звезд» будут на выборах вторыми. Новый Фламандский Альянс побеждает на выборах во фламандской части Бельгии, а Народная партия Дании имеет шанс одержать первую серьезную победу в своей истории. Как сказал один итальянский политический аналитик, «осталось только найти и выбрать тех, кто выключит свет».
Это, конечно чрезмерный пессимизм. ЕС – новый политический проект, и будущее у него есть. Важно, однако, не допускать новых ошибок и идти вперед. В какой-то мере это означает и смелые решения, и переход к новым, более свободным формам.
Рис.4. Лидеры электоральных предпочтений на выборах ЕП по странам
(в некоторых случаях отмечены 2 лидера).
Что будет после выборов, пока непонятно. Это будет зависеть от того, насколько прогнозы превратятся в голоса, проценты и депутатские мандаты.
На рис.4. обращает на себя внимание отсутствие «общей картины». За исключением роста рейтинга у «евроскептиков», все остальные предпочтения в определенной мере случайны, и зависят от ситуации в каждой отдельной стране.
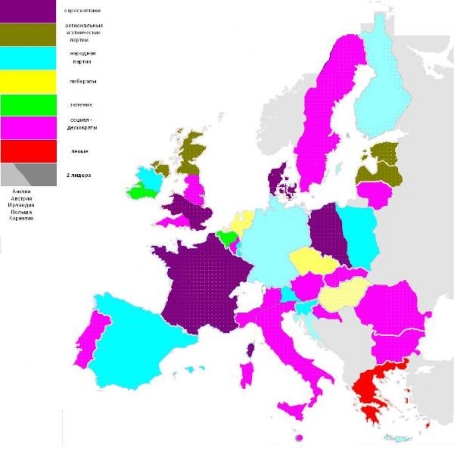
Пока в Германии, ключевой стране ЕС, есть определенная стабильность, «выключать свет не придется». Но тенденция налицо, и еще какое-то время европессимизм будет преобладать.
Германии сейчас придется очень сложно. Придется менять взгляды, приоритеты, в чем-то жертвовать интересами. Очень важен образ будущего. Поэтому, недавнее высказывание министра иностранных дел Германии Штайнмайера о том, что «ЕС – это ответ Европы на две мировые войны», с политической точки зрения является ошибочным. Разумеется, то, что было в прошлом очень важно, но для Евросоюза гораздо важнее, что будет в будущем. А, значит, исторические реминисценции здесь не при чем.
Европейскому союзу необходима «новая перспектива». Только с помощью слов, создать ее удастся. Возможно, как раз 25 мая, придет время действий.

Грядущий бум в Арктике
По мере таяния льдов она становится все более доступной и оживленной
Резюме: Благодаря качественному государственному управлению и благоприятному географическому положению такие города, как Анкоридж и Рейкъявик, в недалеком будущем могут стать крупнейшими перевалочными пунктами и финансовыми столицами – эквивалентом Сингапура и Дубая в северных широтах.
Никто не ожидал, что льды начнут таять так быстро. Хотя ученым-климатологам давно известно, что глобальное потепление приводит к сокращению площади ледового покрытия в Северном Ледовитом океане, немногие из них предвидели столь стремительное его сокращение. В 2007 г. Межправительственная комиссия по изменению климата сообщила, что, по ее оценкам, начиная с 2070 г. в летний период воды Арктики будут полностью освобождаться ото льда. Однако последние наблюдения со спутников приблизили дату, и таяние всего льда ожидается уже летом 2035 года. Еще более изощренные программы моделирования вынудили ученых вновь изменить прогноз и объявить, что летнее солнце растопит Арктику уже в 2020 году.
В конце прошлого лета площадь Северного Ледовитого океана, затянутая льдами, сократилась до наименьшего размера с 1979 г., когда начались наблюдения. По сравнению с предыдущим летом ледяное покрытие уменьшилось на 350 тыс. квадратных миль, что равноценно территории Венесуэлы. Всего за три десятилетия площадь льдов Северного Ледовитого океана уменьшилась вдвое, а их общая масса сократилась на три четверти.
Теплеет не только океан. В 2012 г. в Гренландии было зафиксировано самое теплое лето за 170 лет, и льда там растаяло в четыре с лишним раза больше, чем в среднем за год на протяжении трех предыдущих десятилетий. В том же году в восьми из десяти точек северной Аляски, где установлены станции слежения за вечной мерзлотой, зарегистрированы рекордные температуры, а в двух других местах повторен температурный рекорд. На хоккейных площадках в Северной Канаде даже начали устанавливать холодильные системы, чтобы не допустить таяния льда.
Неудивительно, что эти изменения ввергают хрупкие экосистемы региона в хаос. В то время как десятки тысяч моржей, лишенных дрейфующих льдин, выходят на берег северо-западной Аляски, субарктическая флора и фауна мигрируют на север. Промерзшая тундра становится болотистой местностью, какой она была 50 млн лет назад, а ураганы, зарождающиеся над вновь образовавшимися водами, размывают береговую линию, лишая тысячи семей коренных жителей домов, которые сползают в морскую пучину.
Какие бы рецепты борьбы с глобальным потеплением ни предлагались, факт остается фактом: оно действительно имеет место. Однако не все так плохо. То, что когда-то было непроходимыми арктическими льдами, окруженными пустынной территорией вечной мерзлоты, постепенно превращается в эпицентр промышленности и торговли наподобие Средиземного моря. Тающие льды и потепление прибрежных районов открывают доступ к богатым залежам полезных ископаемых, включая почти четверть всех имеющихся в мире запасов нефти и газа и гигантские месторождения ценных металлов и минералов. Летние морские пути через Арктику позволяют сократить на тысячи километров расстояния между Тихим и Атлантическим океанами. Региону предстоит стать главной трассой для мирового торгового флота, подобно тому как он уже превратился в один из магистральных воздушных коридоров для гражданской авиации.
Одна из причин, почему Арктика выглядит столь многообещающе, – относительно крепкие в финансовом отношении страны, расположенные на берегах северных морей. Кроме того, за исключением России, в этих государствах действуют предсказуемые законы, облегчающие предпринимательскую деятельность, и исповедуются демократические ценности, способствующие мирным отношениям между соседними государствами. По мере открытия данного региона для мировой экономики страны Арктики прилагают удивительно согласованные усилия для налаживания сотрудничества, избегая противостояния, мирно решая старые пограничные споры и признавая первенство международного права в выстраивании межгосударственных отношений. Благодаря качественному государственному управлению и благоприятному географическому положению такие города, как Анкоридж и Рейкъявик, в недалеком будущем могут стать крупнейшими перевалочными пунктами и финансовыми столицами – эквивалентом Сингапура и Дубая в северных широтах.
Хотя потепление в Арктике – свершившийся факт, это, конечно, не должно стать предлогом для бездумного и безответственного расхищения тамошних богатств. Арктические ресурсы, если их разрабатывать с умом, принесут колоссальную выгоду местным жителям и экономике арктических государств. Вот почему им следует продолжать сотрудничество, вместе разрабатывая планы устойчивого развития. По этой же причине Соединенные Штаты должны объявить данный регион приоритетом своей экономической и внешней политики, так же как это сделано в отношении Китая. Нравится это кому-то или нет, но Арктика открыта для бизнеса, и у правительств разных стран, а также у инвесторов имеются веские причины подключиться к процессу в самом начале.
Много шума из ничего
Всего пять лет тому назад борьба за Арктику могла привести к совершенно иным последствиям. В 2007 г. Россия установила свой флаг на морском дне в районе Северного полюса, и в последующие годы другие государства использовали все средства для достижения своих целей, наращивая военно-морские патрули и выдвигая далекоидущие претензии на суверенитет над разными северными территориями. Многие обозреватели, включая и меня, предсказывали, что погоня за полезными ископаемыми неизбежно приведет к конфликту, если не появится всеобъемлющий свод правил. «Арктические державы быстро приближаются к дипломатическому тупику, – писал я на страницах этого журнала в 2008 г., – и это может в конечном итоге привести их к балансированию на грани войны».
Но по пути к анархии в Арктике произошло нечто примечательное. Вместо ужесточения позиций арктические страны, напуганные возможным ростом напряженности, постарались мирно уладить разногласия. Общая заинтересованность в получении прибыли подавила инстинкт борьбы за территорию.
Посрамив пессимистов, страны Арктики прекратили бряцание оружием и наладили впечатляющее сотрудничество в разных областях. Они использовали Конвенцию ООН по морскому праву (1982) в качестве юридической базы для урегулирования пограничных споров на море и принятия стандартов безопасности в области торгового судоходства, даже несмотря на то что США так и не ратифицировали этот документ. И в 2008 г. пять стран, имеющих выход к Северному Ледовитому океану, – Канада, Дания, Норвегия, Россия и Соединенные Штаты – выпустили Илулиссатскую декларацию, в которой обязались урегулировать проблемы мирным путем, а также заявили о поддержке Конвенции ООН и Арктического совета – двух международных институтов, чрезвычайно важных для данного региона.
Арктические державы сдержали данное обещание. В 2010 г. Россия и Норвегия разрешили давние разногласия по поводу морской границы вблизи архипелага Шпицберген, а Канада и Дания в настоящее время изучают предложение о разделе необитаемого скалистого острова Ханс (Hans), принадлежность которого оспаривалась на протяжении нескольких десятилетий. В 2011 г. страны Арктики подписали Соглашение о поисково-спасательных работах под эгидой Арктического совета. В апреле нынешнего года началась работа над соглашением, регулирующим коммерческий промысел рыбы, а летом разработан окончательный вариант договоренностей по совместному реагированию на разливы нефти. Некоторые страны Арктики даже делятся друг с другом ледоколами для картографирования морского дна, поскольку это часть процесса по демаркации континентальных шельфов. Конечно, остаются нерешенные вопросы – например, Оттаве и Вашингтону предстоит договориться о статусе Северо-Западного прохода: следует ли считать его нейтральными водами или внутренними водами Канады и где именно пролегает граница в море Бофорта. Но самые болезненные разногласия улажены. Оставшиеся спорными участки и территории расположены далеко от берега, и их можно считать наименее привлекательными с экономической точки зрения частями Арктики.
Это сотрудничество не потребовало разработки нового и всеобъемлющего международного законодательства. Арктические государства ограничились двусторонними и многосторонними договоренностями, принятыми в рамках Арктического совета и Конвенции ООН по морскому праву. Добившись подписания временных, но устойчивых соглашений, арктические державы создали предпосылки для долговременного бума в Арктике.
Кладовая несметных богатств
Большинство картографических описаний не отражают огромных размеров Арктики. Аляска, которая на картах США обычно изображается рядом с побережьем Калифорнии в виде вынесенного прямоугольника суши, на самом деле в два с половиной раза больше, чем штат Техас, а ее береговая линия протяженнее, чем у всех расположенных южнее 48 штатов вместе взятых. Гренландия больше по размерам, чем вся Западная Европа. Площадь внутри Полярного круга составляет 8% поверхности Земли и 15% поверхности всей суши.
На этой территории сосредоточены огромные запасы нефти и газа – главная причина, по которой регион чрезвычайно перспективен в экономическом плане. Расположенные преимущественно в Западной Сибири и Прудо-Бей на Аляске, арктические месторождения обеспечивают 10,5% мировой добычи нефти и 25,5% мировой добычи газа. И вскоре эти цифры могут стремительно вырасти. Согласно начальным оценкам Геологической службы Соединенных Штатов, в Арктике может находиться 22% неоткрытых залежей нефти и газа. Эти богатства теперь стали гораздо доступнее и привлекательнее благодаря отступлению льда, удлинению летнего сезона бурения и новым технологиям разведки. Частные компании уже начали действовать. Несмотря на высокую себестоимость добычи и законодательные барьеры, Shell вложила 5 млрд долларов в разведку нефти в Чукотском море на Аляске, а шотландская компания Cairn Energy инвестировала миллиард в бурение разведочных скважин вблизи побережья Гренландии. «Газпром» и «Роснефть» планируют многомиллиардные инвестиции для разработки месторождений в российской части Арктики, где эти государственные компании работают в партнерстве с ConocoPhillips, ExxonMobil, Eni и Statoil с целью извлечения удаленных запасов. Бум, связанный с технологией гидроразрыва пластов, может в конечном итоге привести к снижению цен на нефть, но неизменным остается тот факт, что запасы в традиционных месторождениях Арктики исчисляются десятками миллиардов баррелей, что позволяет рассчитывать на рост предложения на мировом рынке. Более того, сланцевый бум добрался уже и до Крайнего Севера. На севере Аляски началась разведка нефти путем гидроразрыва, а весной этого года Shell и «Газпром» заключили важную сделку по разработке сланцевой нефти в российской части Арктики.
Имеются и другие полезные ископаемые. Более продолжительный летний период дает дополнительное время для геологической разведки, а отступающий лед позволяет создать новые глубоководные порты для экспорта полезных ископаемых. В Арктике расположены самые высокопроизводительные месторождения в мире – цинка (Red Dog на севере Аляски) и никеля близ Норильска.
В основном благодаря России в арктическом регионе добывается 40% мирового палладия, 20% алмазов, 15% платины, 11% кобальта, 10% никеля, 9% вольфрама и 8% цинка. На Аляске имеется свыше 150 перспективных месторождений редкоземельных металлов, и если бы штат был независимым государством, то оказался бы в первой десятке по запасам многих ценных металлов и минералов. И это лишь стартовые возможности, ведь в изучении Арктики делаются первые шаги. Есть веские основания предполагать (так часто бывает), что с началом разработки месторождений будут найдены новые богатства.
Грядущий арктический бум – это не только бурение скважин и добыча полезных ископаемых. Хвойные таежные леса региона – 8% мировых запасов древесины, а северные воды способны обеспечить 10% мирового рыбного промысла. С помощью переоборудованных танкеров можно доставлять питьевую воду из ледников на Аляске в Южную Азию и Африку.
Само по себе уникальное географическое положение Арктики – ценный актив. Если смотреть на вершину глобуса, данный регион связывает между собой наиболее успешные экономики мира. «Исландские авиалинии» уже осуществляют рейсы между Рейкъявиком, Анкориджем и Санкт-Петербургом через Северный полюс. По дну Северного Ледовитого океана планируется проложить телекоммуникационные кабели для связи между Северо-Восточной Азией, северо-востоком США и Европой. Высокие арктические широты – подходящее место для расширения имеющихся наземных станций, принимающих сигналы спутников на полярных орбитах. Мощные приливы, которыми славится Арктика, создают впечатляющий потенциал для гидроэнергетики, а ее геологические особенности скрывают колоссальные возможности получения геотермальной энергии. Это хорошо видно на примере алюминиевой промышленности Исландии, где заводы работают на геотермальных источниках.
Низкие температуры делают Арктику привлекательным местом для создания центров хранения данных наподобие того, который компания Facebook строит на севере Швеции. А под сводами хранилища, устроенного в прохладных скалах Шпицбергена, хранятся сотни тысяч семян растений.
По мере таяния льдов реальностью становятся короткие судоходные пути, о которых когда-то можно было только мечтать. Северо-Западный проход, пролегающий через Канадский архипелаг, пока затянут льдами. Но в 2010 г. впервые за всю историю мореплаваний четыре торговых судна переплыли из Северо-Западной Европы в Северо-Восточную Азию по Северному морскому пути, проходящему через Северный Ледовитый океан над Евразией. В 2011 г. число таких судов достигло 34, а во время прошлогоднего арктического лета этот путь проделало 46 торговых судов.
Хотя пройдет еще немало времени, прежде чем Северный морской путь (СМП) сможет стать одной из главных судоходных артерий мира наряду с Суэцким и Панамским каналами, он перестал быть лишь фантазией или мечтой мореплавателей. СМП становится все более актуальным и жизнеспособным морским путем для танкеров, которые не прочь «срезать» тысячи морских миль, отказавшись от традиционных путей через Малаккский и Гибралтарский проливы.
Открывается и новый экспортный канал для сбыта продукции сельхозугодий, образовавшихся благодаря потеплению, и продукции шахт, появляющихся вдоль северного побережья России, где некоторые из крупнейших рек страны впадают в Северный Ледовитый океан. Признавая перспективность новых морских путей, Министерство транспорта РФ создало Управление Северного морского пути, которое выдает разрешения на судоходство, следит за погодными условиями в северной акватории и устанавливает новое навигационное оборудование вдоль всего пути. По мере того как лед продолжает таять, открывается коридор через Северный полюс в обход российского побережья.
Финансовая состоятельность
Конечно, для экономической жизнеспособности региона одних полезных ископаемых и благоприятного географического положения недостаточно – посмотрите на Ближний Восток. Но в Арктике имеются и другие благоприятные факторы.
Во-первых, большинство стран, территория которых выходит за Полярный круг, имеют крепкую экономику и устойчивую финансовую систему. Соотношение государственного долга к ВВП у таких государств, как Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция ниже 54%, а у России – менее 12%. Хотя долг США составляет 75% от ВВП, от высоких процентных ставок страну ограждает то, что американский доллар остается главной резервной валютой мира. Что же касается арктического штата Аляска, то у него большой профицит бюджета, а агентствоStandard & Poor's присвоило ему самый высокий кредитный рейтинг ААА. Еще выше соотношение долга и ВВП у Канады – 84%. В то же время она демонстрирует завидную стабильность. Банковская система Канады пятый год подряд оценивается Всемирным экономическим форумом как самая здоровая в мире. Исландия все еще борется с последствиями краха финансовой системы в 2008 г., но экономика восстанавливается рекордными темпами. В 2012 г. ВВП вырос на 2,7%, а безработица сократилась до 5,6%. В целом хорошее финансовое самочувствие арктических стран означает, что этот регион привлекателен для вложения частного капитала, особенно в сравнении с другими державами, богатыми природными ресурсами.
Несколько государств Арктики имеют большие фонды национального благосостояния, которые пополняются за счет экспортных пошлин на нефть и газ. Они могут использовать эти средства на осуществление важных инфраструктурных проектов для стимулирования дальнейшего развития. Норвегия занимает первое место в мире по размеру фонда национального благосостояния, который превышает 700 млрд долларов. В российском фонде национального благосостояния на сегодняшний день около 175 млрд долларов. Постоянный фонд Аляски оценивается в 45 млрд долл., что позволяет штату не взимать подоходный налог со своих жителей. Более того, каждый живущий на Аляске получает ежегодные дивиденды от продажи полезных ископаемых. Если правительства арктических государств будут мыслить стратегически, с помощью таких резервов можно было бы финансировать создание транспортно-энергетического скелета, на котором арктическая экономика могла бы быстро наращивать «мышечную массу», становясь все более зрелой.
За исключением России, во всех арктических странах также действует вполне предсказуемая судебно-правовая система и имеется четкое и ясно прописанное законодательство, что способствует притоку инвестиций. Соединенные Штаты, Дания, Норвегия, Исландия, Финляндия, Швеция и Канада входят в двадцатку стран, наиболее благоприятных для ведения бизнеса по версии Всемирного банка. Благодаря юридической и судебно-правовой определенности, которую обеспечивают качественные государственные институты, они не испытывают проблем с привлечением иностранного капитала. Инвесторы могут быть абсолютно уверены в том, что в отличие от других сырьевых экономик и государств, богатых природными ресурсами, североамериканские и скандинавские правительства не национализируют частные активы, не потребуют «откатов» и не допустят судебного произвола.
Охота за арктическим богатством
Ни один регион, настолько богатый ресурсами – как природными, так и созданными руками человека, – не может долго оставаться вне поля зрения Китая. Как будто по сигналу, Пекин начал целенаправленно совершать «набеги» на Арктику – особенно его интересует Исландия и ее наполовину независимый сосед Гренландия. При этом Китай преследует далекоидущие геополитические цели. В мае Арктический совет предоставил Китаю статус наблюдателя наряду с Индией, Италией, Японией, Сингапуром и Южной Кореей.
Пекин рассматривает Исландию как своего рода стратегические ворота в регион. Именно поэтому премьер-министр Вэнь Цзябао в прошлом году посетил эту страну с официальным визитом (направившись прежде в Копенгаген для обсуждения проектов в Гренландии). Государственное пароходство Китая изучает возможность долгосрочной аренды доков в Рейкъявике, а китайский миллиардер Хуан Нубо много лет пытается освоить участок земли на севере острова площадью 100 кв. миль. В апреле Исландия подписала с Китаем договор о свободной торговле, став первой европейской страной, заключившей с Пекином подобное соглашение. В то время как Соединенные Штаты закрыли свою военную базу времен холодной войны в Исландии в 2006 г., Китай расширяет там свое присутствие и строит самое большое посольство, постоянно направляя предпринимателей. В августе прошлого года в Рейкъявике официально пришвартовался ледокол «Сюэлун», или «Снежный дракон». Главная привлекательность Гренландии – ее недра. Помимо железной руды и нефти на острове обнаружены большие залежи редкоземельных металлов, а Китай как раз доминирует на мировом редкоземельном рынке. В Гренландии менее 60 тыс. жителей, но на остров зачастили делегации из Азии. В сентябре прошлого года тогдашний президент Южной Кореи Ли Мён Бак присутствовал при подписании соглашения между южнокорейской государственной горнодобывающей компанией и аналогичной компанией Гренландии. До него на острове побывал тогдашний министр земли и природных ресурсов Китая Сюй Шаоши, который также подписал соглашения о сотрудничестве.
До сих пор эти совместные предприятия договаривались об объединении усилий для разведки недр, но очень скоро на их базе могут вызреть мегапроекты, цель которых – поставки ценного сырья на жадные до ресурсов азиатские рынки. С тех пор как в 1979 г. Дания предоставила Гренландии право иметь собственную законодательную власть, провинция движется в направлении полной независимости и в 2009 г. взяла под контроль судебно-правовую систему и природные ресурсы. Местное правительство использовало эту свободу для установления торговых отношений с Китаем, Южной Кореей и другими странами. При сохранении нынешних темпов иностранных инвестиций в экономику острова доходы местного бюджета могут в один прекрасный день полностью заместить субсидию в 600 млн долл., которую Гренландия ежегодно получает от Копенгагена. Это позволит с полным правом требовать политической независимости. Избиратели, проживающие на острове, фактически проголосовали за независимость в марте, когда партия социал-демократов «Сиумут» («Вперед») получила большинство в парламенте. В то время как микроскопические экваториальные государства могут вскоре исчезнуть в поднимающихся водах Мирового океана, Гренландия имеет все шансы стать первой страной, порожденной изменением климата на планете.
Тем временем государства Арктики инвестируют в свои «ледовитые» окраины. Россия показала пример, приняв под энергичным президентским руководством ряд государственных программ, предусматривающих наращивание капиталовложений в инфраструктуру северного побережья. В Канаде правительства территории Юкон, Северо-Западных территорий, Нунавута и Квебека создали управления по развитию для привлечения инвестиций. В мае, когда Канада приняла председательство в Арктическом совете, она назначила старшим официальным представителем по Арктике главу Агентства по экономическому развитию северных территорий, наказав ему управлять политикой Арктического совета в интересах «развития народов Севера». На протяжении нескольких лет норвежские и российские компании создают совместные предприятия для разработки нефтегазовых месторождений в Баренцевом море. Аляска также пытается стимулировать экономический рост, снижая нефтегазовые налоги и продавая больше лицензий на участки, находящиеся в государственной собственности.
Однако Джуно (столице Аляски) приходится бороться с обструкционизмом федерального правительства, которое держит федеральные земли на замке и вынуждает старателей и разработчиков недр проходить обременительный процесс получения разрешений и терпеть постоянную неопределенность на законодательном поле. В данный момент власти Аляски предпочли бы просто убрать с дороги непокладистых федеральных чиновников.
Нежелание Вашингтона способствовать развитию северных территорий отражает его в целом пассивную политику в Арктике. В то время как остальной мир уже осознал растущее значение региона, Соединенные Штаты до сих пор не пробудились, оставляя это игровое поле более конкурентоспособным и целеустремленным соперникам.
Арктическое пробуждение
Но пока еще не поздно сыграть в «догонялки». Первый и наиболее очевидный шаг для США – присоединение к 164 странам, ратифицировавшим Конвенцию ООН по морскому праву. Ирония в том, что Вашингтон участвовал в составлении первоначального текста договора, но республиканцы в Сенате, выдвинув сбивающие с толку аргументы о мнимой угрозе, которую данный договор представляет для суверенитета Соединенных Штатов, ухитрились заблокировать его ратификацию на несколько десятилетий. В итоге нанесен ущерб национальным интересам США.
Конвенция ООН позволяет странам претендовать на исключительную юрисдикцию над теми частями континентального шельфа, длина которых превышает 200 морских миль, прописанных в договоре как зона исключительных экономических интересов той или иной страны. Это означает, что Соединенные Штаты приобрели бы специальные права на дополнительные 350 тыс. квадратных миль акватории океана, что составляет примерно половину площади штата Луизиана. Но поскольку страна не ратифицировала Конвенцию ООН, ее притязания на обширный континентальный шельф в Чукотском море, в море Бофорта и других местах не будут признаны другими государствами. Отсутствие четко оговоренных юридических прав собственности на эти площади не дает возможности частным компаниям начать разведку месторождений нефти и газа или бурение на морском дне. Отказ ратифицировать Конвенцию ООН по морскому праву также отодвинул Вашингтон на задний план в обсуждении и установлении правил поведения в Арктике.
В условиях наращивания судоходства через Берингов пролив у США нет инструмента влияния на законодательство, регламентирующее морские маршруты, а также защищающее рыболовные промыслы и хрупкую среду обитания. В договоре также закрепляется международный правовой принцип свободы мореплавания, на который опираются американские ВМС для проецирования силы в глобальном масштабе.
Неудивительно, что все, начиная с руководителя Торговой палаты Соединенных Штатов и президента Совета по природным ресурсам и кончая председателем Комитета начальников штабов (а также всеми ныне здравствующими бывшими государственными секретарями) доказывают целесообразность ратификации Конвенции ООН. Сенату давно пора последовать их совету. Скептически настроенные республиканцы мешают ратификации этого документа, утверждая, что он ограничит суверенитет США. Но это лишь отвлекающий маневр и пустые разговоры, поскольку Соединенные Штаты в любом случае выполняют все его положения, а фактическая ратификация даст новые права и увеличит влияние. Если бы президент решил сделать ратификацию политическим приоритетом, умеренные республиканцы, скорее всего, отдали бы голоса за этот международный договор, и он был бы принят.
Вашингтону нужно продолжить выработку последовательной политики в Арктике, как это сделали другие страны. В мае этого года Белый дом опубликовал Государственную стратегию в Арктическом регионе. Этот документ стал многообещающим началом, поскольку расширяет и во многом конкретизирует худосочную Президентскую директиву по национальной безопасности, которую издала администрация Джорджа Буша-младшего. Следует отдать должное администрации Обамы, которая разработала соответствующую стратегию и протянула руку помощи правительству Аляски и особенно коренным народам Севера, чей голос и опыт критически важны.
Но Соединенные Штаты с опозданием включаются в игру, и им предстоит проделать немалую работу, обдумывая государственный подход к освоению Арктики и расширяя возможности для проецирования силы здесь. Для начала США должны увеличить присутствие. Это потребует строительства ледоколов, поскольку ни один из ныне действующих кораблей ВМС не имеет достаточной мощи, чтобы преодолевать просторы Северного Ледовитого океана. И в этой области Соединенные Штаты также заметно отстают от соседей по Арктике: у России 30 ледоколов, некоторые из которых работают на атомной энергии, а у Канады их 13. Даже у Южной Кореи и Китая, которые не имеют выхода к Северному Ледовитому океану, есть новые ледоколы. У береговой охраны США лишь три таких корабля: один уже вышел из строя, другой спущен на воду в 1976 г. и доживает последние дни. Наконец, третий – это, скорее, плавучая научная лаборатория, чем боевой корабль.
Но даже если бы Конгресс выделил средства на строительство ледоколов, Закон о торговом флоте 1920 г. (известный также как Акт Джоунса) требует, чтобы корабли, курсирующие между американскими портами, строились в Соединенных Штатах. По оценкам Береговой охраны, отживающие век американские судоверфи будут строить новый ледокол не менее 10 лет. К тому времени лед в Арктике может полностью растаять и исчезнуть в летний период. Конгрессу США следует отменить действие протекционистского закона, чтобы дать возможность Береговой охране и ВМС закупить необходимые им корабли за рубежом или взять в аренду американские ледоколы, построенные частным бизнесом, заплатив лишь малую толику их общей стоимости.
У Соединенных Штатов нет глубоководных портов в Арктике и аэродромов для военной авиации. Отсутствует всеобъемлющая сеть мониторинга арктического судоходства, что необходимо в Беринговом проливе – узком 55-мильном горлышке между Тихим и Северным Ледовитым океаном. Федеральному правительству следует опираться на реальный прогресс штата Аляска, который самостоятельно и весьма успешно решает все эти проблемы в последние несколько лет.
Вашингтону не нужно вкладывать такие же огромные деньги, которые были в свое время потрачены на строительство каналов, мостов, плотин и дорог, открывших американский Запад, даже минимальные инвестиции позволят успешно конкурировать в Арктике.
Наконец, пора вдохнуть новую жизнь в арктическую дипломатию. Идя по стопам других стран региона (а также Японии и Сингапура), США должны назначить высокопоставленного дипломата послом в Арктике, чтобы он(а) представлял(а) интересы Соединенных Штатов на таких форумах, как Арктический совет.
Отправляя на совещания младших дипломатов, в то время как другие страны представлены там министрами иностранных дел, Вашингтон дает ясно понять, что регион его не слишком интересует. В мае госсекретарь Джон Керри посетил сессию Арктического совета, как это сделала до него Хиллари Клинтон, и эта практика должна продолжаться. Чтобы напомнить американцам, что они живут в арктическом государстве, президенту Бараку Обаме следует упомянуть о проблемах Арктики в обращении к Конгрессу. Именно это проделали канадский премьер-министр Стивен Харпер и президент России Владимир Путин, выступая перед своими законодательными собраниями.
Более активное участие в делах Арктики могло бы улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой. По договору 1867 г. о продаже Российской империей Аляски Соединенным Штатам две страны «желали по возможности укреплять существующее между ними доброе взаимопонимание», и тогдашний государственный секретарь Уильям Сьюард надеялся, что продажа Аляски как раз и будет этому содействовать. Тем не менее США и России не удавалось наладить добрососедские отношения многие десятилетия после этого. Но сегодня Арктика могла бы стать тем источником и поводом для сотрудничества, о котором мечтал Сьюард. В Беринговом море у двух стран общие задачи и цели; открывается простор для сотрудничества в таких областях, как охрана правопорядка на море и недопущение несанкционированного рыбного промысла иностранными рыболовецкими траулерами, совместное реагирование на разлив нефти в море и совместная установка навигационного оборудования.
Новое развитие
Изменение климата превращает Арктику из геополитически вторичного региона в сказочно щедрый подарок предпринимателям нашего века. Странам следует и дальше сохранять приверженность мирным взаимоотношениям в Арктике, которых они до сих пор придерживались. Но политикам нужно серьезно подумать об общем видении использования богатейших ресурсов Арктики. Экономическое развитие не должно быть синонимом экологической катастрофы. На самом деле открытие Арктики – это уникальный шанс развивать устойчивую экономику приграничного взаимодействия.
Чтобы подобный подход к освоению арктических богатств стал нормой, странам Арктики необходимо найти правильный баланс между защитой окружающей среды и эксплуатацией природных ресурсов. Один из способов объединить капитализм с ценностями природоохраны – это начать воспринимать природу как своего рода капитал, а также включать расходы на сохранение и защиту окружающей среды в стратегии развития. Это уже сделано в программах управления рыбными промыслами путем распределения квот на вылов рыбы и в программах защиты лесов путем выпуска ценных бумаг, котирующихся на бирже.
Чтобы такая тактика работала в Арктике, нужно обеспечить полноценную отчетность по имеющимся ресурсам. Вот почему правительствам, негосударственным и общественным организациям арктических стран так важно провести всеобъемлющую перепись природных богатств и биологического разнообразия региона. При наличии качественных научно обоснованных ориентиров правительства могут принимать более взвешенные решения, уравновешивая риски для хрупкой среды обитания другими задачами в области экономики и национальной безопасности. Цель заключается в нахождении золотой середины между активистами движения в защиту природы и окружающей среды, которые хотят немедленно превратить Арктику в природный заповедник, и промышленниками, жаждущими бурить как можно больше скважин и нещадно эксплуатировать ценные и невосполнимые природные ресурсы.
В Аляске это означает, что каждый нефтегазовый проект следует рассматривать индивидуально и использовать прибыль от добычи нефти и газа для создания более диверсифицированной экономики. В противном случае штат рискует стать еще одной нефтяной колонией или сырьевым придатком со всеми вытекающими негативными последствиями для местного населения. Аляске следует инвестировать богатство в систему высшего образования, смелые инфраструктурные проекты, а также проводить политику привлечения талантливых иммигрантов, которых нужно воодушевлять на создание новых предприятий – например, в сфере возобновляемых источников энергии. Образцом для подражания может служить Норвегия, которая воспользовалась неожиданно высокими нефтяными доходами для финансирования прогрессивного государства и чтобы дать толчок индустрии возобновляемых источников энергии. Подобный подход полностью соответствует Конституции штата Аляска, в которой сказано, что Аляска должна «поощрять заселение своих земель и разработку недр таким образом, чтобы использование природных ресурсов отвечало общественным интересам и общему благу».
Арктика предоставляет исключительные возможности для того, чтобы переписать правила игры в развитии приграничного экономического освоения. Но этим следует вплотную заняться именно сейчас, пока очередной разлив нефти из глубоководной скважины не загрязнит Арктику и не снизит ее привлекательность. В связи с тем, что повышение температуры происходит быстрее, чем прогнозировалось, вопрос не в том, растает ли лед окончательно или нет, а в том, когда именно это произойдет и регион будет открыт для всестороннего освоения. Если правильно управлять процессом разработки арктических недр, Арктика могла бы одновременно стать тщательно охраняемой средой обитания и локомотивом экономического роста. Это сулит колоссальную выгоду как коренным жителям, так и пришельцам.
Скотт Борджерсон – управляющий директор CargoMetrics и один из основателей некоммерческой организации «Полярный круг».
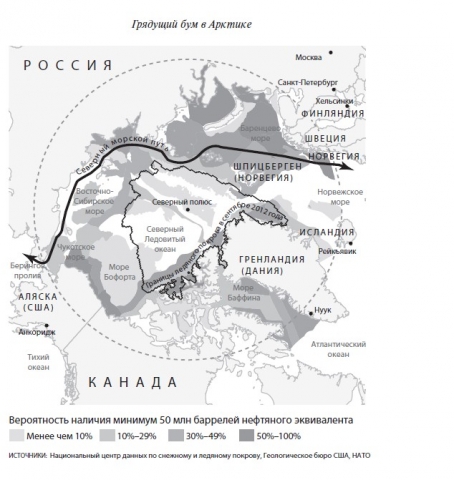

Новая судоходная Арктика
Крайний Север и геополитика в XXI веке
Кейтлин Антрим – исполнительный директор Комитета за правовое регулирование океанов.
Резюме Открытие в XXI веке доступа к Арктике превратит Россию, грозную сухопутную державу Маккиндера и Спайкмена, в одну из первоклассных морских держав. «Морская» Россия сможет стать частью системы сотрудничества и партнерства с другими океанскими странами, что позволит сохранить Арктику как регион мира.
Расширенная версия статьи на эту тему опубликована в ежеквартальном журнале Naval War College Review, т. 63, № 3 (лето 2010 г.).
Когда летом 2007 г. на дне Северного Ледовитого океана был установлен российский флаг, увенчавший Северный плюс, а ледовый покров уменьшился до рекордного уровня за всю историю наблюдений, западные СМИ запестрели громкими заголовками. Статьи под названием «Таяние арктических льдов», «Новая холодная война» и «Захват Арктики» были сфокусированы на действиях России и подпитывали на Западе дух соперничества, ощущение конфликта и кризиса. Претензии России на арктическое дно и контроль над новыми морскими путями интерпретировались в устаревших геополитических терминах XX века, усиливая ощущение конфликта.
Эти публикации возымели эффект, поскольку строились на геополитических стереотипах более чем столетней давности, тех, что господствовали с конца Российской империи, на протяжении всего советского периода и в начале истории современной России. Все это время западная геополитическая мысль была одержима идеей естественного конфликта между центральной частью Евразии и западными морскими державами. Арктика играла в этой парадигме существенную, хотя и не признаваемую роль «северной стены» в стратегии взятия в кольцо и сдерживания крупнейшей материковой державы мира – России. Однако в конце XX века от внимания Запада ускользнули изменения в мировых технологиях, экономике, климате и праве, подорвавшие арктические теории геостратегов прошлого.
Указанные изменения служат гарантией того, что геополитика XXI века будет отличаться от воззрений эры империй и периода конфликтов последних двух столетий. Возрастающая доступность Арктики с ее энергетическими и природными ресурсами, новыми зонами рыбного промысла, более короткими морскими путями и возможностью судоходства по рекам между Арктикой и центральной частью Евразии будет не препятствовать, а, напротив, способствовать превращению России в крупную морскую державу. В то же время эти изменения приведут к более тесной интеграции России в глобальную торговую и финансовую сеть, к появлению у нее возможности привлекать иностранных партнеров, а также участвовать в международных соглашениях и организациях, которые гармонизируют международное судоходство, безопасность и защиту окружающей среды.
Арктика в геополитике XX века
В начале XX века вышел в свет геополитический труд Альфреда Тайера Мэхэна «Проблема Азии». В нем автор обращается к проблеме соперничества между Российской империей и колониальными и торговыми державами, интересы которых распространялись на всю периферию азиатского континента – от Ближнего Востока до Китая.
Мэхэн рассматривал Россию как материковую державу с ограниченной возможностью использовать свою мощь на «спорных территориях», которые отделяли Россию от западных держав, в частности Британской империи и Соединенных Штатов. В сочетании с мощным флотом и морской торговлей это обстоятельство могло обеспечивать их доминирование на всей протяженности азиатского побережья. Сохранению господства Запада в Южной Азии благоприятствовала неспособность России открыть морской фронт с юга в дополнение к потенциальным сухопутным подходам с севера. Чтобы бросить вызов Западу, России требовался либо свободный доступ к морю из собственных портов, либо сухопутный маршрут в другие порты. Именно эти устремления положили начало «Большой игре» XIX века и стали причиной вооруженных и политических конфликтов в Афганистане и Иране в XX столетии.
Оценивая доступ России к морю, Мэхэн подчеркивал ограничения, создаваемые географическим положением. Из Санкт-Петербурга российские суда должны были проходить через Балтику, где могли столкнуться с военным флотом северных стран в Финском заливе и Датских проливах. В Черном море суда следовали из Крыма через Дарданеллы и далее либо через Гибралтарский пролив, либо по Суэцкому каналу. Выход в океан из дальневосточного порта Владивосток был свободен, но его отдаленность от экономического, политического и военного центра России, а также растущая морская мощь Японии делали этот форпост незначительной угрозой интересам Запада в Азии.
Спустя четыре года после публикации работы Мэхэна Хэлфорд Маккиндер выступил в Королевском географическом обществе с лекцией «Географическая ось истории». Он определил юго-западный регион Российской империи как исторический перекресток силовых линий между Восточной Азией и Западной Европой. Здешние степи и равнины он рассматривал в качестве магистрали, по которой материковая держава с внутренней сетью коммуникаций может прийти к доминированию на территории «полумесяца» – от побережья Китая и Южной Азии на запад через Балканы и вверх до Ла-Манша.
Маккиндер полагал, что такое техническое достижение как железные дороги увеличивает мощь материковой части и усиливает историческую роль степей Центральной Азии, по которым пролегали пути древних завоевателей из Азии в Европу. Регион, богатый сельхозугодиями и промышленным сырьем в сочетании с возможностями, которые предоставляли железные дороги, Маккиндер видел в качестве оси, вокруг которой разворачивается конфликт между материком и «полумесяцем» морских держав.
Сдерживание России и ее евразийского центра стало основой геостратегии второй половины столетия. В начале 1940-х гг. теорию Маккиндера доработал профессор Йельского университета Николас Спайкмен. Он умер в 1943 г., но идея взятия в кольцо и сдерживания России была реализована на практике в послевоенный период в ответ на советскую экспансию в Восточной Европе и непродолжительный альянс с Китаем. Спайкмен, как Мэхэн и Маккиндер до него, не рассматривал вопрос доступа России в Арктику. На значимость этого упущения указывает та роль, которую сыграл порт Мурманск как пункт доставки грузов с Запада в годы Второй мировой войны, а также факт создания Северного флота ВМФ СССР на Баренцевом море в 1933 г. и растущее значение морских путей, связывающих арктическое побережье Евразии с такими крупными портами, как Мурманск и Владивосток.
Еще в 1997 г. Збигнев Бжезинский (помощник президента Джимми Картера по национальной безопасности в 1970-е гг.) представил идею взятой в кольцо России, которая ограничена Европой на западе, бывшими советскими республиками на юго-западе и Индией, Китаем и Японией на юге и востоке. Хотя он скорректировал оценку геополитической ситуации с учетом распада СССР, его геостратегическим подходом по-прежнему оставалось окружение и сдерживание России в условиях новых отношений, которые США и НАТО строили с бывшими советскими республиками и странами-сателлитами. Роль Арктики в качестве недоступной «четвертой стены» окружения предполагалась, но не рассматривалась детально – XX век завершался все с тем же «белым пятном», что возникло столетием раньше.
В конце XX столетия казалось, что геополитическая стратегия взятия в кольцо и сдерживания России выдержала испытание временем. Но в Арктике назревали изменения, и «стена» с севера начала разрушаться.
Арктика: море и суша
Российская Арктика включает северные моря, острова, континентальный шельф и прибрежные районы евразийского континента. Арктическое побережье России тянется от границы с Норвегией на Кольском полуострове до Берингова пролива. Побережье омывается Баренцевым морем на западе, Карским морем, морем Лаптевых, Восточно-Сибирским и Чукотским морями на востоке. Из них только Баренцево море свободно ото льдов почти круглый год в результате влияния Гольфстрима, протекающего из Атлантического океана в Северный Ледовитый.
Широкий континентальный шельф России простирается на север далеко за пределы 200-мильной Исключительной экономической зоны (ИЭЗ). Протяженность береговой линии вдоль Северного Ледовитого океана достигает почти 40 тыс. км (включая береговую линию северных островов). Площадь водосбора арктического побережья составляет 13 млн кв. км – почти три четверти суши России, что превышает территорию любого государства.
При обсуждении потенциальных преимуществ потепления в Арктике и таяния полярных льдов внимание главным образом было сосредоточено на экономическом потенциале шельфовых запасов нефти и газа, а также на экономии времени и топлива благодаря новым трансарктическим морским путям. Эти преимущества значительны, но интересы России распространяются и на другие не менее важные аспекты, связанные с расширением доступности Северного Ледовитого океана, включая обеспечение безопасности границ в Арктике и увеличение доступа к сибирским рекам, которые текут в глубь страны. Эти интересы группируются по четырем направлениям: безопасность, океанические и береговые ресурсы, северная транспортная инфраструктура и региональное экономическое развитие в бассейне Северного Ледовитого океана.
Безопасность и северные моря. Северный флот России базируется на Кольском полуострове (юго-западное побережье Баренцева моря) с 1933 года. Сегодня это крупнейший и самый мощный компонент ВМФ России. Подлодки Северного флота, оснащенные баллистическими ракетами, спокойно перемещаются под арктическими льдами. В случае крупного конфликта с НАТО Северный флот мог бы оказаться в ловушке в Арктике, но в остальное время российские военные корабли, базирующиеся в Мурманске, имеют свободный доступ к Мировому океану. Удобное расположение Северного флота также позволяет его военным кораблям круглогодично бороздить Атлантику, а также сопровождать коммерческие суда в порты на северо-западе России.
В то время как некоторым западным геостратегам четвертая стена окружения России представлялась сплошным белым пятном, другим еще до Второй мировой войны был очевиден таящийся в ней огромный потенциал. Так, в 1938 г. Харри Питер Смолка в журнале Foreign Affairs провидчески описал возможные действия России в Арктике. Он обратился к вопросу создания Северного флота на Кольском полуострове и рассмотрел роль недавно учрежденного Главного управления Северного морского пути (ГУСМП) как ведомства по развитию азиатской части арктического побережья. Более того, он даже сравнивал ГУСМП с британской Ост-Индской компанией. Смолка определил преимущества развития Севера с военной точки зрения, реконструировав идею Мэхэна о том, что России не хватает выходов в Мировой океан. Он утверждал, что флот, базирующийся в Мурманске, получит такой доступ: «В результате останется только три стороны, с которых Россия будет блокирована: с запада, юга и востока. Но на севере – и только там – существует независимая, непрерывная и полностью российская никому недоступная береговая линия».
Океанические и береговые ресурсы. Россия долгое время является крупным производителем нефти и газа из ресурсов, добываемых на суше. В последнее время ресурсы континентального шельфа Арктики привлекают все больше внимания. Запасы в Баренцевом море уже разрабатываются, разведанные запасы в Баренцевом и Карском морях рассматриваются на предмет будущего освоения. Однако большая часть месторождений пока не разведана. По оценкам Геологической службы США за 2008 г., более 60% неразведанных запасов нефти и газа в Арктике находится на российской территории и эквивалентно 412 млрд баррелей нефти. Лишь небольшой их процент доступен с берега или находится в пределах ИЭЗ России. Наибольший потенциал сокрыт в бассейне Карского моря, перспективны также море Лаптевых и Восточно-Сибирское море.
Таяние полярных льдов открывает доступ к освоению обширной береговой линии и прибрежных вод. Поэтому возникает вопрос об управлении доступом и регулировании освоения шельфовых ресурсов. Береговая пограничная охрана России отвечает за мониторинг морской деятельности у берега и в ИЭЗ, следит за исполнением норм и правил национального морского законодательства. Это небольшая служба, включающая обычные фрегаты и корветы, приписанные к Тихоокеанскому и Черноморскому флотам, несколько рыбоохранных судов и судов для патрулирования ИЭЗ, а также легкие буксиры для операций у берега. Лишь небольшое количество плавучих средств подходит для условий Арктики и льдов. По всей видимости, возможности России вести мониторинг все более доступной ИЭЗ в Арктике не соответствуют темпам летнего таяния льдов.
Северный морской путь. Северный морской путь (СМП) включает маршруты, пересекающие Северный Ледовитый океан от Новой Земли до Берингова пролива. Он служит как для обеспечения региональных морских линий, так и в качестве трансарктического прохода. Естественная преграда – полуостров Таймыр – отделяет Карское море на западе от моря Лаптевых на востоке. Это самая северная оконечность Азии, которая открывается последней во время летнего таяния льдов.
Проход сужается в месте пролива Вилькицкого, отделяющего материк от архипелага Северная Земля. Небольшая глубина и долгое сохранение льдов летом ограничивают транзит между востоком и западом в зависимости от размера судов и времени года. Региональные маршруты остаются судоходными, даже когда транзиту по всему Северо-Восточному проходу препятствует замерзание узких проливов.
Северный морской путь обеспечивает доступ к таким региональным портам, как Новый Порт в устье реки Обь, Диксон, Дудинка и Игарка (порты на реке Енисей, которые служат пунктами погрузки минеральных ресурсов и древесины) и Тикси в устье реки Лена. Эти порты также поддерживают каботажное судоходство в летний период, как только ледовый покров достигает своего минимума.
Кроме обеспечения внутреннего маршрута, соединяющего северные порты и связывающего их через реки с континентальной частью страны, СМП также представляет интерес для мировых судоходных компаний в качестве альтернативы более протяженным южным маршрутам между Дальним Востоком и Европой. Путь из Йокогамы в Роттердам может благодаря СМП сократиться на 4 тыс. миль. Даже при низкой скорости судов по Северному морскому пути сокращение расстояния приведет к экономии времени и расхода топлива, что позволит транспортным компаниям сберечь значительные финансовые средства.
В настоящее время период навигации в Арктике имеет непредсказуемую продолжительность и зависит от различных климатических факторов. Для преодоления этого маршрута требуется особая подготовка судов. СМП не будет привлекать крупные судоходные компании как регулярный маршрут, пока не накоплен необходимый опыт, а маршрут не оснащен современными навигационными средствами, портовыми сооружениями и поисково-спасательным оборудованием. Вне зависимости от дальнейшего отступления полярных льдов постепенная работа в этом направлении позволит сделать Северный морской путь более привлекательным маршрутом для международного судоходства.
Судоходность зависит от мощных ледоколов, которые прорываются сквозь льды и сопровождают суда даже летом. Шесть атомных ледоколов, четыре тяжелых класса «Арктика» и два с малой осадкой класса «Таймыр», обеспечивают функционирование СМП. Кроме того, крупные коммерческие компании начали приобретать собственные ледокольные грузовые суда. В 2009 г. на долю флота компании «Норильский никель» приходилось около 1 млн тонн грузоперевозок из Дудинки по Карскому морю на Кольский полуостров. За успехом «Норникеля» последовало введение в эксплуатацию подобных судов для транспортировки нефти и природного газа в Арктике без сопровождения.
Арктический бассейн. Российский арктический бассейн включает евразийскую материковую часть и северные береговые районы и составляет почти две трети территории России. Этот бассейн богат природными ресурсами. Южная часть Западной Сибири – очень плодородный сельскохозяйственный район, также богатый нефтью и углем, а реки Обь и Енисей обеспечивают работу ГЭС. Крупные залежи железа и боксита – сырье для производства стали и алюминия.
Среднесибирское плоскогорье на севере – база «Норильского никеля», крупнейшего мирового производителя никеля и палладия. Река Лена дает доступ к золотым и алмазным рудникам. Там расположены и крупнейшие в мире леса, простирающиеся с северо-запада до юго-востока Сибири.
Огромные расстояния, неровный рельеф, промерзшая почва и суровый климат препятствовали строительству автотрасс и железных дорог на севере и северо-востоке. Тем не менее крупные речные системы, в особенности Обь, Енисей и Лена, пронизывают бассейн от Уральских гор на западе до Монголии и Казахстана на юге и горных районов, граничащих с Тихим океаном, на востоке. В прошлом этим потенциалом можно было пользоваться лишь несколько месяцев в году в летний период.
Климат евразийского побережья – один из самых экстремальных и негостеприимных в мире, зимой температура достигает минус 40 градусов по Цельсию, а толща морских льдов превышает два метра. Суровый климат отрицательно сказывается на портовых объектах, вызывая резкие колебания глубины и течения рек в период летнего таяния льда. Снабжение населенных пунктов во время долгих зим обходится дорого. Затраты, которые рассматривались как расходы на безопасность в период холодной войны, сегодня должны оправдываться коммерческой целесообразностью. В результате за последние 20 лет многие старые объекты были разрушены или заброшены и требуют восстановления практически с нуля. Сохранение объектов в регионе затрудняет сезонное потепление, которое вызывает колебания в таянии и замерзании почвы в зоне вечной мерзлоты, что делает ее структуру нестабильной для строительства. Только у наиболее прибыльных коммерческих предприятий есть экономические стимулы для поддержания объектов на реках, таких как инфраструктура в Дудинке (которая обслуживает «Норильский никель»).
Изменения в Арктике и перемены геополитики
Последние несколько лет изменения в Арктике стали источником как воодушевления, так и тревоги. Открытие канадского Северо-Западного прохода и российского Северного морского пути дало возможность прогнозировать сокращение торговых маршрутов – на тысячи миль и значительное количество дней в море – между Европой и Дальним Востоком. Перспективы огромных, пока даже неразведанных, запасов нефти и газа заставило опасаться за суверенность территорий, безопасность и устойчивость развития региона. Изменения в Арктике идут по четырем направлениям – в сфере технологий, экономики, климата и права.
Технологические изменения. В XX веке произошел прорыв в борьбе с арктическим ледовым покровом. Развитие шло по линии укрепления стального корпуса корабля, способного пробиваться сквозь льды. Энергия, вырабатываемая атомными реакторами, позволила ледоколам патрулировать всю протяженность арктического побережья. В результате создания новых конструкций кораблей с двойным корпусом появились коммерческие грузовые суда и танкеры, не нуждающиеся в помощи ледоколов. За этим последовала разработка новых технологий, предназначенных для освоения месторождений нефти и газа на большой глубине и в полярных условиях.
Экономические изменения. В последние десятилетия XX века растущий спрос на энергию в Западной Европе положил начало партнерству добывающих предприятий Советского Союза с рынками в Европе, что разрушило его экономическую изоляцию, которая возникла после Второй мировой войны. Распад СССР еще больше расширил доступ Европы к российским энергетическим ресурсам. Было признано, что российское сырье не только диверсифицирует источники энергии, но и открывает инвестиционные возможности для Запада. Заявление Геологической службы США о том, что в недрах Арктики, возможно, хранится до четверти мировых неразведанных запасов углеводородов, подстегнуло интерес европейских, а также восточно-азиатских и американских рынков к потенциальному освоению ресурсов российской Арктики.
Изменение климата. Возросшая доступность Арктики стала результатом кумулятивных изменений климата в последние 30 лет. Зимний ледяной покров уменьшился почти на 10%. Летние наблюдения 2007 г. показали, что площадь льдов сократилась на треть по сравнению со средним уровнем 1979–2000 годами. Подобные тенденции продолжатся в ближайшие десятилетия. В докладе Гидрометеорологической службы России Межправительственной группе экспертов по изменению климата за 2008 г. содержался прогноз, в соответствии с которым к 2040 г. зимняя температура на арктическом побережье увеличится почти на 4 градуса и на 2–3 градуса летом. Зимы станут менее суровыми, а реки и прибрежные районы будут свободными ото льдов более продолжительный период.
В течение нескольких десятилетий изменения претерпит флора региона, леса сместятся еще дальше на север, увеличатся периоды роста на юге. Особенно важно, что климатические аномалии и глобальное потепление будут способствовать доступности центральной части России и укреплению ее связи с остальным миром.
Изменение правового режима. В 1926 г. Советский Союз предложил разбить арктическую зону на сектора по линиям, проходящим от Северного полюса к восточному и западному оконечностям северного побережья СССР. Однако из-за недоступности Арктики это предложение не имело большого значения. Лишь на Третьей конференции ООН по морскому праву был поднят вопрос о границах национальной юрисдикции в море и было достигнуто всеобъемлющее соглашение.
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. закрепила новые правила демаркации прибрежных государств на шельфе. В 1997 г. Россия присоединилась к Конвенции, определяющей суверенность ее территории в Арктике, в которую входит 12 морских миль акватории и 200-мильная ИЭЗ, уходящая вглубь побережья и включающая острова Северного Ледовитого океана. В Конвенции давалось комплексное определение континентального шельфа, открывавшее перспективу присоединения большей части морского дна, претензия на которое была заявлена в соответствии с секторным принципом 1926 года.
В предвкушении открытия новых ресурсов арктического дна право на юрисдикцию, в соответствии с указанным секторальным принципом, признавалось приоритетным. В 2001 г. Россия обратилась в Комиссию по границам континентального шельфа с предложением закрепить ее рубежи на основании географических и геологических особенностей своего континентального шельфа, указанных в Конвенции. Комиссия посчитала представленные данные недостаточными для вынесения постановления. Сейчас Москва собирает дополнительные материалы и подаст очередную заявку с учетом новых данных.
Государственная политика и геостратегия в Арктике
В основе эволюции России из сухопутной державы в морскую лежит не только государственное планирование, но и технологические, экономические, климатические и правовые изменения. Все последние политические инициативы России в сфере безопасности, развития, океанологии и транспорта включают планы освоения Арктики. Совет Безопасности РФ в сентябре 2008 г. подтвердил, что Арктика должна стать основной стратегической ресурсной базой России, и призвал воинские подразделения, в особенности пограничные войска, быть готовыми к защите государственных интересов в Арктике. Нефтяной и газовый потенциал региона уже продемонстрирован. Благодаря Норильску Россия стала крупнейшим мировым производителем никеля и палладия, мало кому уступая и в производстве меди, кобальта и платины. Дополнительный потенциал полезных ископаемых существует на Среднесибирском плоскогорье и на внутренних территориях, где уже добывают уголь, железо, алюминий, золото и алмазы.
С 2000 г. Северный морской путь вновь стал национальным приоритетом. Детальные рекомендации по строительству новых ледоколов и модернизации морских и речных портов включены Министерством транспорта в «Транспортную стратегию до 2030 года». Три новых атомных ледокола будут построены для замены устаревших – таким образом, ледокольный флот по-прежнему сможет обеспечивать круглогодичное функционирование СМП. Новые дизельные ледоколы планируется задействовать для обслуживания портов и шельфовых энергетических объектов, небольшие ледоколы предназначены для прибрежных и поисково-спасательных операций. Возрождение Северного морского пути должно сопровождаться развитием крупных рек как транспортных артерий. В этом отношении политика России в Арктике будет воздействовать на экономическое развитие всего арктического бассейна. Развитие рек откроет доступ не только к ресурсам крупнейших в мире лесов, но и запасам полезных ископаемых. Это также будет способствовать росту торговли сельскохозяйственными и промышленными товарами из южных районов арктического бассейна.
Экономическое развитие Арктики, безусловно, не обойдется без затрат. Появятся проблемы сточных вод и другие издержки сельского хозяйства, а также отходов промышленных предприятий и переработки древесины, увеличится загрязнение, связанное с жизнеобеспечением. Окружающая среда пострадает, если одновременно с новыми разработками не будут вводиться меры защиты от загрязнения и практика рационального использования земельных ресурсов.
Учитывая предстоящие затраты, в официальной программе развития Арктики особое внимание уделяется сбалансированному подходу. В 2006 г. Россия представила свой взгляд на устойчивое развитие в Арктическом совете. Эта политика и далее прорабатывается Министерством регионального развития.
У России также есть международные обязательства по защите качества воды и морской среды. Конвенция ООН по морскому праву включает обязательства по борьбе с источниками загрязнения на суше посредством принятия и исполнения национального законодательства. Развитие СМП связано с угрозой загрязнения от судов даже при нормальных условиях эксплуатации, не говоря уже о катастрофах.
В Конвенции ООН по морскому праву детально проработан вопрос ответственности в сфере борьбы с загрязнением от судов. Прибрежным государствам предоставлены широкие полномочия по применению недискриминационных и научно обоснованных стандартов в покрытых льдом районах соответствующих ИЭЗ для защиты морской среды. Более того, Россия взяла на себя обязательство регулировать использование СМП, а ее морская политика официально признает «общепринятые нормы международного права и международные договора Российской Федерации в осуществлении морской деятельности».
Внешняя политика России направлена на признание Арктики зоной мира и сотрудничества. Этот принцип включен в двусторонние соглашения о границе с США и Норвегией, в Илулиссатское соглашение между арктическими государствами, в приложение Конвенции ООН по морскому праву, в документы Арктического совета, Международной морской организации (ММО) и других международных организаций.
С ростом морской торговли Россия будет проявлять все больший интерес к поддержанию свободы навигации на мировом уровне и обеспечению безопасности своих прибрежных вод. Продвижению российских геополитических интересов в Арктике будет способствовать стратегия расширения ее возможностей как морской державы посредством участия в Арктическом морском партнерстве, включающем единые нормы и принципы безопасности, науки, обмена информацией, разработки океанических ресурсов, защиты и сохранения окружающей среды. Такое партнерство подразумевает взаимовыгодное морское сотрудничество и способствует тому, чтобы географическая ось Арктики стала зоной мирной кооперации, не позволяя зоне конфликта сместиться с юга и запада Евразии на север.
Элементы такого партнерства включают:
Укрепление верховенства права. Россия и США должны показать пример соблюдения правовых норм в Арктике. Москве следует наконец ратифицировать соглашение о морской границе с Соединенными Штатами, а США – присоединиться к Конвенции ООН по морскому праву. Твердая приверженность единому пониманию Конвенции по морскому праву поможет арктическим государствам разрешить спорные вопросы и ввести нормы управления территорией Арктики, которые будут приняты другими странами, заинтересованными в арктическом транзите, освоении ресурсов и проведении научных исследований.
Надзор за деятельностью и политикой в Арктике. Арктический совет необходимо рассматривать как основной форум для обсуждения вопросов политики в Арктике, даже если определенные действия проводятся в соответствии с полномочиями и под надзором других организаций (например, переговоры по кодам конструкции арктических судов в ММО).
Военное сотрудничество и действия в чрезвычайных ситуациях. Повышение оперативности всех арктических стран на случай стихийных бедствий и техногенных катастроф. Нет нужды, чтобы у каждого государства имелся весь спектр судов, самолетов, спутников и станций наблюдения, а также спасательного оборудования. Обмен информацией об имеющихся средствах, совместное планирование и подготовка операций принесет пользу всем арктическим странам, обеспечив взаимопомощь и взаимодействие.
Морская безопасность и согласование действий. Арктические государства во главе с Россией и Соединенными Штатами должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям в море – от поисково-спасательных операций до крупных катастроф, включая повреждение судна и разлив нефти. Лидерство арктических государств в ММО поможет избежать разнобоя в судовых конструкциях, а порой явного несоответствия в применении норм использования трансарктических судов. При этом сотрудничество в сфере регионального рыболовства обеспечит устойчивый промысел и позволит избежать сверхнормативного вылова. Соглашение между Россией и США о разделении трафика и мониторинге в Беринговом проливе является важным шагом в обеспечении безопасности в Арктике.
Обмен информацией. Поддержание морской безопасности. Управление ресурсами и защита морской экологии посредством сбора, анализа и открытия доступа к точной своевременной информации, касающейся деятельности человека, состояния океана, ледового покрова и климата. Совместное наблюдение и слежение за кораблями и самолетами, их идентификация (особенно не принадлежащих арктическим государствам) будут необходимы для достижения максимальной эффективности ограниченных средств мониторинга в Арктике.
Наука об Арктике. Проведение исследований всеми заинтересованными сторонами и обмен результатами будет только приветствоваться. Прибрежные государства должны облегчить процедуру апробации иностранных научных исследований в пределах их ИЭЗ, обеспечивая взаимодействие и обмен данными. Успешные полярные научные программы многостороннего характера заслуживают поддержки из национальных источников, им следует обеспечить доступ к данным, не касающимся безопасности и коммерческой тайны.
Интерес к Арктике неарктических стран. Привлечение всех сторон к дискуссиям, касающимся их интересов в Арктике. Неарктические страны могут иметь свои интересы, они имеют право бороздить арктические воды. В то же время коренные народы заинтересованы в сохранении и развитии своей культуры, занимаясь традиционными промыслами, торговлей и хозяйственной деятельностью, в частности теми ее видами, которые стали возможны благодаря потеплению в Арктике. Все имеют право на участие в мероприятиях по регулированию деятельности в Арктике, если это затрагивает их существенные интересы, не только в рамках Арктического совета, но и в других организациях и в соответствии с другими соглашениями, касающимися Арктики.
Заключение
Старая геостратегия взятия в кольцо и сдерживания России ушла в прошлое. В XXI веке новое геополитическое видение России позволяет ей занимать достойное место не в качестве изолированного материкового государства, а в ряду других морских держав, которые черпают ресурсы на побережье Северного Ледовитого океана и в огромном арктическом бассейне. К середине века Северный морской путь, вероятно, станет регулярным судоходным маршрутом, вначале сезонным и требующим использования ледоколов, но, возможно, постепенно расширяющимся по мере изменения климатических условий.
Открытие в XXI веке доступа к Арктике позволит России развиваться и расти в качестве морской державы, вначале только региональной – на Севере, но затем ее влияние может распространиться везде, куда торговый флот доставляет российские товары и откуда он возвращается с иностранной продукцией.
Подобное превращение грозной сухопутной державы Маккиндера и Спайкмена в одну из первоклассных морских держав потребует объединенных усилий. Тем самым произойдет встраивание новой, «морской» России в систему сотрудничества и партнерства с другими океанскими странами. Приверженность правовым нормам, обмен информацией, совместные операции по обеспечению безопасности и сотрудничество в разработке политики позволят сохранить Арктику как регион мира даже в условиях необходимости поддержания прибрежными государствами своих военно-морских сил и обеспечения своих прав в регионе.
Вокруг этой новой «географической оси» XXI века не избежать конфликтов, но приверженность нормам международного права и уважение суверенитета прибрежных и отдаленных государств сделают конфликты скорее политическими, чем военными. В отличие от «Большой игры» в азиатской геополитике XIX века, а также противостояния центральной части Евразийского континента периферии в XX веке, сегодня формируется институциональная база конструктивного сотрудничества. Конвенция по морскому праву, Илулиссатская декларация и Арктический совет заложили основы для мирного развития морских путей в Арктике и признания прав прибрежных держав на использование, разработку и защиту органических и минеральных ресурсов в арктических морях и на их дне. Для вящей пользы региона в отношениях между арктическими государствами сотрудничество должно преобладать над конфронтацией, а морскую политику следует основывать на Арктическом морском партнерстве.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























