Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Белорусский «Завод газетной бумаги» в феврале 2020 года поставит в Египет 165 тонн газетной тонированной бумаги
РУП «Завод газетной бумаги» (г. Шклов, Могилевская область) планирует поставить в феврале 2020 г в Египет 165 тонн газетной тонированной бумаги, на которой в Египте печатают Коран, сообщили в пресс-службе концерна «Беллесбумпром».
Как сообщается, поставки тонированной газетной бумагу (кремового и оранжевого цвета) в Египет шкловское предприятие начало осуществлять с августа 2019 года. «Такой бумаги в прошлом году было поставлено на $461 тыс. Заказы на текущий год тоже есть. Только в феврале планируется поставить в Египет 165 тонн данной продукции», — сообщили в Беллесбумпроме.
Как отметили в концерне, именно с Египта предприятия Беллесбумпрома начали освоение рынка стран Африки. «В эту страну поставки осуществляются уже на протяжении пяти лет и с 2015 года они увеличились в 3 раза – до $1,2 млн. Экспортируются в страны Африки в основном бумага, картон и фанера», — рассказали в концерне, отметив при этом, что общий экспорт в страны Африки в 2019 г составил $1,52 млн.
Справка Бумпром.ру:
РУП «Завод газетной бумаги» (Белоруссия, г. Шклов, Могилевская область) основан в 2005 году. Основной вид продукции – газетная бумага. Мощность предприятия по выпуску газетной бумаги составляет 40 тыс. т в год. Ежемесячно предприятие выпускает более 3 тыс. т газетной бумаги, в том числе до 1,2 тыс. т на внутренний рынок. Завод также производит пиломатериалы, погонажные изделия, клееный брус, каркасно-щитовые дома, дома из клееного бруса, пеллеты.
Источник: ПраймПресс
20 февраля 2020 года в Дубае состоялось вручение главной награды премии Arab Hope Makers Award 2020. В этом году лауреатом стал филантроп из ОАЭ Ахмед Аль Фаласи. Церемония награждения прошла на площадке Coca-Cola Arena в центре City Walk.
Премия Arab Hope Makers размером 1 млн дирхамов ОАЭ (около 270 тыс долларов США) вручается ежегодно за заслуги в области гуманитарной деятельности, награда была учреждена в 2017 году Его Высочеством шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом, премьер-министром, вице-президентом ОАЭ и правителем Дубая.
В этом году в премии участвовало 92 тыс. заявок из 38 стран, в том числе из 15 арабских стран. По количеству заявок среди стран арабского мира лидировал Египет, среди западных стран – Германия.
Господин Аль Фаласи помог реконструировать больницу общего профиля в Кении в г. Момбаса, превратив ее в одно из самых передовых медицинских учреждений страны.
Благодаря его усилиям в больнице были открыты отделение диализа почек, сквозь которое прошло 8 тыс. пациентов, и отделение для новорожденных на 570 мест с инкубаторами, рассчитанное на 17 тыс. младенцев в месяц.
Господин Аль Фаласи успел поработать и в Китае, где он открыл школу, приют и фонд поддержки семьи. Главными спутниками мецената являются его жена и дочь.
Впервые с момента своего основания вырученные средства с премии Arab Hope Makers пойдут на строительство Международного кардиологического центра имени Магди Якуба в Египте.
Предполагается, что центр станет одним из крупнейших в регионе специализированных учреждений по оказанию кардиологической помощи. В больнице будут оказывать бесплатную сердечно-сосудистую помощь пациентам из арабских стран.
Ежегодно в центре будут проводить 12 тыс. операций на сердце, из которых 70% будут приходиться на детей. Поликлиники центра рассчитаны на более 80 тыс. пациентов в год, в стенах больниц ежегодно будут обучать тысячу кардиологов и кардиохирургов.
Авиакомпания flydubai из Дубая приняла участие в Первом форуме авиации, аэропортов и логистики в Ташкенте, что дало ей возможность отметить приближающуюся первую годовщину на рынке Узбекистана.
flydubai стала первой авиакомпанией из ОАЭ, которая запустила прямые рейсы в Узбекистан и осуществляет регулярные прямые рейсы между Дубаем и Ташкентом пять раз в неделю.
Первый год был успешным для авиаперевозчика: более 70 000 пассажиров выбрали дубайскую компанию для своих перелетов между столицей Узбекистана и Дубаем с момента выхода авиакомпании на узбекский рынок в марте 2019 года.
Комментируя участие компании в мероприятии, старший вице-президент flydubai по коммерческим операциям и электронной коммерции Джейхун Эфенди отметил: «Нам приятно видеть здоровый спрос на пассажирские авиаперевозки в первый год с момента нашего выхода на рынок Узбекистана. Наши пассажиры из Ташкента оценили удобство наших прямых рейсов в Дубай и в основном летают именно в этом направлении. Тем не менее, в Дубае они могут сделать удобную пересадку на рейсы flydubai в 94 города, а благодаря нашему стратегическому кодшеринговому партнерству с Эмирейтс у пассажиров есть возможность открыть для себя еще 143 направления».
Пассажиры из Ташкента чаще всего делают пересадку в Дубае на рейсы flydubai в Медину и Джидду в Саудовской Аравии, а иногда и на рейсы Эмирейтс в Каир в Египте и Дакку в Бангладеш в рамках стратегического кодшерингового партнерства Эмирейтс и flydubai.
В ОАЭ в Рас-Аль-Хейме c 20-го по 22-ое февраля 2020 года пройдет фестиваль Dawaran, в программе которого музыка, искусство и гастрономические мероприятия. Для проведения фестиваля была выбрана площадка, находящаяся примерно в 30 минутах езды от аэропорта Рас-Аль-Хеймы.
По сути, Dawaran чем-то напоминает американский фестиваль Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне Невады. Фестиваль уникален тем, что он объединяет в себе музыку, оздоровительные практики, шопинг и гастрономические мероприятия.
В 2020 году на Dawaran выступят: EDM диджей Юсеф Абузейд из Египта, DJ Manfredas из Литвы, DJ Shadi Megallaa из Дубая и DJ Ayn из Иордании.
На фестивале также будет организована работа фудтраков, «дзен-центра», где все желающие смогут пройти исцеление музыкой, выставка инсталляций местных художников, мастер-классы по йоге и медитации, а также зоны релаксации с бесплатными органическими процедурами для лица и травяным чаем.
Входной билет с четверга по субботу обойдется в 295 дирхамов (ориентировочно 80 долларов США) с человека, гости фестиваля смогут без дополнительной платы поставить свою собственную палатку.
За дополнительную плату можно разместиться с удобствами, так домик на дереве для двоих будет стоить 1500 дирхамов (ориентировочно 408 долларов США), проживание в двухместной палатке класса люкс – 1600 дирхамов (ориентировочно 435 долларов США), в шатре в стиле рококо с отдельной ванной комнатой – 2000 дирхамов (ориентировочно 544 доллара США).
Организаторы предусмотрели и бюджетный вариант Happy Camper: вы можете снять двухместную палатку с матрасами, одеялами и подушками за 400 дирхамов (ориентировочно 108 долларов США).
В независимости от типа размещения гости могут пользоваться общими ванными комнатами, привезти домашнее животное разрешается только в кемпинг Happy Camper. Обратите внимание, что на Dawaran не будут продавать воду в пластиковых бутылках. Участники фестиваля могут привезти свои собственные многоразовые бутылки или купить бутылку из нержавеющей стали за 40 дирхамов и бесплатно наполнять ее водой на площадке.
Начало конца? Идлиб может стать точкой невозврата для Турции и России
Мехмет Эмин Икбал Дюрре
политолог
Противоречия, которые всегда существовали между нашими странами в сирийском вопросе, теперь вышли на первый план и требуют неотлагательного разрешения
В Идлибе сложилась довольно скользкая ситуация, которая таит в себе много провокационных моментов, становясь очередным испытанием для отношений России и Турции. Она усугубляется еще и тем, что некоторые эксперты и политики в обеих странах имеют привычку то идеализировать наши отношения, то наоборот, впадать в деструктив, тем самым обостряя и без того непростое положение. При это забывается, что наши взаимоотношения в сирийском вопросе все–таки ситуативные, или если хотите вынужденные, и в отличие от экономических, не имеют оснований для длительного сотрудничества.
Именно поэтому все происходящее на данный момент, лично для меня не является сюрпризом, более того, все к тому и шло. И причиной этому отчасти стало и то, что в рамках происходящего в Сирии, Анкара и Москва решали совершенно другие задачи. Для России было важно довести до логического конца свои экономические проекты с Турцией, и увеличить раскол между Турцией и США, а для Турции было необходимо использовать свой союз с Россией в качестве противовеса США, поддерживающих сирийских курдов. Все это скрывало от глаз главные противоречия, существующие между нами по Сирии. И так как эти противоречия никуда не исчезли, то рано или поздно с ними пришлось столкнуться лицом к лицу. Что и привело к сегодняшней ситуации.
Несмотря на то, что за последние дни обе стороны серьезно критиковали друг друга, от чего мы собственно отвыкли, все равно создается ощущение, что они не хотят, чтобы идлибский кризис привел к серьезному расколу и потере положительных наработок и в экономическом, и в политическом аспектах. Учитывая это, как мне представляется, дипломаты обеих стран, которые за последние годы научились находить выход даже из самых сложных ситуаций, и на этот раз найдут оптимальное решение, которое в конечном итоге устроит всех. На этом фоне скорая встреча двух президентов, на мой взгляд, неизбежна. Ведь этот кризис в очередной раз напомнил о том, что подобные колебания в наших отношениях неизбежны, как минимум, вплоть до полного решения сирийского вопроса. И главное здесь - не допустить новых серьезных провокаций, которые могут привести к точке невозврата.
А теперь немного о новой локации турецко-российского конфликта, о Ливии. И здесь Москва с Анкарой оказались по разные стороны баррикад. Хотя, справедливости ради надо отметить, что на этот раз, в отличие от Сирии, Турция находится на стороне законной власти. Но и России каким-то виртуозным образом удается пребывать на разных сторонах баррикад одновременно, что не отменяет в данном случае, факта соперничества с Турцией. Учитывая уровень наших отношений, я ничего катастрофического в этом не вижу. Наоборот, я считаю, что для России лучше, если в Триполи наибольшее влияние будет иметь Анкара, а не Брюссель и, тем более, не Вашингтон. Так и для Турции лучше, если над Хафтаром большее влияние будет иметь Россия, а не Саудовская Аравия или Египет. Нам все-таки проще найти общий язык друг с другом. А что касается информации о том, что Турция выводит террористов из Идлиба в Ливию, то, конечно это, быть может не идеальный вариант, но давайте будем честными, это же лучше, чем если бы они оказались на приграничных с Россией территориях.
ПНС Ливии приостановило участие в переговорах по военным вопросам
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии объявило о приостановке участия в переговорах по военным вопросам из-за обстрела порта Триполи Ливийской национальной армией во вторник.
Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара заявила, что во вторник нанесла удары по складу оружия и боеприпасов в порту ливийской столицы Триполи в ответ на нарушение прекращения огня со стороны террористических группировок. ЛНА также заявила об уничтожении прибывшего в порт Триполи турецкого судна с оружием и боеприпасами.
Согласно заявлению ПНС, подвергшийся обстрелу порт Триполи "является жизненной артерией для многих ливийских городов, через который их жителям поступают лекарственные препараты, продукты питания, топливо и другие необходимые для них вещи". ПНС отметило, что "продолжающиеся удары по городским кварталам, аэропорту, морскому порту Триполи, а также закрытие нефтеналивных портов призваны вызвать гуманитарный кризис и анархию".
"В связи с этим объявляем о приостановке нашего участия в переговорах по военным вопросам, которые проходят в Женеве, до тех пор, пока не будет занята решительная позиция в отношении агрессора и его нарушений", - говорится в заявлении ПНС.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи ПНС Файез Саррадж, и командующий ЛНА Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.

Выступление спецпредставителя Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя Министра иностранных дел России М.Л.Богданова на первом заседании Международного комитета по выполнению решений Берлинской конференции по Ливии, Мюнхен, 16 февраля 2020 года
Уважаемые сопредседатели – Министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Х.Маас, заместитель спецпредставителя Генсекретаря ООН по Ливии С.Уильямс,
Уважаемые дамы и господа,
После Международной конференции по Ливии в Берлине прошел месяц. Это позволяет дать предварительные оценки усилиям, направленным на реализацию принятых там решений.
Со своей стороны исходим из того, что приоритетное значение имеет запуск механизмов выполнения положений итогового документа форума в Берлине. В этой связи с удовлетворением констатируем некоторые позитивные подвижки по результатам первого заседания совместного военного комитета в формате «5+5» в начале февраля в Женеве. Надеемся, что, продолжая работать в данном формате, ливийцы сумеют согласовать конкретные шаги по установлению постоянного режима прекращения огня. Отрадно, что стороны заявили о своем желании достичь этой цели.
Как уже отметил Министр иностранных дел Турецкой Республики М.Чавушоглу, наметившиеся после Берлинской конференции положительные изменения во многом стали возможными благодаря призыву лидеров России и Турции к межливийскому перемирию по итогам их переговоров 8 января, а также прошедших 13 января в Москве встреч с Председателем Правительства национального согласия Ливии Ф.Сарраджем, командующим Ливийской национальной армией маршалом Х.Хафтаром, председателем ливийского парламента А.Салехом и главой Высшего госсовета Ливии Х.Мишри.
Рассчитываем, что в ближайшее время усилиями спецпредставителя Генсекретаря ООН Г.Саляме будет созван Форум политического диалога, а также интенсифицированы экспертные межливийские дискуссии по экономической проблематике. Необходимо добиться прогресса на всех треках ливийского урегулирования.
Считаем, что положительную роль в урегулировании конфликта в Ливии призваны сыграть страны региона. В частности, немало интересных идей было озвучено на встрече Комитета высокого уровня Афросоюза по Ливии в Браззавиле 30 января, а также в ходе африканского саммита в Аддис-Абебе 9 февраля.
Со своей стороны – совместно с партнерами – продолжим плотную работу с ливийскими сторонами в интересах достижения постоянного, устойчивого и поддающегося контролю прекращения огня, а также выработки мер по долгосрочной деэскалации и налаживанию политического диалога.
Очевидно, что с учетом дефицита доверия между ливийцами это непростая задача. В этой связи исходим из того, что в процесс национального примирения должен быть вовлечен весь спектр общественно-политических сил Ливии, включая племенные объединения, национальные меньшинства и сторонники прежней власти. Ни один сегмент ливийского общества не должен оставаться «за бортом». Рассчитываем, что общая обеспокоенность за судьбу своей родины поможет ливийцам постепенно восстановить взаимопонимание и приступить к решению всех накопившихся проблем в рамках инклюзивного общенационального диалога.
Хотел бы сказать несколько слов о подготовленных Миссией ООН по поддержке в Ливии положениях, определяющих «круг ведения» Международного комитета по сопровождению итогов Берлинской конференции. Документ в предложенном виде нуждается в корректировке, поскольку ряд задач относится к исключительным прерогативам СБ ООН, а вторгаться в них недопустимо.
В тексте имеются и другие неоднозначные моменты. Например, непонятно, на каком основании Миссия будет участвовать в обсуждении вопросов, которые не входят в ее мандат. В недавно принятой резолюции 2510 СБ ООН в поддержку «берлинского процесса» четко прописано, что Миссия подключается исключительно в рамках своей компетенции.
Рассчитываем на то, что на этот раз наши принципиальные замечания будут учтены.
Надеемся, что сегодняшнее заседание позволит продвинуться в деле обеспечения режима прекращения боевых действий, добиться прогресса в области политического процесса, а также решения многочисленных гуманитарных проблем Ливии.
В том, что касается подготовленного заявления сопредседателей, поддерживаем предложение Турции убрать ссылку на ЕС из концовки пункта 2 по причинам, обозначенным турецкой, а также египетской делегациями. Также в п.3 необходимо указать на то, что Миссия ООН по поддержке в Ливии должна выполнять не столько решения Берлинской конференции, сколько резолюцию СБ ООН 2510, одобрившую заключительныее положения этого форума.
Глава МИД временного кабмина Ливии назвал действия Турции агрессией
Действия Турции на ливийской территории являются агрессией и попыткой завоевать страну, заявил министр иностранных дел временного правительства Ливии Абдулхади аль-Хувейдж.
"Это, безусловно, не вмешательство турецкое, это агрессия, это попытка нового завоевания Ливии турками", - сказал министр журналистам в кулуарах IX Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
Временное правительство Ливии попросило помощи в восстановлении страны
Временное правительство Ливии приглашает российские компании к восстановлению страны после достижения мира, заявил министр иностранных дел временного правительства страны Абдулхади Аль-Хувейдж.
"Мы пригласим весь прочий мир для восстановления Ливии. Пользуясь случаем, я приглашаю российские компании принять участие в восстановлении Ливии, когда мы восстановим наш суверенитет", - заявил Аль-Хувейдж журналистам в кулуарах IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Мы хотим, чтобы государство изъяло оружие и чтобы мы перешли к новому государству. И конечно, это государство будет дружественным к России, потому что Россия всегда играла позитивную роль", - добавил он.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня. Первое заседание комитета состоялось вчера в Мюнхене, Россию на нем представлял заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.
Wintershall Dea идет искать нефть и газ в Египте
Соглашение о проведении геологоразведочных работ на нефть и газ подписали немецкая Wintershall Dea и египетская государственная газовая компания EGAS. Работы будут проходить на одном из сухопутных участков в дельте Нила с объемом инвестиций $43 млн. Бонус подписания на бурение 8 скважин составляет $11 млн.
«Подписанное соглашение — первое соглашение Египта с германской компанией после объединения Wintershall и Dea», — сказал министр нефти АРЕ Тарик аль-Мулла, отметив, что история сотрудничества Египта с Wintershall насчитывает более 45 лет. По словам министра, германская компания добивалась высоких результатов в добыче нефти и газа в регионах присутствия в Египте: в Суэцком заливе, дельте Нила, на шельфе Средиземного моря.
В общей сложности за последние четыре года министерство заключило с инвесторами 61 соглашение на бурение 230 скважин на общую сумму около $6 млрд, отмечает «Интерфакс».
Минздрав Египта объявил о первом случае заражения коронавирусом
В Египте обнаружили первый случай заражения коронавирусом в стране, сообщает египетское министерство здравоохранения.
Как отмечается в совместном заявлении ведомства и Всемирной организации здравоохранения, "носителем инфекции является гражданин иностранного государства".
Египет стал первым государством в Африке, где обнаружена эта инфекция.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.

Интервью с Временным поверенным в делах России в Египте С.И.Зубовой международному информационному агентству «РИА Новости», 11 февраля 2020 года
— Светлана Игоревна, в конце января российские эксперты по авиабезопасности закончили очередной осмотр аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады. Как вы считаете, насколько эти аэропорты готовы в плане безопасности к приему рейсов из России и когда ожидается возобновление полноформатного авиасообщения между нашими странами?
— На наш взгляд, египетским властям удалось за последнее время добиться значительного прогресса в укреплении безопасности в аэропортах и на авиационном транспорте. Как мы видим, и это подтверждают наши специалисты, Египтом предприняты эффективные меры по приведению воздушных гаваней в соответствие с требованиями ИКАО. Происходит оснащение аэропортов современным высокотехнологичным оборудованием, камерами наблюдения, системами сканирования багажа, идет процесс обучения персонала. Россия учитывает эти позитивные изменения, что, в частности, дало нам возможность восстановить прямое авиасообщение с Каиром в апреле 2018 года.
По итогам состоявшейся в январе этого года инспекции нашими экспертами будет подготовлен детальный отчет, который, безусловно, должен быть всесторонне изучен заинтересованными российскими министерствами и ведомствами. С учетом этих процедур пока трудно со всей определенностью ответить на вопрос о конкретных сроках возобновления чартерного сообщения между Россией и египетскими курортами. Надеемся, что это произойдет довольно скоро.
— Как продвигается расследование трагедии с российским самолетом Airbus А321 компании "Когалымавиа", потерпевшим крушение на Синайском полуострове в 2015 году? Есть ли новая информация? Появились ли подозреваемые?
— Расследование продолжается. Мы активно сотрудничаем с египетской стороной в этом вопросе. Вместе с тем, в соответствии с общемировой процессуальной практикой, детали следствия не разглашаются.
— Президенты России и Египта были сопредседателями первого экономического форума и саммита Россия - Африка в октябре 2019 года в Сочи. Насколько это событие повлияло на взаимодействие между Москвой и Каиром на Африканском континенте?
— Сопредседательство президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси на экономическом форуме и саммите в Сочи укрепило и активизировало и без того плотную координацию и сотрудничество между нашими странами на всех направлениях и прежде всего на африканском. Мы находимся в постоянном контакте с египетской стороной по вопросам урегулирования существующих на континенте кризисов, включая ситуацию в Ливии, Судане, Южном Судане и так далее, обсуждаем совместные шаги по противостоянию существующим здесь вызовам и угрозам: терроризму, наркотрафику, организованной преступности, пиратству. По всем этим сюжетам позиции России и Египта близки или совпадают.
Активно работаем с египтянами в целях реализации российских экономических планов в Африке, которые будут в том числе способствовать решению поставленных Каиром в ходе его председательства в Африканском союзе в 2019 году задач в целях устойчивого развития региона. В частности, продолжаем сопровождение продвижения одного из наиболее значимых экономпроектов в Африке — создания в АРЕ Российской промышленной зоны. Его важность обусловлена прежде всего уникальными возможностями выхода российской продукции через Египет непосредственно на африканские рынки. Проводим также интенсивные контакты с представителями посольств стран-членов ЕАЭС в Каире для обсуждения перспектив привлечения указанных государств к работе РПЗ.
В рамках сотрудничества с египетскими партнерами на Африканском континенте в течение 2019 года российские представители подключались к масштабным общеафриканским мероприятиям, организованным Египтом в качестве председателя Афросоюза. Так, посольство приняло участие в работе состоявшегося в новой административной столице АРЕ в ноябре инвестиционного форума "Африка-2019", а также проведенных в декабре прошлого года Асуанском форуме и конференции Африканской ассоциации по государственному управлению.
— Повлияло ли проведение саммита Россия - Африка на позиции Российской Федерации на Черном континенте, на ее экономическое и политическое взаимодействие со странами континента?
— Состоявшиеся в октябре прошлого года в Сочи саммит Россия — Африка и экономический форум, безусловно, дали старт принципиально новой программе укрепления и развития всего комплекса отношений России со странами континента. Хотелось бы особо подчеркнуть, что благодаря энергичным усилиям президента АРЕ Абдель Фаттаха ас-Сиси как сопредседателя саммита удалось обеспечить участие в сочинских мероприятиях практически всех стран Африканского континента. С удовлетворением отмечаем, что на них присутствовали главы 45 государств Африки и руководители восьми межафриканских региональных организаций.
Результатом российско-африканской встречи в Сочи стало подписание 92 соглашений. Российский инвестиционный пакет превышает 16 миллиардов долларов США. В рамках форума удалось также активизировать сотрудничество между АС и ЕАЭС. Заключен меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Комиссией Африканского союза. В обозримой перспективе это позволит упростить процесс межведомственного взаимодействия между членами ЕАЭС и африканскими государствами с целью предоставления соответствующих экономических преференций.
Российско-египетские отношения по всем показателям вышли на уровень стратегического партнерства. Продвинутые связи с Каиром служат наглядным примером, своего рода ролевой моделью для развития взаимодействия с другими странами Африканского континента, подтверждают статус нашей страны как ведущей мировой державы, готовой к налаживанию многопрофильного взаимовыгодного сотрудничества с африканскими народами.
Значительное внимание в ходе саммита было уделено вопросам консолидации усилий по противостоянию террористическому интернационалу. Мы открыты для предметного обсуждения нашего возможного содействия в борьбе с экстремистскими группировками в Сахаро-Сахельском регионе и странах Центральной Африки, включая военно-техническое сотрудничество.
В целом можно с уверенностью констатировать, что саммит Россия-Африка придал мощный импульс российско-африканскому диалогу, открыл принципиально новые возможности для политического и экономического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах.
— Насколько близки сейчас позиции Москвы и Каира в деле урегулирования конфликта в Ливии?
— Как я уже отметила, координация наших с Египтом подходов по Ливии осуществляется на регулярной основе. 4 февраля состоялся очередной телефонный разговор между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым и его египетским коллегой Самехом Шукри, где в том числе затрагивался ливийский сюжет. Мы едины с Каиром в оценках происходящего в данной арабской стране, выступаем за запуск общеливийского национального диалога и нахождение развязок конфликта самими ливийцами. Позитивно воспринимаем итоги состоявшейся 19 января этого года в Берлине конференции по Ливии и рассчитываем на одобрение ее решений основными ливийскими политическими силами. Разделяем также озабоченности египтян по поводу роста террористической угрозы в Ливии.
— В египетской тюрьме находятся российские граждане, уроженцы Республики Ингушетия. Недавно на эту тему выступал глава МИД Сергей Лавров. По его словам, Египет не ответил ни на одну из более чем 20 нот посольства России о причинах задержания. Спикер Совета Федерации поручила подготовить обращение к египетским коллегам. Есть ли какая-то реакция Египта на слова российского министра и получили ли египетские депутаты письмо российских парламентариев?
— Прежде всего поясню, что помимо четырех уроженцев Республики Ингушетия — И. М. Аушева, А. И. Дзейтова, Р. А. Плиева и И. Р. Чемурзиева — под арестом в Египте по тому же делу находится гражданка России З. А. Салиходжаева (уроженка Таджикистана). Еще одно уголовное дело возбуждено египетскими правоохранительными органами в отношении жителя Чеченской Республики С. С. Абубакирова. Россияне обвиняются в финансировании террористической группировки ИГИЛ*, использовании социальных сетей для распространения экстремистских идей, а также шпионаже в пользу иностранного государства.
Несмотря на то, что египетские органы безопасности задержали упомянутых российских граждан еще в августе 2018 года, посольство не было уведомлено об этом в соответствии с порядком, предусмотренным двусторонней Консульской конвенцией. Причем, действительно, свыше 20 наших нот с просьбой о предоставлении информации о задержанных были оставлены без ответа МИД АРЕ.
После передачи в конце декабря 2019 года министру иностранных дел АРЕ Самеху Шукри устного послания Сергея Викторовича Лаврова о судьбе упомянутых российских граждан заместитель министра иностранных дел АРЕ по консульским вопросам Хашим запросил у руководства посольства копии всех ранее направлявшихся нот по фактам задержания россиян в Египте. Были получены промежуточные ответы в отношении ряда других досье, находящихся на контроле нашей дипмиссии. Вместе с тем официальных комментариев с египетской стороны по делам четырех уроженцев Ингушетии, Салиходжаевой и Абубакирова пока так и не последовало. О ходе судебного процесса и датах проведения судебных заседаний посольство по-прежнему не уведомляется.
Некоторые положительные подвижки тем не менее наметились — консульским сотрудникам предоставлена возможность посещать наших граждан в тюрьме (чего мы добивались на протяжении более шести месяцев). Отреагировали власти АРЕ и на жалобы россиян на условия тюремного содержания: часть требований удовлетворена египетской стороной. Серьезную озабоченность, однако, вызывает отсутствие доступа задержанных к квалифицированному медицинскому обслуживанию.
Кроме того, хотелось бы отметить, что информация о местонахождении еще одного уроженца Республики Ингушетия, Х. О. Дугиева, предположительно также задержанного египетскими силовиками в августе 2018 года, у нас, несмотря на многократные соответствующие запросы, по-прежнему отсутствует.
— Как продвигается работа по подготовке строительства Росатомом первой египетской АЭС "Эль-Дабаа"? Ранее сообщалось, что строительство первого энергоблока начнется во второй половине 2020 года.
— Все работы по проекту АЭС "Эль-Дабаа" ведутся согласно установленному графику. Весной 2019 года Управление по атомным электростанциям Египта получило разрешение на строительную площадку. В настоящее время там начаты первоочередные подготовительные работы.
Продолжается проектирование станции и подготовка документации для получения так называемой ядерной лицензии на сооружение АЭС со стороны египетского органа атомного надзора — Управления по регулированию ядерной и радиологической безопасности (ENRAA). После этого имеется в виду приступить к полноформатному осуществлению данного масштабного проекта.
Особо хотелось бы отметить прогресс в работе с локальными поставщиками. Как известно, в соответствующем контракте закреплены степень и критерии локализации в процентном отношении от цены каждого блока станции. Локализация будет достигаться нарастающим эффектом: от 20 до 35% в зависимости от блока. В 2019 году генеральным подрядчиком — компанией "Атомстройэкспорт" — были успешно проведены три тендера и подписаны контракты с тремя египетскими компаниями. В июле 2019 года заключен контракт с египетской компанией "Петроджет" о выполнении первых подготовительных работ на площадке. В декабре 2019 года компания "Хассан Аллам" выиграла тендер на сооружение пионерной базы, а компания "Араб Контракторс" конкурс на выполнение работ по вертикальной планировке площадки и геодезической разбивочной основе. Все три компании обладают достаточным профессиональным опытом и хорошо известны на рынке Египта.
— Когда ожидаются первые поставки произведенных в РФ пассажирских вагонов по контракту между российско-венгерским консорциумом "ТМХ Венгрия" и Египетскими национальными железными дорогами?
— В соответствии с договоренностями консорциума "Трансмашхолдинг Венгрия Кфт." и министерства транспорта АРЕ поставка первых 180 пассажирских вагонов в рамках коммерческого контракта компании с Египетскими национальными железными дорогами должна быть осуществлена до конца июня 2020 года. При этом первые подвижные составы из этой партии могут появиться в АРЕ уже в первом квартале текущего года.
— Российская промышленная зона в Египте также является одной из главных тем российско-египетского сотрудничества. Как продвигаются переговоры по этой теме и когда можно ждать запуска промзоны?
— 23 мая 2018 года в Москве было подписано межправительственное соглашение о создании и обеспечении условий деятельности Российской промышленной зоны в особой экономической зоне Суэцкого канала. Впоследствии специалистами обеих стран была проделана большая работа по имплементации достигнутых договоренностей. В настоящее время уполномоченные органы России (Russian Industries Overseas Egypt, дочерняя компания Российского экспортного центра) и Египта (Главное управление Особой экономической зоны Суэцкого канала) проводят согласование различных аспектов девелоперского контракта, который определит технические и экономические параметры работы РПЗ. Ожидаем подписания указанного документа в первой половине 2020 года.
Параллельно Российский экспортный центр совместно с министерством промышленности и торговли Российской Федерации ведет поиск потенциальных резидентов и инвесторов РПЗ. На данный момент подписано 32 соглашения о намерениях с компаниями, выразившими желание принять участие в проекте.
— В минувшем году египетский президент пригласил президента России посетить Египет для участия в церемонии закладки первого камня АЭС, которую Россия будет строить в этой стране, а также запуске российской индустриальной зоны. Известны ли уже даты этого визита?
— Действительно, такое предложение со стороны Абдель Фаттаха ас-Сиси поступило в адрес президента России в ходе их встречи в Сочи в октябре 2019 года на полях саммита Россия-Африка. Вместе с тем пока конкретные сроки возможного визита не обозначены. В любом случае ожидаем ясности по времени закладки "первого бетона" и финализации юридических формальностей, связанных с подписанием соглашения по РПЗ. Тогда уже можно будет делать какие-либо прогнозы.
— Известно ли имя нового посла РФ в Египте? Когда он прибудет в Каир?
— В данный момент этот вопрос находится на стадии проработки.
— В последние годы так называемой арабской весны регион Ближнего Востока и Северной Африки стал главным поставщиком новостей для мировых СМИ. Все это накладывает ответственность и на российских дипломатов, фактически работающих в режиме нон-стоп. Насколько такая жесткая динамика и порой сложная обстановка повлияли на формирование нового поколения российских дипломатов, насколько закалила их?
— Безусловно, работа в российских посольствах в регионе Ближнего Востока и Северной Африки требует в последнее время огромного напряжения и самое главное — максимальной самоотдачи. В таком режиме вынуждены работать и молодые дипломаты. У них нет времени на раскачку. Ситуация сама заставляет их сразу же по приезде в командировку с головой погружаться в работу. Это трудно, но вместе с тем интересно, ведь у молодежи — в отличие от дипломатов старшего поколения — появляются уникальные возможности постигать все тонкости профессии с самого первого дня прихода на службу. Речь идет как о работе в поле — устные и письменные переводы, протокольные функции, обработка материалов СМИ, так и об аналитической составляющей нашей профессии — подготовка справочных документов, выход на контакты и умение обобщать полученную информацию. Бесспорно, такая практика способствует формированию сильного поколения российских дипломатов. Со своей стороны с уверенностью могу сказать, что в посольстве России в Каире трудятся именно такие молодые кадры.
— В посольстве будут какие-то мероприятия по случаю Дня дипломата, отмечаемого 10 февраля?
— На период с 3 по 12 февраля 2020 года посольством подготовлена обширная программа общественно-политических и культурных событий, посвященных нашему профессиональному празднику. Центральное из них — официальный прием по случаю Дня дипломатического работника 10 февраля. Кроме того, состоялся уже традиционный спортивный турнир. В общеобразовательной школе при посольстве был организован конкурс на лучшее сочинение среди учащихся 7-го и 8-го классов о роли дипломатической службы и круглый стол с учениками старших классов для обсуждения важных исторических вех дипломатической службы в России. На площадке РЦНК в Каире прошло комплексное мероприятие, посвященное памяти Евгения Максимовича Примакова: возложение цветов к его бюсту, фотовыставка и творческий семинар.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Повторную прививку от туберкулеза можно не делать
Минздрав России убрал повторную вакцинацию детей 6-7 лет от туберкулеза.
Споры о целесообразности повторной вакцинации ведутся уже давно: ВОЗ объясняет отмену тем, что повторная прививка не повышает устойчивости организма ребенка к заболеванию, тем самым не увеличивает его иммунитет.
Ранее считалось, что повторная вакцинация в возрасте 6-7 лет обязательна, однако многочисленные исследования ВОЗ доказали, что она не выполняет необходимых для нее задач.
Где же логика? Заболеваемость туберкулезом растет, а Минздрав планирует отменить вторую прививку. За комментарием по этому поводу мы обратились к врачу-фтизиатру Андрею Никонову.
- Вакцина БЦЖ вводится для профилактики туберкулеза, - сказал эксперт. - Прививка не защищает от заражения, но защищает от перехода скрытой инфекции в открытую форму. Ничего страшного в случае отмены повторной прививки не произойдет, она имеет нулевую эффективность и не дает дополнительного иммунитета организму.
ВОЗ говорит сегодня, что нигде в мире ревакцинация детей 6-7 лет от туберкулеза не проводится, поскольку она неэффективна, а вакцинации при рождении достаточно для иммунитета.
Можно ли победить туберкулез раз и навсегда?
Современные методы борьбы с туберкулезом не способны осуществить полное уничтожение инфекции в мире. Они подходят только для профилактики и диагностики. Заболевание можно контролировать, ведь у него исключительно социальные причины - ухудшение питания, условий проживания человека или стресс.
Повышению уровня заболеваемости в стране и в мире способствует дезадаптация мигрантов, увеличение числа жителей без регистрации и постоянного места жительства, а следовательно, и без медицинского полиса.
Важно понимать, что человек может заболеть еще в подростковом возрасте, но проявить себя болезнь может только спустя 20-30 лет, поэтому проверяться следует регулярно.
- Как защитить себя от туберкулеза?
- Сбалансированное питание (включающее мясо, рыбу, овощи и фрукты).
- Обязательное употребление витаминов.
- Регулярные занятия спортом.
- Отказ от курения.
- Ежегодное прохождение медицинского осмотра.
Интересный факт
Туберкулез является одним из самых старых инфекционных заболеваний: палочки Коха находили у египетских мумий, в скелете доисторического человека, а упоминания о болезни - у древних вавилонян, 4 тыс. лет назад.
По данным ВОЗ, больных с открытой формой туберкулеза в мире насчитывается около 15 млн. Ежегодно вирус обнаруживается еще у 4 млн человек, умирают из которых 0,5 миллиона.
Но не нужно впадать в панику. Главное - соблюдать осторожность, регулярно проходить диспансеризацию, а в случае выявления инфекции - начать своевременное лечение.
КСТАТИ
Вакцину против туберкулеза изобрели во Франции в 1923 году. Раствор состоял из живых ослабленных бычьих микробактерий.
К слову, первую прививку с этим раствором делают на 7-е сутки после рождения малыша. После вакцинации на коже образуется небольшой по размеру рубец - знак того, что иммунитет к туберкулезу сформировался.
Екатерина Шагина
Разочарована: почему Россия не поддержала резолюцию по Ливии
Небензя оценил принятие Совбезом ООН резолюции по Ливии
Лидия Мисник
Россия воздержалась от голосования за резолюцию по Ливии в Совбезе ООН, потому что у нее нет ясного понимания, готовы ли все ливийские стороны выполнять это решение, заявил российский постпред в организации Василий Небензя. Документ был принят накануне. Он закрепил итоги берлинской международной конференции по ливийскому конфликту.
Москву разочаровала принятая Советом Безопасности ООН резолюция по Ливии, заявил постоянный представитель России в организации Василий Небензя во время своего выступления после голосования СБ.
Он пояснил, что российская сторона воздержалась от голосования по подготовленному Великобританией и Германией проекту резолюции, поскольку у нее нет «ясного понимания о готовности всех ливийских сторон выполнять это решение».
Изначально, по словам Небензи, Россия была заинтересована в том, чтобы решения, достигнутые на январской конференции в Берлине, были согласованы и реализованы. «Однако то, как разворачивалась дальнейшая работа на площадке ООН, наводит нас на мысль, что многие были заинтересованы просто побыстрее принять резолюцию Совета Безопасности вне зависимости от того, как она будет исполняться», — выразил мнение постпред.
Накануне Россия воздержалась от голосования по предложенной Великобританией резолюции. Вместе с тем ее поддержали 14 стран, поэтому Совет безопасности ООН принял документ. Он закрепляет итоги берлинской конференции по Ливии, прошедшей в столице Германии в середине января. В частности, авторы настаивают на том, чтобы на территории страны полностью соблюдалось оружейное эмбарго ООН.
Резолюция также призывает враждующие в Ливии стороны выразить приверженность продолжительному режиму прекращения огня и допускает проведение в стране международной операции по контролю над его соблюдением. В документе также упомянули обещание участников конференции в Берлине воздержаться от вмешательства в конфликт между Ливийской национальной армией (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара и созданного при поддержке ООН правительства национального согласия (ПНС), возглавляемого Фаизом Сарраджем.
По мнению главы МИД ФРГ Хайко Мааса, принятие Советом Безопасности ООН резолюции по Ливии — это большой шаг вперед на пути урегулирования конфликта. По его словам, «интенсивные переговоры по этому вопросу в Нью-Йорке» стоили того.
Маас призвал всех международных игроков отнестись всерьез к решению Совбеза и соблюдать в полной мере эмбарго на поставки оружия в Ливию.
«Успешное начало переговоров в формате «5+5» доказало, что сейчас настало время для того, чтобы объединить усилия по поиску политического решения конфликта в Ливии. Это мы подчеркнем также во время встречи глав МИД в воскресенье», — заявил германский министр.
На 16 февраля запланирована международная встреча по Ливии. Она пройдет на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Принятую СБ резолюцию по Ливии одобрили и в МИД ПНС, заявил РИА «Новости» глава ведомства Мухаммед ат-Тахер Сияла.
Этот документ закрепил итоги международной конференции по Ливии, которая прошла в Берлине 19 января. Помимо Хафтара и Сарраджа, в ней участвовали представители ООН, России, США, Египта, Турции и ряда других стран, в том числе Евросоюза, которые договорились о всеобъемлющем плане по урегулированию конфликта.
Главный итог этих переговоров — призыв сторон конфликта к прекращению огня в Ливии и возложенное на участников конференции обязательство воздержаться от вмешательства в ситуацию, соблюдая эмбарго на поставку вооружений в страну.
Министр иностранных дел России Сергей Лаврров сообщил, что стороны конфликта согласились делегировать по пять человек в специально создаваемый военный комитет.
Эта структура будет функционировать под контролем ООН и заниматься «разработкой мер доверия», пояснил глава внешнеполитического ведомства.
После того как в 2011 году был свергнут и убит ливийский лидер Муаммар Каддафи, Ливия как единое государство фактически перестала существовать — сейчас в стране двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент. На западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия. Власти восточной части государства функционируют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара. Между сторонами регулярно происходят вооруженные столкновения.

В России сильно выросла заболеваемость циррозом, выяснили ученые
Завершено крупное международное исследование распространения цирроза печени в 195 странах мира за 1990–2017 годы. В странах постсоветского пространства ситуация — одна из худших в мире. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Gastroenterology & Hepatology.
Международная коллаборация ученых GBD 2017 Cirrhosis занимается изучением распространения цирроза в мире — в том числе в зависимости от причин возникновения, а также оценкой социально-экономического ущерба, связанного с последствиями этого заболевания, — сокращения продолжительности жизни и потери трудоспособности. Руководят коллаборацией профессора Реза Малекзаде из Тегеранского медицинского университета и Мохсен Нагави из Вашингтонского университета в Сиэтле.
Опубликованный отчет охватывает 195 стран мира и период с 1990 по 2017 годы. Наша страна по приросту смертности от цирроза печени находится на четвертом месте в мире после Украины, Белоруссии и Литвы, и третьей, после Украины и Белоруссии, по сумме лет жизни ее граждан, прожитых с болезнью и потерянных вследствие преждевременной смерти. При этом, в течение всего периода наблюдений ситуация только ухудшается.
В отчете отмечается, что в 2017 году цирроз стал причиной более 1,32 миллиона случаев смерти в мире (из них 440 тысяч приходится на женщин и 883 тысячи — на мужчин), или 2,4 процента от общего числа смертей. Хотя этот показатель в целом по миру немного увеличился — на 0,5 процента — по сравнению с 1990 годом, коэффициент смертности, скорректированный на средний возраст населения, снизился с 21 до 16,5 смертей на 100 тысяч человек населения практически везде, кроме стран Восточной Европы и Центральной Азии.
Наименьший коэффициент смертности от цирроза наблюдается в Сингапуре, Исландии и Новой Зеландии (3,7; 3,8 и 3,9 смертей на 100 тысяч человек населения соответственно), а наибольший — в Египте (103,3 на 100 тысяч, несмотря на то, что количество алкоголь-ассоциированных циррозов в этой стране рекордно низкое даже по сравнению с арабскими странами).
"Обращает на себя внимание существенный рост числа декомпенсированных циррозов за последние 27 лет, — приводятся в пресс-релизе слова российского участника коллаборации, сотрудника МФТИ и Курского медицинского университета Давида Наимзада. — По нашим оценкам, в 2017 году в мире насчитывалось 10,6 миллионов человек с диагнозом декомпенсированный цирроз и 112 миллионов человек с компенсированным циррозом. Компенсированный цирроз — это начальная стадия заболевания, когда патология ткани печени уже может быть обнаружена, но орган справляется со всеми своими функциями в условиях отсутствия опасных факторов. Декомпенсированный цирроз от компенсированного отличает неспособность печени выполнять одну или несколько своих функций".
В качестве причин цирроза рассматривались: гепатиты В и С, алкоголизм, неалкогольный стеатогепатит (патологическое состояние, развивающееся, в частности, на фоне ожирения или диабета) и группа иных факторов. Как отмечается в статье, основными причинами развития цирроза в мире, особенно в странах с низким уровнем дохода, являются гепатиты В и С. Однако с течением времени происходит и динамичный рост доли циррозов, обусловленных неалкогольным стеатогепатитом.
При этом в структуре причин смерти от цирроза наибольшая доля алкоголь-ассоциированных циррозов наблюдается в Испании; с гепатитом В цирроз чаще всего ассоциирован в Сенегале, Того и Сингапуре; с гепатитом С — в Японии; с неалкогольным стеатогепатитом — в Эквадоре.
В странах постсоветского пространства ситуация с циррозом существенно отличается от общемировой. Если в 1990 году из 100 тысяч населения России декомпенсированный цирроз имели 129,8 человек, в 2017 году — уже 238, а в масштабах населения всей страны — около 450 тысяч человек, что сопоставимо с населением Курска. Для компенсированного цирроза эти значения составили 1521,2 человека на 100 тысяч в 1990 году и 2252,7 — в 2017-м, что в сумме превышает население Перми, Екатеринбурга и Новосибирска вместе взятых.
"Основной причиной этого роста стали алкогольные циррозы. Кстати, на постсоветском пространстве это практически общий тренд: доля алкоголь-ассоциированных циррозов с поправкой на возраст повысилась в полтора-два раза во всех странах бывшего СССР. С компенсированным циррозом в России в 1990 году проживали 2,5 миллиона человек, а в 2017 — уже 4, и у трети больных циррозом в России причиной заболевания стало злоупотребление алкоголем", — добавляет Давид Наимзада.
Ученые отмечают, что цирроз в наше время стал своего рода индикатором социального благополучия в стране. Технологии радикального лечения, такие как трансплантация печени, реально доступны только в развитых государствах. Против гепатитов В и С сегодня существуют эффективные меры профилактики и лечения. И хотя доступны они пока не повсеместно, сокращение к 2030 году числа инфицированных гепатитом на 90 процентов является одной из задач в рамках Целей в области устойчивого развития, принятых ООН. Однако никакие международные программы не помогут снизить распространенность цирроза, связанного с употреблением алкоголя.
Netflix готовит телесериал об Александре Македонском – великом полководце Древней Греции
По сообщению египетских СМИ, американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов Netflix готовится к выпуску телесериала о жизни Александра Великого, Македонского и, конкретно, о его походе в оазис Сива в Египте.
Согласно многим античным авторам, перед завоеванием Персии Александр Македонский посетил находившееся в Сиве святилище египетского верховного бога Амона-Ра, который уподоблялся греческому Зевсу (Ζευς - ?μμων). Египетские жрецы встретили его с большими почестями, тогда как первосвященник признал его божественную природу как сына Зевса и назвал законным фараоном Египта (330 - 323 гг. до н.э.).
Съемки в оазисе Сива начнутся в феврале или в марте этого года, в зависимости от погодных условий, и завершатся в Марокко.
В главной роли - английский актер Benjamin Whishaw.

Авигдор Эскин: «В Израиле небо очень близко к земле»
О советском детстве, сионизме, любви к русской культуре и многом другом
Саркисов Григорий
Родители назвали его Виктором, он учился в Гнесинке по классу фортепиано, вёл подпольные курсы иврита и «вредоносного» иудаизма, в 1979 году эмигрировал в Израиль, воевал в Ливане, отсидел почти два года в тюрьме по делу об осквернении арабской могилы, написал несколько книг и тысячу статей на иврите, английском и русском. Вот такой он, израильский общественный деятель и публицист Авигдор Эскин.
– Ваш отец происходил из раввинского рода, деда со стороны матери расстреляли в 1938 году по 58-й статье, и, наверное, на ваши политические воззрения во многом повлияла биография вашей семьи – как и рассказы бабушки о холокосте, труды Солженицына, с которыми вы ознакомились в юном возрасте?
– Начнём с того, что я родился в Москве, в роддоме, стоявшем на месте нынешнего здания ТАСС, так что Первопрестольная для меня не чужой город, и Россия – не чужая страна, хотя, конечно, мой родной дом – Израиль. В России у меня много друзей, и все годы я сознательно сохранял глубинную связь с русской культурой и русским языком. Вы упомянули моего деда, Виктора Константиновича Блажего, он был директором школы в Крыжополе, и его действительно расстреляли «за украинский национализм», хотя никаким националистом он не был. Возможно, ему просто припомнили польско-украинское происхождение. Кстати, его родной брат, Арефа Константинович Блажей, был генерал-лейтенантом, в годы войны служил начальником штаба 37-й армии, участвовал в Никопольско-Криворожской и Яссо-Кишинёвской операциях, был награждён двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Кутузова и Богдана Хмельницкого 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды. Он служил в РККА с 1924 года и вступил в ВКП(б) в 1939 году, через год после расстрела брата…
Десятилетним мальчишкой я нашёл у бабушки израильский календарик и прочитал там пророческие слова Теодора Герцля о грядущем создании Израиля. Это произвело на меня сильное впечатление, и в двенадцать лет я объявил родителям, что уеду в Израиль. Начал изучать иврит, Тору и историю иудаизма, читать диссидентскую литературу. В тринадцать лет меня исключили из школы за листовки в поддержку Солженицына, а в шестнадцать я был самым молодым в Москве преподавателем иврита. Были, конечно, и «задушевные» беседы в «органах», пару раз пришлось отведать и милицейского кулака. Однако меня не стали сажать, а отпустили в Израиль в декабре 1978 года.
– Вы ведь серьёзно занимались музыкой?
– Да, учился в Гнесинке по классу фортепиано у Натальи Андреевны Мутли, одной из последних учениц великого Нейгауза. Она была уникальным человеком, и с годами я всё чаще её вспоминаю. Продолжаю заниматься музыкой и сейчас… Итак, мне стукнуло восемнадцать, и я подал заявление на выезд. Разрешение пришло в 1978 году, в это время я был в Сусумане Магаданской области, где навещал преподавателя иврита, активиста сионистского движения Иосифа Бегуна. Сразу вылетел в Красноярск, оттуда в Москву, а дальше в Вену и в Тель-Авив. Живу здесь уже более сорока лет, и день, когда я впервые ступил на Святую землю, остаётся самым счастливым в моей жизни. Я вернулся домой…
– Не трудно было адаптироваться? Всё-таки новая страна…
– А я и не адаптировался, я же был дома. Поступил в ешиву в Кирьят-Арбе, потом призвали в армию, участвовал в боевых действиях в Ливане. Страшно не было – рядом были сослуживцы, за нами стояло государство. Куда страшнее выступать против системы, когда ты один…
– Вас называют самым правым человеком в Израиле, ультранационалистом, сионистом, экстремистом, радикалом, фундаменталистом… А кто вы на самом деле?
– На самом деле я – Авигдор Эскин. Что касается «эпитетов» в мой адрес, то тут, как говорили в детском саду: кто так обзывается... Это проявление недоразвитости «критикующих». При отсутствии аргументов они просто ругаются. Меня можно смело называть сионистом, но я точно не националист. Любая националистическая идеология ущербна по своей сути, особенно если ты серьёзно занимаешься духовной практикой. А я почти всю сознательную жизнь изучаю Тору, Каббалу, Талмуд и философию иудаизма. Моим наставником сегодня могу назвать раввина Мордехая Шрики. Это авторитетнейший богослов, получивший традиционное образование, а также окончивший Сорбонну. Я могу объяснить свои взгляды на этот мир, а не просто делить его на «своё» и «чужое», как это навязывается одними примитивными людьми другим примитивным людям. Я люблю Святую землю, где сбывались пророчества, её святость связана с самыми сакральными и сущностными элементами мироздания, культуры, всей человеческой цивилизации. Знаете, в Израиле небо очень близко к земле, близко к Сиону – и на Святой земле нельзя не думать о Вечном. Повторюсь, националистом я себя не считаю даже в мягком и позитивном смысле. И моя общественная деятельность никогда не ограничивалась израильской и еврейской темой. Со второй половины восьмидесятых я активно сотрудничал с белыми консерваторами в Южной Африке. За годы работы в России мне удалось навести мосты с самыми широкими кругами, включая русских почвенников и патриотов. Могу отметить и особые дружеские отношения с Грузией, установленные за последние десять лет. А сейчас активно помогаю продвигать армяно-еврейский музыкальный проект.
– Это просветительский проект?
– Да, эта встреча культур двух древнейших народов стартует в нынешнем году в Москве, Санкт-Петербурге и ряде других российских городов с серии концертов еврейской и армянской музыки, где выступит ведущая солистка Ереванского театра оперы и балета Варсеник Аванян в сопровождении пианистки Карины Погосбековой. Аванян по праву считается не только превосходной вокалисткой в классическом репертуаре, но и лучшей на сегодняшний день исполнительницей армянской музыки, продолжающей традицию Люсине Закарян. Первый концерт состоится 18 марта в московской «Галерее Нико» в Большом Тишинском переулке,19. Нам очень помогла Гаяне Никогосян, дочь выдающегося скульптора и художника Николая Никогосяна. В большой программе – музыка Комитаса, еврейские мотивы в произведениях Мусоргского, Римского-Корсакова, Равеля и других классиков, а также несколько фольклорных номеров. Армяне, как и евреи, очень древний народ. Подобно еврейской музыке, армянская музыка давно стала неотъемлемой частью всей мировой музыкальной культуры, получив современное звучание благодаря Комитасу, Тертеряну и другим выдающимся композиторам. Идея встречи двух великих культур и легла в основу нашего проекта, как идея сближения Арарата и Сиона. Это была наша совместная идея с Варсеник Аванян. Надеюсь, нас поддержат и российский Минкульт, и муниципалитет Иерусалима и мы сможем не только провести серию концертов в России, Армении и Израиле, но и организовать большой фестиваль с участием израильских, российских и армянских музыкантов.
– Вы пишете на иврите, русском и английском. А на каком языке думаете?
– Это зависит от того, в какой аудитории я нахожусь. Вот сейчас мы говорим по-русски, я и думаю по-русски. Кстати, все мои дети – а у меня их семеро, в возрасте от 8 до 37 лет – смотрят российские фильмы, читают русские книги и знают не только Пушкина, но и Аксакова. Считаю знание многих языков благом, открывающим перед человеком большие возможности. Вообще, в Израиле русский язык пользуется привилегированным статусом. Многие партии выступают по центральному телевидению с роликами на русском языке в рамках избирательной кампании. Такого за пределами СНГ нет нигде.
– То есть русскоязычные израильтяне чувствуют себя в стране уютно?
– В Израиле их называют «русскими», и это полноправная часть нашего народа, внёсшая колоссальный вклад в развитие науки, культуры, здравоохранения, экономики, обороны.
Они быстро вошли в элиту израильского общества, а уж в среде музыкантов «русские» имена встречаются чаще «чисто израильских». Но вопреки моим ожиданиям «русские» в Израиле не внесли заметной лепты в развитие духовной сферы, в богословие, в философию или в литературу.
– Недавно довелось прочитать вашу книгу «Толкование к Книге Псалмов», где подчёркнуто архаичная лексика со всеми этими «ажно», «глагольте», «зело», «око», «ланита», сочетается с неологизмами – «разнство», «целовывайте», «пустомазы», «распросторил», «обвиновь»…
– Я занимался толкованием к Псалмам Давида на русском языке, опираясь на традиционные классические комментарии и стараясь привнести сюда что-то своё. Хотел уйти от сухого академизма, придать тексту эмоциональную окраску. Это удалось благодаря стилистическим советам Солженицына и огромным возможностям, которые даёт выразительный и гибкий старый русский язык. Но это не стилизация под старину и не «пелевинско-модернистский», а скорее постмодернистский стиль.
– Спрошу вас как журналиста – как вы оцениваете уровень журналистики в Израиле, России и США?
– К сожалению, высокий уровень аналитики сегодня сохранился лишь в очень узких кругах, а общий уровень идёт на спад. Профессия стала «заказной», и даже если журналист работает не по «инструкции», он стремится к максимальному количеству «лайков». Такая ориентация «на толпу» опасна, и тут есть закономерность: чем менее профессионально ты пишешь, тем более популярным будет твой материал. И так – везде, и в США, и в Израиле, и в России.
– 23 января зрители НТВ стали свидетелями скандала между вами и ведущим программы «Место встречи» Андреем Норкиным…
– Меня возмутила атмосфера глумления, царившая на этом ток-шоу, и я вёл себя подчеркнуто вызывающе, потому что передо мной были кощунники. Напомню, что в этот же день в Иерусалиме отмечали годовщину освобождения Освенцима и открывали памятник ленинградцам-блокадникам. Это было беспрецедентным событием. Около пятидесяти лидеров ведущих стран мира собрались в Святом городе, чтобы отметить семидесятипятилетие освобождения Освенцима. Собравшиеся в Иерусалиме отдали дань умерщвлённым в Освенциме и советским солдатам-освободителям. А мемориал в честь жертв блокады в центре Иерусалима – это событие исторической значимости. Президент России прослезился, когда благодарил израильтян за то, как они провели открытие памятника. Но на НТВ решили «хайпануть» и первым делом сообщили, что «многие люди в Израиле выступали против этого монумента». Там кто-то собрал в интернете всего 150 подписей против установления монумента. Подавляющее же большинство были за установку монумента – и потому, что у многих были родные в осаждённом Ленинграде, и потому, что мы знаем о решающем вкладе СССР в разгром нацизма и о том, кто освободил узников Освенцима. На НТВ же решили устроить дешёвый скандальчик. В их попсовом скандальном описании была и открытая ложь. Нельзя святую тему превращать в балаган, да ещё на государственном телеканале, и наипаче – в то время как Путин со слезами на глазах благодарил израильтян за их бережное отношение к памяти жертв войны с нацизмом. Я сказал им в лицо всё, что хотели им сказать 90% зрителей, используя их лексикон, определив сие ристалище как «треш и беспредел». Прискорбно, что руководство телеканала не предприняло никаких мер. Это было куда большее кощунство, чем «пусси райот».
– В конце 1997 года спецслужба «Шабак» задержала вас по обвинению в умысле бомбардировать свиными головами мечеть Эль-Акса на Храмовой горе. Черед два года суд полностью вас оправдал по этому пункту обвинения. Но 1 января 2001 года вас осудили на 2,5 года тюрьмы и еще дали 1,5 года условно, обвинив в недонесении о подготовке экстремистских акций и в симпатиях к убийце Ицхака Рабина Игалю Амиру…
– Тогда я был, что называется, на виду, и кто-то решил меня «задвинуть». Поясню – я активно выступал против соглашения с террористом Арафатом, и, как показало время, мы были правы. Эти соглашения принесли не мир, а реки крови. Нашу правоту подтверждает и недавно обнародованный мирный план Трампа. Я всегда был против любых переговоров с террористами, расценивающими любую уступку как слабость. Чтобы я не мешал вести «мирные переговоры», против меня организовали кампанию травли и запугивания. Один мой приятель в ответ на очередной теракт военного крыла ХАМАС в Иерусалиме подпалил офис левой проарабской организации «Поколение мира» и возложил свиную голову на могилу террориста Аль Кассама после кровавого теракта, учинённого организацией, носившей его имя. Из этого приятеля и выбили показания против меня: мол, я обо всём знал, но не сообщил куда надо, а раз не сообщил, то поддержал…
– Вы поддерживаете позицию России по Украине, и, возможно, по этой причине с 2015 года вам запрещён въезд в эту страну. Насколько дееспособен сегодня президент Зеленский, заигрывающий с бандеровцами?
– Я бы не сказал, что Зеленский поддерживает бандеровцев, другое дело, что он не в силах с ними совладать. Ещё до Майдана я обращал внимание на то, что нацистских преступников на Украине героизируют не какие-то отдельные идиоты, а эта героизация происходит на государственном уровне. Мы эффективно поработали в Конгрессе США, инициировав письма от ведущих американских политиков руководству Украины против глорификации нацистских преступников. Бандиты из ОУН-УПА отличались во время войны особыми зверствами и убийствами мирных жителей. Но эти изверги составляли всего пять процентов от числа всех украинцев, участвовавших в войне, а 95 процентов воевали в Красной армии. Генетическая память должна быть не в пользу бандеровцев даже на Западной Украине! Но именно на Украине мы впервые после Второй мировой войны сталкиваемся с таким позорным явлением, как освящение памяти нацистов на государственном уровне. Тем не менее я уверен, эта коричневая пена исчезнет и Украина не превратится в фашистскую страну. О Зеленском скажу, что на иерусалимском форуме он повёл себя, мягко говоря, странно. Но было особенно неприятно узнать, что Зеленский договорился с Анджеем Дудой вместе почтить память ярых антисемитов Пилсудского и Петлюры. Это порнографично, недостойно.
– Там сказано много «интересного» и о «вине» СССР за начало войны и холокост…
– Пакт Молотова–Риббентропа так же позорен, как и Мюнхенское соглашение. Но нельзя забывать, что всё это происходило до того, как нацистская Германия стала машиной массового убийства. Тогда границы ещё не были такими сакральными, как после Хельсинкского соглашения 1975 года. И Даладье, Чемберлен и Сталин договаривались с Гитлером не о массовом уничтожении мирного населения, а о границах. И при самом плохом отношении к Пакту Молотова–Риббентропа или к Мюнхенскому соглашению надо помнить, в каком контексте это делалось. Был Освенцим, была блокада Ленинграда, был холокост. Вот – главная тема, и мы знаем, кто устраивал газовые камеры, а кто освобождал узников лагерей смерти. А оба примиренческих пакта были ошибками, преступными ошибками, но никак не преднамеренным поощрением массовых убийств.
– Вы как-то сказали, что «у России и Израиля есть прекрасные перспективы, они основаны, с одной стороны, на уважении русской идеи, которую исповедуют многие российские политики, с другой – еврейского традиционализма, который исповедую я». Но русско-еврейские отношения никогда не строились на основе почитания державности. Теперь – строятся?
– Увы, эти мои надежды не оправдались. Современные российские политики никак не являются носителями русской идеи Владимира Сергеевича Соловьёва, Бердяева, Сергия Булгакова, Солженицына. А поначалу, лет двадцать назад, была надежда на углублённое, почвенническое сотрудничество с Россией, которая могла представить альтернативу самоуничтожительному либерализму. Но Россия так и не смогла выстроить позитивной конструктивной альтернативы западному либерализму. И «почвенников» я здесь сегодня не вижу в политике – ни в солженицынском, ни в каком-то другом смысле. Всё превратилось в эпатаж и порнографию, один Проханов чего стоит! У него прекрасный язык, отличный стиль, но что он говорит?! Это же полный перевёртыш! Он мог кричать «Долой олигархов!», а назавтра с тем же энтузиазмом прислуживал Березовскому или Ходорковскому. То он говорит, что армяне – единственные воины на свете, а то призывает азербайджанцев к войне за Карабах. Проханов и иже с ним превратили патриотизм в порнографию. Впрочем, этот кризис касается не только России, но и Европы с США. Еще в восьмидесятые годы я сотрудничал с группой консерваторов правого крыла во главе с сенатором-республиканцем Джесси Хелмсом. Во времена апартеида довелось немало общаться и с белыми традиционалистами из ЮАР. Но жизнь показала, что консерватизм консерватизму рознь – всё зависит от того, что именно собираются «консервировать». Сейчас есть шанс на американский ренессанс через Трампа, но иррациональная мера сопротивления ему со стороны истеблишмента ставит под сомнение возможность сущностного исправления там.
– Сегодня весь мир говорит о «сделке века» – предложенном президентом США плане урегулирования ситуации с Палестиной. Мирный план не спровоцирует новое обострение ситуации в Израиле?
– Ситуация обостряется, когда Израиль идёт на уступки. Стоило начать переговоры с Арафатом – террор зашкаливал, террористы взрывали автобусы, убивали людей на улицах, страшные вещи происходили в 1993–1995 годах. А после поспешного вывода войск из Южного Ливана началась вторая интифада (2000–2003), стоившая жизни полутора тысячам израильтян. Теперь Трамп лишает террористов надежды на успех. Он прямо сказал палестинцам: это ваш последний шанс, и если вы сейчас им не воспользуетесь, у вас никогда не будет государства. Трамп предложил им 50 миллиардов долларов и части территории Иудеи и Самарии, разумеется, после полного разоружения и при полном израильском контроле границ. Думаю, палестинцы не примут этот план, но это их дело. Важно, что Трамп признал израильский суверенитет над Иерусалимом и частью территорий, освобождённых в 1967 году. Именно освобождённых, поскольку с 1948 года по 1967-й они были незаконно оккупированы Иорданией.
Обратной дороги нет. Если палестинцы отвергнут предложение и не захотят иметь своё государство в рамках этих границ, то Израиль продолжит распространять свою юрисдикцию на все эти территории – а там всего 6 тысяч квадратных километров. Палестинцам вернут иорданское гражданство, которое было у них до 1988 года. Не пожелают они гражданства Иордании – будут жить дальше как сейчас. Это их выбор.
– Будет война?
– Никакой войны не будет: для ведения войны у палестинцев нет ресурсов, а главное – у них нет поддержки даже в арабском мире. Россия точно помогать им не собирается. Конечно, они могут надеяться на помощь изгоя-Ирана, или Катара, но без надежды на общий антиизраильский фронт и общую победу они способны разве что на отдельные акты безумия. «Сделку века» поддержали Египет, Саудовская Аравия, Оман, Бахрейн и ОАЭ, и план Трампа станет основой для переговоров, что изменит ситуацию на Ближнем Востоке. Если переговоры не состоятся, то декларация Трампа приведёт к общему успокоению.
Помните, как горе-политологи кликушествовали после переноса посольства США в Иерусалим и после признания суверенитета Израиля на Голанских высотах. Пророчили нам армагеддон. А вышло, что всё только успокоилось.
– В одном интервью вы сказали: «Спасибо врагам за столь высокую оценку силы моего слова и спасибо друзьям, с которыми мы вместе удостоимся возвести Храм в Иерусалиме». Сегодня вы сказали бы то же самое?
– Есть такая байка. Одному раввину сказали, что некий человек его ненавидит и считает своим врагом. Раввин затанцевал от радости: «Больше всего я боялся, что этот негодяй может сказать обо мне что-то хорошее!..» Это, конечно, шутка, но когда я смотрю на своих врагов, на душе делается приятно, потому что я знаю: меня любят хорошие и умные люди, а ненавидят – плохие и дурные. Значит, мои враги – моя сила! А множеству друзей поклон, благодарность и благословение Всевышнего из Иерусалима. Мы вместе строим Иерусалимский Храм для всего мира.
Беседу вёл Григорий Саркисов
Посеешь рубль
В южных регионах России совершенствуют формы поддержки сельхозпроизводителей
Текст: Александр Гавриленко (Ростовская область) , Юрий Гень (Краснодарский край) , Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Агропромышленный комплекс Краснодарского края по-прежнему считается одной из самых выгодных сфер для инвестиций. Сейчас в этом секторе успешно реализуется более 190 проектов на общую сумму в 115 миллиардов рублей. Причем только по итогам 2019 года в АПК региона вложили 47 миллиардов рублей.
Среди крупных и ярких проектов, которые уже реализуются, можно отметить несколько. Это тепличный комплекс по выращиванию грибов-шампиньонов в Крыловском районе. Его площадь составляет 69 гектаров, а мощности позволят каждый год выращивать 10 тысяч тонн грибов. Также в состав комплекса входит производство шампиньонного компоста для нужд теплицы, а также реализация этой продукции по 35 тысяч тонн в год. Общий объем инвестиций в проект составил 2,3 миллиарда рублей, и в 2019 году он уже начал работать.
Другой интересный проект - создание суперинтенсивного сада в Абинском районе площадью 135 гектаров и строительство фруктохранилища на пять тысяч тонн. После того как сад начнет действовать, он окажется одним из самых крупных садоводческих комплексов в крае. Главный инвестор этого проекта - компания "Южные земли" - вложил в хозяйство 1,3 миллиарда рублей. Яблоневый сад в окончательном виде сформируют уже к 2021 году, а его продукцию планируют поставлять как в магазины края, так и в регионы европейской части России.
В числе наиболее крупных инвесторов в сфере виноградарства и виноделия остается компания "Абрау-Дюрсо". К 2021 году она запланировала заложить 779 гектаров новых виноградников. А в области животноводства выделяется строительство крупного свиноводческого селекционно-генетического центра компании "Торговый дом "Ясени". Все эти проекты наглядно демонстрируют, как идет развитие в разных сферах агропромышленного комплекса Кубани.
В Ставропольском крае к 2024 году планируют за счет инвестиций увеличить экспорт продукции до миллиарда долларов. Предстоит в шесть раз увеличить производство коровьего молока, втрое - экспорт и восстановить мелиоративные системы. Хотя край и так входит в тройку безоговорочных лидеров по урожаю зерна, тепличных овощей и производству мяса птицы, для южного региона этого мало.
Сейчас аграрный сектор региона участвует в двух национальных проектах - "Международная кооперация и экспорт" и "Поддержка малых форм предпринимательства". В рамках первого в регионе разработан местный проект "Экспорт продукции АПК Ставропольского края". По словам первого зампредседателя правительства региона Николая Великданя, к 2024 году Ставрополье должно увеличить экспорт продукции агропрома в три с половиной раза - до 1,09 миллиарда долларов. Чтобы таких показателей достичь, нужно использовать современные технологии. Так, развитие мелиоративных систем позволит в разы увеличить урожайность. Поставлена задача увеличить площадь орошаемых земель до ста тысяч гектаров к 2024 году.
- Планируемые затраты на развитие орошаемых земель составят более 25 миллиардов рублей. Это позволит увеличить объем производства кукурузы, сои и оврощей на миллион тонн в год, - подчеркнул Великдань.
Сейчас внутренние мощности пищевой промышленности в крае способны удовлетворить потребности и самого Ставрополья и обеспечить экспорт по России и за рубеж. География поставок широка: минеральные воды, пшеница, макароны, мясо птицы и другие товары отправляются в Азербайджан, Казахстан, Грузию, Китай, Иран, Египет, Канаду, Израиль, Новую Зеландию, Соединенные Штаты Америки и другие страны.
Экспортные объемы должны значительно увеличиться за счет внедрения инновационных производств. В крае сейчас готовятся к реализации семь крупных инвестпроектов, на которые из бюджета выделят более 17 миллиардов рублей.
Близкую к этому сумму вложит инвестор в строящийся в Минераловодском районе тепличный комплекс "Кавказ". Рядом с селом Побегайловка теплицы будут построены в два этапа: первую очередь площадью 41,2 гектара введут в эксплуатацию в августе 2021 года, вторая очередь появится к концу 2022-го.
- В состав комплекса войдут высокотехнологичные теплицы с централизованным компьютерным управлением, предназначенные для круглогодичного выращивания наиболее востребованных тепличных сортов томатов. Производительность всего комплекса после запуска проекта на полную мощность составит 29 685 тонн овощей в год, - отметили в офисе инвестора.
Новый тепличный комплекс, кстати, будет полностью ориентирован на экспорт, а выращивание томатов даст почти 1300 рабочих мест для высококлассных специалистов и простых работников.
Продолжается реализация инвестпроекта строительства агропромышленного парка "Ставрополье", который должны завершить к 2022 году. В рамках проекта появятся заводы - мясоперерабатывающий и по глубокой переработке кукурузы со смежными производствами, плодоовощной комплекс с заводом по производству замороженных овощей и сублимированных продуктов, а также комплекс обслуживания автомобильного транспорта. Инвестиции составят около 9 миллиардов рублей, будет создано до 900 рабочих мест.
Сразу два инвестора вложили крупные средства в закладку интенсивных садов - 5,3 и 1,1 миллиарда рублей. В садах планируется капельное орошение и внедрение клоновых подвоев. Яблоки и другие фрукты в регионе растут хорошо, здесь даже работает крупнейший питомник плодовых деревьев, который выращивает до 1,5 миллиона саженцев в год.
Отстает от планов Ставрополье только по молоку. За два года толком не удалось нарастить объемов выпуска, и край продолжает топтаться на отметке 130-150 тысяч тонн в год. Пока не помогают даже бюджетные вливания на покупку техники и племенного скота.
В Ростовской области также поддерживают малые формы предпринимательства. Создан Центр компетенций в сфере сельхозкооперации, который помогает начинающим кооператорам, оказывает информационно-консультационные услуги и содействие в реализации госпрограмм. За прошлый год при поддержке центра было создано 19 новых кооперативов, в которых участвуют несколько сотен фермеров. По планам правительства области, к 2024 году в кооперативное движение на Дону нужно вовлечь, как минимум, 1200 человек. Задача амбициозная, но выполнимая, говорят эксперты.
- Практика показывает, что экономическая эффективность фермеров часто выше, чем агрохолдингов. Это значит, у нас уже выросло поколение грамотных специалистов и хороших управленцев, - говорит первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. - Правда, плановая экономика практически отучила наших аграриев работать сообща. А ведь в условиях современного рынка наладить переработку выращенной продукции и организовать продажи на экспорт поодиночке невозможно. Этим могут заниматься сельхозкооперативы. А государство обязано помочь им сделать первые шаги.
Сегодня донские кооперативы могут получить субсидии в размере 15 процентов от затрат на закупку сельхозпродукции - если вы покупаете ее у своих же членов. А если вы решите купить в кооператив сельхозтехнику, теплицы, оборудование для переработки или мобильные торговые объекты, то государство компенсирует уже половину всех затрат. Таких условий нет, пожалуй, ни в одной другой отрасли, констатируют эксперты.
Продолжают действовать и те программы, которые уже зарекомендовали себя в прошлые годы, - всего кооперативам сейчас оказывается 30 различных видов поддержки. По программе "Агростартап" начинающие фермеры могут получить до четырех миллионов рублей (возмещение до 90 процентов затрат на покупку основных средств и сельхозживотных). При этом им даже не обязательно иметь профильное сельхозобразование или работать в сфере АПК. Создать свое небольшое дело на селе могут даже, например, сельские врачи или учителя. Было бы желание.
Некоторые кооперативы уже достигли неплохих успехов - например, один из них наладил экспорт гороха и нута в арабские страны, а также в страны Юго-Восточной Азии, Индии и Северной Африки. Десятки фермеров получили возможность выращивать эти высокомаржинальные культуры. Причем они заранее договариваются с покупателями об объемах закупок и могут корректировать свои производственные планы, расширять производство по мере необходимости. Они знают, что их товар будет выкуплен по заранее оговоренной цене. А это уверенность в завтрашнем дне.
- Выход донских аграриев на экспорт - это одна из приоритетных задач государства, - подчеркивает Виктор Гончаров. - Больший потенциал есть в таких сферах, как мясное и молочное животноводство, а также производство и заготовка овощей и фруктов.

Светлана Зубова: Египет добился прогресса по безопасности в аэропортах
Временный поверенный в делах России в Египте Светлана Зубова рассказала в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника о том, когда можно ждать возобновления авиаперелетов из российских городов на популярные курорты Египта, о перспективах экономического сотрудничества Москвы и Каира и о том, как на них повлияли итоги недавнего саммита Россия-Африка.
— Светлана Игоревна, в конце января российские эксперты по авиабезопасности закончили очередной осмотр аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады. Как вы считаете, насколько эти аэропорты готовы в плане безопасности к приему рейсов из России и когда ожидается возобновление полноформатного авиасообщения между нашими странами?
— На наш взгляд, египетским властям удалось за последнее время добиться значительного прогресса в укреплении безопасности в аэропортах и на авиационном транспорте. Как мы видим, и это подтверждают наши специалисты, Египтом предприняты эффективные меры по приведению воздушных гаваней в соответствие с требованиями ИКАО. Происходит оснащение аэропортов современным высокотехнологичным оборудованием, камерами наблюдения, системами сканирования багажа, идет процесс обучения персонала. Россия учитывает эти позитивные изменения, что, в частности, дало нам возможность восстановить прямое авиасообщение с Каиром в апреле 2018 года.
По итогам состоявшейся в январе этого года инспекции нашими экспертами будет подготовлен детальный отчет, который, безусловно, должен быть всесторонне изучен заинтересованными российскими министерствами и ведомствами. С учетом этих процедур пока трудно со всей определенностью ответить на вопрос о конкретных сроках возобновления чартерного сообщения между Россией и египетскими курортами. Надеемся, что это произойдет довольно скоро.
— Как продвигается расследование трагедии с российским самолетом Airbus А321 компании "Когалымавиа", потерпевшим крушение на Синайском полуострове в 2015 году? Есть ли новая информация? Появились ли подозреваемые?
— Расследование продолжается. Мы активно сотрудничаем с египетской стороной в этом вопросе. Вместе с тем, в соответствии с общемировой процессуальной практикой, детали следствия не разглашаются.
— Президенты России и Египта были сопредседателями первого экономического форума и саммита Россия - Африка в октябре 2019 года в Сочи. Насколько это событие повлияло на взаимодействие между Москвой и Каиром на Африканском континенте?
— Сопредседательство президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и президента Арабской Республики Египет Абдель Фаттаха ас-Сиси на экономическом форуме и саммите в Сочи укрепило и активизировало и без того плотную координацию и сотрудничество между нашими странами на всех направлениях и прежде всего на африканском. Мы находимся в постоянном контакте с египетской стороной по вопросам урегулирования существующих на континенте кризисов, включая ситуацию в Ливии, Судане, Южном Судане и так далее, обсуждаем совместные шаги по противостоянию существующим здесь вызовам и угрозам: терроризму, наркотрафику, организованной преступности, пиратству. По всем этим сюжетам позиции России и Египта близки или совпадают.
Активно работаем с египтянами в целях реализации российских экономических планов в Африке, которые будут в том числе способствовать решению поставленных Каиром в ходе его председательства в Африканском союзе в 2019 году задач в целях устойчивого развития региона. В частности, продолжаем сопровождение продвижения одного из наиболее значимых экономпроектов в Африке — создания в АРЕ Российской промышленной зоны. Его важность обусловлена прежде всего уникальными возможностями выхода российской продукции через Египет непосредственно на африканские рынки. Проводим также интенсивные контакты с представителями посольств стран-членов ЕАЭС в Каире для обсуждения перспектив привлечения указанных государств к работе РПЗ.
В рамках сотрудничества с египетскими партнерами на Африканском континенте в течение 2019 года российские представители подключались к масштабным общеафриканским мероприятиям, организованным Египтом в качестве председателя Афросоюза. Так, посольство приняло участие в работе состоявшегося в новой административной столице АРЕ в ноябре инвестиционного форума "Африка-2019", а также проведенных в декабре прошлого года Асуанском форуме и конференции Африканской ассоциации по государственному управлению.
— Повлияло ли проведение саммита Россия - Африка на позиции Российской Федерации на Черном континенте, на ее экономическое и политическое взаимодействие со странами континента?
— Состоявшиеся в октябре прошлого года в Сочи саммит Россия — Африка и экономический форум, безусловно, дали старт принципиально новой программе укрепления и развития всего комплекса отношений России со странами континента. Хотелось бы особо подчеркнуть, что благодаря энергичным усилиям президента АРЕ Абдель Фаттаха ас-Сиси как сопредседателя саммита удалось обеспечить участие в сочинских мероприятиях практически всех стран Африканского континента. С удовлетворением отмечаем, что на них присутствовали главы 45 государств Африки и руководители восьми межафриканских региональных организаций.
Результатом российско-африканской встречи в Сочи стало подписание 92 соглашений. Российский инвестиционный пакет превышает 16 миллиардов долларов США. В рамках форума удалось также активизировать сотрудничество между АС и ЕАЭС. Заключен меморандум о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Комиссией Африканского союза. В обозримой перспективе это позволит упростить процесс межведомственного взаимодействия между членами ЕАЭС и африканскими государствами с целью предоставления соответствующих экономических преференций.
Российско-египетские отношения по всем показателям вышли на уровень стратегического партнерства. Продвинутые связи с Каиром служат наглядным примером, своего рода ролевой моделью для развития взаимодействия с другими странами Африканского континента, подтверждают статус нашей страны как ведущей мировой державы, готовой к налаживанию многопрофильного взаимовыгодного сотрудничества с африканскими народами.
Значительное внимание в ходе саммита было уделено вопросам консолидации усилий по противостоянию террористическому интернационалу. Мы открыты для предметного обсуждения нашего возможного содействия в борьбе с экстремистскими группировками в Сахаро-Сахельском регионе и странах Центральной Африки, включая военно-техническое сотрудничество.
В целом можно с уверенностью констатировать, что саммит Россия-Африка придал мощный импульс российско-африканскому диалогу, открыл принципиально новые возможности для политического и экономического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах.
— Насколько близки сейчас позиции Москвы и Каира в деле урегулирования конфликта в Ливии?
— Как я уже отметила, координация наших с Египтом подходов по Ливии осуществляется на регулярной основе. 4 февраля состоялся очередной телефонный разговор между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым и его египетским коллегой Самехом Шукри, где в том числе затрагивался ливийский сюжет. Мы едины с Каиром в оценках происходящего в данной арабской стране, выступаем за запуск общеливийского национального диалога и нахождение развязок конфликта самими ливийцами. Позитивно воспринимаем итоги состоявшейся 19 января этого года в Берлине конференции по Ливии и рассчитываем на одобрение ее решений основными ливийскими политическими силами. Разделяем также озабоченности египтян по поводу роста террористической угрозы в Ливии.
— В египетской тюрьме находятся российские граждане, уроженцы Республики Ингушетия. Недавно на эту тему выступал глава МИД Сергей Лавров. По его словам, Египет не ответил ни на одну из более чем 20 нот посольства России о причинах задержания. Спикер Совета Федерации поручила подготовить обращение к египетским коллегам. Есть ли какая-то реакция Египта на слова российского министра и получили ли египетские депутаты письмо российских парламентариев?
— Прежде всего поясню, что помимо четырех уроженцев Республики Ингушетия — И. М. Аушева, А. И. Дзейтова, Р. А. Плиева и И. Р. Чемурзиева — под арестом в Египте по тому же делу находится гражданка России З. А. Салиходжаева (уроженка Таджикистана). Еще одно уголовное дело возбуждено египетскими правоохранительными органами в отношении жителя Чеченской Республики С. С. Абубакирова. Россияне обвиняются в финансировании террористической группировки ИГИЛ*, использовании социальных сетей для распространения экстремистских идей, а также шпионаже в пользу иностранного государства.
Российско-египетские отношения по всем показателям вышли на уровень стратегического партнерства. Продвинутые связи с Каиром служат наглядным примером, своего рода ролевой моделью для развития взаимодействия с другими странами Африканского континента, подтверждают статус нашей страны как ведущей мировой державы, готовой к налаживанию многопрофильного взаимовыгодного сотрудничества с африканскими народами.
Значительное внимание в ходе саммита было уделено вопросам консолидации усилий по противостоянию террористическому интернационалу. Мы открыты для предметного обсуждения нашего возможного содействия в борьбе с экстремистскими группировками в Сахаро-Сахельском регионе и странах Центральной Африки, включая военно-техническое сотрудничество.
В целом можно с уверенностью констатировать, что саммит Россия-Африка придал мощный импульс российско-африканскому диалогу, открыл принципиально новые возможности для политического и экономического партнерства как в двустороннем, так и многостороннем форматах.
— Насколько близки сейчас позиции Москвы и Каира в деле урегулирования конфликта в Ливии?
— Как я уже отметила, координация наших с Египтом подходов по Ливии осуществляется на регулярной основе. 4 февраля состоялся очередной телефонный разговор между министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Викторовичем Лавровым и его египетским коллегой Самехом Шукри, где в том числе затрагивался ливийский сюжет. Мы едины с Каиром в оценках происходящего в данной арабской стране, выступаем за запуск общеливийского национального диалога и нахождение развязок конфликта самими ливийцами. Позитивно воспринимаем итоги состоявшейся 19 января этого года в Берлине конференции по Ливии и рассчитываем на одобрение ее решений основными ливийскими политическими силами. Разделяем также озабоченности египтян по поводу роста террористической угрозы в Ливии.
— В египетской тюрьме находятся российские граждане, уроженцы Республики Ингушетия. Недавно на эту тему выступал глава МИД Сергей Лавров. По его словам, Египет не ответил ни на одну из более чем 20 нот посольства России о причинах задержания. Спикер Совета Федерации поручила подготовить обращение к египетским коллегам. Есть ли какая-то реакция Египта на слова российского министра и получили ли египетские депутаты письмо российских парламентариев?
— Прежде всего поясню, что помимо четырех уроженцев Республики Ингушетия — И. М. Аушева, А. И. Дзейтова, Р. А. Плиева и И. Р. Чемурзиева — под арестом в Египте по тому же делу находится гражданка России З. А. Салиходжаева (уроженка Таджикистана). Еще одно уголовное дело возбуждено египетскими правоохранительными органами в отношении жителя Чеченской Республики С. С. Абубакирова. Россияне обвиняются в финансировании террористической группировки ИГИЛ*, использовании социальных сетей для распространения экстремистских идей, а также шпионаже в пользу иностранного государства.
Несмотря на то, что египетские органы безопасности задержали упомянутых российских граждан еще в августе 2018 года, посольство не было уведомлено об этом в соответствии с порядком, предусмотренным двусторонней Консульской конвенцией. Причем, действительно, свыше 20 наших нот с просьбой о предоставлении информации о задержанных были оставлены без ответа МИД АРЕ.
После передачи в конце декабря 2019 года министру иностранных дел АРЕ Самеху Шукри устного послания Сергея Викторовича Лаврова о судьбе упомянутых российских граждан заместитель министра иностранных дел АРЕ по консульским вопросам Хашим запросил у руководства посольства копии всех ранее направлявшихся нот по фактам задержания россиян в Египте. Были получены промежуточные ответы в отношении ряда других досье, находящихся на контроле нашей дипмиссии. Вместе с тем официальных комментариев с египетской стороны по делам четырех уроженцев Ингушетии, Салиходжаевой и Абубакирова пока так и не последовало. О ходе судебного процесса и датах проведения судебных заседаний посольство по-прежнему не уведомляется.
Некоторые положительные подвижки тем не менее наметились — консульским сотрудникам предоставлена возможность посещать наших граждан в тюрьме (чего мы добивались на протяжении более шести месяцев). Отреагировали власти АРЕ и на жалобы россиян на условия тюремного содержания: часть требований удовлетворена египетской стороной. Серьезную озабоченность, однако, вызывает отсутствие доступа задержанных к квалифицированному медицинскому обслуживанию.
Кроме того, хотелось бы отметить, что информация о местонахождении еще одного уроженца Республики Ингушетия, Х. О. Дугиева, предположительно также задержанного египетскими силовиками в августе 2018 года, у нас, несмотря на многократные соответствующие запросы, по-прежнему отсутствует.
— Как продвигается работа по подготовке строительства Росатомом первой египетской АЭС "Эль-Дабаа"? Ранее сообщалось, что строительство первого энергоблока начнется во второй половине 2020 года.
— Все работы по проекту АЭС "Эль-Дабаа" ведутся согласно установленному графику. Весной 2019 года Управление по атомным электростанциям Египта получило разрешение на строительную площадку. В настоящее время там начаты первоочередные подготовительные работы.
Продолжается проектирование станции и подготовка документации для получения так называемой ядерной лицензии на сооружение АЭС со стороны египетского органа атомного надзора — Управления по регулированию ядерной и радиологической безопасности (ENRAA). После этого имеется в виду приступить к полноформатному осуществлению данного масштабного проекта.
Особо хотелось бы отметить прогресс в работе с локальными поставщиками. Как известно, в соответствующем контракте закреплены степень и критерии локализации в процентном отношении от цены каждого блока станции. Локализация будет достигаться нарастающим эффектом: от 20 до 35% в зависимости от блока. В 2019 году генеральным подрядчиком — компанией "Атомстройэкспорт" — были успешно проведены три тендера и подписаны контракты с тремя египетскими компаниями. В июле 2019 года заключен контракт с египетской компанией "Петроджет" о выполнении первых подготовительных работ на площадке. В декабре 2019 года компания "Хассан Аллам" выиграла тендер на сооружение пионерной базы, а компания "Араб Контракторс" конкурс на выполнение работ по вертикальной планировке площадки и геодезической разбивочной основе. Все три компании обладают достаточным профессиональным опытом и хорошо известны на рынке Египта.
— Когда ожидаются первые поставки произведенных в РФ пассажирских вагонов по контракту между российско-венгерским консорциумом "ТМХ Венгрия" и Египетскими национальными железными дорогами?
— В соответствии с договоренностями консорциума "Трансмашхолдинг Венгрия Кфт." и министерства транспорта АРЕ поставка первых 180 пассажирских вагонов в рамках коммерческого контракта компании с Египетскими национальными железными дорогами должна быть осуществлена до конца июня 2020 года. При этом первые подвижные составы из этой партии могут появиться в АРЕ уже в первом квартале текущего года.
— Российская промышленная зона в Египте также является одной из главных тем российско-египетского сотрудничества. Как продвигаются переговоры по этой теме и когда можно ждать запуска промзоны?
— 23 мая 2018 года в Москве было подписано межправительственное соглашение о создании и обеспечении условий деятельности Российской промышленной зоны в особой экономической зоне Суэцкого канала. Впоследствии специалистами обеих стран была проделана большая работа по имплементации достигнутых договоренностей. В настоящее время уполномоченные органы России (Russian Industries Overseas Egypt, дочерняя компания Российского экспортного центра) и Египта (Главное управление Особой экономической зоны Суэцкого канала) проводят согласование различных аспектов девелоперского контракта, который определит технические и экономические параметры работы РПЗ. Ожидаем подписания указанного документа в первой половине 2020 года.
Параллельно Российский экспортный центр совместно с министерством промышленности и торговли Российской Федерации ведет поиск потенциальных резидентов и инвесторов РПЗ. На данный момент подписано 32 соглашения о намерениях с компаниями, выразившими желание принять участие в проекте.
— В минувшем году египетский президент пригласил президента России посетить Египет для участия в церемонии закладки первого камня АЭС, которую Россия будет строить в этой стране, а также запуске российской индустриальной зоны. Известны ли уже даты этого визита?
— Действительно, такое предложение со стороны Абдель Фаттаха ас-Сиси поступило в адрес президента России в ходе их встречи в Сочи в октябре 2019 года на полях саммита Россия-Африка. Вместе с тем пока конкретные сроки возможного визита не обозначены. В любом случае ожидаем ясности по времени закладки "первого бетона" и финализации юридических формальностей, связанных с подписанием соглашения по РПЗ. Тогда уже можно будет делать какие-либо прогнозы.
— Известно ли имя нового посла РФ в Египте? Когда он прибудет в Каир?
— В данный момент этот вопрос находится на стадии проработки.
— В последние годы так называемой арабской весны регион Ближнего Востока и Северной Африки стал главным поставщиком новостей для мировых СМИ. Все это накладывает ответственность и на российских дипломатов, фактически работающих в режиме нон-стоп. Насколько такая жесткая динамика и порой сложная обстановка повлияли на формирование нового поколения российских дипломатов, насколько закалила их?
— Безусловно, работа в российских посольствах в регионе Ближнего Востока и Северной Африки требует в последнее время огромного напряжения и самое главное — максимальной самоотдачи. В таком режиме вынуждены работать и молодые дипломаты. У них нет времени на раскачку. Ситуация сама заставляет их сразу же по приезде в командировку с головой погружаться в работу. Это трудно, но вместе с тем интересно, ведь у молодежи — в отличие от дипломатов старшего поколения — появляются уникальные возможности постигать все тонкости профессии с самого первого дня прихода на службу. Речь идет как о работе в поле — устные и письменные переводы, протокольные функции, обработка материалов СМИ, так и об аналитической составляющей нашей профессии — подготовка справочных документов, выход на контакты и умение обобщать полученную информацию. Бесспорно, такая практика способствует формированию сильного поколения российских дипломатов. Со своей стороны с уверенностью могу сказать, что в посольстве России в Каире трудятся именно такие молодые кадры.
— В посольстве будут какие-то мероприятия по случаю Дня дипломата, отмечаемого 10 февраля?
— На период с 3 по 12 февраля 2020 года посольством подготовлена обширная программа общественно-политических и культурных событий, посвященных нашему профессиональному празднику. Центральное из них — официальный прием по случаю Дня дипломатического работника 10 февраля. Кроме того, состоялся уже традиционный спортивный турнир. В общеобразовательной школе при посольстве был организован конкурс на лучшее сочинение среди учащихся 7-го и 8-го классов о роли дипломатической службы и круглый стол с учениками старших классов для обсуждения важных исторических вех дипломатической службы в России. На площадке РЦНК в Каире прошло комплексное мероприятие, посвященное памяти Евгения Максимовича Примакова: возложение цветов к его бюсту, фотовыставка и творческий семинар.
* Террористическая организация, запрещенная в России
ГК «Римера» принимает участие в международной нефтегазовой выставке EGYPS 2020
Группа компаний «Римера» (нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ) принимает участие в международной нефтегазовой выставке EGYPT PETROLEUM SHOW 2020 (EGYPS 2020), которая проходит с 11 по 13 февраля в Каире.
Египет является одним из приоритетных экспортных направлений Группы ЧТПЗ. В 2019 году доля отгрузок трубной продукции Группы ЧТПЗ в суммарном экспорте поставщиков России и СНГ в Египет выросла на 16% по отношению к 2018 году и составила 24%.
На крупнейшей выставке этого региона компания представляет зарубежным клиентам широкую номенклатуру высококачественной продукции трубно-магистрального и нефтесервисного дивизионов Группы ЧТПЗ, которая включает в себя сварные и бесшовные трубы, трубы нефтегазового сортамента, соединительные детали и арматуры трубопроводов, погружное нефтедобывающее оборудование и другую продукцию. Компания также презентует на стенде глубинные штанговые, электроцентробежные и горизонтальные насосы, автоматический буровой ключ с гидравлическим приводом АКБГ-216/80 и перфорированные скважинные фильтры.
Кроме того, посетители выставки EGYPS 2020 смогут совершить на стенде Группы ЧТПЗ виртуальный тур по цехам Белой металлургии — «Высота 239» и «ЭТЕРНО» Челябинского трубопрокатного завода, «Железный Озон 32» и «Финишный центр» Первоуральского новотрубного завода.
В 2020 году в выставке EGYPT PETROLEUM SHOW примут участие более 30 000 посетителей-специалистов и 450 экспонентов, среди которых 24 международные нефтяные компании.
Группа ЧТПЗ и ГК «Римера» представлены на стенде № 3F40 в павильоне № 3.
Группа компаний «Римера» — нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ, предлагающий предприятиям ТЭК комплексные решения по производству оборудования и сервисные услуги по обустройству месторождений. Группа компаний объединяет предприятия российского нефтяного машиностроения (заводы »Алнас» и «Ижнефтемаш») и сеть сервисных центров («Римера-Сервис»), расположенных в крупнейших нефтедобывающих регионах России.
Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп металлургического комплекса России. По итогам 2018 года доля компании в совокупных отгрузках российских трубных производителей составила 16,5%. Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен Группой компаний «Римера».

Стать ближе к Африке
Примет ли России участие в промышленной революции "Черного континента"
Текст: Константин Волков
В Аддис-Абебе завершился 33-й саммит Африканского союза (АС), включающего все 55 государств континента. На мероприятии выступил Сирил Рамапоса, президент ЮАР, которая в этом году председательствует в организации.
Главными вопросами саммита стали разработка стратегии для четвертой промышленной революции в Африке, а также поддержка экономического развития, торговли и инвестиций на континенте. В частности, на встрече в Аддис-Абебе обсуждали детали работы Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA), стартующей в июле.
Россия имеет давние связи с африканскими странами, и эти связи активизировались после саммита Россия - Африка, прошедшего в Сочи осенью прошлого года. О том, на что Россия может рассчитывать в Африке, "РГ" рассказал заведующий Центром изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Сергей Волков.
С какими африканскими странами и регионами Россия сегодня имеет наиболее тесные экономические связи?
Сергей Волков: Исторически первым и до сих пор самым значимым для российско-африканских отношений остается регион Северной Африки. На него, по данным на 2018 год, приходится 76 процентов российско-африканского товарооборота. Такая ситуация сложилась из-за более высокого уровня развития североафриканских стран по сравнению с другими государствами континента. В результате, с одной стороны, они имеют возможность закупать большие объемы производимой в нашей стране продукции, а с другой - экспортировать широкую номенклатуру качественных товаров в Россию. Кроме того, важную роль играют удобная логистика и низкие транспортные расходы. В этом плане особенно примечателен Египет. В 2018 году на него пришлось около сорока процентов всего российско-африканского товарооборота. В области экономического сотрудничества Египет тоже остается главным российским контрагентом в Африке. Это видно по осуществляемым там проектам, которые по масштабам значительно превосходят все остальное, что делается в Африке с российским участием.
На какие страны Африки России стоило бы обратить первоочередное внимание в плане входа на рынки?
Сергей Волков: На страны с крупными, быстрорастущими рынками. Помимо государств Северной Африки, среди них следует отметить в первую очередь Анголу, Нигерию, Эфиопию и ЮАР. Кроме традиционных африканских товаров, в том числе сельскохозяйственных, мы закупаем там и множество промышленной продукции. Так, например, в I квартале 2019 года Россия импортировала только изделий марокканского машиностроения примерно на 6 миллионов долларов. Россия же, помимо своих товаров, может предложить наработанные ею компетенции в сфере цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, в области сельского хозяйства, промышленности, мирного использования атомной энергии, геологоразведки, железнодорожного транспорта, медицины, фармакологии и финансов.
Что более перспективно для выхода на африканские рынки - торговля товарами или инвестиции?
Сергей Волков: Для нас Африка представляет наибольший интерес в качестве рынка сбыта российской продукции. Такой экспорт - поддержка для российского производителя. Поэтому для России предпочтительнее наращивать экспортные товарные поставки, тем более что инвестиционное сотрудничество сопряжено со значительными рисками. Однако логика развития мировой экономики и международных экономических отношений требует постепенного перехода от простых торговых сделок, осуществляемых по принципу "поставил и забыл", к более сложным формам экономического сотрудничества, в том числе промышленной кооперации и трансферту технологий. В настоящее время ряд российских производителей, в первую очередь, компании по выпуску химических удобрений, изучают возможность создания предприятий по выпуску своей продукции в Африке.
Какая номенклатура товаров уже поставляется из России на африканские рынки и что мы могли бы поставлять еще?
Сергей Волков: Она очень широкая. Минеральное топливо, продовольствие (главным образом пшеница и подсолнечное масло), продукция химической промышленности, лесобумажные и машинотехнические товары. Кстати, в российском экспорте в Африку доля последних куда больше, чем в поставках в другие регионы мира. В этом состоит одно из преимуществ торговли России со странами Африканского континента. Что касается развития торговли с Африкой, то оно возможно, в первую очередь, за счет товаров агропромышленного комплекса. Имеются в виду не только продовольствие, но и химические удобрения, средства защиты растений, продукция сельскохозяйственного машиностроения, оборудование для пищевой промышленности. Помимо этого, есть возможность увеличить отгрузку другой машиностроительной продукции, в первую очередь транспортных средств, а также широкого спектра товаров лесопромышленного комплекса.
Насколько рентабельными могут быть инвестиции в Африку в ближне- и среднесрочной перспективе?
Сергей Волков: Для многих крупных российских компаний Африка уже давно стала важным регионом, в котором они развивают свой бизнес. В первую очередь, речь идет о нефтяном и газовом секторе, а также о добыче твердых полезных ископаемых. Но стоит помнить, что первый опыт российского инвестирования в Африку оказался удачным не для всех. В частности, ряд российских сталелитейных компаний вышли на него в преддверии кризиса 2008 года, купив там активы по высоким ценам, а потом в результате изменения конъюнктуры были вынуждены выходить из них с определенными потерями. В то же время в Африке продолжают успешно действовать созданные там средние и мелкие компании с российским участием. В любом случае, при принятии решения об инвестициях в Африку следует учитывать весь комплекс рисков, и в первую очередь, политических. Такие риски - плата за повышенную доходность африканских инвестиций.
Есть ли у России четкая стратегия закрепления в Африке, наподобие той, что уже давно разработал Китай? Или такой документ сейчас разрабатывается?
Сергей Волков: Если говорить о Китае, то его стратегия в Африке относительно проста. С 80-х годов ХХ века она базировалась на экспорте дешевых потребительских товаров, к которым затем были добавлены инвестиционные. Потом последовала кредитная экспансия Китая в Африку, вызвавшая крупную задолженность у ряда африканских заемщиков. В настоящее время эти долги - серьезная проблема в китайско-африканских отношениях.
Что касается России, то итоги проведенного в октябре 2019 года в Сочи первого саммита и Экономического форума Россия - Африка подведены, и началась работа по реализации поставленных задач, в том числе по удвоению объема российско-африканского товарооборота за четыре-пять лет, о чем говорилось в выступлении президента РФ Владимира Путина.
Какими должны быть, по вашему мнению, главные пункты такой стратегии?
Сергей Волков: Их может быть очень много. Перечислю основные.
Во-первых, можно начать с необходимости изменения информационного фона в африканских и российских СМИ в отношении друг друга. Российские СМИ пестрят негативом в отношении Африки, пишут практически исключительно про войны, терроризм, природные катастрофы, голод, эпидемии и тому подобное, а позитив практически отсутствует. Надо отметить, что и африканские СМИ зачастую просто копируют во многом довольно скептические западные публикации о России.
Во-вторых, нужно активизировать контакты африканских и российских предпринимателей, бизнес-ассоциаций, расширить круг российских и африканских предпринимателей, связанных совместным бизнесом.
Кроме того, требуется поддержка со стороны государства. Речь идет об увеличении числа торгпредств и их штатов. Необходимо командировать в Африку российских таможенных специалистов. Тут хочу отметить, что у нас до сих пор там нет ни одного постоянного представителя Федеральной таможенной службы. Учитывая растущие объемы взаимных поставок сельскохозяйственных товаров, требуется привлечь к работе дополнительных сотрудников Россельхознадзора. Вообще же нужна всевозможная поддержка, финансовая, юридическая, техническая и прочее, чтобы активизировать отношения. Большую роль в этом могут сыграть и 17 российско-африканских межправкомиссий. Наконец, стоит увеличить число подготавливаемых в России африканистов, хотя понятно, что это принесет плоды не скоро. Однако для долгосрочной стратегии квалифицированные кадры необходимы.
У России в Африке есть преимущество в виде большого количества выпускников советских/российских вузов. Используем ли мы это преимущество на систематической основе?
Сергей Волков: Да, они есть и, в основном, востребованы. Это один из основных инструментов российской "мягкой силы" в Африке. Но в реальности число выпускников советских и российских вузов, если сравнивать его с общей численностью африканцев, получивших высшее образование за рубежом, незначительно. Оно составляет порядка 80 тысяч человек, из них 30 тысяч - в Северной Африке, 50 тысяч - в странах южнее Сахары. Сейчас в России учатся около 20 тысяч студентов из Африки, тогда как во Франции, например, более 100 тысяч, в Китае - около 50 тысяч, в Великобритании - более 33 тысяч человек.
Действует ли в настоящее время в Африке российская "мягкая сила"?
Сергей Волков: Действует, но ее возможности уступают возможностям других крупных акторов. Только в восьми странах Африки работают Российские центры науки и культуры (РЦНК), в том числе два в Египте (Каир и Александрия), и по одному в Браззавиле в Республике Конго, в Эфиопии, Танзании, Замбии, ЮАР, Тунисе и Марокко. Это меньше, чем есть РЦНК на других континентах, например, в Америке, не говоря об Азии или Европе.
Есть ли у России в Африке преимущества по сравнению со странами Запада, имеющими имидж "колонизаторов"? Если да, то как Россия может использовать это преимущество?
Сергей Волков: Безусловно есть, и оно в полной мере используется российской дипломатией в Африке. Нынешние африканские лидеры прекрасно осведомлены о том огромном вкладе, который внесла наша страна в процесс деколонизации Черного континента. Как отметил в одном из выступлений министр иностранных дел Сергей Лавров, с африканскими странами у нас очень добрые отношения со времен деколонизации. Ряд стран хочет сотрудничать на основе тендеров, однако в деловых отношениях имидж России особой роли не играет, от нее требуют играть по общим правилам.
Как вы оцениваете итоги саммита Россия - Африка 2019 года в плане увеличения возможностей для захода России в страны Африки?
Сергей Волков: Первый саммит и Экономический форум, хотя их проведение несколько запоздало, окажут самое благоприятное воздействие на развитие российско-африканского партнерства. А регулярная организация таких мероприятий раз в три года может стать главным локомотивом развития российско-африканского сотрудничества в различных областях. Конкретные планы пока что еще разрабатываются, однако некоторые детали уже известны. Так, в конце марта ожидается приезд в Москву для консультаций комиссии Африканского cоюза. Делегация российских чиновников и бизнесменов во главе c министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым намерена посетить ряд стран Африки. Поездка, по предварительным данным, может состояться в апреле.

Интервью Посла России в Судане В.Ф.Желтова Международному информационному агентству «Россия сегодня», 9 февраля 2020 года
Вопрос: Начало ли функционировать в Хартуме представительство российского Минобороны при суданском оборонном ведомстве? Поступал ли запрос от суданских властей на отправку в страну российских военных специалистов?
Ответ: Связи наших стран в военной и военно-технической областях носят давний прочный характер. Свидетельство тому – оснащение суданской армии вооружением и военной техникой преимущественно советских/российских образцов. В конкретных местных условиях они достойно себя зарекомендовали в плане надежности и обращения и поэтому остаются востребованными суданскими военными. В стране уже не первый год работают наши военные специалисты, оказывая разностороннее содействие своим суданским партнерам. Соответственно, учреждение здесь представительства Минобороны России, в соответствии с подписанным в прошлом году межправительственным соглашением, призвано повысить уровень двустороннего взаимодействия в военной области.
Вопрос: Ранее замминистра обороны России Александр Фомин заявил, что Москва наращивает взаимодействие в сфере ВТС с рядом государств Африки, в том числе с Суданом. Есть ли уже информация о конкретных договоренностях или планах? В частности, о поставках Судану комплексов С-400?
Ответ: Развитие нашего военно-технического сотрудничества с государствами Африки, да и не только, является органичным и логичным проявлением стремления нашей страны вернуться на этот континент с учетом немалого задела, созданного еще в советский период. К тому же это совпадает с интересами самих африканцев. Не является здесь исключением и Судан, что подтвердилось в ходе встречи руководителей двух стран на полях сочинского саммита Россия-Африка в октябре прошлого года. Что касается конкретных договоренностей, то это дело военных, которые ведут предметный, далекий от публичности, разговор с учетом первоочередных потребностей суданской стороны. К таковым комплексы С-400, как мы понимаем, не относятся, что бы ни писалось на этот счет на псевдоэкспертном уровне.
Вопрос: Как идет взаимодействие с суданской стороной по Ливии, какие совместные шаги могут предпринять Россия и Судан для того, чтобы убедить командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара подписать соглашение о мире с ПНС во главе с Файезом Сарраджем?
Ответ: Как известно, Россия предпринимает в этих целях самые энергичные усилия, используя в том числе свой политический вес и влияние на ливийские стороны. Что касается наших суданских партнеров, то их возможности здесь объективно скромнее, хотя они, с учетом общей с Ливией протяженной неспокойной границы, заинтересованы в установлении мира и стабильности в соседней стране. Соответственно, в этом у нас общие с суданцами интересы. В практическом плане поддерживаем с ними по ливийским и иным делам плотный диалог в рамках двустороннего механизма внешнеполитического взаимодействия. Очередными его звеньями стали прошедшее в декабре в Москве очередное, восьмое, заседание Российско-суданского рабочего комитета высокого уровня на уровне заместителей министров иностранных дел, а также только что состоявшиеся в Хартуме (5-6 февраля) в рамках этого же механизма консультации с участием руководителей профильных департаментов.
Вопрос: Российский президент Владимир Путин ранее заявил, что российские инвесторы хотели бы наращивать свое присутствие в Судане. В частности, инвесторы из России вкладывают значительные средства в золотодобывающую отрасль страны. Планируются ли крупные инвестиции российских компаний? Каких? На какую сумму?
Ответ: Действительно, интерес российского бизнеса к Судану сохраняется, и в этом его можно понять. Эта страна располагает значимыми запасами природных ресурсов, среди которых особое место занимает золото. В свою очередь, российские компании располагают средствами для инвестирования и, что немаловажно, соответствующими технологиями, как производственными, так и природоохранными. Другое дело, что любой бизнес любит стабильность и предсказуемость в качестве необходимых условий для долгосрочных капиталовложений. В этом контексте переживаемые в настоящее время Суданом события не могли не сказаться на планах российских экономоператоров по расширению инвестиционной активности в Судане.
Вопрос: Росгеология осенью прошлого года договорилась с провинцией Нил Республики Судан о совместном изучении геологического потенциала Африканского континента. Работа уже началась?
Ответ: Позвольте здесь внести ясность. АО "Росгеология" давно и успешно работает с суданской стороной в сфере недропользования. Последним совместным проектом стало выполнение госконтракта на разработку пилотного проекта ГИС металлогенической карты масштаба 1:1000000 Республики Судан в интересах профильных суданских ведомств. В настоящее время российским оператором прорабатываются возможности сотрудничества в области картирования территории Судана, модернизации химико-аналитической лаборатории Геологического агентства Судана, а также по изучению геотермальных ресурсов. Понятно, что непростая ситуация в Судане сказывается на темпах и охвате сотрудничества.
Вопрос: Росатом и Хартум обсуждают уже некоторое время возможность строительства плавучего атомного энергоблока для Судана. На каком этапе сейчас обсуждение?
Ответ: Интерес к этой теме вполне понятен, в том числе с учетом строительства российскими атомщиками традиционной, наземной, АЭС в соседнем Египте. Отмечу, что проект с плавучим энергоблоком для Судана находится лишь на самом начальном этапе согласования. В этом деле должны быть проработаны в комплексе многие аспекты технического, правового, наконец, инвестиционно-финансового порядка. Все это довольно сложно и затратно и в обычных условиях, а в нынешних суданских реалиях и вовсе непросто. Тем не менее интерес к этому проекту у суданской стороны сохраняется.
Вопрос: Вы успели поработать в Кувейте, Египте, Сирии. Где День дипломата запомнился больше всего? Чем?
Ответ: Разумеется, празднование нашего профессионального праздника в каждой командировке имело свою специфику. Оно было связано как с ситуацией, сложившейся на тот период в стране пребывания, так и с конкретным временным отрезком, имея в виду точку отсчета чествования Дня дипломатического работника. Как известно, он был установлен только в 2002 году и, соответственно, не мог отмечаться в период моей работы в Кувейте в 90-е годы. Впервые как раз мы делали это в Египте в феврале 2003 года, поэтому, наверное, и хорошо запомнилось. И тем не менее самые сильные впечатления остались, пожалуй, от празднования нашего профессионального праздника в годы моей работы в Дамаске и конкретно в тяжелейших условиях, сложившихся в Сирии в 2013-2015 годах. В той атмосфере это имело для нас особое звучание. Как бы то ни было, традиции отечественной дипломатической службы продолжаю уже в качестве посла и здесь, в Судане.

ВСПЫШКА КОРОНАВИРУСА В КИТАЕ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ
ГО СЯОЛИ
Руководитель Китайско-российского центра по исследованию Дальнего Востока при Хэбэйском педагогическом университете; замдиректора Института иностранных языков при ХПУ.
В редакцию журнала пришло письмо от нашей давней знакомой и уважаемой коллеги из Китая. Профессор Го – один из видных филологов-русистов, автор многочисленных научных публикаций по всему миру. Профессор попросила опубликовать ее оценку происходящего в стране в связи с эпидемией коронавируса, поскольку считает важным донести, как она пишет, объективную информацию до российской общественности. Публикуем ее письмо без каких-либо изменений.
Коронавирус – наиболее серьезное испытание для здравоохранения Китая после появления вируса атипичной пневмонии в 2003 году. Коронавирус вызвал большую обеспокоенность международного сообщества. Некоторые страны активно помогают Китаю преодолевать трудности, а некоторые – не только стоят в стороне, но даже клевещут, чтобы вызвать панику. В данный момент страх и паника хуже, чем сами вирусы.
Действительно, на ранних стадиях эпидемии мероприятия по обнаружению, изучению и предотвращению болезни несколько отставали от необходимых мер. Зато сложившаяся ситуация способствовала выявлению ряда проблем: в системе управления и кадровой компетенции, в сфере действий в чрезвычайных ситуациях, в вопросах распространения информации, в научной деятельности, в ряде социальных вопросов и личностных качеств граждан. Данная ситуации побуждает глубже задуматься о будущем страны, о будущем всего человечества, чтобы предотвратить возможную опасность.
20 января эксперты обнародовали результаты исследований, согласно которым вирус передается от человека к человеку. Правительство КНР приняло соответствующие экстренные меры. Город Ухань (столица провинции Хубэй) был закрыт на карантин 23 января: был запрещен въезд и выезд из города, за исключением особых случаев. К 27 января все города в провинции Хубэй, кроме района Шеннонцзя, были также закрыты. Эксперты дали рекомендации по раннему диагностированию болезни и необходимости своевременной изоляции заболевших. С этого времени пациентов и людей, с которыми они близко контактировали, изолируют с целью предотвращения дальнейшего распространения болезни.
1. Последние эпидемиологические сводки на территории Китая
8 февраля, согласно веб-сайту Radio Hong Kong, ВОЗ заявила, что 82% новых случаев пневмонии являются несерьезными, 3% – тяжелыми, а уровень смертности составляет менее 2%. Многие китайские эксперты в области вирусологии предполагают, что, благодаря мерам по профилактике и борьбе с эпидемией, благодаря информационной прозрачности, в целом эпидемиологическая ситуация стабилизируется и контролируется. Случаи заболевания среди европейцев редки.
К 24.00. 8 февраля было подтверждено в общей сложности 37251 случаев заболевания (из которых на провинцию Хубэй, где расположен Ухань, приходилось 27100 случаев, что составляет 72% общей суммы), 28942 с подозрением на коронавирус (на долю провинции Хубэй – больше 70%), 2651 пациентов было вылечено, 812 умерло.
Данные последних трех дней показывают, что эпидемиологическая ситуация в Китае имеет две тенденции: эпидемиологическая ситуация в провинции Хубэй (где находится г. Ухань) все еще остается серьезной. Но на всей остальной территории Китая количество подтвержденных случаев заболевания в течение последних пяти дней уменьшается. 7 февраля было подтверждено 558 случаев, что по сравнению с 6 февраля уменьшилось более чем на 100 случаев. 8 фефраля было подверждено 506 слечаев, уменьшилось на 52 случаев. Стоит отметить, в течение 10 дней подряд в Тибете не было ни одного нового подтвержденного случая.
2. Эпидемиологические мероприятия, проводимые в городе Ухань
Правительство Китая использует различные способы борьбы с эпидемией в Ухане и в других провинциях (городах) по всей стране. Меры, принятые против вспышки в Ухане, включают следующее.
За восемь дней, начиная с 25 января по 2 февраля, 7000 строителей кругосуточно строили временную закрытую больницу Хуо Шэнь Шань (Бог Огня в китайской мифологии) типа военного госпиталя. За строительством можно было наблюдать в прямом эфире на сайте. Больница рассчитана на 1000 пациентов(фото 1 и 2). 3 февраля работу в больнице полностью взяла на себя китайская армия, а 4 февраля в больнице начали принимать первых пациентов. С 26 января по 6 февраля велось строительство аналогичной больницы Лы Шэнь Шань (Бог Грозы в китайской мифологии). Как и первая больница, она включает в себя медицинский комплекс, медицинскую зону безопасности и вспомогательную медицинскую территорию. Площадь застройки второй больницы составляет 79 900 квадратных метров, вместимость – 1600 мест. Прием пациентов начался 8 февраля.
1 февраля китайский академик Ван Чен выдвинул концепцию больницы, составленной из квадратных боксов. Предлагаемые квадратные боксы больницы, похожей на военный госпиталь, можно поместить на стадионе, выставочной площадке и т.д. Это позволит быстро и с наименьшими затратами разместить нетяжелобольных пациентов для лечения. Планируется строительство 11 таких больниц. Вечером 3 февраля в Ухане были открыты три «больницы с квадратными боксами» (Фото 3) с 4200 местами. 7 февраля пять университетов в Ухане начали преобразовываться в специализированные медицинские учреждения, которые добавят еще 5400 мест. 7 февраля в Ухане началась диагностика температуры тела у всего населения.
Со всех концов Китая в Ухань и провинцию Хубэй отправляется медицинский персонал-коммунисты. С 23 января до настоящего времени различные провинции и города страны направляют туда тысячи медицинских работников, число которых по 8 февраля уже достигло более 9000 человек (Фото 4). А 8 февраля правительство Китая постановило, что 16 провинций должны поддерживать все 16 городов провинции Хубэй: каждая провинция отвечает за один город и его окрестности.
Наряду с этим рядовые китайцы добровольно жертвуют деньги и вещи жителям Ухани и провинции Хубэй. Например, наш Хэбэйский педагогический университет за 4 дня собрал на программу «Борьба с коронавирусом» 550 255,64 юаня (примерно 4 987 126 рублей) (фото 5). Выпускники и студенты университета добровольно жертвуют деньги для пострадавших. Еще другой показательный пример: до 3 февраля один город Шоугуан бесплатно передал в г. Ухань 4 партии овощей и фруктов весом свыше 1120 тонн, а провинция Шаньдун отправила в Хубэй более 2300 тонн овощей и фруктов (фото 6)
3. Мероприятия по борьбе с коронавирусом на территории всего Китая
Во-первых, во всем Китае лечение заболевших бесплатное. Государственные центральные финансовые учреждения берут на себя 60 % расходов, а финансовые учреждения местного правительства – 40 % расходов. Во-вторых, чтобы предотвратить распространение эпидемии, правительство приняло меры по обеспечению прозрачности информации, а Государственный Совет издал распоряжение о суровом наказании за сокрытие информации о случаях пневмонии. «Отчеты об эпидемиологических данных в реальном времени» регулярно обнародуют информацию об эпидемиологической ситуации по всей стране, включая количество подтвержденных случаев, случаев на подозрение пневмонии, случаев выздоровления и смертельных случаев. Публикуются специализированные статьи, посвященные исследованиям коронавируса и способам лечения данной болезни. Местные органы власти также регулярно предоставляют сведения, которые информируют население о проводимых профилактических действиях, о местах пребывания подтвержденных больных, что позволяет избегать нежелательных контактов. Например, в одном подтвержденном случае было изолировано около 1000 человек.
Чтобы предотвратить распространение инфекции, национальные университеты, колледжи и средние школы отложили очное начало второго семестра, но занятия не были приостановлены, стали использовать обучение в режиме онлайн. Возобновление после праздников рабочего процесса во многих отраслях народного хозяйства было отложено. Микрорайоны почти по всей стране усилили контроль управления, ужесточили регистрацию въезда и выезда на территорию, ввели обязательное измерение температуры тела при входе в микрорайон или супермаркет.
В настоящее время, за исключением Ухани, количество подтвержденных диагнозов по всей стране снижается уже пять дней подряд. Во многих провинциях правительственные чиновники, медицинские работники, сотрудники коммунальных служб, многие коммунисты не отдыхали ни одного дня даже во время Праздника Весны.
4. Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая
До 7 февраля государство приготовило деньги на профилактику эпидемии, лечение и борьбу с коронавирусом на всех уровнях 66,74 млрд юаней (605,2 млрд рублей). Китайские экономические эксперты в целом считают, что влияние эпидемии на экономику Китая, во-первых, отразится на сфере потребления и сфере услуг, во-вторых, на промышленном производстве, в-третьих, на внешней торговле, прежде всего это касается торговли товарами. Неопределенность в основном заключается в определении эпидемии Всемирной Организацией Здравоохранения как PHEIC. Китаю необходимо взаимодействовать с рынками внешней торговли Европейского Союза, АСЕАН и стран-участниц проекта «Один пояс, один путь». Озабоченность иностранных клиентов и страх перед эпидемией будут влиять на международную экономику.
Весьма значительным будет негативное влияние эпидемиологической ситуации на международный туризм, на исследования и разработки в различных сферах, на технические и информационные услуги, на кадровые вопросы. Кроме того, прогнозируют повышение роста цен на товары по ряду причин: высокий индекс потребительских цен на свинину и энергоносители в прошлом году вызвал рост ИПЦ; эпидемия этого года может приводить к тому, что цены на продукты питания и лекарства будут продолжать расти. Правительство Китая на всех уровнях будет уделять больше внимания нуждам здравоохранения, производству и хранению медикаментов и медицинского оборудования, что также может повлиять на повышение цен. Совокупность этих факторов может вызвать ряд новых осложнений в экономике.
В настоящее время правительство Китая на всех уровнях приняло разносторонние меры для уменьшения воздействия эпидемиологической ситуации на экономику пострадавших районов и экономику страны в целом. Например, Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая заявила, что ей не разрешается необоснованно выдавать кредиты отраслям, пострадавшим от эпидемии, таким как оптовая и розничная торговля, жилье, общественное питание, логистика, транспорт, туризм. Посредством соответствующего снижения процентных ставок по кредитам, в том числе по среднесрочным и долгосрочным кредитам, банковская система будет поддерживать предприятия в преодолении последствий эпидемиологической катастрофы. Министерство социального обеспечения также выпустило уведомление о том, что предприятия, пострадавшие в результате сложившейся эпидемиологической ситуации и испытывающие трудности на производстве, могут стабилизировать свою работу путем корректировки заработной платы, смены рабочих мест и сокращения рабочего времени посредством консультаций с работниками.
5. Коронавирус и геополитика
31 января Всемирная Организация Здравоохранения объявила, что новый коронавирус представляет собой «международную чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения», поскольку «вирус может распространиться в страны со слабыми системами здравоохранения». К 6 февраля уже 102 страны приняли меры иммиграционного контроля.
И в Китае, и в России есть поговорка: друг познается в беде. В самый трудный момент Россия протянула руку помощи китайскому народу. В тот же день, когда ВОЗ объявила PHEIC, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что Россия окажет гуманитарную помощь Китаю. Председатель Верхней палаты Российского парламента Валентина Матвиенко также подтвердила, что ученые из России и Китая совместно разрабатывают антикоронавирусную сыворотку. Это согрело сердца китайцев. И наконец, самый популярный среди китайских пользователей сети президент России В.В. Путин в этот же день направил телеграмму, в которой выразил готовность оказать китайскому народу необходимую помощь в преодолении угрозы распространения инфекции. Глава российского государства выразил уверенность, что, благодаря решительным мерам, принимаемым китайским руководством, распространение коронавируса будет остановлено, а ущерб от него минимизирован. Помощь со стороны России проявляется не только на словах, но и в действиях.
5 февраля первой в Китай прибыла российская делегация первоклассных экспертов по профилактике эпидемий. Приезд делегации продемонстрировал поддержку России в борьбе Китая с эпидемией, что было высоко оценено китайским правительством и народом. Всем известно, что после основания Нового Китая в 1949 году в стране была использована советская система здравоохранения и профилактики. Только с 1980-х годов ситуация изменилась: возвращающиеся из США китайские специалисты в данной области приобрели западный опыт, и система здравоохранения и профилактики КНР начала тесно взаимодействовать с международным мейнстримом. Но у России есть свои особенности и плюсы в этой области. Можно ожидать, что эпидемиологическая профилактическая медицина может стать одним из направлений исследований в научно-техническом и инновационном сотрудничестве между странами, может стать темой года в КНР и РФ.
На сайте социальной сети VK один ролик стал популярен среди китайской молодежи: россияне хором кричали: «Держись, Китай!». Роскоговорящие студенты, обучающиеся в Китае, написали короткую, но трогательную статью на тему «Китай, мы с тобой». Статья вызвала бурные отклики у китайских читателей. Народная дипломатия сыграла свою роль в это непростое время.
Стоит особенно отметить, что из-за эпидемии неожиданно улучшились отношения между Китаем и Японией. По известным причинам современные китайско-японские отношения были напряженными. Но после вспышки коронавируса Япония чуть ли не первой предоставила помощь несмотря на то, что у них тоже начинается эпидемия и тоже не хватает масок и защитной одежды. Но японцы прислали необходимые вещи с замечательными стихотворениями, написанные древними китайскими иероглифами, которые напоминают людям об общих истоках культуры Китая и Японии: «Находясь на разных территориях, у нас одна луна, одно солнце! Ты говоришь, что не имеешь одежды, то мы с тобой согреемся одной одеждой!». 7 февраля в Японии состоялась встреча высокопоставленного представителя Японии с послом Китая. Представитель Японии заверил, что Япония готова всеми силами помогать Китаю в борьбе с эпидемией. На китайских сайтах рядовой народ выражает благодарность Японии за сердечную помощь и желает выздоровления японским пациентам.
Кроме России и Японии, многие страны оказали огромную материальную и духовную помощь Китаю: Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Казахстан, Пакистан, Германия, Англия, Франция, Италия, Венгрия, Белоруссия, Турция, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Австралия, Новая Зеландия и др.
В отличие от других стран, американское правительство не только не оказало существенной помощи, а наоборот: когда Китай борется с эпидемией, некоторые в США прилагают усилия для дискредитации Китая и нападок на него. И нам приходится не только предотвращать и контролировать новые коронавирусы, но и бороться с идеологией и вирусами холодной войны.
2020 год начался с трудностей, с появлением очередных «черных лебедей». Сейчас как никогда будущее человечества зависит от отношений между различными странами, особенно великими государствами. Если человечество не сможет выбрать рациональный и правильный путь, способствующий миру и процветанию, то вполне вероятно, что наступит время, когда искусственный интеллект заменит человека своими «алгоритмами» и сделает выбор за нас. Тогда не помогут ни дипломаты, ни мозговые центры, ни ученые. Коронавирус и мировые проблемы человечество может преодолеть только сообща.
Китайская нация – многострадальная, она переживала и переживает многочисленные бедствия, но всегда может возродиться как феникс. Самое эффективно работающее правительство и самый добрый народ спасет Китай. Народ — герой нашего времени. Мы уверены, что зима пройдет независимо от того, как долго она продлится, и обязательно на смену ей придет весна! (Фото 7)
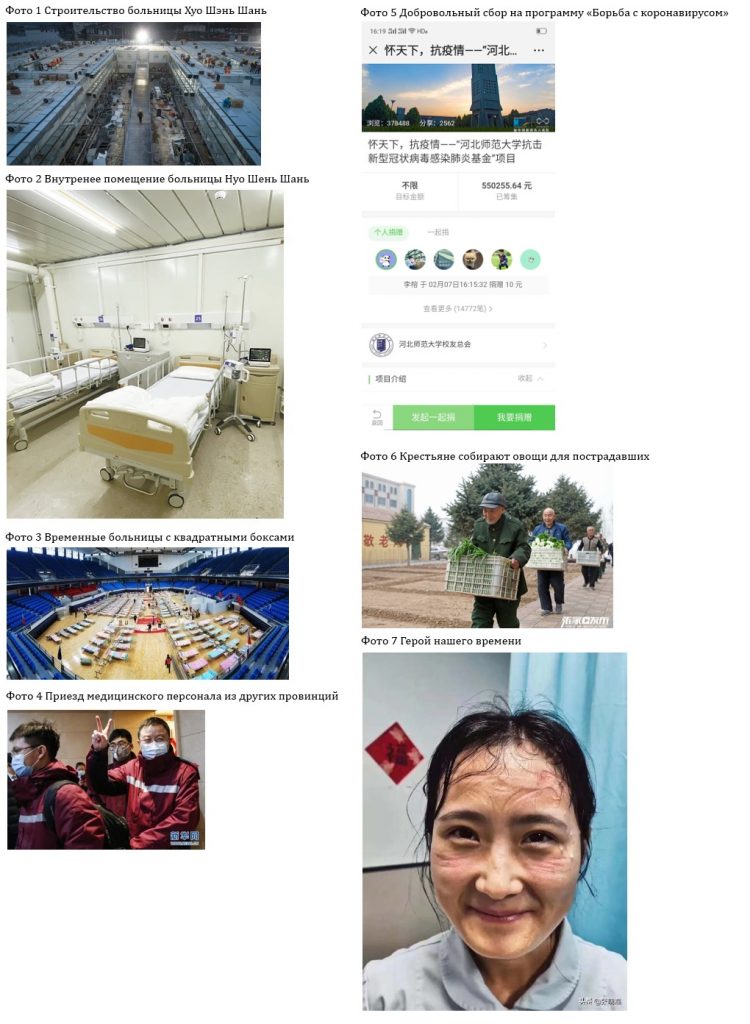

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА АЛЕКСАНДРА НОВАКА ДЛЯ ЖУРНАЛА «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА»
Российский газ: энергия безграничных возможностей
История российской газовой промышленности началась еще в начале прошлого столетия, а ко второй половине XX века отрасль стала активно развиваться и постепенно вышла на одну из ведущих ролей в экономике страны, чему во многом способствовало наличие колоссального экспортного потенциала. На сегодняшний день Россия уверенно удерживает первое место в мире по экспорту газа, который с 2000 года увеличился более, чем на 30%. Российский трубопроводный газ в течение многих лет занимает лидирующие позиции в странах Европы, мы вышли на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, успешно развиваем производство сжиженного газа и его доставку по всему миру. Все это уже сейчас делает российский газ одним из самых конкурентоспособных в мире, при этом мы видим все большие перспективы в отрасли и намерены в полной степени реализовать появляющиеся возможности.
Мировой рынок газа: вчера, сегодня, завтра
С момента возникновения газовой промышленности мировая добыча газа последовательно демонстрировала положительную динамику. Если чуть больше века назад – в конце XIX – начале XX века – в мировом энергопотреблении ведущую роль играл уголь, затем его потеснила нефть, то в последние годы все более значимые позиции завоевывает газ. В 1970-х годах доля газа в мировом энергобалансе составляла порядка 18%, в 2018 году возросла уже до 23%, а к 2035 году этот показатель достигнет 26%. При этом наибольший рост доли газа прогнозируется в Китае (с 7,4% до 14,7% к 2035 году) и Северной Америке (с 31% до 42,7% к 2035 году).
Если говорить о сегментах потребления, то в настоящий момент основными источниками спроса на газ в мире является промышленность и электрогенерация, суммарно покрывающие более 70% совокупного объема потребления газа. И к 2040 году ожидается пропорциональный рост объема потребления газа по всем секторам. При этом доля газа, используемого для отопления снизится, и к 2040 году составит 18% (текущая доля – 21%), а доля транспортного сектора возрастет с 1% в 2017 году до 4% к 2040 году.
Расширение использования газа и рост спроса на энергию будут происходить параллельно с поступательным снижением доли других источников энергии, за исключением возобновляемых. Однако наряду с ВИЭ большинство стран уже оценили преимущества газа как одного из наиболее экологичных видов топлива. Это особенно важно в свете декарбонизации мировой экономики и действия Парижского соглашения, которое Россия подписала в 2016 году. В сценарии устойчивого развития МЭА, соблюдение которого соответствует целевым показателям Парижского соглашения, необходимое сокращение выбросов энергетической отрасли составляет 45% от текущего уровня к 2040 году. Такое снижение выбросов можно достичь за счет увеличения доли «чистых» источников энергии, в частности, газа. Для сравнения: газ выделяет на 40–50% меньше выбросов парниковых газов, чем уголь, когда используется для выработки электроэнергии. В этой связи отмечу, что Россия уже сегодня имеет один из самых экологически чистых энергобалансов в мире: более половины внутреннего потребления первичных энергоресурсов в нашей стране составляет газ.
Если говорить о географии добычи газа в ближайшие десятилетия, по оценкам экспертов, Россия и США продолжат оставаться крупнейшими производителями газа. При этом параллельно производство газа будет развиваться в Китае, Северной Америке, на Ближнем Востоке, в Аргентине, Индонезии и Австралии, в том числе за счет нетрадиционных источников. Таким образом, будущее предложение газа в полной мере сможет удовлетворить быстрорастущий спрос, что позволит избежать резких ценовых перепадов.
Ведущий тренд последних лет в газовой отрасли – все более масштабное расширение рынка СПГ, который продолжает оставаться самым быстрорастущим сегментом: объем поставок СПГ в мире в 2019 году достиг 362 млн т, прирост относительно 2018 года составил 12,4%. По прогнозам аналитиков Shell, по итогам 2020 года объем поставок СПГ вырастет до 385 млн т (+6,4%). Кроме того, по результатам 2019 года приняты инвестиционные решения по СПГ проектам совокупной мощностью 70 млн тонн в год. Это максимальный объем с 2005 года.
До 2030 года рост мощностей СПГ в мире составит 4,5% в год, к этому времени мировое производство СПГ достигнет 580 млн тонн. Таким образом, если в 2018 году доля СПГ в мировой торговле газом составила порядка 35% (431 из 1236 млрд м3), то к 2035 году доля СПГ достигнет порядка 45%, а к 2040 году ожидается, что более 50% от объема торговли природным газом будет осуществляться в форме СПГ. Ввиду особой привлекательности рынка сжиженного газа, Россия намерена занять на нем достойную нишу и претендовать на уровень производства СПГ в 80-120 млн тон в год к 2035 году. Отмечу, что благодаря бурному развитию инфраструктуры рынок газа все больше становится похожим на рынок нефти, и именно ценообразование на СПГ в среднесрочной перспективе может стать ориентиром для всего рынка газа.
Традиционные рынки
В силу географической близости и широко развитой транспортной инфраструктуры европейский рынок является одним из ключевых для российского газа. Со странами Европы нас связывает долгосрочное сотрудничество в газовой сфере. Первые поставки трубопроводного газа из СССР стартовали еще в 1944 году в Польшу. В страны Западной Европы российский газ начал поступать с конца 1960-х годов со строительством газопровода «Братство» (нынешнее название «Уренгой-Помары-Ужгород»). В числе первых потребителей оказались Чехословакия, Австрия, затем присоединились Германия, Болгария, Венгрия, Финляндия, Италия, Франция, Турция, Греция и многие другие государства. На сегодняшний день российский газ экспортируется в более, чем 20 европейских стран.
В 2019 году общий импорт газа в страны Европы, по предварительным оценкам, превысил 310 млрд. куб. м, что составляет почти 60% от общего спроса региона, импорт российского газа – более 200 млрд. куб. м или 45% спроса. Рост поставок газа в течение последних десятилетий был обеспечен во многом за счет строительства газопроводов «Голубой поток» и «Северный поток». Мы видим, что вопреки прогнозам, экспорт российского газа в Европу не только не снижается, но и в глобальном масштабе увеличивается. Даже рост поставок СПГ в Европу, который в целом привел к снижению интереса к трубопроводному импортному газу, не коснулся топлива из России: среди экспортеров трубопроводного газа только российский «Газпром» демонстрирует расширение объема на рынке. По итогам 2018 года компания увеличила поставки на 3,8%. При этом, несмотря на то, что в 2019 году, по предварительным оценкам, поставки «Газпрома» в Европу незначительно снизились, объем экспорта все равно превышал уровень 2017 года. В то же время крупнейшие европейские производители - Норвегия, Великобритания и Нидерланды - сократили свое присутствие в Европе. По прогнозам IHS, к 2035 году зависимость от импорта газа в странах Европы достигнет порядка 76%.
В процессе расширения экспортных поставок газа в Европу особую роль мы отводим таким масштабным проектам, как «Северный поток-2» и «Турецкий поток», последний из которых уже завершен, причем в кратчайшие сроки – менее, чем за три года. Новый газовый маршрут существенно снизит зависимость западной части Турции от поставок газа по Транс-Балканскому газопроводу, который был введен в эксплуатацию уже 30 лет назад. С начала 2020 года российский газ по «Турецкому потоку» стал поступать в Турцию, Болгарию, Северную Македонию и Грецию. После завершения строительства газопровода в Болгарии начнутся поставки в Сербию, а затем в Венгрию и Австрию.
Таким образом, с запуском «Турецкого потока» мы получили бестранзитный экспортный маршрут транспортировки газа из России в Турцию через Черное море, где Турция стала первой в цепочке потребителей и получила возможность стать транзитером газа в другие страны Европы, где природный газ играет ключевую роль в энергетике: его обширные запасы расположены в зоне транспортно-логистической доступности, кроме того, газ производит гораздо меньше выбросов углекислого газа по сравнению с углем или нефтью. То есть газопровод повысит надежность газоснабжения не только Турции, но и Южной и Юго-Восточной Европы. Сегодня мы видим высокую заинтересованность в газе всего европейского региона. В то же время истощение газовых месторождений в Европе означает, что региону понадобится дополнительный импорт. Особенно это актуально для Юго-Восточной Европы, где все еще не завершен переход от угля к более чистым источникам энергии.
Еще один важный для нас проект - «Северный поток-2» - это по сути 3-я и 4-ая нитки газопровода «Северный поток», который успешно функционирует с 2011 года. Маршрут «Северного потока-2» практически повторяет «Северный поток», а мощность также составляет 55 млрд куб. м газа в год. Планируется, что газопровод увеличит пропускную способность российского трубопроводного газа в Северную Европу. Напомню, что решение о его строительстве в 2012 году принималось совместно с европейскими потребителями, в проекте участвуют пять иностранных компаний - ENGIE, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Поэтому есть понимание, что мы все несем солидарную ответственность за его скорейшую реализацию. И мы ощущаем мощную поддержку европейских партнеров.
Важно, что проект создается с использованием аналогичных технологий, которые уже показали свою эффективность и экологическую безопасность при эксплуатации «Северного потока». Таким образом, «Северный поток-2» - максимально «прозрачный», предсказуемый и выгодный проект как для нашей страны, так и для европейских потребителей: Российской Федерации газопровод позволит оптимизировать поставки газа, а странам Северной и Центральной Европы – повысить энергобезопасность, получая топливо напрямую из России, что гарантирует стабильность, весьма конкурентную стоимость и минимальное количество посредников. И вопреки беспрецедентному сопротивлению ряда стран, в первую очередь, США, газопровод будет достроен.
При этом, как уже все убедились в конце прошлого года, новые маршруты - не помеха продолжению транспортировке российского газа через территорию Украины. Мы не раз об этом говорили. Важно, что мы все-таки услышали друг друга, и нам с украинскими партнерами удалось договориться о транзите газа с 2020 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях. Если это сотрудничество окажется успешным, возможно, мы продолжим его и после 2024 года. При любых ситуациях мы не забываем, что помимо географической близости, нас связывают исторические, культурные связи, и мы всегда открыты к обсуждению конструктивных, экономически целесообразных вариантов взаимодействия.
Восточный вектор
Сегодня политика большинства государств направлена на «очищение энергобалансов» за счет поступательного перехода на газ, этому тренду следуют и страны АТР, в том числе и крупнейший азиатский потребитель газа - КНР. Несмотря на то, что в 2018 году в Китае была принята новая газовая политика, которая предполагает рост капитальных вложений в собственную газодобычу, этот рынок остается одним из самых перспективных в Азии, так как спрос на природный газ в этом регионе будет расти значительными темпами как минимум до 2050 года. Ожидается, что импорт природного газа (трубопроводного и СПГ) достигнет пиковой доли в 44% от совокупного потребления в 2024 году, при этом импорт СПГ будет составлять порядка 21% совокупного потребления газа в Китае к 2050 году.
В этой связи колоссальным потенциалом обладают поставки трубопроводного газа из России. В конце прошлого года запущен газопровод «Сила Сибири» протяженностью около 3000 км, по которому ежегодно в течение 30 лет планируется прокачивать 38 млрд куб. м в год. Это уникальный проект, так как трасса проходит в труднодоступных районах с тяжелыми природно-климатическими условиями – температура воздуха в Республике Саха (Якутия) опускается ниже - 60°С, в Амурской области - ниже -40°С, что требует дополнительных затрат как на обустройство промышленных объектов, так и на материалы, которые должны быть надежны при длительной эксплуатации в условиях низких температур. В особенности этим характеристикам должны соответствовать трубы, которые использовались при строительстве «Силы Сибири» - они, и мы этим гордимся, полностью российского производства. В целом газопровод стал важнейшим этапом в развитии транспортной инфраструктуры и напрямую соединил сырье, производство и потребителей, что повышает конкурентоспособность газовой отрасли России.
Кроме того, продолжаются переговоры по «западному маршруту» поставок газа в Китай («Сила Сибири – 2»). По перспективной новой трубопроводной системы в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы предполагается поставка еще около 30 млрд куб. м ежегодно. Сегодня обсуждаются различные маршруты прокладки трассы, в том числе, и через Монголию, которая демонстрирует интерес к проекту. В настоящее время проводится оценка возможности трубопроводных поставок газа из России в Китай через территорию этой страны.
Что касается глобального рынка АТР, то этот сектор в целом весьма привлекателен, и мы стремимся расширять географию присутствия в государствах региона, во многом за счет поставок СПГ в Южную Корею, Индию, Японию и другие страны. Если в начале 2019 года из-за мягкой зимы, возобновления работы атомных реакторов в Японии и значительных поставок из России и США мы наблюдали снижение цен на СПГ в Азии, то во второй половине года азиатская премия наблюдалась на газовом рынке. Кроме того, учитывая существенный рост спроса на газ в регионе АТР (рост в Европе менее значителен), можно сделать предположение о том, что в будущем это несколько сдвинет баланс экспорта в сторону восточного направления. Будем активно использовать этот потенциал для российского газа.
В то же время значительный прирост спроса на газ на горизонте до 2030 года ожидается в Бразилии и Аргентине, африканских странах, на Ближнем Востоке. Планируем тщательно проанализировать перспективы российского газа и в этих регионах.
СПГ-будущее
В связи с динамикой распространения сжиженного природного газа в мировом масштабе мы активно и успешно развиваем российские СПГ-производства. В 2019 году Россия произвела более 40 млрд кубометров газа в виде СПГ по сравнению с 27 млрд кубометров в 2018 году. Идет активная проработка развития СПГ-кластера на Ямале и Гыдани, который позволит России в занять до 23% мирового рынка СПГ к 2035 г. При этом ресурсная база для производства СПГ на Ямале и Гыдани составляет как минимум 7,7 трлн м3.
Важно, что российский СПГ конкурентен не только на азиатских рынках, куда поставляется 69% российского СПГ (и 75% мирового объема СПГ), но и на традиционных для российского трубопроводного газа европейских направлениях за счет низкой себестоимости и короткого транспортного плеча. Существующие объективные обстоятельства - относительно высокие издержки по строительству СПГ-заводов из-за особенностей географии и ограничения технологий – успешно компенсируются низкими операционными затратами и грамотными налоговыми стимулами при добыче природного газа для производства СПГ. Удобное географическое расположение России между Европой и Азией позволяет нашему СПГ быть прибыльным при текущих ценах и выигрывать конкуренцию у США и Австралии. То есть при необходимости мы можем доставить сжиженный газ в любую европейскую страну, при этом оперативнее и дешевле многих других поставщиков. Ключевым транспортным узлом, соединяющим арктические проекты с рынками сбыта в перспективе должен стать Северный Морской Путь, который позволяет сократить время транспортировки товаров из Азии в Европу примерно на треть по сравнению с перевозками через Суэцкий канал. Уже к 2024 году грузопоток по СМП должен вырасти до 80 млн тонн в год, и основным товаром, транспортируемым по Северному морскому пути до 2035 года, как ожидается, будет именно сжиженный природный газ, который станет драйвером развития самой северной транспортной артерии в мире.
На сегодняшний день газ – наиболее перспективный из традиционных источников энергии, и единственный, который имеет все шансы составить в будущем конкуренцию ВИЭ. По объему доказанных запасов Россия является лидером с мировой долей 20%. То есть мы имеем самый высокий производственный потенциал, который дополняется развитой и растущей инфраструктурой для экспорта углеводородов, обеспечивающей доступ к ключевым рынкам. Тем не менее, в наших планах - не останавливаться на достигнутом и стремиться к новым амбициозным результатам. При этом мы постоянно совершенствуем технологии и внедряем собственные разработки. В этой связи мы ставим себе задачу не только своевременно следовать мировым тенденциям, наша стратегическая цель – задавать новые тренды на газовом рынке и быть драйверами в их реализации.
Материал на сайте журнала "Энергетическая политика": https://energypolicy.ru/?p=3107
Названы самые посещаемые туристами страны мира
Некоторым из них в прошедшем году активно «помогали» россияне.
Что случилось? Всемирная туристическая организация (UNWTO) составила список стран, которые в прошедшем году посетило наибольшее число путешественников, и обозначили те направления, по которым турпоток показал наиболее заметный рост, пишет АТОР.
ТОП-10 самых посещаемых стран мира в 2019 году (по количеству туристов):
1.Франция – 90,2 млн
2.Испания – 83,8 млн
3.США – 78,7 млн
4.Китай – 67,5 млн
5.Италия – 64,6 млн
6.Турция – 52,5 млн
7.Мексика – 44,9 млн
8.Таиланд – 39,7 млн
9.Германия – 39,4 млн
10.Великобритания – 36,9 млн
Самые быстрорастущие туристические направления в 2019 году:
1.Мьянма +40,2%
2.Пуэрто-Рико +31,2%
3.Иран +27,9%
4.Узбекистан +27,3%
5.Черногория +21,4%
6.Египет +21,1%
7.Вьетнам +16,2%
8.Филиппины +15,1%
9.Мальдивы +14,9%
10.Багамские острова +14,6%
11.Катар +14,5%
12.Армения +14,4%
13.Южная Корея +14,4%
14.Турция +14,0%
15.Босния и Герцеговина +13,7%
16.Тунис +13,6%
17.Лаос +11,5%
18.Азербайджан +11,4%
19.Израиль +10,5%
20.Литва +10,1%
Важные факты:
-Упрощение визовой политики помогло росту турпотока в страны Центральной Азии. В итоге иностранных туристов в Узбекистане стало больше на 27,3%, в Кахахстане – на 10%, в Азербайджане – на 11,4%.
-Россияне помогли улучшить показатели Тунису. «Наших» в 2019 году оказалось 636 000 из 9,4 млн иностранных гостей в этой стране. Также граждане РФ активно посещали Вьетнам (более 646 000 человек). А турпоток из России на Мальдивы за 2019 год и вовсе увеличился на 17,5% (до более 83 000 человек).
-Поток отдыхающих из России в Южную Корею за год подскочил на 13,4% и достиг почти 343 000 человек. Израиль посетил 328 000 россиян.
Автор: Ольга Петегирич

Из чего сделано счастье
Георгий Бовт о том, сколько денег надо, чтобы стать счастливым
«Деньги есть, а счастья нет», — такая формула многим в нашей стране кажется чистой «выпендрежной абстракцией». Многие верят: были бы деньги, остальное можно купить. Оказывается, нет. И другая формула — про «рай в шалаше», было бы с кем — тоже вполне работает. Не все так просто с этим счастьем. Был бы у нас нацпроект по всенародному счастью, можно было бы там подсмотреть желаемые плановые параметры. Но нет такого. А зря.
В 1974 году профессор Университета Южной Калифорнии Ричард Истерлин написал прорывную по тем временам работу «Экономика счастья». Сравнивая «уровень счастья» в разных странах, он пришел к выводу, что в бедных странах «уровень счастья» растет по мере роста ВВП, однако затем словно утыкается в потолок, когда дополнительный доход уже не приносит особо ни счастья, ни радости. Как в том анекдоте про нового русского, который вернул праздничные шарики в магазин, потому что «не радуют».
Хотя, как правило, богатые люди счастливее бедных людей, а богатые страны счастливее бедных. С тех пор в экономическую науку вошло понятие «парадокс Истерлина».
Некоторое время назад социологи подсчитали, что для Америки, скажем, пороговым значением является уровень дохода на домохозяйство около 75 тыс. долл. (сейчас, наверное, чуть выше). После этого, даже при условии резкого роста доходов, уровень счастья не растет. Этот порог в равной мере касался как жителей крупных мегаполисов, где жизнь процентов на 20% дороже, так и малых городков. У нас в России в прошлом году, согласно одному из опросов (проведен компанией SuperJob), семье из трех человек «для счастья» требовалось от 116 тыс. до 208 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона. При этом доход около 75 тыс. рублей признали «нормальным» в среднем по стране для такой семьи. Шура Балаганов, помнится, в свое время, пределом своей мечты обозначил Великому Комбинатору сумму в 6 400 рублей.
Кстати, в том же прошлом году был зафиксирован самый низкий «уровень счастья» россиян с 2013 года (опрос проведен компанией Gallup International в 46 странах). И если в мире в среднем назвали себя счастливыми 59% людей, то в России лишь 42%. А ведь еще в 2017 году у нас таковых было 55%. Что же такое случилось с нами за два года, что мы так «погрустнели»? Вряд ли стоит винить в том одну лишь непопулярную пенсионную реформу. По Всемирному индексу счастья ООН мы тоже ходим не в «топах», но хотя бы в «середняках» (68-е место из 156). Неужели мы уперлись в «парадокс Истерлина»?
Тогда точно нужен еще один нацпроект — насчет достижения счастья? Впрочем, с нашими-то историческими традициями может получиться чисто по Оруэллу с его Министерством счастья. Да и свой печальный опыт на сей счет есть: «Железной рукой загоним человечество к счастью», — такой лозунг висел в Соловецком концлагере в 30-х. И какое-то время ведь казалось, что удалось.
О том, что не единым ростом ВВП можно сделать людей счастливыми, экономисты догадались давно. И если посмотреть на первую десятку «самых счастливых стран», то из развитых там разве что Испания (на девятом месте), а первая пятерка выглядит так: Колумбия, Индонезия, Эквадор, Казахстан, Нигерия. Нищими эти страны назвать нельзя, но и богатыми тоже, зато всех их объединяет большое число солнечных дней в году. Нам солнца, конечно, не хватает. А так неужели мы тогда бы догнали и перегнали Колумбию? Однако и солнце, увы, решает не все.
Взять, скажем, такие вполне солнечные страны, как Тунис и Египет. С 2005 по 2010 год ВВП в Тунисе вырос на 26%, а в Египте аж на 53%. Однако если в начале этого мощного роста «процветающими» называли себя примерно четверть тунисцев и египтян, то через пять лет доля таковых сократилась в два раза. Бурный рост ВВП, получается, не привел к росту всенародного счастья, а кончился, как известно, «арабской весной».
Стремительный рост экономики создал в «неподготовленном» обществе лишь новые точки напряжения и проблемы. Это на заметку нашим апологетам повышения роста ВВП как чуть ли не панацеи от всех проблем, начиная от бедности и кончая низкой рождаемостью.
Примерно тогда же (в 2010 году) двое исследователей из Института Брукингса Кэрол Грэм и Эдуардо Лора придут к следующему выводу: «Быстрый экономический рост часто приносит с собой большую нестабильность и неравенство, что и делает людей несчастливыми».
Впрочем, и тут не надо открывать Америку. После того, как ее открыл для себя Семен Абрамович Кузнец, предусмотрительно эмигрировавший в США от большевистского счастья в 1922-м и успевший до этого опубликовать всего несколько работ по экономике. Став Саймоном, а в 1971 году Нобелевским лауреатом, а еще ранее придумав измерять ВВП, он в 1934 году в докладе конгрессу США заметил, что для благополучия нации важен не только размер ВВП и его рост, но и то, каким образом распределяется национальное богатство.
Сегодня наглядно видно, что чем выше уровень неравенства, тем больше напряженность в том или ином обществе. И даже если, скажем, в больших городах обозначающий это неравенство «Индекс Джини» выше, чем в малых, то в первом случае и жизнь напряженнее, и выше доля людей, чувствующих социальный дискомфорт. Они несчастны на этом нескончаемом празднике жизни «огней большого города». Именно поэтому, скажем, страны с меньшим уровнем неравенства — например, скандинавские, где солнца не так уж и много — находятся в верхней части мировых рейтингов счастья. А если, бы, скажем, в Дании или Финляндии еще и солнца было, как в Колумбии?
Или вот, например, более 60% граждан одной из самых богатых стран — Америки — вне зависимости от национальности полагают, что жизнь их детей будет хуже, чем их собственная. А в Латинской Америке, где люди живут беднее, уверенность в будущем сильнее: менее 10% чилийцев опасаются, что дети их будут жить хуже. И даже в Бразилии, экономика которой в последнее время стагнирует, примерно как российская, более 70% уверены, что лучшее - впереди, и оно-таки настанет. Это называется социальным оптимизмом.
Для ощущения счастья, конечно, важна самореализация. Возможно, поэтому в нашей стране самыми счастливыми себя называют врачи и фармацевты, а также госслужащие. С первыми понятно: они спасают и лечат людей, несут добро. Однако, как бы многие с этим ни спорили, у многих госслужащих тоже присутствует ощущение, что они работают на общественное благо. Несут добро. Хотя управляющие и управляемые подчас понимают «благо» по-разному. Но это уже другой вопрос.
Важна офлайновая социализация, а не сидение в соцсетях, от которых только тошно становится. Важно то, как и с кем именно вы проводите свободное время. А не рабочее, которое тут далеко не на первом месте. Конечно, работа должна быть, без нее пока никак. Можно много еще факторов перечислять.
И в результате прийти к образу общества, где высок уровень доверия и горизонтальных связей, где люди совершают много поступков не корысти ради, а из альтруистических побуждений, объединяясь во всякие волонтерские движения и НКО, даже просто общаются, что-то совместно предпринимают с соседями по двору, сумев договориться. Где кричащее неравенство не бросается в глаза, а несправедливость на государственном уровне не разъедает душу в той ее части, где отведено место такой штуке, как патриотизм. Где вокруг не улицы разбитых фонарей, бесконечные помойки или железобетонные гетто-человейники без зелени, социальной инфраструктуры, а живое и комфортное городское пространство с его социализацией на уровне «соседских общин».
Важно, наконец, то, как общество смотрит в будущее. Со страхом новых вызовов и неизвестности или с надеждой и уверенностью, что завтра будет лучше, чем вчера. Тем более, что про прекрасное «вчера» и так уже со всех ушей лапша свисает.
Ускорить рост ВВП, теоретически, можно технократическими методами «тонкой настройки». Но сделать этот рост таким, чтобы ощущение счастья разлилось по всему обществу, а оно приподняло бы голову, увидело свет, поверило в себя, в свое будущее, встрепенулось и зажило своей собственной живой жизнь, без указок, запретов и хамских одергиваний со стороны начальства, — эта задачка будет куда сложнее. По силам ли она нам сейчас?
Президент Египта заявил о нарушении консенсуса по Ливии
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о нарушении достигнутого в Берлине консенсуса по Ливии рядом "региональных сторон", об этом он сказал в субботу, выступая на Совете по вопросам мира и безопасности Африканского союза.
"К сожалению, международный консенсус, который мы наблюдали в Берлине, был нарушен известными региональными сторонами, которые не прекратили нарушать эмбарго на поставки оружия и не прекратили ввозить тысячи наемников, ставших машинами по уничтожению людей", - сказал египетский президент.
Двухдневный саммит государств, входящих в Африканский союз, стартует в воскресенье в столице Эфиопии Аддис-Абебе.
Ситуация в Ливии станет одной из главных тем обсуждения на предстоящем саммите.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер-министр правящего в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж, и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось. Главным итогом конференции стал призыв ее участников о прекращении огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам конфликта. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией Хафтара.

Интервью Посла России в Джибути и Сомали М.А.Голованова информационному агентству «РИА Новости», 7 февраля 2020 года
Вопрос: С какими сложностями вам приходится сталкиваться, представляя Россию в Джибути и Сомали?
Ответ: Сотрудничество России и Джибути опирается на узы дружбы, основанные на взаимном уважении и учете интересов друг друга. В 2018 году мы отметили 40-летний юбилей установления дипломатических отношений между нашими странами – все эти годы посольство развивает весь комплекс российско-джибутийских связей. Кроме того, мы поддерживаем постоянные контакты с МИД Джибути для сближения подходов обеих стран, в том числе в ООН и ее специализированных учреждениях. К примеру, в ходе пленарных заседаний 74-й Генассамблеи ООН джибутийцы поддержали российские резолюции по космической тематике, борьбе с героизацией нацизма, укреплению и развитию системы и договоров по контролю над вооружениями, использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.
Развиваются связи и в сфере культуры. Например, сейчас обсуждается возможность установить побратимские отношения между столицей Джибути и одним из российских городов. Также прорабатывается проект установки бюста Юрия Гагарина в центре джибутийской столицы по случаю 60-летия первого полета человека в космос, которое будет отмечаться ООН 12 апреля 2021 года.
Что касается российско-сомалийских отношений, они имеют давнюю историю. Наша страна оказывала весомую помощь процессу становления сомалийской государственности в первые годы ее независимости. Именно тогда, в 1960-х годах, было налажено взаимодействие в политической, торгово-экономической, военной и других областях. Наша страна поставляла в Сомали технику и оборудование, помогала строить объекты инфраструктуры. Более 20 тысяч сомалийцев получили образование в СССР, а в Сомали трудились сотни наших специалистов. Сомалийская сторона высоко оценивает внешнеполитический курс России и выступает за восстановление прежнего уровня отношений с нашей страной.
Вместе с тем обстановка с безопасностью в Федеративной Республике Сомали в настоящее время остается нестабильной. Федеральное правительство сталкивается с многочисленными вызовами, включая пробуксовывание налаживания диалога между федеральным центром и сомалийскими штатами. Ситуацию обостряет деятельность террористической группировки "Аш-Шабаб", которая в преддверии всеобщих парламентских и президентских выборов, намеченных на конец 2020 года — начало 2021 года, продолжает наращивать свою деструктивную активность, включая нелегальную торговлю людьми, оружием и наркотиками.
Сомали обладает потенциалом для сотрудничества в сферах энергетики, разведки и добычи углеводородов, разработки полезных ископаемых, рыболовства и сельского хозяйства. Однако для работы российского бизнеса в стране прежде всего необходимо обеспечить безопасность. Именно этот фактор, вкупе с неблагоприятным социально-экономическим положением (по индексу человеческого развития ООН Сомали является одной из беднейших стран мира), затрудняет налаживание российско-сомалийских торгово-экономических связей.
Вопрос: Власти Джибути неоднократно заявляли, что они выступают за расширение партнерства с Россией. По каким отраслям планируется расширять взаимодействие? Какие совместные проекты с Россией могут быть запущены в ближайшее время?
Ответ: Деловые контакты активизировались во многом благодаря проведенному в октябре саммиту Россия – Африка. Президент Джибути Исмаил Омар Гелле заявил, что саммит в Сочи "знаменует новый этап в отношениях России и Африки", и пригласил российских предпринимателей посетить республику для ознакомления с ее потенциальными инвестиционными возможностями.
При содействии посольства на полях экономического форума "Россия – Африка" в Сочи был подписан меморандум о взаимопонимании между Торговыми палатами России и Джибути. Тогда же стороны договорились о рабочем визите делегации российских предпринимателей для участия в двустороннем деловом форуме в первой половине 2020 года.
Хотел бы отметить, что, несмотря на свои небольшие размеры, Республика Джибути обладает существенным потенциалом для тех российских компаний, кто стремится выйти на африканский рынок. Объем прямых зарубежных инвестиций в Джибути за прошедший год составил 223 миллиона долларов. Кроме того, с июля 2018 года здесь действует международная свободная зона "Джибути", администрация которой предлагает бизнесу комфортные условия: готовую инфраструктуру и коммуникации, налоговые послабления, возможность привлекать иностранную рабочую силу.
В настоящий момент прорабатываем организацию переговоров делегации Российского торгово-производственного союза (Краснодарский край) с джибутийскими партнерами. Представители этой бизнес-структуры заинтересованы в экспорте металлоконструкций, трубной продукции, а также электротехнического оборудования многоцелевого назначения (гражданская авиация, судостроение, железнодорожный транспорт, машиностроение, энергетика, сельское хозяйство, медицина, IT-технологии, кибербезопасность, роботизация промышленных предприятий и другие отрасли) на рынки стран Африки, в том числе Джибути.
Вопрос: Министр энергетики страны Йонис Али Геди ранее приглашал российских инвесторов для работы в энергетическом секторе государства. По его словам, государство особое внимание уделяет развитию возобновляемых источников энергии. Удалось ли государству привлечь российских инвесторов? Какие сферы еще могут представлять интерес для нашей страны?
Ответ: Да, действительно, Джибути может вырабатывать свыше 300 МВт энергии из возобновляемых источников. Вместе с тем имеется ряд проблем: отсутствие координации действий, слабая развитость инфраструктуры, трудности с выходом на местный рынок для независимых производителей электроэнергии, однако власти планируют устранить эти препятствия. В целом развитие альтернативной энергетики является перспективной сферой экономики Джибути. Вопросы привлечения российских инвестиций в энергетический сектор пока что находятся на стадии проработки.
Перспективной для отечественных компаний является и сфера информационно-коммуникационных технологий. Благодаря выгодному расположению, растет роль Джибути в обеспечении высокоскоростного доступа в интернет в регионе и мире. Сейчас страна связана семью подводными кабелями, соединяющими Африку с Азией, Ближним Востоком и Европой. Государственная телекоммуникационная компания "Джибути Телеком" осуществляет прокладку глубоководного волоконно-оптического кабеля DARE-1, проходящего через Джибути, Кению и Сомали. К данному проекту проявляет интерес дочерняя экспортная структура министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России АО "Росинфокоминвест". Перспективным направлением сотрудничества также могут стать инфраструктурные проекты.
Вопрос: В октябре прошлого года президент Джибути Исмаил Омар Гелле сообщал, что Москва и Джибути могут расширить сотрудничество в области туризма и логистики. О каких проектах идет речь?
Ответ: Государственная экономическая стратегия "Видение-2035", цель которой состоит в превращении Джибути в логистический, коммерческий и информационно-коммуникационный хаб для всей Восточной Африки, предусматривает в том числе развитие туризма. Согласно официальной статистике, страну ежегодно посещают свыше 74 тысяч туристов, а к 2030 году предполагается увеличить турпоток до 500 тысяч человек в год. Осложняют развитие туризма неразвитая дорожная сеть и недостаточное количество гостиничных комплексов с высоким уровнем обслуживания. Хочется обратить внимание российского бизнеса на туристический и рекреационный потенциал Джибути, где есть и белые песчаные пляжи, и соляные озера, и природные парки, и спящие вулканы, и места для дайвинга. К примеру, в заливе Таджура находится редчайшее место, куда с конца октября до конца февраля приплывают в поисках планктона китовые акулы, которых можно увидеть в естественной среде своими глазами. Так что туристическая отрасль Джибути ждет своих инвесторов.
Вопрос: Джибути обладает стратегически удачным расположением, на ее территории соединяются Красное море и Аденский залив, через этот судоходный район проходят все корабли, направляющиеся в Суэцкий канал. Благодаря такому расположению, здесь открыли свои военные базы Франция, США, Китай. Как вы оцениваете перспективы появления российской базы в регионе?
Ответ: Вопрос создания на территории Джибути пункта материально-технического обеспечения кораблей ВМФ России утратил актуальность для российской стороны, так что переговоры об открытии российской базы в регионе не ведутся.
Вопрос: Согласно рейтингу, составленному Российским профсоюзом моряков, Сомали относится к регионам, где сегодня наблюдается самая высокая пиратская активность. Не планирует ли Россия возобновить активное военное патрулирование в этом регионе, не рассматривается ли вопрос проведения совместных военно-морских учений по борьбе против пиратов? Насколько этот вопрос актуален для Джибути?
Ответ: Российские корабли осуществляют патрулирование акватории Индийского океана и Аденского залива. Несмотря на внутреннюю стабильность, Джибути продолжает сталкиваться с угрозами безопасности ввиду кризисной обстановки в соседних Сомали и Йемене. По-прежнему существует потенциальная опасность проникновения террористов на территорию страны с моря, поэтому морские границы нуждаются в круглосуточной охране. Кроме того, стратегически важное месторасположение Джибути требует принятия дополнительных мер по обеспечению свободного судоходства, а также противодействию морскому пиратству и захвату гражданских судов. В связи с этим соответствующие подразделения береговой охраны ведут постоянное патрулирование территориальных вод в самой узкой части Баб-эль-Мандебского пролива (38 километров), через который проходит 12% мирового объема морских перевозок грузов и транспортировка 30% углеводородов.
Вопрос: Кроме того, острым для Сомали остается вопрос терроризма. Так, в конце декабря в столице государства произошел крупный террористический акт. Не рассматривает ли Россия возможность совместных с Сомали военных учений по борьбе с террористами?
Ответ: Вопрос проведения совместных с Сомали военных учений по борьбе с терроризмом не рассматривается.
Вопрос: Рассматривает ли Россия сомалийский порт Бербера для размещения там российской военной базы? Ведутся ли уже переговоры об этом?
Ответ: Россия не рассматривает порт Бербера для размещения военной базы. Переговоры по этому вопросу не ведутся.
Вопрос: В Восточной Африке сейчас наблюдается крупное нашествие саранчи. Эксперты отмечают, что в Сомали не испытывали таких массовых нашествий в течение 25 лет. Согласно прогнозу ООН, к июню численность насекомых может увеличиться в 500 раз. Может ли Россия содействовать Сомали решению этой проблемы, учитывая то, что у нашей страны уже есть опыт борьбы с этими насекомыми? Не обращались ли власти Сомали к нам за поддержкой в связи с этим?
Ответ: Сомалийские власти не обращались к нам за поддержкой по этому вопросу. Вместе с тем, учитывая непростую гуманитарную ситуацию в Сомали, Россия продолжает помогать стране и сомалийским беженцам в сопредельных государствах посредством целевых взносов в фонды Всемирной продовольственной программы ООН. Кроме того, прорабатывается вопрос поставок в Сомали противодизентерийных и противотифозных вакцин по линии Минпромторга России.
И на джихадистов бывает проруха
Исламисты пытались остановить экспорт израильского газа в Египет, но взорвали газопровод до электростанции на Синае
Не тот газопровод на Синайском полуострове взорвали по ошибке египетские исламисты, пытавшиеся остановить экспорт израильского газа, который потом в виде СПГ будут доставлять из Египта в Европу. Группа неизвестных в масках взорвала газопровод в 60 км от провинциального центра эль-Ариш, сообщает Aljazeera. По данным телеканала, газопровод снабжает газом электростанцию, которая обеспечивает электроэнергией дома и фабрики в центральном Синае.
На самом же деле исламисты собирались взорвать совсем другой газопровод, который идет из Израиля, и перепутали, сами того не зная. В Telegram-канале группы боевиков запрещенного в России «Исламского государства» взяли на себя ответственность за подрыв израильского газопровода. Они утверждают, что «целились в евреев и египетское правительство».
В начале февраля катарский телевизионный канал Aljazeera сообщил, что в северной части Синайского полуострова произошла диверсия — взорвана ветка газопровода, по которому израильское топливо подается в Египет. Источники телеканала утверждали, что диверсионный акт имел место в районе египетского города Бир-эль-Абд на Северной Синае.
Однако по данным консорциума освоения израильского месторождения «Левиафан», экспорт газа в Египет продолжается «без каких-либо изменений».
Как сообщало EADaily, в январе американская Noble Energy и израильские Delek Drilling и Ratio начали добычу газа на гигантском месторождении «Левиафан» в израильском секторе Средиземного моря. Газ транспортируется в Египет, откуда — уже в виде СПГ — будет поставляться в Европу.
«Уже через несколько месяцев израильский газ может оказаться в Европе через завод СПГ „Идку“ на севере Египта», — сказал министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.
Овощи из Китая: ритейлеры ищут альтернативу
Поставки овощей и фруктов из Китая в торговые сети затормозились в связи с продлением новогодних каникул в КНР. По данным сети «Слата», опубликованным порталом retail.ru, это вызывает серьезные опасения рителейров, так как они уже сейчас распродают старые запасы.
В настоящее время основу фруктово-овощного импорта из Китая составляют кабачки, баклажаны, перцы, пекинская капуста, томаты, чеснок, салатные культуры, мытая морковь. До появления овощей из других стран цены на эти продукты в магазинах ожидаемо вырастут.
Отсутствие китайских косточковых и семечковых фруктов, а также цитрусовых в магазинах обусловлено не продлением новогодних каникул, а действием ограничений Россельхознадзора на ввоз этих культур с 10 августа 2019 года и 6 января 2020 года. По тем же мандаринам и лимонам ритейлеры переориентировались на импорт из Египта, Турции, Пакистана, Марокко. По импорту перцев Китай может теоретически заменить Иран, но логистика здесь долгая и перец вряд ли сохранит нужную кондицию до полок магазинов. В «Слате» также ожидают дефицит и удорожание огурцов.
Ранее агентства сообщали, что особенно ощутимым может стать дефицит чеснока, крупнейшим поставщиком которого в РФ является Китай. Объемы поставок из находящегося на второй строчке Ирана — меньше в 5 раз. Собственное производство чеснока в России обеспечивает рынок только на 10%.
Поставки газа из России в Турцию сократились на 40%. Зачем тогда столько "потоков"?
По итогам прошлого года Газпром поставил Турции 14,4 – 14.8 млрд куб. м. газа. С такими показателями Турция выпала из тройки основных потребителей российского газа, хотя раньше стабильно держалась на втором месте после Германии. Что будет теперь с "Турецким потоком"?
Самый главный вопрос при такой неутешительной статистике: какова будет судьба Турецкого потока, который совсем недавно с помпой открыли при участии Владимира Путина и Реджепа Эрдогана?
Увы, но рассчитывать на то, что с запуском нового газопровода вырастут поставки, не приходится. Дело вовсе не в отсутствии возможности прокачивать газ: в прошлом году 4,35 млрд куб. м. газа были прокачаны по Трансбалканскому коридору, и 10,3 – 10,6 млрд по «Голубому потоку», который был запущен ещё в 2003 году. Теперь «Голубой поток» недозагружен на 35%. Так что возвращать прежние объёмы можем и без «Турецкого потока».
Но вот в чём проблема: турецкие потребители газа не желают покупать исключительно российское голубое топливо. Российский газ в Турции покупает не только государственная компания Botas, на которую власти могут влиять, но и частные компании Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A.S. и Enerco Enerji A.S., лишившиеся в прошлом феврале скидки в 10%. У частников есть выбор: конкуренция в средиземноморском регионе нешуточная. Тут и трубопроводный газ из Азербайджана и Ирана, и СПГ из США, Алжира, Катара, Египта, Нигерии, Тринидада и Тобаго и Анголы. В 2019 году Россия уступила даже поставкам СПГ, которые оцениваются в 10,9 млрд куб. м. только по итогам 11 месяцев (а по итогам всех 12 месяцев должны достичь 12 млрд куб.м. газа). Азербайджан таких высот не достиг, поставив 8,66 млрд куб. м. газа за 11 месяцев, но динамика впечатляет: это на 29% больше, чем в 2018 году.
Выходит, что, поскольку турецкий газовый рынок открыт для любых предложений и не монополизирован госкомпанией, никто не может обещать Газпрому стабильный спрос на топливо. В таких условиях строительство «Турецкого потока» было либо чистой авантюрой, либо политическим с демонстрацией того, что Россия может реализовывать сложные проекты. Но укладкой труб по морскому дну занималась швейцарская компания Allseas, и всё равно Трансанатолийский газопровод (TANAP), поставляющий газ из азербайджанского месторождения Шах-Дениз, был запущен почти на месяц раньше «Турецкого потока». Не самая удачная демонстрация возможностей. И точно – не самая дешевая.
Сам «Турецкий поток» оценивается в 7 млрд долларов (441 млрд долларов), но ведь ещё надо поставить газ по территории России до компрессорной станции «Русская» на берегу Чёрного моря. Для этого пришлось построить ещё 4 компрессорных станции и 650 км газопровода по территории России. При этом мощности станции «Русская» избыточны: она проектировалась для закачки 63,4 млрд куб. м. газа в несостоявшийся «Южный поток», а две нитки «Турецкого потока» могут принять лишь 31,5 млрд куб. м.
Аналитики Sberbank CIB уже отмечали риски того, что проект не окупится никогда. А значит это деньги, выброшенные на ветер. Почему их тогда не «выбросили» на газификацию регионов России? Сравните: за последние 10 лет Газпром инвестировал в газификацию России 304,25 млрд рублей – значительно меньше, чем в один «Турецкий поток», вынужденный простаивать почти без газа.
Коронавирус может вызвать в России дефицит овощей, в особенности – чеснока
Российские торговые сети начинают отказываться от китайских продуктов питания из-за эпидемии коронавируса, что может иметь последствия для российских потребителей, говорится в сообщении Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка».
Сергей Сильченко
Первые пять позиций по стоимости в составе российского импорта из Китая в 2019 году занимали цитрусовые (около 200 млн долл.), замороженная рыба, овощи, включая томаты, лук репчатый и чеснок (каждая группа – порядка 100 млн долл.).
Эксперты банка отмечают, что в силу очевидных особенностей климата говорить об импортозамещении цитрусовых (апельсинов, мандаринов, грейпфрутов, лимонов и лаймов) не приходится. В нынешней ситуации поставки из Китая заменят Турция, Египет, Марокко и ЮАР.
«Россия экспортирует в Китай на порядок больше замороженной рыбы, чем импортирует. Структура по видам может отличаться, но в целом потребитель вряд ли почувствует разницу, – сказал руководитель Центра отраслевой экспертизы банка Андрей Дальнов. – Для российских производителей любые перебои с логистикой в Китае напротив представляют весомый риск».
Товарный состав группы «овощи прочие» довольно разнообразен: перец стручковый сладкий, баклажаны, кабачки, грибы, сельдерей. В отличие от картофеля, капусты, моркови или свёклы, эти овощи трудно назвать базовыми. Они скорее повседневные продукты для людей со средним достатком.
По эРоссийские торговые сети начинают отказываться от китайских продуктов питания из-за эпидемии коронавируса, что может иметь последствия для российских потребителей, говорится в сообщении Центра отраслевой экспертизы «Россельхозбанка».той группе товаров Китай является основным поставщиком. В европейской части России поставки из КНР, по крайней мере частично, будут замещаться поставками из Израиля, Турции, Ирана, Узбекистана. Но этим странам будет тяжело полноценно заменить на российском Дальнем Востоке поставки из Поднебесной.
Аналогичная ситуация с замещением поставок томатов: китайские помидоры есть кому заменить, но вряд ли это пройдет безболезненно для регионов Сибири и Дальнего Востока.
С другой стороны, в результате повысится инвестиционная привлекательность проектов выращивания овощей и развития инфраструктуры, в первую очередь строительства современных складских комплексов. По оценке банка, для импортозамещения поставок овощей за Уралом необходимо как минимум 170 га теплиц.
«Но самая напряженная ситуация может сложиться с поставками чеснока, который широко используется населением для профилактики простудных заболеваний, – подчеркнул эксперт. – С долей 80% Китай доминирует в поставках этого продукта на российский рынок».
По его словам, общий объем импорта чеснока составляет около 50 тыс. тонн, валовый сбор – около 260 тыс. тонн, но основной объем производится в личных подсобных и фермерских хозяйствах.
«На практике это означает, что в случае перебоев с китайскими поставками, чеснок из сетевых магазинов на какое-то время исчезнет. Российское производство чеснока начнет расти только в 2021 году. К этому же времени получится частично переключиться на поставки из других стран. Таким образом, в случае форс-мажора в Китае, дефицит этого продукта будет неизбежным», – отметил Дальнов.
Вместе с тем, заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов 5 февраля заявил журналистам, что его ведомство не ожидает дефицита продуктов, в частности, чеснока. «У нас приличный запас продуктов, наши аграрии справятся с чесноком точно», – сказал он.
Эксперт прокомментировал отстранение Филарета от "синода ПЦУ"
Отстранение раскольника Филарета от членства в "Священном синоде" так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) подводит своеобразную черту под его властными устремлениями и свидетельствует о его полном проигрыше в борьбе за власть внутри раскольнических структур на Украине, считает церковный историк, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко.
Ранее пресс-служба ПЦУ сообщила о прекращении полномочий Филарета Денисенко как члена "Священного синода" неканонической структуры. При этом было указано, что "почетный патриарх Филарет с 24 июня 2019 года является архиереем ПЦУ на покое", в связи с чем ему "канонически запрещено совершать любые хиротонии". Сам Филарет ранее признал, что глава ПЦУ Епифаний Думенко уже не проводит с ним службы.
"В целом, то, что происходит, - это уже, наверное, какая-то агония, хотя Филарет и пытается возобновить деятельность так называемого "Киевского патриархата", и совершает так называемые хиротонии так называемых епископов, но все это уже маргинально. Потому что очевидно, что внутри так называемой ПЦУ Филарет лишился всякого влияния", - заявил РИА Новости Петрушко.
По его словам, Филарет "надеялся обыграть и Константинополь, и Епифания, и всех, полагая, что "за ширмой" Епифания он будет по-прежнему хозяином раскольнической структуры", однако в случае, если ему это бы удалось, "ПЦУ не смогла бы набрать даже той видимости легитимности, которую она все-таки сумела как-то изобразить при поддержке Константинополя".
"Конечно, от Филарета там постарались как-то дистанцироваться, как от наиболее одиозной фигуры, и, тем более, не давать ему властных полномочий. Он с этим явно не захотел мириться и проиграл. Если он планировал, что Епифаний будет послушной ему марионеткой, то он в этом ошибся", - признал эксперт. По его мнению, сложно сказать, сам ли Епифаний в этом противоборстве с Филаретом проявил самостоятельность и честолюбие, или же он просто следовал "в фарватере" Константинополя или Госдепа США - тех, "кто постарался подсказать ему эту линию поведения".
"Очевидно, все-таки, что ПЦУ, признанная уже не только Константинополем, но и Александрией, и Элладской церковью, квазиавтокефальная Церковь, выглядит более привлекательной, нежели "Киевский патриархат", который абсолютно никакой даже видимости легитимности не имеет… И тем силам на Украине, которые склонны использовать церковный фактор в политике, ПЦУ, безусловно, представляется более выгодным и полезным партнером, особенно в отношениях с Западом, чем отживший, в общем-то, свое Филарет", - полагает Петрушко.
Бывший лидер раскольников, которому в январе исполнился 91 год, является уже "отыгранной картой", убежден эксперт. Отвечая на вопрос о том, есть ли какой-то шанс, что Филарет все-таки вернется в каноническую Церковь, собеседник агентства напомнил, что несколько лет назад он уже пытался возобновить контакты с Русской церковью, однако и тогда он не продемонстрировал "ни малейших признаков покаяния", а наоборот, ультимативно потребовал признания собственной легитимности и автокефалии его структуры.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух раскольнических структур. Получив от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью от него зависимой. После этого РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году украинских раскольников признали Элладская и Александрийская православные церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской и Александрийской церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.
Ранее Филарет Денисенко заявил, что возглавляемая им структура отделяется от ПЦУ. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод ПЦУ в ответ лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".
СМИ: России в прошлом году вернули рекордное количество долгов
России впервые с 2010 года иностранные правительства выплатили больше кредитов, чем получили, сообщает газета "Известия".
Так, сумма выплат РФ от заемщиков составила 250 миллиардов рублей. В долг же российской стороной было предоставлено 215 миллиардов.
Такой показатель в два раза превышает максимальные за 12 лет выплаты других государств по кредитам перед Россией, отмечает издание.
Одной из причин для такой ситуации, по мнению экспертов, является погашение основного тела долга сразу по нескольким заемщикам. Другой причиной называется ужесточение политики министерства по отношению к заемщикам.
Один из крупнейших заемщиков РФ – Белоруссия, по некоторым данным, погасила свой долг в прошлом году. Предположительно, долг выплатила и Венесуэла.
По данным минфина Белоруссии, долг страны перед Россией составляет около $7,5 млрд. Из государств дальнего зарубежья больше всего кредитов выдано Венесуэле. Боливарианская Республика должна России $3,5 миллиардов. Среди крупных заемщиков называются также Азербайджан, Казахстан, Египет, Куба, Индия, Иран, Вьетнам.
Ранее радио Sputnik сообщало, что в правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям.
Нацпарк «Лосиный остров» провел мониторинг водоплавающих птиц на зимовке в Краснодарском крае
Национальный парк «Лосиный остров» (г.Москва, Московская область) организовал обследование водно-болотных угодий в Краснодарском крае и сопредельных регионах для оценки местообитаний и подсчета численности птиц, встречающихся в теплый период года на территории нацпарка.
Учеты проводились в январе 2020 г. в рамках Международной переписи водных птиц – программы мониторинга, охватывающей многие страны Европы, Азии и Африки. Полевые работы выполнены в сотрудничестве с Федеральным центром развития охотничьего хозяйства, Министерством природных ресурсов Краснодарского края, НИЦ «Дикая природа Кавказа», заповедником «Утриш».
Побережье Черного моря является наиболее вероятным районом зимнего пребывания обитателей Лосиного острова. Наибольшие скопления птиц обнаружены в Таманском заливе, на Кизилташских лиманах, Варнавинском и Крюковском водохранилищах.
Преобладающая часть зимнего населения водоплавающих - обычные на гнездовании в «Лосином острове» виды уток. Так, общая численность зафиксированной в ходе учета кряквы превысила 300 тыс. особей, красноголового нырка и хохлатой чернети – 100 тыс. особей. Достаточно много (около 30 тыс. особей) зарегистрировано свиязи – пролетного обитателя национального парка.
Аномально теплая зима преподнесла орнитологам сюрпризы, основной из которых - малочисленность озерных чаек. Если в прошлые годы на Черноморском побережье Кавказа собиралось от 100 до 200 тыс. этих птиц, то в нынешнем январе – всего около 10 тыс. особей. По-видимому, чайки остались на незамерзших водоемах где-то севернее, ближе к местам гнездования. Необычно низкой также была численность большой поганки или чомги.
Список зимующих в Краснодарском крае птиц пополнился сразу тремя видами: фламинго, египетской цаплей и белым аистом. Ранее эти виды отмечались лишь в более южных широтах – на Ближнем Востоке и в Северной Африке.
Особо ценную информацию представляют сведения по видам, занесенным в Красную книгу РФ, – чернозобой гагаре, кудрявому пеликану, фламинго, малому лебедю, савке и орлану-белохвосту. Итоги переписи водоплавающих войдут в международную базу данных и позволят уточнить размеры глобальных популяций, а также запланировать действия по сохранению птиц на уровне пролетных путей.
Не долго музыка играла
Всего две недели назад израильский газ начал поступать в Египет, и вот, как сообщает катарский телевизионный канал «Аль-Джазира», в северной части Синайского полуострова произошла диверсия — взорвана ветка газопровода, по которому израильское топливо подается в Египет.
Источники телеканала утверждают, что диверсионный акт имел место в районе египетского города Бир-эль-Абд, который относится к мухафазе Северный Синай.
Ни одна из террористических организаций не взяла ответственность за взрыв, однако подозрения падают на представителей местных бедуинских кланов, которые недовольны отсутствием доходов от транзита газа через их территорию. Во взрыве могут быть замешаны и радикальные исламисты.
Источники в египетской службе безопасности сообщили китайскому агентству «Синьхуа», что объект подвергся нападению группы вооруженных людей в составе не менее шести человек, лица которых были скрыты масками. Над местом аварии висит густое облако дыма. По данным «Синьхуа», власти перекрыли подачу газа и организовали тушение пожара.
Глава Минэнерго Израиля Юваль Штайниц заявил, что ничего не знает о взрыве, а информация о диверсии проверяется сотрудниками его ведомства и других организаций.
Ялтинский расчёт
бремя великих держав
Александр Домрин
75 лет назад самолёты президента США Франклина Делано Рузвельта и премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля совершили посадку на очищенной от снега взлётно-посадочной полосе неподалёку от крымского городка Саки. На следующий день началась Ялтинская конференция (4-11 февраля 1945 года), оставившая неизгладимое наследие в международных делах и в исторической памяти не только стран-союзниц, но и всего мира.
Констатирую очевидное: Ялтинская конференция «Большой тройки»: руководителей СССР, Великобритании и США, — сыграла колоссальную роль в истории послевоенного мироустройства. Крах «Третьего рейха» к тому моменту сомнений уже не вызывал; Вторая мировая война вступила в завершающую стадию. В центре внимания лидеров трёх ведущих мировых держав того времени оказались вопросы послевоенного мира. Необходимо было провести новые государственные границы на территориях, ещё недавно оккупированных нацистской Германией, а ныне освобождённых, и решить, на какие регионы и в каком объёме будет распространяться влияние того или иного члена антигитлеровской коалиции. Именно на Ялтинской конференции были приняты решения по границам Польши и СССР, созданию независимых государств на Балканах, оккупационным зонам союзников в Германии, условиям вступления СССР в войну против Японии, судьбе военнопленных и перемёщенных лиц, а также другим вопросам, одно перечисление которых займёт не один десяток страниц.
В отличие от Тегеранской конференции 1943 года, на которой все три страны выступали примерно в одинаковой роли, «Ялта-1945» стала бесспорным триумфом Советского Союза. Подтверждением этого служит само место проведения конференции. Первоначально главы США и Великобритании предлагали встретиться в Шотландии — месте, равноудалённом как от американских, так и от советских берегов. Сталин отказался от шотландского плана, поскольку прекрасно понимал, что именно наша страна, чья армия тогда стояла уже в 70-100 километрах от Берлина, вправе диктовать свои условия.
Он сделал всё, чтобы руководители союзников своими глазами увидели те катастрофические разрушения, которым фашисты подвергли советские города и сёла. Это давало Сталину существенный козырь в переговорах о репарациях — и, как показало время, это был правильный шаг. После Шотландии в качестве места встречи предлагались — из тех же соображений — Рим, Александрия, Иерусалим, Афины и даже Мальта, но все эти идеи были отвергнуты Москвой в пользу Крыма.
Символично, что через 44 года после Ялты именно на Мальте, как пишет Андрей Фурсов, «Горбачёв не просто сдал мировую соцсистему и Советский Союз. Он де-факто признал Запад хозяином Большой Системы «Россия» (на тот момент она называлась «СССР»)».
Но в 1945-м союзники пошли на уступки. Встречу в Ялте они рассматривали как возможность, прежде всего, добиться от СССР военной поддержки операций войск США и Великобритании в Германии. К февралю 1945 года именно Красная армия добилась наиболее внушительных результатов, подойдя почти к самому Берлину, тогда как союзники были куда дальше от столицы Третьего рейха и испытывали большие трудности в дальнейшем продвижении вперёд (Арденнская операция закончилась только несколько дней назад).
Понимали союзники и то, что, согласившись на встречу в Ялте, они поставили себя в положение гостей, которые во многом зависят от хозяина. Чтобы подчеркнуть это, Сталин не поехал встречать прибывавших на аэродром в городе Саки высоких гостей, а когда Рузвельт и Черчилль, недовольные таким нарушением протокола, выразили советскому лидеру своё неудовольствие, тот дал понять, что эта деталь несопоставима с затяжками открытия давно обещанного «второго фронта». Кстати, на первую официальную встречу «тройки» 4 февраля Сталин демонстративно опоздал — единственный раз за всю Ялтинскую конференцию. И этот намёк союзники тоже поняли правильно.
Хотя дворцов в Крыму, в том числе — и в окрестностях Ялты, хватает, к конференции готовили только три из них. В Юсуповском разместили советскую делегацию, в Воронцовском в Алупке — британскую, а Ливадийский дворец отвели американцам. И, хотя дипломатический протокол требует, чтобы местом переговоров была нейтральная территория, все основные мероприятия конференции с самого начала планировалось проводить в резиденции президента США, прикованного к инвалидной коляске. По некоторым свидетельствам, перед возвращением на родину Рузвельт поделился со Сталиным своими планами после отставки выкупить Ливадийский дворец и поселиться в нём на пенсии.
Любопытно, что Иосиф Сталин и Франклин Рузвельт уехали из Ялты одновременно — на следующий день после окончания Ялтинской конференции, а британский премьер задержался в Крыму ещё на пару суток, успев добраться до Севастополя. Причиной тому стал визит Уинстона Черчилля в Балаклаву, точнее — в Альминскую долину, где в середине осени 1854 года атака британской лёгкой кавалерии стоила жизни представителям многих аристократических родов Великобритании. Были среди них и герцоги Мальборо, предки Уинстона Черчилля.
Могу предположить, что обещание Сталина организовать Черчиллю визит в Балаклаву стало для последнего важным аргументом в пользу выбора Крыма, а не Шотландии, как места встречи «Большой тройки» и ещё одной блестящей победой сталинской дипломатии.
Антигитлеровская коалиция и во время войны взаимодействовала далеко не идеально. В Ялте удалось достигнуть отдельных компромиссов, но уже там разногласия проявились в полной мере, включая пресловутый «польский вопрос».
К общему согласию относительно приближающейся безоговорочной капитуляции, демилитаризации и денацификации послевоенной Германии пришли сразу и без особых споров. Но по целому списку других вопросов консенсуса достичь так и не удалось — настолько серьёзными оказались разногласия.
Например, весьма остро стоял вопрос о репарациях в пользу Советского Союза. США высказывали предположение, что Германия «не потянет» всех выплат, поскольку сама находится в плачевном экономическом положении.
Кроме того, американцы отказывались делиться с союзниками секретами атомного оружия. Вообще, объединявшие союзников факторы фактически исчерпали себя уже к 1946-1947 году.
Через два месяца после конференции была учреждена Организация Объединённых Наций. В Ялте в числе прочих был обсуждён проект её Устава, и было принято принципиальное решение: наделить державы-победительницы «правом вето». Этот принцип сохраняет свою действенность до сих пор, несмотря на периодические попытки его ревизии.
Сталин также вновь поставил вопрос о включении в ООН советских республик Украины, Белоруссии и Литвы, хотя это предложение вызвало сопротивление западных союзников. Однако для советского лидера главным в создаваемой организации было не получение простого арифметического большинства, а превращение её в инструмент подлинного сотрудничества трёх великих держав.
Выступая во время приёма 8 февраля, Сталин сказал: «Я не знаю в истории дипломатии такого союза, тесного союза великих держав, как этот, когда союзники имели бы возможность так открыто высказывать свои взгляды. Возможно, наш союз так прочен, потому что мы не обманывали друг друга».
«Выработанная Ялтинской конференцией система безопасности, — писал в своей книге «Сталин. На вершине власти» историк Юрий Емельянов, — позволила нашей стране впервые за её тысячелетнюю историю обрести безопасную западную границу в Европе почти на всём её протяжении, за исключением Норвегии. В течение 45 лет западными соседями были союзники и дружественно нейтральная Финляндия. Войскам потенциального агрессора на западе противостояли мощные военные группировки советских войск в Центральной Европе. Советский военно-морской флот получил возможность базироваться в портах стран Юго-Восточной Европы. В Ялте Сталин добился также признания за СССР права на создание безопасных границ нашей страны на Дальнем Востоке, которые с начала ХХ века постоянно подвергались нападениям со стороны соседей. Безопасность СССР была надёжно и надолго обеспечена».
Все годы сотрудничества стран антигитлеровской коалиции — не были браком «по любви». Очевидно, что они были браком «по расчёту», и это в полной мере продемонстрировала речь Черчилля (согласованная с преемником Франклина Рузвельта Гарри Трумэном) в Фултоне 5 марта 1946 года, всего через 13 месяцев после Ялты.
Главным уроком Ялтинской конференции является возможность великих держав найти общие позиции даже в том случае, когда «любви» между ними нет и быть не может, а «расчёт» влечёт за собой весьма долгосрочные последствия.
Много воды утекло за три четверти века. Молодые американцы уверены, что именно их страна победила всех во Второй мировой войне. Молодые японцы уверены, что Хиросиму и Нагасаки бомбили русские. Ещё в 1960 году подавляющее большинство французов считали, что Гитлера победила Красная Армия; теперь же там говорят, что это сделали американцы.
Не удивляет также официальная позиция лидеров русофобской периферии: Польши, Украины и Прибалтики, — я неоднократно слышал её ещё в 1990-е годы от профессоров-советологов в Гарварде, а также в университетах Иллинойса, Мичигана и Огайо, где велика этническая концентрация наследников Бандеры (факт, прекрасно показанный в фильме Алексея Балабанова «Брат-2»).
Мир изменился. Лидерами США и Британии становятся абсолютно мультяшные персонажи, вроде Обамы и последних английских премьеров. Сегодня в «Большую тройку», по признанию самих американцев, объективно входят США, Россия и Китай.
23 декабря прошлого года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «президент Трамп не раз, в том числе — во время моего визита в Вашингтон, подчёркивал важность этой даты [празднования Дня Победы в Москве. — авт.] и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях».
Конечно, в это время в Соединённых Штатах будет в разгаре президентская кампания, и есть вероятность, что Трамп чисто технически не сможет «вырваться» в Москву. Но уже своим заявлением президент США подрывает решения Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы, как и общий нарратив русофобов в Европе и мире, о том, что в ходе Второй мировой войны «свободный мир», во главе с Америкой и Великобританией, воевал против двух одинаково чудовищных режимов: Гитлера и Сталина.
Ещё один удар по реваншистам и ревизионистам истории Трамп нанёс буквально на днях, когда ЦРУ — уверен, не без санкции президента США — обнародовало архивные документы об «агенте Гитлера» Степане Бандере. Специально отмечено, что данный текст был рассекречен «в соответствии с Законом о раскрытии нацистских военных преступлений».
«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (имевший в Германии агентурное прозвище «Консул 2») провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина. В тот же день было сформировано так называемое «государственное правительство» во главе с заместителем Бандеры Ярославом Стецько в качестве премьер-министра».
Продолжу цитату: «В то время немецкие оккупационные силы нуждались в агентах и информаторах», и Бандера «с большим рвением приступил к выполнению поручений Гитлера под руководством человека, который был одновременно одним из главных директоров разведки Гитлера». «Всего за пять недель существования «государства» Бандеры было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков».
Так вот какую пронацистскую Украину, как будто говорит Трамп, вы: Обама, Байден, Керри, Нуланд-Нудельман, Пайетт, Йованович и Ко, — строили столько лет! Со мной это не пройдёт! Я помню о Ялтинской конференции и хочу приехать в Москву 9 мая!
Подведём итоги. Нельзя отрицать потенциальной возможности «Ялты-2» — пусть даже в формате брака «по расчёту» — в новой конфигурации: США — Россия — Китай. Всё самое интересное начнётся после переизбрания Дональда Трампа в ноябре этого года.
Египет замахнулся на мировой рекорд. Здесь строят многоквартирный комплекс на 30 000 жителей
Более 3000 человек уже подписали договор о покупке. Они смогут въехать сюда в 2022 году.
Что случилось? Daily Mail пишет, что в окрестностях Каира возводят гигантский жилой комплекс под названием Skyline, стоимостью $546, 6 млн. Роскошный комплекс на 30 000 жителей, размером с небольшой город, появится в юго-восточном пригороде египетской столицы Каттамея. Архитектор проекта Мохаммед Хадид называет его «масштабным и знаковым». Строительством займутся испанская компания Van der Pas совместно с египетским инженером Раефом Фами.
Заявка на рекорд. Здание будет насчитывать 11 этажей и займёт площадь более шести гектаров. Это в четыре раза больше, чем пирамида Хеопса в Гизе, которая оставалась самым большим рукотворным зданием мира на протяжении более 4000 лет. Здание претендует на победу в категории самого большого жилого здания планеты в Книге рекордов Гиннеса.
Цитата. «Skyline призван разрешить жилищный кризис, а не просто установить мировой рекорд», – говорит архитектор Мохаммед Хадид.
Что будет внутри? Комплекс будет включать 13 500 апартаментов по цене от $45 500 за студию до $117 140 за квартиру с тремя спальнями. Жители смогут пользоваться садом площадью более 16 гектаров, велосипедными дорожками и самым большим в мире бассейном «инфинити» на крыше здания. На территории также будет торговый центр, рестораны, ледовый каток, фитнес-центр и даже стена для скалолазания.
Перспективы. Более 3000 египтян уже внесли первоначальный взнос на покупку квартиры в комплексе. Первые жильцы въедут сюда уже летом 2022 года.
Контекст. Проект внесёт весомую долю в перенаселение Каира. В столице уже насчитывается около 21 млн жителей, и их число ежегодно растёт на 500 000. Чтобы бороться с этой проблемой, власти уже строят новый город, призванный стать административным центром Египта. Тем временем цены на жильё в стране резко падают.
Цифра для Союза
Михаил Мишустин назвал главные задачи евразийской интеграции
Текст: Владимир Кузьмин (Алма-Ата)
Свой первый зарубежный визит премьер-министр Михаил Мишустин совершил в Казахстан, на форум глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В Алма-Ате он призвал своих коллег сконцентрироваться на устранении препятствий во внутренней торговле и на развитии конкурентных условий для бизнеса.
Главную цель союзного сотрудничества, которую ставят в Москве, глава кабинета министров связал с благополучием граждан пяти стран. Это рост экономик России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении, преимущество общего пространства и равные возможности для людей. "Мы в целом положительно оцениваем динамику евразийской интеграции по всем основным направлениям деятельности, - сказал он в ходе заседания Евразийского межправительственного совета. - Прежде всего, улучшается работа общего рынка, более эффективным становится наднациональное регулирование". За первые три квартала 2019 года совокупный ВВП союза увеличился на 1,4 процента, рост промышленности и в сельском хозяйстве - 1,7 процента. Вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении, которое гарантирует гражданам всех государств право на получение пенсии независимо от места работы на территории союза. "Это затрагивает интересы миллионов людей", - подчеркнул Мишустин.
Премьер озвучил ряд задач, которые, по его мнению, стоят сейчас перед ЕАЭС. Необходимо продолжать устранение препятствий во внутренней торговле и развитие конкурентных условий для бизнеса. Работа это, по его словам, трудоемкая, требующая компромиссов и готовности конструктивно подходить к поиску решений.
Этот тезис поддерживается всеми участниками, но тем, как идет сам процесс, довольны далеко не все. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин напомнил, что когда в ЕАЭС несколько лет назад только создавали реестр согласованных ограничений, он насчитывал 60 позиций. Сейчас их уже 68. "Вместо того чтобы снизить этот показатель, к сожалению, мы с каждым годом его увеличиваем, создавая все новые и новые барьеры либо затягивая их устранение", - констатировал он.
Сразу несколько государств выступают за наднациональное решение вопроса. Строить работу по устранению барьеров на внутренних рынках на неконсенсусных механизмах предложил, например, глава правительства Беларуси Сергей Румас. "Первое - наделить Евразийскую экономическую комиссию дополнительными полномочиями по принятию решений об отмене национальных актов государств-членов, нарушающих право ЕАЭС. Второе - установить порядок и определить сроки рассмотрения обращений о нарушении права союза", - поддержал инициативу премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.
Принципиально новые возможности в разных сферах странам ЕАЭС открывает цифровизация экономик, заявил Михаил Мишустин второй приоритет евразийской интеграции. Процесс уже запущен: рассмотрено более 70 инициатив, дан старт первым проектам в промышленности, транспорте, на рынке труда. Сейчас, считает глава российского кабмина, необходимо ускорить настройку цифрового взаимодействия по вопросам фитосанитарии и ветеринарии. "Если мы объединим усилия, то сможем защитить людей от некачественной продукции и усилить эффективность контроля в этой сфере", - объяснил он выгоды для граждан.
Страны союза, уверен глава российского правительства, должны ставить более амбициозные задачи в сфере цифровых технологий, чтобы не просто выдерживать глобальную конкуренцию на этом направлении, а выигрывать ее. Какие шаги необходимо предпринимать сейчас, Мишустин рассказал, выступая на международном форуме "Цифровое будущее мировой экономики". Он остановился на четырех целях.
Первое - формирование единой системы цифровой идентификации в Евразийском экономическом союзе. "Мы должны вести речь о признании электронной цифровой подписи на всем пространстве союза, - уверен глава правительства России. - Об этом нужно серьезно поговорить и принять соответствующие решения".
Второй приоритет связан с важнейшим элементом любой информационной системы - защитой данных. Весь электронный документооборот, отметил Мишустин, необходимо вести в доверительной универсальной межгосударственной среде, которая будет работать на единых стандартах. "Иначе мы просто перестанем распознавать друг друга", - предупредил он.
Третья цель - необходимо продолжить работу над системой документальной и физической, по выражению Мишустина, "прослеживаемости движения товаров и услуг, которая будет базироваться на общей цифровой платформе".
Наконец, четвертый пункт - для стимулирования цифрового развития страны ЕАЭС должны провести инвентаризацию всех своих технологических ресурсов и возможностей, открыть совместные центры компетенций в области технологий. "Ведь у нас до сих пор нет ни своего программного обеспечения, ни своих процессоров, ни своей собственной системы цифровой безопасности", - напомнил Мишустин.
"И, конечно, нам необходимо формировать условия, которые позволили бы нашим талантам создавать и развивать цифровые стартапы на территории союза", - заключил председатель правительства России.
Важной задачей для ЕАЭС остается развитие международного взаимодействия, обозначил российский премьер еще один приоритет. В октябре прошлого года подписаны соглашения о зонах свободной торговли с Сингапуром и Сербией, вступили в силу договоренности о либерализации торговли с Ираном. "Рассчитываем, что в 2020 году мы серьезно продвинемся в переговорном процессе по зоне свободной торговли с Египтом и Израилем", - рассказал премьер-министр России об ожиданиях от проходящих переговоров.
"Убежден, что важнейшие задачи развития Союза должны непосредственно затрагивать интересы людей, - заключил Михаил Мишустин. - Здравоохранение, образование, наука, социальные права, экология, спорт и туризм - именно их Российская Федерация выделила при подготовке стратегических документов нашего союза. И мы уже внесли соответствующие предложения. Рассчитываем на поддержку наших инициатив".
По итогам заседания премьер-министры подписали ряд поручений по подготовке стратегических направлений развития интеграции до 2025 года и устранению барьеров в рамках внутреннего рынка союза. Также к следующей встрече межправсовета поручено проанализировать возможное снижение порога беспошлинной интернет-торговли. С этой инициативой ранее выступила российская сторона. Очередная встреча глав правительств стран ЕАЭС запланирована на 9-10 апреля.
На этом визит в Казахстан для Михаила Мишустина не закончился - премьер из Алма-Аты полетел в Нур-Султан, где у него состоялись переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

«Это не настоящая Палестина»: к чему приведет план Трампа
Эксперт оценил «сделку века» Трампа для Израиля и Палестины
Отдел «Политика»
США на этой неделе представили план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Документ в Вашингтоне назвали «сделкой века», которая, как утверждают ее авторы, учитывает интересы всех сторон конфликта. Однако у Палестины остается достаточно много вопросов, а сама «сделка», похоже, не станет прорывом. Чем именно недовольны палестинцы, «Газете.Ru» рассказал научный сотрудник исследовательского центра в Институте Шалома Хартмана, эксперт клуба «Валдай» Мейр Краус.
— Как вы в целом оцениваете «сделку века», предложенную президентом США Дональдом Трампом? Можно ли этот план назвать жизнеспособным?
— План, предложенный Трампом, не включает в себя условий, которые поспособствовали бы началу мирных переговоров. План не предусматривает баланса интересов, который просто необходим.
Я не думаю, что план подразумевает создание настоящего Палестинского государства. Кроме того, неясно, что перед нами, — просто предложение или же полноценный план, который Вашингтон будет навязывать палестинцам всеми силами.
По всей видимости, это как раз план, альтернативы которому не предусматривается. Использованные формулировки, в целом, полностью отражают нарратив израильской политики в отношении Палестины.
— А что, в таком случае, принципиально нового предлагают США?
— Здесь можно говорить о трех новых аспектах. Во-первых, мы давно говорим о создании двух государств. И в Кэмп-Дэвиде в 2000 году, и в рамках процесса Аннаполиса в 2007-2008 годах обсуждалась проблема границ, установленных в 1967 году, обмена территориями — все, даже палестинцы, соглашались, что нужно считаться с теми территориальными изменениями, которые произошли за прошедшие годы.
В плане эти изменения не только не учитываются, но навязываются совершенно новые. Согласно сделке, где бы ни находилось еврейское поселение, оно может отойти Израилю.
Во-вторых, это вопрос статуса Храмовой горы. Впервые план мирного урегулирования предполагает свободный доступ на Храмовую гору для иудеев для совершения молитв. Это очень важно для израильтян, и в то же время, усложняет ситуацию для палестинцев и всего исламского мира. Но США закладывают это право для иудеев впервые.
В-третьих, это создание двух государств. Я не имею в виду саму идею — ей много лет. В течение 50 лет многие люди говорили, а факторы свидетельствовали, что это просто невозможно. Однако впервые США, несмотря на огромную поддержку, оказываемую Израилю, заявили, что территории надо поделить между двумя государствами. И это после долгих лет сомнений, которые выражали лидеры на этот счет.
— Почему же Палестина выступает против? Ведь, по большому счету, главные нюансы в территориальном вопросе учтены — Восточный Иерусалим, суверенитет.
— Палестинцы давно не являются полноценной частью населения этих территорий. За последние два-три года США сделали все возможное, чтобы усложнить их положение. Палестинцам затруднили доступ в Иерусалим, американское посольство было перемещено из Тель-Авива в Иерусалим, США прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и так далее.
Более того, палестинцам было отказано в участии в подготовке этого плана, и сделка не учитывает их ситуацию.
Если остановиться подробнее на вопросе Иерусалима, то следует отметить, что как для палестинцев, так и для иудеев, это не просто город или земля, это очень важный объект с точки зрения государственности и религии, духовный центр. В «сделке» американцы ссылаются на ситуацию, когда Иерусалим, включая Старый город, находился под контролем Иордании в период с 1948 по 1967 годы.
В своем плане американцы предлагают устроить столицу палестинского государства за стеной Иерусалима, то есть на самом деле, за его пределами. Это не Иерусалим в понимании палестинцев. Это территория, которая не имеет для них большого значения.
Но это не единственная проблема. Согласно плану, Израиль может распространить свой суверенитет на любое еврейское поселение. Если мы посмотрим на карту, то станет ясно, что в таком случае большинство частей будущего палестинского государства не будут связаны с друг с другом. Они будут разрознены. Палестинцы согласны произвести обмен своих территорий с Израилем в соотношении 1:1, чтобы общая площадь их государства осталась неизменной. Согласно плану, 30% их территорий должны отойти к Израилю, а в сухом остатке они получат только 70% территории. К тому же, все палестинские территории будут окружены Израилем. А это значит, что для перемещения за пределы Палестины им в любом случае придется пересекать израильскую границу. Это вряд ли устроит палестинцев.
— В чем, кроме дипломатической стороны вопроса, выгода США от подобных предложений?
— Мне кажется, что кроме политических выгод, этот план более ничего не принесет США. Надо отдать им должное, они хотят снизить напряженность в отношениях между Израилем и Палестиной. И по всей видимости, они знают, как это сделать. Однако я не считаю, что на это способен план, который они предложили. Есть мнение, что они таким образом пытаются помочь Нетаньяху выиграть грядущие выборы. Они представляют этот план всего за месяц до выборов в Израиле и незадолго до выборов в США. Поэтому, как мне кажется, кроме политики, за этим предложением ничего не стоит.
— Почему Израиль поддержал предложенный вариант?
— Если рассмотреть на все предложения, которые выдвигались за последние 53 года по разрешению данного конфликта, то легко понять, что «сделка века» — это самый произраильский и однобокий план мирного урегулирования. Именно это объясняет, почему Израиль его поддерживает. Однако, как со стороны левых, так и правых в Израиле есть некоторые возражения против этого плана.
Левые считают, что в плане нет положений, которые способствовали бы снижению напряженности и привели бы к окончательному установлению мира. Они считают, что он скорее будет иметь обратный эффект. Что касается правых, то они выступают против плана, так как для них существование палестинского государства, даже демилитаризованного, в принципе недопустимо.
— Как отнесутся к предложенному плану другие страны Ближнего Востока и арабского мира? И какую позицию может занять Россия?
— Арабские государства, особенно в последние десятилетия или чуть больше, стали более открыты к отношениям с Израилем и даже допускают достижение на этом направлении определенного прогресса. Но они соглашаются на это, только на том условии, что такие отношения будут вестись втайне и неофициально. Причина тому — палестинский вопрос. Они не хотят афишировать эти отношения, пока палестинский вопрос не решен. Я не думаю, что такой подход изменится.
Наверное, нам надо подождать, и через пару недель мы увидим, что Иордания будет решительно выступать против этого плана, Египет заявит, что он не поддержит план. Возможно, Саудовская Аравия отнесется к нему более сдержанно, но все же заявит, что необходимо вести прямые переговоры с палестинцами.
Россия же, на мой взгляд, поддержит идею создания двух государств, но выступит за поддержание баланса интересов сторон, потому что без него не удастся достичь продолжительного мира. Россия призовет стороны сесть за стол переговоров, чтобы найти решение с опорой на идею создания двух государств. Как мне кажется, маловероятно, чтобы Россия поддержала американский план.
— Как вы считает, насколько вообще реализуем предложенный вариант? И какие риски срыва «сделки» вы видите?
— Я не думаю, что в нынешнем виде этот план сработает. Но я думаю, что в Израиле произойдут политические изменения и, возможно, после выборов мы станем свидетелями мирных переговоров между Израилем и Палестиной.
Эти переговоры вряд ли будут основываться на положениях «сделки», но стороны хотя бы начнут обсуждать вопросы, которые волнуют их больше всего. Это вполне может произойти. Обнародование этого плана может подтолкнуть стороны к диалогу. Но для этого Израилю необходимы политические изменения, потому что при нынешнем премьер-министре это вряд ли произойдет.
Мейр Краус — эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник исследовательского центра в Институте Шалома Хартмана, президент Иерусалимского института политических исследований (2009-2016).

Заседание Евразийского межправительственного совета
Обсуждались актуальные вопросы функционирования Евразийского экономического союза, дальнейшего совершенствования его нормативно-правовой базы.
Список глав делегаций, принимающих участие в заседании Евразийского межправительственного совета:
Премьер-министр Республики Армения Никол Воваевич Пашинян;
Премьер-министр Республики Белоруссия Сергей Николаевич Румас;
Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Узакпаевич Мамин;
Премьер-министр Киргизской Республики Мухаммедкалый Дуйшекеевич Абылгазиев;
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин;
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Суренович Саркисян;
Премьер-министр Республики Молдова Ион Васильевич Кику.
Выступление Михаила Мишустина на заседании:
Приветствую всех участников заседания Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Прежде всего хотел бы поблагодарить наших казахстанских коллег, Аскара Узакпаевича за прекрасную организацию нашей встречи, очень комфортную обстановку, которую они создали в Алма-Ате для работы. Благодарю вас также за поздравления.
Я впервые участвую в заседании Евразийского межправсовета в качестве Председателя Правительства Российской Федерации. И хочу подчеркнуть, что Россия и дальше будет активно участвовать в укреплении Союза, создавать для этого все необходимые условия.
Мы в целом положительно оцениваем динамику евразийской интеграции по всем основным направлениям деятельности. Прежде всего улучшается работа общего рынка, более эффективным становится наднациональное регулирование. Ставим перед собой главную цель – обеспечить рост экономик стран «пятёрки», чтобы люди, которые живут в Союзе, чувствовали преимущества общего пространства и могли пользоваться равными возможностями.
Несколько слов о результатах, которых мы уже добились, я имею в виду Союз.
За первые три квартала прошлого года совокупный ВВП Союза увеличился на 1,4%. Рост в промышленности и сельском хозяйстве – 2,7%.
Есть позитивные изменения в структуре экспортных операций внутри Союза. Доля машин, оборудования и транспортных средств достигла 20%. Внутренний рынок наполняется более разнообразными товарами. А у наших производителей появляются новые возможности для продвижения своей продукции.
Вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении (об этом уже говорили) трудящихся в ЕАЭС, которое гарантирует гражданам всех государств «пятёрки» право на получение пенсии – независимо от места работы на территории Союза. Это затрагивает интересы миллионов людей. Ещё одно знаковое решение. Разница в ценах на билеты в музеи и другие учреждения культуры для граждан Союза наконец устранена. Действительно странно, когда они покупали билеты на выставки и спектакли как иностранцы.
На чём нам следовало бы сконцентрироваться, на наш взгляд, в ближайшее время?
Первая задача – устранять препятствия во внутренней торговле и развивать конкурентные условия для бизнеса. Мы понимаем, насколько это трудоёмкая работа, требующая компромиссов, готовности, если хотите, конструктивно подходить к решению непростых вопросов. Председательствующая в этом году Белоруссия выделила это направление в качестве приоритета. Мы это поддерживаем.
Механизм, который повышает прозрачность общего рынка, – прослеживаемость и маркировка товаров. Российская сторона предложила распространить его на более широкий список товаров. Напомню, что мы пошли навстречу коллегам и перенесли сроки внедрения маркировки обуви в нашей стране на 1 марта 2020 года. Просил бы вас, уважаемые коллеги, ускорить принятие такой инициативы, присоединиться к этому важному для формирования общего рынка проекту.
Второе – это цифровизация экономик, которая открывает принципиально новые возможности в самых разных сферах. Этому и посвящён форум, который сегодня проходит в Алма-Ате. Отмечу, что по «цифре» мы продвигаемся достаточно успешно. Комиссия и партнёры по Союзу рассмотрели около 70 инициатив, дали старт первым цифровым проектам в таких областях, как промышленность, транспорт, рынок труда. Рассчитываем, что в скором времени будут созданы центры компетенций в цифровой сфере, о которых я в том числе говорил в своём выступлении на форуме. Это поможет сделать цифровое взаимодействие более эффективным.
Подготовлен также план по созданию экосистемы цифровых транспортных коридоров. Сократятся сроки пассажирских и грузовых перевозок по территории стран Союза, а значит, транзит через ЕАЭС станет более востребованным и конкурентоспособным. Нужно также ускорить настройку цифрового взаимодействия по вопросам фитосанитарии и ветеринарии, создать единую систему, которая позволит отслеживать перемещение товаров и грузов, подлежащих карантинному и ветеринарному контролю. Мы практически завершаем такую работу по линии ветеринарной сертификации с нашими белорусскими коллегами. Запущен аналогичный процесс в части подкарантинной продукции с Казахстаном. Если мы объединим усилия, то сможем защитить людей от некачественной продукции и усилить эффективность контроля в этой сфере.
Третье. Важно не затягивать с реализацией крупного проекта по созданию Евразийской сети промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий. Сегодня примем решения по актуализации сроков осуществления проекта и объёмов его финансирования. Эта сеть должна заработать уже в следующем году.
Четвёртое – международное сотрудничество. В октябре были подписаны соглашения о свободной торговле Союза с Сингапуром и Сербией, вступили в силу договорённости о либерализации торговли с Ираном, заработало Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем, что, конечно, чрезвычайно важно для сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь». Рассчитываем, что в 2020 году мы серьёзно продвинемся в переговорном процессе по зоне свободной торговли с Египтом и Израилем, а также начнём консультации с индийской стороной по либерализации товарных потоков. Приоритетом остаётся укрепление сотрудничества ЕАЭС и СНГ. В этом контексте мы приветствуем интерес узбекской стороны к налаживанию взаимодействия с ЕАЭС.
Пятое. Убеждён, что важнейшие задачи развития Союза должны непосредственно затрагивать интересы людей. Здравоохранение, образование, наука, социальные права, экология, спорт и туризм – именно их российская сторона выделила при подготовке стратегических документов нашего Союза. И мы уже внесли соответствующие предложения. Рассчитываем на поддержку наших инициатив.
Уважаемые коллеги, в заключение я хотел бы от всей души поздравить Тиграна Суреновича Саркисяна с юбилеем, поблагодарить его за работу на посту председателя Коллегии Комиссии, а мы с ним сотрудничали и на предыдущей работе очень активно, пожелать здоровья и дальнейших успехов. Хочу проинформировать вас, что по окончании заседания ему будет вручена медаль Столыпина П.А. I степени. Надеюсь, что я смогу это сделать лично.
Документы, подписанные по итогам заседания Евразийского межправительственного совета:
Распоряжение «О ходе работы по устранению государствами-членами Евразийского экономического союза барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза».
Поручение в рамках вопроса «О ходе подготовки документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года».
Поручение в рамках вопроса «Об организации мероприятий по повышению информированности представителей государственных органов и институтов развития, в сферу деятельности которых входят вопросы евразийской экономической интеграции, представителей бизнес-сообществ государств-членов Евразийского экономического союза, а также должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии».
Поручение в рамках вопроса «Об исполнении Поручения Евразийского межправительственного совета от 25 октября 2019 г. № 11».
Поручение в рамках вопроса «Об исполнении Поручения Евразийского межправительственного совета от 27 ноября 2018 г. № 17».
Поручение в рамках вопроса «Об исполнении Поручения Евразийского межправительственного совета от 30 апреля 2019 г. № 6».
Поручение «О результатах проработки предложений, связанных с уточнением подходов к регулированию вопросов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, приобретенных физическим лицом в рамках международной электронной торговли».
Поручение в рамках вопроса «О совершенствовании в Евразийском экономическом союзе механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом международных правил и практик, в том числе с учетом опыта Европейского союза».
Распоряжение «О формировании экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза».
Решение «О внесении изменений в некоторые решения Евразийского межправительственного совета».
Распоряжение «О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета».
Распоряжение «О представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Совета Евразийской экономической комиссии».
Распоряжение «О представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Коллегии Евразийской экономической комиссии».

ПУСТЬ РОССИЯ БУДЕТ РОССИЕЙ
ТОМАС ГРЭМ
Заслуженный сотрудник Совета по международным отношениям, работал старшим директором по России в Совете по национальной безопасности при президенте Джордже Буше.
АРГУМЕНТ В ПОЛЬЗУ ПРАГМАТИЧНОГО ОТНОШЕНИЯ К МОСКВЕ
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 6, 2019 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
После окончания холодной войны все президенты США обещали улучшить отношения с Россией. Однако каждый раз эти планы оказывались несбыточной мечтой. Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама намеревались интегрировать Россию в евроатлантическое сообщество и сделать ее партнером в построении либерального мирового порядка. Но по окончании президентского срока каждого из них отношения с Россией становились гораздо хуже, чем до их прихода в Белый дом. Россия тем временем отдалялась все больше и больше.
Президент Дональд Трамп обещал наладить тесное партнерство с Владимиром Путиным. Однако его администрация лишь ужесточила тот конфронтационный подход, который взяла на вооружение администрация Обамы после того, как Москва начала агрессию против Украины в 2014 году. Россия не намерена сдавать позиции на Украине; она все более дерзко противостоит Соединенным Штатам в Европе и на Ближнем Востоке и продолжает вмешиваться в американские выборы.
Политика, проводимая четырьмя президентскими администрациями в отношении России, потерпела фиаско потому, что независимо от общей тональности, примирительной или конфронтационной, она базировалась на неизменной иллюзии: правильная стратегия США может принципиально изменить представление России о своих собственных интересах и ее фундаментальное мировоззрение. Было ошибочно основывать политику на предположении, что Россия присоединится к сообществу либеральных демократий, но не меньшей ошибкой было думать, будто более агрессивный подход заставит ее отказаться от своих жизненно важных интересов.
Для начала стоит признать, что отношения Вашингтона и Москвы были в принципе конкурентными с того момента, когда Соединенные Штаты стали мировой державой в конце XIX века, и что они остаются таковыми по сей день. Эти две страны отстаивают совершенно разные концепции мирового порядка. Они преследуют противоположные цели в региональных конфликтах – например, в Сирии и на Украине. Республиканская, демократическая традиция США прямо противоположна традициям России с ее длительной историей автократического правления. С практической и идеологической точек зрения тесное партнерство между этими двумя государствами не может быть устойчивым. В нынешнем международном климате американские политики должны естественным образом прийти к пониманию этого.
Намного труднее будет признать, что изгнание и изоляция России, скорее всего, будет контрпродуктивной мерой, с помощью которой вряд ли удастся чего-то добиться. Даже в случае уменьшения ее относительной мощи Россия останется ключевым игроком на мировой арене благодаря значительному ядерному арсеналу, обильным природным ресурсам, центральному положению в Евразии, праву вето в Совете Безопасности ООН и высококвалифицированным кадрам. Сотрудничество с Россией необходимо для совместной борьбы с глобальными вызовами и угрозами, такими как изменение климата, распространение ядерного оружия и терроризм. Ни от одной страны в мире (за исключением Китая) не зависит решение такого количества стратегических и экономических проблем, считающихся важными для США, как от России. И необходимо добавить, что никакая другая страна не способна уничтожить Соединенные Штаты за 30 минут.
Более сбалансированная стратегия сдержанной конкуренции не только снизила бы риск ядерной войны, но и стала бы основой для сотрудничества и совместного поиска ответов на глобальные вызовы. Более продуманные отношения с Россией помогут гарантировать безопасность и стратегическую стабильность в Европе, хотя бы немного упорядочить ситуацию на Ближнем Востоке, а также контролировать подъем Китая. Требуя от России умерить амбиции и вести себя более сдержанно, американские политики должны быть готовы отказаться от своих краткосрочных целей, особенно в части урегулирования кризиса на Украине, для выстраивания более продуктивных отношений с Москвой.
Прежде всего, политики США должны взглянуть на Россию без сантиментов или идеологических клише. В новой стратегии построения отношений с Россией необходимо отказаться от архаичного мышления, свойственного предыдущим администрациям, и стремиться к поступательному развитию взаимодействия, исходя из долгосрочных интересов Соединенных Штатов. Вместо того, чтобы пытаться убедить Москву пересмотреть российские интересы, Вашингтону необходимо доказать, что эти интересы надежнее продвигать посредством взвешенной конкуренции и сотрудничества с США.
Конец иллюзии
Делая акцент на партнерство и интеграцию сразу после окончания холодной войны, Вашингтон в принципе неверно понимал российские реалии, полагая, что страна переживает подлинные демократические преобразования и что она слишком слаба, чтобы сопротивляться политике, проводимой США. Вне всякого сомнения, в начале 1990-х гг. предположение, что Россия избавляется от своего авторитарного прошлого, не казалось притянутым за уши. С точки зрения Америки, холодная война закончилась торжеством западной демократии над советским тоталитаризмом. Страны бывшего советского блока начали демократизацию после революций 1989 года. Набиравшая силу глобализация подпитывала убеждение, что демократия и свободный рынок – путь к процветанию и стабильности в грядущие десятилетия. Лидеры новой России – президент Борис Ельцин и окружавшие его динамичные молодые реформаторы – объявили о приверженности курсу на всеобъемлющие политические и экономические реформы.
Но уже в 1990-е гг. по некоторым признакам можно было судить, что эти предпосылки были изначально неверны. Вопреки преобладавшему на Западе мнению, распад Советского Союза ознаменовал не демократический прорыв, а победу популиста Ельцина над советским лидером Михаилом Горбачёвым, который оказался более убежденным демократом, организовавшим самые свободные и справедливые выборы в истории современной России. В России имелось мало устойчивых национальных демократических традиций, из которых можно было черпать вдохновение, а политическое сообщество оставалось шатким и слабым: на таком фундаменте невозможно построить функциональную демократию. Положение усугублялось тем, что государственные институты стали жертвой хищных олигархов и региональных «баронов». В стране орудовали безжалостные банды, нередко прибегавшие к кровавым разборкам в стремлении завладеть активами некогда полностью государственной экономики. Коммунисты старой закваски и советские патриоты противостояли более прогрессивным силам. В стране воцарился политический хаос.
Он усугублялся на протяжении 1990-х гг., и дело дошло до того, что многие наблюдатели реально опасались распада России, как это случилось в начале десятилетия с Советским Союзом. Задача восстановления порядка легла на плечи ельцинского преемника Путина. Хотя он использовал демократическую риторику, разъясняя свои планы, в документе под названием «Россия на рубеже тысячелетий» (опубликованном 30 декабря 1999 г.) он дал ясно понять, что намерен вернуться к традиционной российской модели сильного и в высшей степени централизованного авторитарного государства. «Россия, – писал он, – не скоро станет, если вообще станет, вторым изданием, скажем, США или Англии, где либеральные ценности имеют глубокие исторические традиции… Крепкое государство для россиянина – не аномалия, не нечто такое, с чем следует бороться, а, напротив, источник и гарант порядка, инициатор и главная движущая сила любых перемен».
Официальные лица в США прекрасно видели препятствия на пути демократических реформ и не были слепы в отношении подлинных намерений Путина. Однако приятное чувство, оставшееся у них после победы в холодной войне, заставляло настаивать на том, что партнерство с Россией должно опираться на общие демократические ценности; одних лишь общих интересов было мало. Чтобы заручиться общественной поддержкой, каждая администрация заверяла американцев, что лидеры России привержены демократическим реформам и процедурам. Начиная с 1990-х гг. Белый дом во многом измерял успех своего подхода прогрессом России на пути к становлению более крепкой и функциональной демократии. Это был довольно неопределенный проект, успех которого едва ли зависел от усилий или влияния США. Неудивительно, что стратегия потерпела крах, когда стало невозможно заполнить пропасть между данной иллюзией и все более авторитарной российской реальностью. Для Клинтона момент истины наступил после того, как Ельцин утвердил новое правительство консерваторов и коммунистов после финансового коллапса 1998 г.; для Буша – когда Путин начал подавлять деятельность гражданского общества, реагируя на украинскую «оранжевую революцию» в 2004 г.; а для Обамы – когда Путин объявил в 2011 г., что после длительного пребывания в должности премьер-министра он снова будет баллотироваться на пост президента.
Вторая ошибочная предпосылка – будто у России нет сил, чтобы бросить вызов Соединенным Штатам, также выглядела правдоподобной в период с 1991 по 1998 годы. От некогда грозной Красной Армии, оказавшейся на голодном пайке, осталась лишь тень её былого могущества. Россия зависела от финансовой поддержки Запада, пытаясь сохранять на плаву экономику и правительство. В этих обстоятельствах администрация Клинтона, как правило, добивалась поставленных целей, когда вмешивалась в события на Балканах или расширяла НАТО, не встречая серьезного противодействия России.
Однако предпосылка стала менее правдоподобной, когда экономика России начала быстро восстанавливаться. Путин прибрал власть к рукам и восстановил порядок, прижав олигархов и региональных «баронов». Впоследствии он начал кампанию по модернизации вооруженных сил. Однако администрация Буша, убежденная в беспрецедентной мощи «однополярного момента», не проявляла большого уважения к обновленному военному потенциалу России. Буш вышел из Договора по противоракетной обороне (ПРО), продолжил расширение НАТО и приветствовал так называемые «цветные революции» в Грузии и на Украине с их антироссийской подоплекой. Аналогичным образом администрация Обамы, хотя уже и не была так уверена в мощи Америки, по-прежнему не считалась с Россией. Когда в 2011 г. начались волнения, названные «арабской весной», Обама заявил, что сирийский президент Башар Асад, проводник российского влияния на Ближнем Востоке, должен уйти. Вашингтон также не обратил особого внимания на возражения России, когда США и их союзники превысили выданный им Советом Безопасности ООН мандат на вмешательство в ливийские события и вместо защиты гражданского населения, оказавшегося в зоне военных действий, провели операцию по свержению ливийского диктатора Муаммара Каддафи.
Россия спустила администрации Буша и Обамы с небес на землю. Российское вторжение в Грузию в 2008 г. продемонстрировало, что Москва накладывает вето на дальнейшее расширение НАТО посредством применения военной силы против потенциальных новых членов альянса. Аналогичным образом захват Россией Крымского полуострова и дестабилизация восточной Украины в 2014 г. шокировали администрацию Обамы, которая ранее приветствовала изгнание Виктора Януковича – пророссийского президента Украины. Год спустя военная интервенция России в Сирии спасла Асада от неминуемого поражения от рук повстанцев, получавших поддержку и помощь США.
Воля к власти
Сегодня почти все в Вашингтоне отказались от мысли, будто Россия находится на пути к демократии, и администрация Трампа считает Россию стратегическим конкурентом. Подобная коррекция курса давно назрела. Вместе с тем нынешняя стратегия наказания и изоляции России также ущербна. Она не только игнорирует очевидный факт, что Соединенные Штаты не смогут изолировать Россию против воли таких крупных держав как Китай и Индия, но и содержит ряд серьезных ошибок.
С одной стороны, стратегия преувеличивает мощь России и демонизирует Путина, из-за чего отношения превращаются в борьбу с нулевой суммой, когда единственным приемлемым исходом любого спора становится капитуляция России. Однако внешняя политика Путина была менее успешной, чем афишировалось. Его действия на Украине, нацеленные на предотвращение включения страны в западные структуры и сообщества, лишь сильнее сплотили Украину с Западом и заставили НАТО вернуться к первоначальной миссии сдерживания России. Вмешательство Путина в американские выборы осложнило отношения с США, нормализация которых нужна России для увеличения притока иностранных инвестиций и создания долгосрочной альтернативы избыточной стратегической зависимости от Китая.
В отсутствие согласованных действий Запада Путин сделал Россию главным игроком во многих геополитических конфликтах – прежде всего, в Сирии. Но ему еще предстоит доказать, что он может положить конец любому конфликту с целью закрепления преимуществ России. В период экономической стагнации и распространения социально-экономического недовольства в обществе его активная внешняя политика рискует довести страну до истощения или перенапряжения. В этих обстоятельствах Путину нужно урезать расходы. И это открывает перед Соединенными Штатами новые возможности для возвращения к дипломатии и снижения остроты конкурентной борьбы с Россией при одновременной защите интересов США.
Еще один изъян нынешней американской стратегии в ее изначальной предпосылке, что Россия – это клептократия в чистом виде, лидерами которой движет только один мотив: сохранить богатство и обеспечить выживание. В основе этой политики лежит предположение, что российские олигархи и официальные лица, находящиеся под санкциями, окажут давление на Путина и потребуют, например, изменить политику на Украине или свернуть вмешательство России в американские внутренние дела. Ничего подобного не происходит, потому что Россия в большей мере является патримониальным государством, в котором личное богатство и положение в обществе в конечном итоге зависит от властей предержащих.
Американские политики также повинны в том, что не считаются всерьез с желанием России иметь имидж великой державы. По многим меркам Россия действительно слаба: ее экономика – лишь малая доля американской экономики, по стандартам Соединенных Штатов население России нездорово, а инвестиции России в высокие технологии намного отстают от американских вложений в этот сектор. Однако российские лидеры уверены, что для выживания их страна должна быть великой державой – одной из нескольких стран, определяющих структуру, суть и направление мировой политики, и в погоне за этим статусом они готовы переносить серьезные лишения. Этот менталитет был движущей силой поведения России на мировой арене со времен Петра Первого, который около 300 лет назад привел свое государство в Европу.
После распада Советского Союза российские лидеры сосредоточились на восстановлении великодержавного статуса России подобно тому, как поступили их предшественники после национального унижения в Крымской войне 1850-х гг. и после гибели Российской империи в 1917 году. Как писал Путин два десятилетия тому назад, «впервые за последние 200–300 лет Россия стоит перед лицом реальной опасности оказаться во втором, а то и в третьем эшелоне государств мира. Чтобы этого не произошло, необходимо огромное напряжение всех интеллектуальных, физических и нравственных сил нации … Все сейчас зависит только от нашей способности осознать степень опасности, сплотиться, настроиться на длительный и нелегкий труд».
Часть этой задачи – противодействие Соединенным Штатам. По мнению Путина, именно они составляют главное препятствие для великодержавных устремлений России. В отличие от амбициозных представлений Вашингтона об однополярном мире Кремль настаивает на построении многополярного мира. Если говорить конкретнее, Россия стремится подорвать позиции Вашингтона, противодействуя его интересам в Европе и на Ближнем Востоке, а также пытаясь запятнать репутацию США как образцовой демократии посредством вмешательства в выборы и усугубления внутриполитического разлада в Америке.
Мир России
Стремясь восстановить великодержавный статус, Россия бросает геополитические вызовы Соединенным Штатам. Эти вызовы проистекают из вековых проблем России, вынужденной защищать огромную малонаселенную и многонациональную страну, лишенную физических заслонов и граничащую либо с могущественными государствами, либо с нестабильными территориями. Россия справлялась с этим, жестко контролируя внутриполитическую ситуацию, создавая буферные зоны на границах и не допуская формирования сильной коалиции соперничающих держав. Сегодня подобный подход противоречит интересам США в Китае, Европе, на Украине и Ближнем Востоке.
Ни одна часть Восточной Европы и бывшего СССР не представляется российским политикам более важной, чем Украина, которая стратегически позиционируется как путь на Балканы и в Центральную Европу, обладает огромным экономическим потенциалом и считается колыбелью великой русской цивилизации. Когда народное восстание 2014 г., поддержанное Вашингтоном, угрожало вывести Украину из орбиты российского влияния, Кремль захватил Крым и спровоцировал мятеж в восточной части Донбасса. То, что Запад счел вопиющим нарушением международного права, Кремль истолковывал как право на самооборону.
Глядя на Европу в целом, российские лидеры видят одновременно конкретную угрозу и сцену для демонстрации величия России. С практической точки зрения шаги, предпринятые Европой в направлении политического и экономического объединения, были чреваты появлением на границах России огромного образования, которое, подобно Соединенным Штатам, значительно превосходило бы Россию по численности населения, материальному богатству и силе. Психологически Европа по-прежнему возбуждает великодержавные амбиции России. За три прошедших столетия Россия не раз демонстрировала мастерство в ходе великих европейских сражений, вела искусную дипломатию и большую игру. Например, после поражения Наполеона в 1814 г. именно российский император Александр I принял ключ от Парижа. Объединение Европы и продолжающаяся экспансия НАТО привели к вытеснению России с европейского поля и к уменьшению ее влияния на европейскую политику. Поэтому Кремль удвоил усилия по углублению разногласий и линий размежевания между европейскими странами, а также начал сеять в умах политических лидеров уязвимых стран НАТО сомнения относительно приверженности их союзников обязательствам по коллективной обороне.
Россия вернулась на Ближний Восток после 30 лет отсутствия. Поначалу Путин вмешивался в сирийские события, чтобы защитить своего подопечного Асада и не допустить победы радикальных исламистских сил, которые поддерживали связи с экстремистами внутри России. Но после того, как он спас давнего друга, амбиции начали расти ввиду отсутствия решительных действий американцев в этой арабской стране. Россия решила использовать Ближний Восток в качестве арены для демонстрации своих претензий на статус великой державы. Действуя в обход миротворческого процесса под эгидой ООН, в котором США остаются главным игроком, Россия объединила усилия с Ираном и Турцией в поиске окончательного разрешения кризиса в Сирии. Для снижения риска прямой конфронтации между Ираном и Израилем Россия укрепила дипломатические связи с Израилем. Она восстановила отношения с Египтом и начала работать с Саудовской Аравией, чтобы взять под контроль цены на нефть.
Москва также продолжила курс на сближение с Китаем для создания стратегического противовеса Соединенным Штатам. Эти отношения помогли противостоять влиянию США в Европе и на Ближнем Востоке. Но у Вашингтона более серьезную озабоченность должно вызывать потенциальное расширение возможностей Пекина благодаря его сотрудничеству с Россией. Москва помогла Китаю выйти на рынки стран Центральной Азии и (в меньшей степени) на рынки Европы и Ближнего Востока. Она предоставила Китаю доступ к природным ресурсам по выгодным ценам и продала ему свои продвинутые военные технологии. Короче, Россия всячески способствует усилению Китая в качестве грозного конкурента Соединенных Штатов.
Нынешняя более самонадеянная внешняя политика Москвы отражает не столько возросшую силу страны (в абсолютном выражении ее потенциал не слишком увеличился), сколько ее веру в то, что на фоне нерешительности США ее относительная мощь возрастает. Одним из главных мотивов проведения Россией наступательной политики на мировой арене является устойчивый страх, боязнь того, что в долгосрочной перспективе возможно опасное отставание от Соединенных Штатов и от Китая. В российской экономике наблюдается застой, и даже по официальным прогнозам надежды на значительный прорыв в следующем десятилетии практически нет. Россия не может вкладывать столько же средств, сколько инвестируют два ее главных конкурента, в такие важные технологии, как искусственный интеллект, биоинженерные решения и роботизация. А ведь в будущем именно они будут определять суть силы и мощи страны. Возможно, Путин демонстрирует жёсткость сейчас, когда относительная мощь его страны возросла, чтобы лучше позиционировать Россию в новом многополярном мировом порядке, формирование которого происходит у него на глазах.
Между приспособлением и сопротивлением
Вызов, который современная Россия бросает США, не связан с экзистенциальной борьбой между этими странами в годы холодной войны. Скорее, это более ограниченное соперничество между великими державами с конкурирующими стратегическими интересами и задачами. Если Соединенные Штаты сумели договориться с Советским Союзом об укреплении мира и безопасности, продвигая при этом американские интересы и ценности, то, конечно же, они могут сделать то же самое и с современной Россией.
Начав с Европы, политикам США следует отказаться от расширения НАТО еще дальше на бывшие советские территории. Вместо того чтобы обхаживать страны, которые НАТО не готово защищать военными средствами (достаточно вспомнить вялую реакцию на российскую агрессию против Грузии и Украины), альянсу следует упрочивать внутренние связи и заверить уязвимые страны блока в приверженности обязательствам по коллективной обороне. Прекращение дальнейшего расширения НАТО на Восток устранит главную причину посягательств России на суверенитет бывших советских республик. Однако Соединенным Штатам нужно продолжать сотрудничество с этими странами в сфере безопасности, поскольку к подобным связям Россия относится терпимо.
До сих пор Соединенные Штаты настаивали на том, что для Украины остается возможность присоединения к НАТО. Вашингтон категорически отвергает включение Крыма в состав России и требует завершения конфликта в Донбассе на основании соглашения, подписанного в Минске в 2015 г. и предусматривающего особый автономный статус сепаратистских регионов внутри воссоединенной Украины. При таком подходе ситуация почти не сдвигается с мертвой точки. Конфликт в Донбассе продолжается, и Россия пускает все более глубокие корни в Крыму. Борьба с Россией отвлекает Украину от давно назревших реформ – страна страдает от коррупции, политической неопределенности и экономической отсталости. Избрание нового президента Владимира Зеленского, сторонники которого сейчас доминируют в парламенте, создало возможность для всеобъемлющего разрешения кризиса.
Необходимо пойти на два компромисса. Во-первых, чтобы успокоить Россию, Соединенным Штатам следует сказать Украине, что членство в НАТО снимается с повестки дня, но при этом продолжать углублять двустороннее сотрудничество с Киевом в вопросах безопасности. Во-вторых, Киеву следует признать включение Крыма в состав России в обмен на согласие Москвы на полное воссоединение Донбасса с Украиной без какого-либо особого статуса. Всеобъемлющее соглашение должно предусматривать компенсации Украине за утраченное в Крыму имущество, гарантии беспрепятственного доступа к прибрежным ресурсам и прохода через Керченский залив к портам на Азовском море. По мере реализации этих договоренностей США и Евросоюз постепенно снимали бы санкции с России. В то же время они могли бы предложить Украине существенную финансовую поддержку для облегчения реформ, исходя из того, что сильная, процветающая Украина – лучшее средство сдерживания российской агрессии в будущем и необходимый фундамент для построения более конструктивных российско-украинских отношений.
Первоначально такой подход будет скептически воспринят в Киеве, Москве и других странах Европы. Но Зеленский главную ставку в своей предвыборной программе сделал на разрешение конфликта в Донбассе, а Путин приветствовал бы любую возможность перенаправить средства и внимание на противодействие поднимающейся в России волне социально-экономических выступлений. Тем временем европейские лидеры устали от украинских проблем и хотят нормализации отношений с Россией, не отказываясь при этом от принципов европейской безопасности. Настало время смелой дипломатии, которая позволила бы всем сторонам заявить о частичной победе и смириться с жесткими реалиями: НАТО не готово принять в свой состав Украину, Крым не вернется к Украине, а сепаратистское движение в Донбассе нежизнеспособно без активной поддержки Москвы.
Более умная стратегия в отношении России не будет сбрасывать со счетов последствия военного вмешательства Кремля на Ближнем Востоке. Главные вызовы для США в этом регионе исходят от Ирана, а не от России. У Москвы свои интересы в Иране, которые не всегда совпадают с интересами Вашингтона, но вовсе необязательно противостоят им. Как и Соединенные Штаты, Россия не хочет, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие, поэтому она поддержала ядерную сделку с Ираном, так называемый Совместный всеобъемлющий план действий. Правда, администрация Трампа вышла из этой сделки в 2018 году. Как и Соединенные Штаты, Россия не хочет, чтобы Иран доминировал на Ближнем Востоке. Москва стремится добиться нового равновесия в регионе, хотя и не в той конфигурации, какую предпочел бы видеть Вашингтон. Кремль работает над улучшением отношений с другими региональными державами, такими как Египет, Израиль, Саудовская Аравия и Турция. Ни одна из этих стран не поддерживает теплые или дружеские отношения с Ираном. Россия уделяет особое внимание Израилю, позволяя ему наносить удары по позициям Ирана и «Хезболлы» в Сирии. Если бы США уважительно отнеслись к ограниченным интересам России в Сирии и приняли Россию в качестве регионального игрока, они, вероятно, смогли бы убедить Кремль делать больше для сдерживания агрессивного поведения Ирана. Администрация Трампа уже движется в этом направлении, но нужны еще более энергичные усилия.
Вашингтон должен также обновить подход к сдерживанию гонки вооружений. Соглашения, работавшие последние 50 лет, утратили актуальность. Мир движется к многополярному порядку – в частности, Китай активно модернизирует вооруженные силы. Страны разрабатывают передовые образцы обычных вооружений, способные уничтожать хорошо защищенные и укрепленные цели, которые когда-то были уязвимы только для ядерного оружия, а также кибероружие, способное выводить из строя командно-штабные системы управления. В результате разрушается режим контроля над вооружениями. Администрация Буша вышла из Договора по ПРО в 2002 г. – президент назвал этот договор «устаревшей реликвией» времен холодной войны. А в 2019 г. администрация Трампа вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который она высмеяла как неэффективный и безнадежно устаревший.
Вместе с тем Соединенным Штатам следует продлить новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанный в 2010 году. Срок его действия истекает в 2021 году. Россия выступает за его продление, а администрация Трампа колеблется. Этот документ содействует прозрачности в отношениях между двумя странами и может укрепить доверие между ними, что немаловажно в эпоху натянутых отношений. Однако договор не сдерживает ускоряющуюся гонку все более мощных и изощренных вооружений. Например, наиболее многообещающие системы вооружений – сверхзвуковое оружие и кибероружие – не подпадают под действие СНВ. Политикам нужно разработать режим контроля над вооружениями с учетом современных, быстро развивающихся технологий, который включал бы и другие крупные державы. Хотя на определенном этапе Китай нужно подключить к этому процессу, Соединенным Штатам и России следует показать пример, как они это делали раньше, поскольку они накопили уникальный опыт учета теоретических и практических требований стратегической стабильности, а также принятия соответствующих мер по контролю над вооружениями. Вашингтону и Москве нужно разработать новый режим контроля над вооружениями, а затем подкрепить его многосторонней поддержкой.
Что касается стратегических проблем ядерных вооружений и других вопросов, то США не удастся предотвратить укрепление Китая, но они могут направить растущую китайскую мощь по пути, соответствующему американским интересам. Соединенным Штатам следует подключить Россию к этой работе вместо того, чтобы толкать ее в объятия Китая, как они это делают в настоящее время. Конечно, невозможно настроить Россию против Пекина, поскольку у нее есть веские основания для добрососедских отношений с Китаем, уже превосходящим Россию как великая держава. Однако США могли бы содействовать иному раскладу сил в Северо-Восточной Азии, который служил бы их целям.
Для этого американским политикам нужно способствовать умножению у России альтернатив Китаю. Это улучшит переговорные позиции Кремля и снизит риск перекоса в соглашениях между Москвой и Пекином в сфере безопасности в пользу Китая, как это происходит сейчас. По мере улучшения отношений между США и Россией в других областях Соединенным Штатам следует сосредоточиться на снятии санкций, которые сдерживают инвестиции Японии, Южной Кореи и США на российском Дальнем Востоке и создание совместных предприятий с участием российских компаний в Центральной Азии. Увеличение возможностей дало бы Кремлю больше рычагов воздействия во взаимоотношениях с Китаем, что выгодно Вашингтону.
Усилия Вашингтона по снижению конкуренции на региональном уровне могли бы убедить Россию уменьшить масштаб вмешательства в выборы, но эту проблему так быстро не решить. Определенное вмешательство России и других стран неизбежно в современном взаимосвязанном мире. Поскольку европейские демократии сталкиваются с похожими вызовами, Соединенным Штатам нужно работать с союзниками над общим согласованным и решительным реагированием на подобные киберугрозы. Должны быть проведены какие-то «красные линии» в отношении поведения России. Например, американским официальным лицам следует заявить о недопустимости компьютерных взломов, превращения украденной информации в оружие или искажения данных, включая списки избирателей и подсчет голосов. В случае согласованного обмена разведданными и опытом и проведения совместных операций США и их союзники смогут обезопасить важную электоральную инфраструктуру, противодействуя подрывной деятельности России с помощью уголовного преследования и точечных санкций, а также наносить превентивные контрудары в киберпространстве, когда это уместно.
Российские пропагандистские СМИ, такие как телеканал «Россия сегодня», радио «Спутник» и социальные сети, представляют собой более сложную проблему. Однако уверенное в себе, зрелое и искушенное демократическое общество должно легко сдерживать эту угрозу, не пытаясь при этом лихорадочно блокировать сайты и аккаунты в «Твиттере» с нежелательным контентом. В условиях межпартийного озлобления внутри Соединенных Штатов СМИ и политический класс преувеличивают угрозу, обвиняя Россию в провоцировании внутриполитических разногласий. При этом опасно сужается пространство для дебатов, поскольку американцам внушают, что любые мнения, совпадающие с официальной позицией России, – часть кампании влияния, инспирированной Кремлем. Более конструктивным подходом со стороны США и других демократий было бы повышение осведомленности широкой общественности об искусстве манипулирования сознанием, которым хорошо владеют средства массовой информации, а также улучшение навыков критического чтения разных материалов. При этом не стоит отказываться от энергичных дебатов, являющихся жизненной силой любого демократического общества. Некоторые скандинавские страны и прибалтийские государства прилагают значительные усилия для решения этих задач, но Соединенные Штаты отстают от них в этом вопросе.
Повышая защищенность своих систем и осведомленность граждан, США также должны вовлекать Россию в установление правил поведения в киберпространстве. Даже если на практике эти нормы не полностью соблюдаются, они помогут сдерживать и ограничивать наиболее возмутительное поведение и действия – наподобие того, как Женевские соглашения сдерживают вооруженные конфликты.
Предлагаемое сочетание компромиссов и мер противодействия учитывает интересы России и американской мощи. Данный подход резко отличается от тех, к которым американские администрации прибегали со времен окончания холодной войны. Прежние стратегии опирались на неверное истолкование намерений России, а их авторы отказывались признавать ограниченность возможностей Соединенных Штатов. Во многих отношениях данная стратегия олицетворяла бы возврат к традициям внешней политики США, сложившимся до окончания холодной войны.
Главная традиция всегда заключалась в предусмотрительных действиях, терпеливом проведении внешней политики на протяжении длительного времени. Что касается краткосрочной перспективы, то, согласно этой традиции, нужно довольствоваться постепенным прогрессом и пошаговыми завоеваниями. Соединенные Штаты не боялись идти на компромиссы (приспосабливаться), потому что были уверены в своих ценностях и в будущем триумфе. Они сознавали свою силу, но понимали ограниченность возможностей и уважительно относились к потенциалу и способностям противника. Это тонкое понимание было характерно для стратегий всех американских президентов во время холодной войны и позволяло справляться с вызовами, которые бросала им Москва. Вернувшись к истокам своего славного прошлого, США смогут справиться с теми вызовами, которые существуют сегодня.

ГЛОССАРИЙ
Вместе с замечательными авторами мы попробовали составить перечень наиболее важных понятий, которые употребляются для описания российской внешней политики: великодержавие, гибридная война, мессианизм, прагматизм, национальный интерес, равноправие, стратегия, стратегическая стабильность, суверенитет, справедливость. Это не классические словарные статьи, которые должны быть дистиллированными по определению, а осмысление, как те или иные понятия преломляются в прикладной деятельности.
В – Великодержавие - Андрей Цыганков
Г – Гибридная война - Василий Кашин
М – Мессианизм - Иван Сафранчук
П – Прагматизм - Мария Ходынская-Голенищева
Н – Национальный интерес - Павел Цыганков
Р – Равноправие - Николай Косолапов
С – Справедливость - Вера Агеева
С – Стратегия - Андрей Сушенцов
С – Стратегическая стабильность - Дмитрий Суслов
С – Суверенитет - Александр Филиппов
В – великодержавие
Андрей Цыганков
В теории международных отношений великодержавность связывают не только с независимостью внешней политики и безопасностью страны, но и с возможностями и влиянием, которыми обладают лишь немногие государства в мире. При этом в понятие «великая держава» вкладываются разные смыслы. Для одних речь идет о материально-силовых возможностях, для других – о статусе и престиже, для третьих – об идейно-политическом измерении и способности вести за собой силой примера. Наиболее упрощенной выглядит трактовка великодержавности представителями американского неореализма, для которого все государства одинаковы и различаются лишь силовым потенциалом.
Державное мышление отличают, по крайней мере, три принципа. Во-первых, державники выступают за раздельное рассмотрение роли внутренних и внешних факторов в развитии общества. Они убеждены в приоритетности факторов международного окружения как наименее подверженных контролю и наиболее потенциально дестабилизирующих. Внешняя политика, следовательно, не может быть лишь отражением потребностей внутреннего развития, но должна отвечать на международные вызовы. Во-вторых, державники исходят из постоянства геополитических интересов государства. У государства нет постоянных друзей и врагов, а есть лишь постоянные интересы – вслед за лордом Пальмерстоном эту максиму нередко повторяют и российские державники. Державники могут выступать сторонниками национальной идеологии, если она не сковывает государство, а помогает сформулировать и защитить его интересы. Третий принцип связан со вторым и сводится к гибкости внешнеполитических союзов. Если у государства нет миссии, но есть постоянные национальные интересы, то руководители государства должны быть готовы сотрудничать с кем угодно, но ровно настолько, насколько это необходимо для соблюдения державного интереса.
За общими компонентами и принципами (велико)державности скрываются различные исторические условия ее формирования. Каждая держава национально и исторически своеобразна, по-своему решает возникающие перед ней задачи и вкладывает в обоснование значимости избранных решений свой смысл. Для России великодержавность исторически определялась важностью сохранения внутреннего единства территориально протяженного и социально-разнородного государства. Ее смыслом является конструкция сильного, способного к управлению сложной страной государства. Без такого государства трудно представить себе собирание земель и укрепление границ в московский период, нанесение поражения сильнейшей в начале XVIII века шведской державе, участие в поддержании европейского баланса сил в XIX столетии и создание советского строя в XX веке.
Своеобразие внешних условий России включает в себя протяженность сухопутных границ, соседство с мощными государствами, пограничное положение между западной и незападной цивилизациями и другие факторы. Следует подчеркнуть и то, что в силу относительной геополической удаленности, размера и православия Россия не является органической частью Европы. Но она стремилась слиться с западным миром, при этом утверждая себя в качестве самостоятельной, культурно своеобразной державы.
Русская великодержавность подразумевает наличие (1) сферы культурно-ценностного влияния в Евразии и Европе, (2) политико-экономической самодостаточности и (3) военного потенциала, достаточного для нанесения поражения любой другой державе. Понимаемая таким образом великодержавность обеспечивает достижение стратегических целей выхода в Европу, поддержания особых доверительных отношений с Востоком и сохранения определяющего влияния на евразийском материке.
Разделяя сформулированный набор принципов мышления, русские державники представляют собой неоднородную группу, различаясь предлагаемыми стратегиями достижения целей государства. С некоторой долей упрощения можно выделить три основные группы.
К первой относятся те, кто исторически выступал за союз с Западом против общих угроз. Примерами такого сотрудничества могут быть попытки России участвовать в Первой северной войне против Швеции (1655–1660) в союзе с другими европейскими государствами. Чуть позже Россия присоединилась к Священной лиге для противостояния Оттоманской империи, подписав в этих целях в 1686 г. договор о вечном мире с Польшей, своим давним соперником. Петр I начинал свое правление с посольского путешествия, преследовавшего целью объединение европейских государств против шведской угрозы. Провозглашение России «европейской державой» и екатерининское участие в Семилетней войне укладывается в то же понимание методов державничества. Еще более важный пример – Священный союз, заключенный Александром I с другими европейскими государствами во имя предотвращения опасности, подобной той, которая еще недавно исходила от наполеоновской Франции. Во второй половине ХIХ и в ХХ столетии примерами союзов с западными странами против общей угрозы были Антанта, попытка создать антигитлеровскую коалицию в преддверии Второй мировой войны, а также открытие Второго фронта в целях нанесения поражения фашизму. В ХХI веке Россия пыталась выстроить единый союз с Западом против международного терроризма.
Ко второй группе русских державников относятся выступающие за гибкую союзническую политику, не замкнутую на странах Запада как приоритетных партнерах. В условиях, когда России не удавалось достичь целей в союзе с западными странами или добиться их поддержки, российские правители нередко уходили в относительную изоляцию для перегруппировки сил, или получения «передышки» (Владимир Ленин). В начале ХVII века после нескольких поражений в противостоянии с Польшей Россия не выходила из изоляции до 1654 г., когда она начала новое наступление присоединением Украины. В XVIII веке Россия взяла двадцатилетнюю паузу, заняв позицию нейтралитета в войне со Швецией для финансового и демографического оздоровления. После поражения в Крымской войне Россия «сосредотачивалась», проводя в жизнь политику гибких союзов, пока не смогла наконец восстановить утраченные позиции на Черном море. «Мирное сосуществование» большевиков и сталинская теория «социализма в отдельной взятой стране» тоже относились к попыткам ослабить внешнеполитическую активность для укрепления страны, вышедшей из революции и гражданской войны. Наконец к этой же группе державного мышления можно относить попытки Евгения Примакова маневрировать между Западом, Китаем и Индией после окончания холодной войны.
Для третьего типа русского державного мышления характерна наступательность, в том числе в отношениях с Западом, если последний отказывается признать важнейшие внешнеполитические интересы России. Россия неоднократно утверждала свои интересы в одностороннем порядке, невзирая на критику западных стран. В XVII веке российское государство вело многочисленные войны с Польшей и Оттоманской империей, стремясь к укреплению границ и защите балканских славян. В XVIII веке Пётр нанес сокрушительное поражение Швеции, не вступая для этого в союз с европейскими государствами. В основном успешные войны с Турцией продолжились вплоть до Крымской войны, которую Россия проиграла благодаря поддержке, оказанной Турции Англией и Францией. После внутреннего выздоровления Россия вернулась к активной политике на Балканах, нанеся туркам новое поражение в 1870-е годы. В ХХ веке большевистская доктрина «мировой революции» стала ярким примером наступательного мышления, поскольку ставила под сомнение саму систему западных государств-наций. В 1920 г. большевики даже попытались вторгнуться в Польшу для смены правительства. Во время холодной войны наступательным был курс Советского Союза, стремившегося к укреплению геополитического влияния в мире, как, например, в период Карибского кризиса в 1962 г. или в случае ввода войск в Афганистан в 1979 году. После окончания холодной войны российская наступательность проявилась в вооруженном вмешательстве в конфликт Грузии и Южной Осетии, присоединении Крыма и вступлении в войну в Сирии.
В зависимости от того, какие коалиции выстраивали державники и какого рода политику защищали внутри страны, их идейными оппонентами были представители западнического или самобытно-цивилизационного мышления. Западники опасались, что державность ослабит страну внутренне, поскольку противопоставит отсталую в материально-технологическом и политическом отношении Россию передовому Западу. Связывая российскую идентичность с Европой, западники выступают за воспроизводство на российской почве европейских политических институтов и выстраивание приоритетных, стратегических отношений с европейскими странами. Представители цивилизационного мышления нередко поддерживали державников, считая великодержавность условием защиты национальных ценностей от внешних посягательств. В то же время сторонники русской самобытности могут оказаться в числе критиков державности, если считают, что она ослабляет общество. Например, для славянофилов национальные интересы и границы были вторичны, а главным являлось создание условий для свободного общинного труда и жизни в православной вере.
Державный тип мышления традиционно поддерживался широкими слоями общества, особенно если не требовал значительных жертв со стороны населения и не оборачивался внешнеполитическими поражениями. При этом державность нередко оказывалась для русского народа тяжелой ношей, если государство решало внешнеполитические задачи за счет напряжения общественных ресурсов. Подвергаясь многочисленным опасностям извне, русские консолидировались вокруг государства для сохранения свободы от внешних посягательств, но при этом теряли свободу внутреннюю. Со временем они утратили возможности свободного общинного хозяйствования («мир») и участия в управлении и выборах князя («вече»), создав централизованное патримониальное государство. По оценке историка Георгия Вернадского, «самодержавие и крепостное право стали ценой, которую русские заплатили за национальное выживание». Военная сила, имперское могущество и способность противостоять внешним вторжениям постепенно стали самоцелью государственной политики. Бедность и крепостное право превратились в средства ускоренной мобилизации армии. Власть нередко игнорировала назревшие потребности в реформах, видя в них опасность для сложившейся в России системы правления.
Ценой внутреннего перенапряжения было ослабление внутреннего и внешнего компонентов державности. Распад советского государства – пример такого перенапряжения в результате длительного противостояния более развитым странам Запада. Традиционные опоры державности, в задачу которых входит защита безопасности государства – армия и силовые структуры – оказались в униженном положении, в то время как укрепился класс нового «боярства», или олигархов. Деморализации армии способствовала запоздалая и плохо продуманная военная кампания по стабилизации в Чечне. Население, лишившись денежных накоплений в результате олигархических в своей основе экономических реформ, не поддерживало власть. В стране подняла голову преступность, и государство не успевало реагировать на массовые нарушения законности против граждан. Конфликт исполнительной и законодательной властей, приведший к использованию силы против парламента в октябре 1993 г., довершал картину чрезвычайного ослабления государства. Во внешней политике российское руководство стремилось проводить прозападный курс, по существу отказавшись от принципов державной политики.
Постепенно, во многом благодаря усилиям созданного Совета по внешней и оборонной политике и деятельности министра иностранных дел Евгения Примакова, понятие державности вернулось в политический лексикон в качестве одного из центральных. В 2000-е гг. в целом благоприятное внешнее окружение и отсутствие угрозы войны позволило руководству страны сосредоточиться на решении внутренних задач, связанных с экономической и политической стабилизацией. Результатом стало завершение военных действий на Северном Кавказе, относительная консолидация политического класса и восстановление способности проводить независимую внешнюю политику.
Будущее российской державности связано с выстраиванием новых международных коалиций в условиях мировой турбулентности и способностью руководства страны осуществить переход к новой модели государства. С первым дело обстоит лучше, чем со вторым. Державность во внешней политике способствовала восстановлению важных и утраченных в 1990-е гг. позиций. Выдержала проверку временем ориентация на укрепление баланса сил и престижа великой державы. Уходит в прошлое мир единственной сверхдержавы. Меняется и децентрализуется Европа. Россия разворачивается к Азии, реализуя проекты Большой Евразии, Шанхайской организации сотрудничества и другие. Перед страной открываются новые возможности налаживания международного сотрудничества за пределами западного мира.
Более трудным является переход к новой государственности. Он сопряжен с комплексом мер по преодолению политического наследия 1990-х гг., связанного не столько с сильным державным государством, сколько с его отсутствием. Экономическое пробуксовывание, коррупция, ориентация на стабильность вместо развития – «родимые пятна» российского капитализма, возникновение которого связано с залоговыми аукционами, рейдерством, экспортом энергоресурсов, а также неспособностью правительства реализовать единые принципы и правила в политике и экономике. В этой области державность во многом остается благим пожеланием. Впереди трудный период, требующий новых стратегий формирования сильного и легитимного государства.
Без создания такого государства державность не может считаться полностью состоявшейся. Для державников является аксиомой, что государство должно обладать значительной свободой от вмешательства не только внешних, но и внутренних групп интересов, без чего невозможно осуществление политической стратегии в интересах общества в целом. В частности, Примаков в должности премьер-министра пытался бороться с засильем Бориса Березовского и других олигархов ельцинской «семьи». Позднее, на посту руководителя Торгово-промышленной палаты он отстаивал важность выработки и соблюдения четких правил в отношении экономики и собственности, предупреждал об опасности силовых «наездов» на бизнес. Понимал он и опасности, связанные с чиновничьим засильем и коррупцией. Сильное государство должно быть правовым и опирающимся на институты, а не на чреватые злоупотреблениями неформальные связи. Сильная исполнительная власть нуждается в независимости судов, частичной региональной децентрализации, честных выборах и борьбе с коррупцией.
В эпоху глобальной нестабильности и перехода власти выживет тот, кто сумеет приспособить к своим нуждам внешние и внутренние условия. В мире происходит масштабная перекройка рынков, региональных систем и военно-политических союзов. Современная державность должна сочетать отстаивание важнейших интересов в мире с активным выстраиванием нового миропорядка и проведением необходимых для этого внутренних реформ. Твердость защиты суверенитета предусматривает гибкое умение создавать новое и желаемое в экономической, информационной, военной и политической сферах. С осуществлением такого курса сопряжено немало трудностей, включающих в себя не только риски противодействия развитым в материально-экономическом отношении державам, но и способность выбирать растущие сферы внутреннего развития и вкладываться в перспективные международные проекты.
Г – Гибридная война
Василий Кашин
Понятие «гибридная война» прочно связалось на Западе с Россией после присоединения Крыма. Значительную роль в этом сыграло распространение мифа о наличии у России специальной стратегии противостояния, известной как «доктрина Герасимова». Ее существование к настоящему времени опровергнуто самими авторами мифа. Но история с «доктриной Герасимова» показательна: за российскую стратегию гибридной войны были выданы идеи аналогичной стратегии Соединенных Штатов. Они, в свою очередь, сформировались у российских военных и политиков на основе осмысления опыта «цветных революций» 2000-х гг. и «арабской весны» начала 2010-х годов.
К моменту крымских событий военные теоретики не только на Западе, но и на Востоке осмыслили различные формы невоенного противоборства государств. Высокая стоимость и чудовищная опасность современной высокотехнологичной войны требовала найти такие формы участия в конфликтах, которые позволяли бы контролировать эскалацию и добиваться целей строго дозированным применением силы.
Эти концепции (например, в опубликованной в 1999 г. книге «Война без границ» // Unrestricted Warfare китайских полковников Цяо Ляна и Ван Сянсуя) не сводятся к распространенным в настоящее время представлениям о гибридной войне. Речь идет о комплексной стратегии противостояния великих держав с применением неограниченного арсенала методов.
Концепции гибридной войны упрощают борьбу между государствами. Государство, взявшее их на вооружение, получает пропагандистский инструмент для демонизации противника, но наносит удар по собственной стратегической культуре. Его способности понимать намерения оппонента в результате падают.
Гибридная война наиболее часто определяется как конфликт с использованием информационной борьбы, экономического и политического давления в сочетании с ограниченным применением вооруженной силы. Предполагается, что действия по всем направлениям помогают нивелировать превосходство Запада в обычных вооружениях. Это понятие расплывчато и опасно. Оно было введено в оборот в середине 2000-х гг., использовалось для описания войны в Ливане 2006 г., а по-настоящему популярным стало на волне украинского кризиса.
Однако все приемы гибридной войны известны много лет, если не веков. Появление новых технологических возможностей в связи с развитием информационно-коммуникационных технологий мало что меняет в сути отношений вовлеченных в конфликт стран. На протяжении всей истории человечества любая хорошо спланированная военная кампания сопровождалась усилиями в области пропаганды, дипломатии, разведки и экономики. О том, что победа с применением именно этих инструментов предпочтительней лобового столкновения, писал еще Сунь Цзы.
Нет ничего нового в поддержке повстанческих движений на территории иностранного государства, вводе на его территорию собственных регулярных войск под видом добровольцев и в прочих методах, часто подаваемых в качестве неизвестной и страшной угрозы. Эти методы широко применялись всеми участниками холодной войны, прежде всего, США, СССР и Китаем. Они нередко использовались и до холодной войны.
Фактически, гибридность позволяет навешивать устрашающую этикетку «война» на широчайший спектр достаточно рутинных внешнеполитических, пропагандистских и разведывательных мероприятий, зачастую являющихся неизбежной частью межгосударственных отношений.
Приписывание стране гибридной стратегии может рассматриваться как элемент политики по ее изоляции.
Цель такой политики – лишить противника возможности отстаивать свою точку зрения. Любая форма разъяснения позиции, попытки защититься от обвинений и изменить позицию другой стороны могут быть теперь интерпретированы как дезинформация и информационное нападение. Появляется также возможность ограничить дипломатическую активность противника, которая по своей природе предполагает установление связей, распространение и сбор информации и влияние на точку зрения собеседника. Фактическое разрушение российско-американских каналов политической коммуникации в посткрымский период и особенно на фоне истерии с российским «вмешательством в выборы» в Соединенных Штатах в этом отношении весьма показательно.
Россия также склонна приписывать гибридную стратегию своим оппонентам. Предполагаемая гибридная угроза со стороны Европы и США, осмысливаемая под военным углом, ведет к вполне конкретным и важным выводам, касающимся внутренней политики. В известном выступлении начальника генерального штаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова на общем собрании Академии военных наук 1 марта 2019 г. в качестве элементов новой военной стратегии США и их союзников упоминаются «цветные революции» и «мягкая сила». Предполагается, что целью американских стратегий является «ликвидация государственности неугодных стран, подрыв суверенитета, смена законно избранных органов государственной власти». Герасимов отмечает, что Пентагон разрабатывает принципиально новую стратегию под названием «Троянский конь», которая заключается в использовании «протестного потенциала пятой колонны» с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам. Соответственно, российский ответ предусматривает «комплекс мер по упреждающей нейтрализации угроз безопасности государства».
Россия, как и прочие крупные военные державы, обладает военными и невоенными средствами борьбы, которые могут применяться в условиях мирного времени или вооруженного конфликта низкой интенсивности. Этот арсенал в его нынешнем виде создавался главным образом в эпоху холодной войны. Скрытные и не признаваемые военные вмешательства, поддержка повстанческих движений и создание «квазидобровольческих» формирований для интервенций за рубежом в сочетании с дезинформацией, пропагандой и поддержкой оппозиции использовались тогда всеми крупными странами.
Что касается СССР, то ограниченные и тайные военные интервенции широко применялись им с раннего периода советской истории. Классическим примером можно считать вмешательство в гражданскую войну в Афганистане 1929 года. Под командованием Виталия Примакова двухтысячный отряд красноармейцев, облаченных в афганскую военную форму и вооруженных трофейным английским оружием, вторгся в эту страну. Целью знаменитого «рейда Примакова» было изменение хода войны в пользу дружественного СССР короля Амануллы-хана. Операция готовилась в тесной координации с представителями Амануллы, и к отряду Примакова присоединялись местные этнические формирования. Рейд, завершившийся захватом Мазари-Шарифа в апреле 1929 г., был предпринят, однако, слишком поздно и уже не смог переломить ход гражданской войны. Многое в его организации тем не менее можно считать характерным для подобных операций Советского Союза и постсоветской России.
В ходе «афганской спецоперации» СССР пытался повлиять на внутренний конфликт за счет ограниченного, тайного и краткосрочного вмешательства в ключевой момент (который, как оказалось в дальнейшем, был выбран неверно). Советским силам следовало изменить ход конфликта в пользу союзника и уйти. Но они ни в коем случае не должны были выступать главной действующей силой в конфликте. СССР тщательно избегал привлекать внимание к своей операции и стремился жестко контролировать масштабы вовлеченности в войну. После того, как стало ясно, что поражение Амануллы-хана предотвратить не удалось, СССР свернул интервенцию, невзирая на продемонстрированное подавляющее тактическое и техническое превосходство Красной Армии.
Сходным образом осуществилось более крупное и успешное вмешательство в Синьцзяне в ноябре 1933 – апреле 1934 года. В операции в поддержку генерал-губернатора Шэн Шицая участвовали войска НКВД, замаскированные под действовавшие в регионе белоэмигрантские формирования. К ней привлекались собственно бывшие белогвардейцы, завербованные советской разведкой, а также просоветские формирования из числа местного населения. Интервенция продолжалась недолго, после решения поставленных задач советские войска ушли, оставив в Синцзяне ограниченный контингент и группу советников для наблюдения за ситуацией.
«Квазидобровольческой» операцией было советское участие в гражданской войне в Испании. Несмотря на присутствие в стране тысяч советских военнослужащих и крупные военные поставки, вмешательство в конфликт СССР отрицалось. Советские летчики и военные советники в качестве «добровольцев» участвовали в китайско-японской войне в 1937–1940 годах. Подобная же практика продолжилась и с наступлением холодной войны. Советская истребительная авиация и зенитно-артиллерийские части с личным составом, замаскированным под китайских добровольцев, действовали в Корее. Советские летчики противостояли ВВС Гоминьдана в небе над Шанхаем в 1950 году. Советские зенитно-ракетные и авиационные части принимали участие в войне во Вьетнаме и в ряде конфликтов на Ближнем Востоке.
Перечисленные интервенции были успешны с точки зрения достижения политических и стратегических целей Москвы. Все они следовали одной и той же модели, которая прослеживается со времен рейда Примакова в 1929 году. Это были короткие, внезапные, тщательно спланированные действия, направленные на то, чтобы в ключевой момент помочь важному союзнику, будь то дружественное государство или одна из фракций в гражданской войне.
Операции имели разную степень секретности; как правило, СССР либо отрицал участие в конфликте в принципе, либо преуменьшал его масштабы. Главным условием успеха был тщательный расчет баланса сил, выбор времени, места и характера вмешательства. При этом сводились воедино возможности вооруженных сил, спецслужб, дипломатического аппарата.
Сильной стороной Советского Союза при ведении таких операций была способность добиваться высоких результатов в обучении, а порой – в строительстве с нуля вооруженных сил дружественных стран или политических групп. На протяжении всей холодной войны созданные советскими инструкторами вооруженные формирования одерживали победы над противниками, обучаемыми и оснащаемыми США.
Разумеется, речь идет о случаях, когда советские военные имели реальные возможности руководить процессом военного строительства, чего не было, например, в арабских армиях, воевавших с Израилем. Афганская кампания 1979–1989 гг. стала грубым нарушением всех старых советских принципов ведения зарубежных интервенций. Она была затяжной, масштабной, предпринятой без учета местных условий, главной силой в войне оказались собственно советские войска, а не формирования союзников.
Тем не менее многие преимущества отечественной военной школы, прежде всего – способность налаживать работу с местным населением, создавать относительно боеспособные местные вооруженные силы и действовать совместно с ними, проявились и тогда. К моменту вывода советских войск в 1989 г. Республика Афганистан обладала армией и специальными службами, далеко превосходившими все, что было создано за 18 лет американской оккупации Афганистана после 2001 года. Падение режима Наджибуллы было связано с фактически продолжавшимся вмешательством в афганский конфликт ряда иностранных государств на фоне распада СССР и бездействия России.
Офицеры советских вооруженных сил и спецслужб, вовлеченные в подобные операции на поздних этапах холодной войны, продолжали активную службу и с началом военных конфликтов 1990-х гг., когда этот опыт был значительно обогащен и расширен. Российские военные оказались вовлечены в столкновения на Южном Кавказе, в стабилизацию ситуации в Таджикистане в 1992–1997 годах. Но наиболее глубокое влияние на армию, спецслужбы и государственный аппарат России оказали боевые действия на Северном Кавказе в ходе двух чеченских войн. Армия и спецслужбы получили огромный опыт решения сложнейших задач при весьма ограниченных ресурсах с опорой на переговорные инструменты, агентурную разведку, взаимодействие с разнообразными вспомогательными вооруженными формированиями из местного населения.
Присоединение Крыма, события на Восточной Украине и сирийская кампания показали, что Россия возвращается к старой модели применения вооруженных сил для обеспечения национальных интересов. Ставка делается на быстрые, внезапные действия с тщательным контролем уровня вовлечения в конфликт. Значительный опыт строительства и использования вспомогательных отрядов из числа добровольцев и местного населения, накопленный в ходе многолетних конфликтов на постсоветском пространстве, используется в полной мере.
Такие действия едва ли делают Россию более непредсказуемой или агрессивной, чем другие державы. Даже Китай при всей его внешнеполитической пассивности последних десятилетий отметился уже в XXI веке в поддержке вооруженных формирований и непризнанных государственных образований на севере Мьянмы (так называемое государство Ва). Эта поддержка включала в себя обучение и оснащение, вплоть до поставок тяжелого вооружения.
Интервенции США, Франции и Великобритании на Ближнем Востоке носили более систематический характер. Они сопровождались масштабным применением современных технологий, финансовых ресурсов и технических возможностей, недоступных для России. Однако результаты оказывались почти неизменно неблагоприятными для самих акторов. Они, в особенности американцы, демонстрировали неспособность к интерпретации разведданных и оценке политической ситуации. Строительство Соединенными Штатами союзных вооруженных сил из местного населения приводило к разочаровывающим результатам на фоне гигантского расхода средств. Взаимодействие американских и местных вооруженных формирований оставалось слабым.
Российские действия на этом фоне отличаются не большей агрессивностью, а большей эффективностью. Россия в отличие от США и ряда их союзников не вторгалась в иностранные государства, штурмуя столицы и убивая политических лидеров. Россия не тратила триллионы долларов на многолетнюю оккупацию других стран, чтобы затем уйти, признав поражение. Но, применяя силу в куда меньших объемах, Россия в последние десятилетия добивалась куда большего в реализации своих политических целей.
На стороне российской армии и спецслужб – многолетний опыт войн с сильным иррегулярным противником, получающим поддержку из-за рубежа, в условиях ограниченности собственных ресурсов. Переоснащение и реформирование российской армии в 2010-е гг. позволило резко повысить ее боевые возможности. Патриотический подъем, связанный с украинскими событиями и присоединением Крыма, обеспечил приток добровольцев для зарубежных операций в составе регулярных и иррегулярных формирований.
Таким образом, в новых условиях российские Вооруженные силы превращаются в гибкий инструмент, который может быть использован для влияния на ситуацию в стратегически важных для России частях мира.
Использование ярлыка гибридной войны уводит нас в сторону от того факта, что мы имеем дело с набором весьма традиционных приемов борьбы, восходящих к началу ХХ века или более ранним временам. Эти приемы используются всеми крупными игроками в современной международной политике. Но одни страны владеют ими хорошо, а другие – никак не могут научиться, даже потратив триллионы долларов и потеряв многие тысячи солдат убитыми.
М – Мессианизм
Иван Сафранчук
Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Россия никогда не была исключительно прагматической державой, движимой только практическими интересами. Чувство некой миссии, высшей цели России было присуще всегда.
Но исторически и в строгом смысле этого слова российское государство не является мессианским. Оно не сформировало чего-то похожего на политическую доктрину божественной предопределенности, которая обосновывала бы экспансионизм Божьим промыслом (как американский Manifest Destiny). У российской элиты никогда не было намерения способствовать политическими средствами приближению конца света и второго пришествия ради торжества Истины, к чему склонны американские правые евангелисты, время от времени обретающие влияние на внешнюю политику. Россия не была очарована цивилизаторским «бременем белого человека», как британский колониализм. И не несла в мир нерелигиозные философские идеалы, как в Новое время это делала Франция, а позже опять же – США.
Наиболее мессианским был, вероятно, советский период российской истории, когда Москва взяла на себя роль распространителя и защитника в мировом масштабе целостной философской и политико-экономической доктрины. Впрочем, после десятилетий осуществления этой миссии увлеченность ею стала быстро исчезать и в элите, и в обществе. К концу же существования Советского Союза сформировался невероятный по силе общественный и элитарный запрос на прагматизм.
Как бы сейчас ни называли внешнеполитический курс Бориса Ельцина и Андрея Козырева – наивным или идеалистическим, на самом деле он формировался именно в прагматических категориях. Избавление от излишней и идеологически обоснованной внешнеполитической нагрузки трактовалось как прагматизм, а не как идеализм (по сути, этот подход продолжал горбачёвское «новое мышление», практическим содержанием которого стало освобождение перенапрягшегося и пораженного внутренним кризисом СССР от бремени ответственности за «второй мир».)
В дальнейшем прагматизмом стали считать не столько редуцирование внешнеполитических интересов, сколько их расширение, но опять же ради удовлетворения прикладных интересов, а не воплощения в жизнь абстрактных идеалов. Хотя конкретное выражение прагматического начала в российской внешней политике в последнюю четверть века очень сильно менялось, твердая приверженность прагматизму после опыта советского мессианства все-таки остается.
Россия не является мессианской державой в «большом» смысле: она не готова убивать других и посылать на смерть своих за абстрактные идеалы и доктрины. Российское чувство миссии другое.
Россия – государство, собранное на огромном пространстве из множества неоднородных элементов, расположенное в сложных климатических и природных условиях, подвергавшееся крупным нашествиям. Своей миссией это государство всегда считало собственную способность быть – и быть не дикими, не варварами. В одной интерпретации миссия состоит в том, чтобы суметь стать развитой частью мира, то есть Западом, и в таком качестве добиться принятия в какую-то общую систему политических и социальных отношений. В другой – миссия сводится к тому, чтобы быть без (не путать с против) Запада. Эта трактовка имеет другой обязательный компонент – представление о том, что есть могущественные силы внутри и вовне, постоянно мешающие России исполнить свой долг, стремящиеся подорвать ее возможности.
Территориальная экспансия, участие в мировых делах, вершение судеб мира – все это явные свидетельства способности быть и успешности существования. Российская элита, особенно после Петра I, считала такую программу действий естественной для Российского государства. И для подобной традиции выпасть из первого ряда мировых держав – историческая катастрофа, там надо оставаться любыми средствами – миром или войной. Не случайно противодействие риску скатиться во второй, а то и третий эшелон международной политики было объявлено лейтмотивом президентства Владимира Путина в его программной статье «Россия на рубеже тысячелетий», опубликованной за день до того, как он стал исполняющим обязанности главы государства после досрочной отставки Борис Ельцина.
Насколько чувство державности распространилось на весь народ – вопрос спорный. По всей видимости, общественные настроения по этому поводу могут колебаться в очень широкой амплитуде. Но всегда находились и те, кто был за сосредоточение на себе, за снижение бремени вовлеченности в мировые дела или даже за полное выключение из них. Великие русские писатели дают яркие примеры таких мыслей. Лев Толстой еще в «Севастопольских рассказах» обращал внимание на то, как чужда война русским крестьянам, а в дальнейшем чрезвычайно саркастично представлял геополитические, военные предприятия («Сказка об Иване-дураке и его двух братьях…») и даже характеризовал войну как «вредное учреждение», ставя ее в таком качестве в один ряд с рабством и проституцией (эссе «Так что же нам делать?»). Или Александр Солженицын в манифесте «Как нам обустроить Россию?»: «Пробуждающееся русское национальное самосознание во многой доле своей никак не может освободиться от пространнодержавного мышления, от имперского дурмана. (…) Это вреднейшее искривление нашего сознания: “зато большая страна, с нами везде считаются”. (…) Могла же Япония примириться, отказаться и от международной миссии, и от заманчивых политических авантюр – и сразу расцвела. Надо теперь жестко выбрать: между Империей, губящей прежде всего нас самих, – и духовным и телесным спасением нашего же народа».
Споры о том, в каком виде России существовать, продолжатся – у них давняя традиция. Но мощное стремление быть вопреки нескончаемым препятствиям (быть собой, но не пространством, признанным варварским) и стало миссией России. За века осуществления этой миссии у страны появился и некоторый собственно мессианский элемент. Но состоит он не в том, что Россия хочет переделать мир в соответствии с какой-то определенной программой, а в вере, что с Россией мир лучше, чем без нее.
П – Прагматизм
Мария Ходынская-Голенищева
В основе понятия «прагматизм» лежит примат пользы/выгоды, которую способно принести то или иное действие. Эвентуальные практические последствия определяют целесообразность конкретных шагов и одновременно служат критерием их эффективности. Философский словарь приводит слова одного из видных представителей прагматизма, американца Уильяма Джеймса: «Истина есть то, что лучше всего работает на нас».
Прагматизм – один из основополагающих принципов российской внешней политики. При некоторой абстрактности термина он имеет вполне конкретное содержание. Так, Концепция внешней политики России от 2016 г. ориентирует дипломатов на работу в пользу создания благоприятных внешних условий для поступательного и устойчивого внутреннего развития. Среди них – обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориальной целостности, формирование пояса добрососедства с сопредельными государствами, содействие повышению конкурентоспособности экономики России, ее технологическому обновлению, повышению уровня и качества жизни населения.
Рациональна российская интеграционная политика на постсоветском пространстве и в Евразии (СНГ, ЕврАзЭС, ШОС), которая должна привести к формированию широкого интеграционного контура (инициатива Большого евразийского партнерства). Позитивная, неконфронтационная повестка этих объединений предоставляет возможность не распылять ресурсы и сосредоточиться на задачах обеспечения ускоренного темпа развития в государствах-членах. Прагматична линия России и в относительно новых, отвечающих духу времени институтах глобального управления. Например, в БРИКС, где, кроме всего прочего, проводится курс на создание альтернативы доллароцентричной валютно-финансовой системе: наличие подобной «подушки безопасности» приобрело для России особую важность в контексте деградации отношений с Западом после 2014 г., включая обмены санкционными ограничениями.
Единственно рациональным с военно-политической точки зрения (и соотнесенным с общественным запросом, обусловленным ощущением исторической несправедливости) стало решение о воссоединении Крыма с Россией. Реалистичная, трезвая оценка ситуации вкупе с глубокой проработкой возможных сценариев и их последствий предопределили активное участие Москвы на уровне высшего руководства в выработке Минских договоренностей, связавших Киев и крупных европейских игроков соответствующими обязательствами с выгодной для России последовательностью шагов.
Высоким уровнем прагматизма характеризуется российская политика на сирийском направлении. В основе принятого руководством страны решения о начале военной операции в Сирийской Арабской Республике (САР) лежали интересы, связанные прежде всего с обеспечением национальной безопасности. В 2015 г. в рядах террористических групп сражались, по разным оценкам, до 6 тыс. выходцев из России и постсоветских республик, существовала угроза их возвращения. Нарратив Запада, пытавшегося навязать впечатление о российской линии в Сирии как о иррациональной («Москва поддерживает диктатора-союзника»), противоречил предыстории конфликта: Башар Асад посетил Москву на пятый год президентства (первый его зарубежный визит в качестве главы государства состоялся в Париж, второй – в Лондон); до кризиса Россия занимала лишь девятое место в товарообороте Сирии (3%).
Исключительный прагматизм российской линии на сирийском направлении проявился в деидеологизированном подходе, позволившем договариваться по отдельным аспектам урегулирования (прекращение огня, параметры политического урегулирования, выправление гуманитарной ситуации и так далее) со всеми внешними игроками. Так, в период, когда российско-американские отношения находились в низшей точке развития, Москва и Вашингтон выполняли роль сопредседателей Международной группы поддержки Сирии (2015–2016 гг.), согласовали параметры режима прекращения боевых действий в САР (февраль 2016 г.), достигли договоренностей о деэскалации в Восточном Алеппо (декабрь 2016 г). С учетом неоднократно озвученной Россией принципиальной позиции о нелегитимном характере военного присутствия США в Сирии ничем, кроме как соображениями прагматизма, нельзя объяснить российско-американские договоренности о деконфликтации, в течение нескольких лет обеспечивающие отсутствие инцидентов «в воздухе» и «на земле».
Россия с рациональных позиций подходила к подбору внешних партнеров для диалога по сирийскому урегулированию. Яркий пример – астанинский формат (Россия, Иран, Турция) – объединение трех государств с несовпадающей, порой прямо противоположной повесткой. Сугубо реалистичный подход, продемонстрированный всеми странами-гарантами, позволил достичь важнейших договоренностей по прекращению боевых действий в САР, созданию зон деэскалации (2017 г.), а также сформировать Конституционный комитет (2018 г.). Сепаратная переговорная работа на двустороннем уровне с крупными региональными игроками, имевшими влияние на группы вооруженной оппозиции, – Турцией, Катаром, Саудовской Аравией, Египтом и другими – позволила перевести под контроль сирийского правительства такие стратегические районы (бывшие «зоны деэскалации»), как Восточный Алеппо, Восточная Гута, Хама/Хомс, Восточный Каламун, части провинций Сувейда, Кунейтра, Дераа, при этом не подорвав потенциала астанинского формата, создавшего эти зоны.
Отдельно стоит упомянуть российско-турецкий переговорный трек. Прагматизм вновь позволил преодолеть глубокий кризис между Москвой и Анкарой, который вызвали действия турецких ВВС, сбивших российский бомбардировщик Су-24 из состава группировки ВКС России, – тогда погиб один из катапультировавшихся пилотов Олег Пешков. После жесткой реакции Москвы и принесенных Анкарой (далеко не сразу) извинений диалог между Россией и Турцией возобновился и был максимально плодотворным: удалось договориться по окончательному решению проблемы Восточного Алеппо и согласовать условия деэскалации в Идлибе (2018 г.) и на северо-востоке САР (2019 г.).
Лишенная догматизма и конъюнктурных колебаний, последовательная линия России в сирийском урегулировании, вопреки некоторым прогнозам, не только не привела к ухудшению отношений нашей страны с суннитскими государствами, но, напротив, способствовала упрочению позиций Москвы в ближневосточных делах, закрепила за Россией образ надежного партнера.
На этом фоне некоторая отстраненность России в йеменских делах и осторожное балансирование в Ливии – также пример прагматичности и основанной на ней неготовности повышать ставки в ситуациях, развитие которых мало затрагивает национальные интересы России. Это не мешает Москве оставаться участником многосторонних форматов урегулирования йеменского и ливийского конфликтов, оказывать ощутимую поддержку соответствующим усилиям ООН.
Посредничество (как минимум в предоставлении московской площадки) в межпалестинском и межафганском примирении, без которых во многом девальвируются коллективные усилия по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане, – также мера, не превышающая полезную норму вовлеченности, но позволяющая оказывать необходимое влияние на соответствующие процессы.
Н – Национальный интерес
Павел Цыганков
Крен в сторону национальной политики, заметный сегодня во многих странах, в том числе ранее ориентированных на «трансферт суверенитета», вновь привлекает внимание к несколько подзабытому понятию «национальный интерес». Парадокс, однако, в том, что в науке о международных отношениях не прекращаются дебаты о его содержании. Будучи центральным для политического реализма, оно энергично оспаривается другими теоретическими школами.
С точки зрения канонического реализма конфликтная природа международных отношений является неизбежным следствием отсутствия в них верховной власти. В таком контексте государства постоянно испытывают страх за своё существование и им приходится полагаться только на свои собственные силы. Поэтому национальный интерес – это, прежде всего, рациональное осознание потребности государства в безопасности, что предполагает защиту не только физического выживания, но и территориальной целостности, независимости, экономического благосостояния и культурной идентичности. Безопасность зависит от положения государства в международной системе относительно других государств. А поскольку это положение производно от распределения способностей государств (в первую очередь в военном отношении), постольку национальный интерес определяется «в терминах власти (силы)», как считал один из основоположников реализма Ганс Моргентау.
Однако уже в рамках самого канонического реализма разгораются дискуссии. Так, Моргентау и Генри Киссинджер разошлись в оценке соответствия вьетнамской войны американскому национальному интересу. Возникшие впоследствии новые версии реализма – неореализм, наступательный реализм, неоклассический реализм – внесли дополнительные нюансы в релятивизацию понятия национального интереса.
Еще большей критике оно подверглось со стороны других теоретических течений. Позитивисты указали на его неоперациональность и даже антинаучность, ввиду невозможности его эмпирической верификации. В свою очередь, согласно либералам, национальный интерес определяется не внешней средой, а внутренними социетальными потребностями государства, которые являются не унитарными, а плюралистическими. В конечном счете национальный интерес представляет собой совокупность интересов тех групп, которым удается навязывать собственные политические предпочтения в качестве государственных. Хотя национальные интересы отражают приоритеты частного характера, они необязательно являются эгоистическими. По мнению неолибералов, понятие «национальный интерес» правомерно использовать только при условии, что его содержание составляют моральные нормы и глобальные проблемы, например, индивидуальные свободы. Сторонники экономического неолиберализма готовы согласиться с рациональностью, движущей силой национального интереса, и стремлением к безопасности как его главной составляющей, но лишь в аспекте рыночного измерения.
Конструктивисты предлагают свое объяснение интересов и условий, в которых они формируются и изменяются. С их точки зрения, национальные интересы основаны на идентичности и конструируются не столько самими государствами, сколько разделяемыми нормами и ценностями, которые структурируют международные отношения и придают им смысл. Критические теории, исследуя дискурс национального интереса, находят в нем интересы тех, кто его формулирует. Наконец, специалисты такого научного направления, как анализ внешней политики, настаивают, что она зависит от индивидуальных особенностей лиц, принимающих решения и от организационных процедур, представляя собой результат компромисса между бюрократическими структурами, члены которых зачастую думают вовсе не о национальном интересе.
Таким образом, содержание понятия «национальный интерес» выглядит размытым, а его роль во внешней политике – неочевидной.
Впрочем, сегодня в международно-политической науке сложилось понимание того, что разнобой в трактовке национального интереса не доказывает его «отсутствия» как мотива внешней политики и неэффективности как аналитического инструмента. Дискуссии полезны уже тем, что позволяют понять, каких ошибок следует избегать при анализе содержания и роли национального интереса в международном поведении государства. Уроки таких дискуссий сводятся к следующему.
Во-первых, необходимо помнить, что ни одна теория не дает полного объяснения национальных интересов. Поэтому не стоит опираться на одну из них, но использовать достижения каждой. Конкурируя, они дополняют друг друга и выявляют ошибки.
Во-вторых, не стоит противопоставлять интересы и ценности. Национальные интересы не могут не опираться на ценности, точно так же, как ценности невозможно понять вне национальных интересов. Не случайно реалисты (Арнольд Уолферс), говорят о том, что национальная безопасность объективно означает отсутствие угроз для приобретенных ценностей и субъективно – отсутствие страха, что эти ценности подвергнутся нападению.
В-третьих, в основе объясняющей функции национального интереса лежит признание связи внешней политики государства с его историей, географией, культурой, ментальностью и традициями народа, с его самобытностью. Хотя национальная идентичность со временем меняется, нельзя отрицать и ее преемственности.
Наконец, опора на интересы помогает лучше понять мотивы и оценить эффективность внешней политики государства в контексте конкретной международной обстановки, связанной с политикой и действиями других государств. Как писал еще в XIX веке русский дипломат Сергей Татищев, «в международных отношениях пользы и нужды родины – в постоянном столкновении со стремлениями и потребностями чужих стран».
Иначе говоря, реализация национальных интересов, как и внешней политики в целом, зависит не только от осознанного, научно обоснованного формулирования их содержания, но и от восприятия лидерами государства «польз и нужд своей родины и стремлений других стран».
В российских дискуссиях начала 1990-х гг. о национальных интересах страны доминировала идея, согласно которой ценности либеральной демократии автоматически должны были решить проблемы безопасности и развития страны. Устами главы МИДа Андрея Козырева было заявлено, что никаких особых национальных интересов у России нет: главное – присоединиться к сообществу цивилизованных стран Запада. Сотрудничество с ними будет сопровождаться серьезной экономической помощью США и стран ЕС. Во внешней политике был провозглашен общий курс с Западом на дружеские, даже союзнические отношения. Однако, несмотря на все уступки, экономических и финансовых дивидендов от Запада Россия не получила. Займы МВФ и Мирового банка были предоставлены ей на обычных, то есть крайне жестких условиях. Западные партнеры не только не оказали постсоветской России масштабной помощи, но и всячески препятствовали восстановлению ее экономического потенциала.
Интервенция НАТО в Боснии (1994), решение о расширении альянса на Восток, резкий рост антилиберальных настроений внутри страны вынудили Бориса Ельцина в 1995 г. заменить Козырева на посту министра иностранных дел Евгением Примаковым. С самого начала Примаков проводит линию на отстаивание национальных интересов страны и выступает с идеей многополярного мира. Будучи реалистом, Примаков считал нормальным, что на пути проведения независимой внешней политики у России могут возникать противоречия с другими странами. В то же время он видел свою задачу не в противостоянии Соединенным Штатам и Евросоюзу, а в отстаивании права России на самостоятельные позиции в вопросах, касающихся ее национальных интересов и собственных ценностей.
Придя к власти в 2000 г., президент Владимир Путин провозгласил деидеологизацию и прагматизм российской внешней политики. Вместе с тем, несмотря на резкое осуждение натовских бомбардировок Белграда и силовое отделение Косово от Сербии, он не собирался дистанцироваться от Запада. Так, в 2001 г. он был первым главой государства, кто выразил сочувствие и солидарность Вашингтону в связи с террористическими актами против Америки и предложил совместные действия против общей угрозы.
Однако последующий опыт взаимодействия с евроатлантическим сообществом постепенно создавал у значительной части российских правящих элит и политического класса устойчивое представление о нежелании «партнеров» идти на равноправное сотрудничество и признавать право России иметь собственные интересы, осуществлять внутренний и внешний национальный суверенитет. Запад все больше воспринимается как «другой» с отрицательным знаком, а российская идентичность – как незападная. Это стало одним из важных факторов поворота России на Восток, дальнейшего укрепления отношений стратегического партнерства с Китаем на основе взаимных интересов.
Постепенно повышая военно-силовой потенциал, Россия проводит все более активную национально-ориентированную политику на мировой арене. Рубежными в этом смысле стали 2007 г. («мюнхенская речь» Путина), 2008 г. («пятидневная война» с Грузией), 2014 г. (кризис вокруг Украины). В 2015 г. Российская Федерация начала военную операцию в Сирии по просьбе правительства этой страны. Борьба против международного терроризма – один из приоритетов российской политики национальной безопасности.
Успехи российской дипломатии несомненны. Они особенно заметны на Ближнем Востоке, где посредничество России позволило сблизить позиции, казалось бы, непримиримых противников (Сирия, Иран, Турция), отчасти в СНГ, где удалось добиться единых подходов России и Запада по урегулированию политического кризиса в Молдавии. Сложнее ситуация в Европе, по-прежнему далек от серьезных сдвигов в сторону разрешения украинский конфликт. И практически на нуле находятся отношения с Америкой, несмотря на противоречивые сигналы со стороны Дональда Трампа.
Западные санкции не смогли ослабить российскую внешнюю политику, но серьезно повлияли на экономику. Не сломив ее, они обнажили остроту проблемы модернизации и выхода на новый уровень производительности. Эксперты сходятся в том, что именно экономическое отставание, недостаточный уровень благосостояния и качества жизни представляют собой самое слабое звено российского национального интереса.
Р – Равноправие
Николай Косолапов
Равноправие – одна из ключевых социальных ценностей в современном мире. Во внешней политике бывшего СССР и постсоветской России ей придается большое значение. Упоминание равноправия как принципа, ценности и цели содержится во всех основополагающих документах РФ – от Конституции до концепций и стратегий. Но каковы реальные проявления равноправия в межгосударственных отношениях?
За последние две тысячи лет мысль о равенстве претерпела в еврохристианской культуре сложнейшую и далеко не завершенную эволюцию. Равенство людей как акта и результата творения; равенство их перед Богом; равенство между собой как следствие первого и второго; равенство независимо от их социального положения, званий, рода занятий, доходов… Все эти интерпретации равенства распространяются лишь на межличностные отношения.
Вопрос, распространяется ли идея равенства на людей, принадлежащих к разным вероисповеданиям, в рамках религиозного сознания неизменно решался отрицательно. Однако сам этот вопрос выводил идею равенства на социальный уровень. Светская жизнь востребовала право, а с ним пришла необходимость установления критериев равноправия (или отсутствия, отрицания оного). Этот подход открывал принципиальную возможность (не всегда реализовывавшуюся) признания равенства людей даже в мультиконфессиональной среде. Классовый подход (не Марксом придуманный) окончательно перенес проблемы равенства и равноправия на уровень массовых социальных явлений и процессов.
Но при ближайшем рассмотрении взаимоотношения церкви и светских властей, последних между собой, власти и народа, социальных групп и классов оставались по сути межличностными. Восстававшие рабы и крестьяне, Реформация, революционеры во Франции XVIII в. и в России начала XX в., все общественные движения прошлого неизменно боролись с персонализированным противником и только потом и реже – с институтами и порядками.
Вестфальская система международных отношений, затем колониализм и распространение капитализма по миру выдвинули проблему равноправия на уровень межгосударственных отношений. В Вестфальских соглашениях особо оговаривалось, что их положения не распространяются на мусульман и исламские страны. Европейское международное право конца XIX – начала XX вв. делило страны на цивилизованные (западно-христианские), полуцивилизованные (к ним причислялись православно-христианские) и нецивилизованные (все прочие). Причем если войны между первыми считались недопустимыми, то в отношении вторых применение силы рассматривалось как приемлемое, а третьих – как иногда необходимое[1]. Проблема равноправия захватила тем самым интенсивно развивавшийся уровень межинституциональных отношений.
Войны и революции первой половины ХХ в. связали три уровня равенства и равноправия – межличностный, макросоциальный и институциональный (включая межгосударственный) – в единый и уже нерасторжимый комплекс со многими присущими ему внутренними противоречиями.
На первый план вышло равноправие. Оно предполагает наличие правовой системы, в рамках которой только и могут быть определены права. В межгосударственных отношениях роль такой системы выполняет международное право, являющееся по сути сложным и внутренне также противоречивым комплексом межправительственных соглашений. Это означает, что при серьезных изменениях внутри наиболее весомых государств и/или в международном порядке производная от них международно-правовая система может и, скорее всего, будет меняться. При этом политическое сознание в разных частях мира способно еще долгое время сохранять инерцию прошлых представлений, стандартов и норм.
Декларация прав человека (1948 г.) и ряд последующих международных документов в целом конкретизировали современное понимание этих прав. Устав ООН, Венская конвенция 1961 г., ряд других хорошо известных документов выполнили схожую функцию применительно к суверенитету государств и их политическому равноправию. Источником дестабилизаций остается уровень макросоциальный, на котором «обитают» такие неопределенные явления и понятия, как «права народов» (кто и по каким критериям признается «народом»; есть ли у народов не только права, но и обязанности, и если да, то по отношению к кому; могут ли народы наказываться за недолжное отправление их обязанностей, и если да, то кем, на основании чего и как) или «права меньшинств» (кто такие «меньшинства», по отношению к кому, на какой территории и прочая – см. выше).
Глобализация ставит объективный вопрос: будет ли институт государства встроен в какую-то надгосударственную систему – финансовую, религиозную, идеологическую, иную – или же, напротив, сами государства (или какая-то их часть) станут определять политико-экономическое, культурное ее содержание. В ответе на этот вопрос особое значение приобретает политико-правовой и социально-политический статус государства в международной системе.
Но в какой конкретно системе? Для Соединенных Штатов, уверовавших в реальность своей «победы» в холодной войне, это американоцентричный (в жестком варианте) или западоцентричный (в мягком) миропорядок. Россия как страна, «проигравшая» холодную войну, обязана встраиваться в этот порядок на условиях Запада – что, в общем-то, по-своему логично. Однако для России, Китая и ряда других государств международная система 2000-х гг. – переходная от американоцентричности к полицентричности. Состоится такой переход или возникнет нечто неожиданное, время покажет. Но и с западной, и с незападной, в том числе российской, точек зрения мир пребывает в состоянии перехода – значит, четкие критерии порядка, прав, статуса государств и их реального (а не политико-правового только) равноправия либо его отсутствия нарушены. Причем процесс их размывания продолжается, кристаллизация новых критериев пока не просматривается.
После развала СССР Россия признана в мире как государство – продолжатель бывшего Союза, а не его правопреемник. В 1990-е гг. это позволило успешно решить задачи тактического плана, прежде всего, сохранить место страны – постоянного члена Совета Безопасности ООН, членство в других международных организациях, решить вопросы с зарубежной собственностью бывшего Союза и ряд других. Но закономерно, что в долговременном плане все заметнее становятся и издержки такого решения: Россия де-факто по всем характеристикам все-таки другое государство, а не продолжение СССР. Как другое государство, Россия – главный победитель в холодной войне. Без ее усилий не рухнул бы СССР, и в этом плане ее претензии на весомую роль в мире и на равноправные отношения с Соединенными Штатами и Западом в целом более чем обоснованы. Как государство-продолжатель – она лишь страна, потерпевшая поражение в холодной войне и – с точки зрения Запада – ищущая реванша, стремящаяся изменить комфортное для Запада мироустройство.
Переходный характер современной международной системы ставит и другой вопрос: равноправие – с кем и в чем. Вряд ли России нужно равноправие с американцами в «праве» на интервенции, организацию «цветных революций», замену неугодных режимов и тому подобное. Конечно, логика международных процессов может в отдельных случаях вынудить действовать схожим образом. Но в долговременной перспективе России нужно не равноправие с США или кем бы то ни было еще в проведении имперской политики, а принуждение Соединенных Штатов к равноправию с другими государствами. Разумеется, одной России такая задача не под силу.
У проблемы равноправия есть и политико-психологическая сторона. Как идея и ценность равноправие может быть мощным источником мотивации и эффективным инструментом построения более безопасного и справедливого мира. Но, как и любая иная идея и ценность, равноправие при определенных обстоятельствах способно превращаться в свою противоположность. И тогда стремление уравнять всех во всем и со всеми может вести в лучшем случае к потере здравого смысла, в худшем – к слиянию с исторически сложившимися фобиями и комплексами, что чревато эффектом «вечно обиженных» и/или наделением себя полномочием отказывать тем или иным государствам, социальным группам в равноправии или даже в правах вообще.
С – Справедливость
Вера Агеева
Справедливость – одно из центральных и наиболее часто упоминаемых понятий российской внешней политики начала XXI века.
Категория справедливости по отношению к межгосударственным делам вошла во внешнеполитический лексикон еще в XIX веке: Александр Горчаков не раз повторял, что «нет таких расходящихся интересов, которые нельзя было бы примирить, ревностно и упорно работая над этим делом в духе справедливости и умеренности»[2]. Данный подход позволил ему, с одной стороны, отстаивать российские стратегические интересы, в частности, путем пересмотра Парижского мирного договора 1856 г. и возврата Черного моря в зону российского влияния, с другой – сохранять взаимовыгодные отношения с ведущими европейскими державами сообразно текущей расстановке сил.
Идеи справедливого миропорядка также легли в основу концепции Гаагских мирных конференций, проведенных по инициативе российского императора Николая II в 1899 и в 1907 гг., по итогам которых были приняты первые международные конвенции о законах и обычаях войны, заложившие основы международного гуманитарного права. Как подчеркивал Федор Мартенс, российский юрист, дипломат, один из главных организаторов Гаагских конференций, цель заключалась не в поисках утопических рецептов установления вечного мира, а в «устройстве международной жизни на основах права и справедливости», в наведении порядка «там, где царит произвол»[3].
В условиях холодной войны и биполярного противостояния категория справедливости была почти исключена из словаря советских дипломатов: ни Вячеслав Молотов, ни Андрей Громыко не видели в ней отображения реалий мирового устройства того времени.
Однако в новейшей истории России произошел ренессанс идей справедливости по отношению к международному миропорядку. Редкий внешнеполитический термин мог бы конкурировать по числу упоминаний и в программных документах, и в официальных выступлениях политического руководства современной России. Интересно, что нынешняя внешнеполитическая интерпретация идеи справедливости явно перекликается с традициями русской философии конца XIX – начала XX века. Российская внутренняя политика не раз вдохновлялась идеями русских философов: в посланиях Федеральному собранию Владимир Путин ссылался и на Алексея Лосева, и на Льва Гумилева, и на Николая Бердяева, объясняя российскую модель консерватизма и ее укорененности в российской ментальности. По отношению к внешней политике востребованными оказались образ «цветущей сложности» Константина Леонтьева и идеи справедливости и правды Владимира Соловьева и опять же Николая Бердяева.
Правда-истина и правда-справедливость всегда были одними из центральных категорий русской мысли, которая изначально зародилась как историософская и социально-ориентированная. Она была сосредоточена на вопросах: что замыслил Творец о России, что есть Россия, какова ее судьба и какова ее роль в мировом историческом процессе, целью которого является построение справедливого миропорядка. «Всем предписана одна правда в двух своих степенях: как закон справедливости и заповедь совершенства. Вторая предполагает первый, то есть закон справедливости, безусловно, обязательный всегда и во всем», – писал Соловьев. Однако мировая справедливость не должна ограничиваться юридической интерпретацией: согласно Бердяеву, законническая трактовка не только онтологически неверна, но и практически опасна, так как «насильственное осуществление правды-справедливости во что бы то ни стало может быть очень неблагоприятно для свободы, как и утверждение формальной свободы, может порождать величайшие несправедливости».
В отличие от философов начала ХХ века российские дипломаты и политики эпохи глобализации стремятся подчеркнуть важность юридических норм и верховенства права как основы справедливой международной системы. Данная идея проходит красной нитью сквозь все редакции Концепции российской внешней политики с 2000 года. Согласно главному внешнеполитическому документу России, центральным элементом системы была и должна оставаться ООН, которая обладает «уникальной легитимностью» (2008) и является основной организацией, регулирующей международные отношения. Залогом стабильности справедливой международной системы выступают равноправные и партнерские отношения между странами, которые совместно должны выстраивать международную архитектуру «на коллективных началах».
Интересно, что в современной интерпретации понятие справедливости всегда соседствует с демократическими принципами. Так, одной из основных целей внешней политики декларируется «формирование стабильного, справедливого и демократического миропорядка», а в сфере экономического сотрудничества – построение «справедливой и демократической глобальной торгово-экономической и валютно-финансовой архитектуры».
На протяжении 2000–2013 гг. целый ряд региональных конфликтов оценивался Кремлем именно сквозь призму идеи справедливости. В Концепции внешней политики 2000 г. утверждалось, что требуется справедливое рассмотрение статуса Каспийского моря, который бы учитывал законные интересы всех сторон; там же постулировалось, что Россия будет «содействовать достижению прочного и справедливого урегулирования ситуации на Балканах, основанного на согласованных решениях международного сообщества» и гарантирующего территориальную целостность Союзной Республики Югославии. Разрешение конфликта в Афганистане также видится современным российским лидерам с точки зрения справедливости: Россия всегда стремилась и продолжает стремиться к прочному и справедливому политическому урегулированию афганской проблемы и недопущению экспорта терроризма и экстремизма из этой страны.
В 2013–2014 гг. запрос на справедливость в международных отношениях фактически стал лейтмотивом Валдайских речей Владимира Путина, которые были обращены в первую очередь к широкой мировой общественности. В октябре 2013 г. президент заявил, что Россия, демонстрируя в своей внешней политике силу, всегда проявляла ее благородно и справедливо. Миропорядок, установленный по итогам и Венского конгресса 1815 г. и ялтинских соглашений 1945 г. при очень активной роли России, обеспечил долгий мир и справедливое мироустройство, которое отображало текущее распределение сил в мировой политике. При этом Путин подчеркнул, что Россия всегда дистанцировалась от несправедливных международных решений, каким, к примеру, был Версальский договор, создавший предпосылки для будущей Второй мировой войны.
В посткрымский период категория справедливости стала особенно важной. В Валдайской речи в октябре 2014 г. российский президент упомянул это слово в разных вариациях 8 раз. Речь преисполнена горечью от понимания образовавшейся пропасти между Россией и коллективным Западом. Истинной причиной явился отнюдь не Крым и будущее Украины, а накопившиеся противоречия, основанные на различных интерпретациях мирового порядка, который с российской точки зрения представляется однозначно несбалансированным и несправедливым. Истоки его – в итогах холодной войны, которая завершилась не заключением «мира» с понятными и прозрачными договорённостями о соблюдении имеющихся или о создании новых правил и стандартов, а иллюзией победы одного блока над другим и последующей за ней эйфорией, абсолютизирующей одну социально-экономическую модель как идеальную и всем подходящую. Объективность и справедливость принесли в жертву политической целесообразности, а юридические нормы подменили произвольным толкованием и пристрастными оценками. Вдобавок так называемые победители, объединившись, ввели практику наказаний для несогласных: к ним Путин относит и силовые акции, и экономическое и пропагандистское давление, и вмешательство во внутренние дела, и апелляции к некой «надправовой» легитимности, когда надо оправдать неправовое урегулирование тех или иных конфликтов, и устранение неугодных режимов. Заканчивая описание сложившейся в мире ситуации, Путин сказал: «Давайте зададимся вопросом, насколько всем нам комфортно, безопасно, приятно жить в таком мире, насколько он справедлив и рационален?».
В 2016 г. справедливость становится одной из основных российских внешнеполитических категорий: в Концепции внешней политики 2016 г. появляется отдельный параграф под названием «Формирование справедливого и устойчивого мироустройства», который входит в раздел «Приоритеты Российской Федерации в решении глобальных проблем». В этом параграфе вновь повторяются идеи о верховенстве права и закона, а также о центральной роли ООН. Новеллой раздела является установка на обеспечение «устойчивой управляемости мирового развития», которая должна строиться на «коллективном лидерстве ведущих государств», круг которых не должен быть ограничен привычным списком развитых стран, но в обязательном порядке должен отображать географическое и цивилизационное (sic!) мировое разнообразие. В практической плоскости российская идея справедливости по отношению к международному мироустройству апеллирует к более значимой роли интеграционных объединений развивающихся стран – таких, как G20, БРИКС, ШОС и РИК.
Цивилизационное измерение идеи справедливости появляется также в разделе «Современный мир и внешняя политика Российской Федерации» Отдельное внимание уделено формированию «ценностных основ совместных действий с опорой на общий духовно-нравственный потенциал основных мировых религий, а также на такие принципы и понятия, как стремление к миру и справедливости, достоинство, свобода, ответственность, честность, милосердие и трудолюбие». Согласно документу, только на основе таких ценностей можно достичь подлинного объединения усилий международного сообщества.
Также с 2016 г. для Российской Федерации становится важным установление справедливой системы регулирования интернета, поскольку за последние годы всемирная сеть стала отдельным, требующим специального подхода измерением международных отношений. Позиция России по этому вопросу была отражена и в Концепции внешней политики, и в Доктрине информационной безопасности 2016 года. Суть ее состоит в том, чтобы содействовать справедливому распределению между странами ресурсов, необходимых для обеспечения безопасного и устойчивого функционирования Интернета, основанного на принципах доверия.
Установки на поиск и создание справедливой модели мироустройства, закрепленные в основополагающих внешнеполитических документах Российской Федерации, являются отражением видения российской политической и дипломатической элитой мировой политики и места в ней России. Евгений Примаков в своих трудах по внешней политике уделял значительное внимание этому направлению работы российского МИДа. Его размышления помогают глубже понять, почему категория «справедливости» стала одной из основных. В книге «Мир без России? К чему ведет политическая близорукость» (2009) Примаков возвращается к истокам сложившегося в начале XXI века миропорядка и доказывает, что «однополярный момент» был, во-первых, стратегической целью США, которые стремились к безраздельному доминированию в международных отношениях, а во-вторых, по сути являлся иллюзией, которая строилась на убежденности зарубежных партнеров в их «победе» над СССР в холодной войне. Данная интерпретация показала свою несостоятельность во время финансового кризиса 2008 г., который продемонстрировал, что Соединенные Штаты неспособны единолично управлять ни мировой политикой, ни мировой экономикой. Более того, такого рода концепция уже тогда не соответствовала международным реалиям, в которых развивающиеся страны начали играть более весомую, в том числе финансовую, роль.
Согласно Примакову, уроки конца XX – начала XXI вв. должны быть усвоены мировым сообществом, а новая система международных отношений – построена на сбалансированных и справедливых началах, которые не позволят позволять одной стране брать на себя слишком большие обязательства и одновременно будут отображать изменившуюся архитектуру мировой политики.
C – Стратегия
Андрей Сушенцов
Осыпание мирового порядка – метафора, вокруг которой строится доклад Валдайского клуба 2018 г., – продолжается. Наблюдатели все чаще затрудняются объяснить логику происходящего и указать направление перемен. В условиях нарастающего хаоса все большее значение обретают действия отдельных государств. Таким образом, внимание с уровня системы переключается на уровень ее участников, конкретных стран.
Но как измерить субъектность стран в международной системе? Какие из них более или менее важны? Ведь разница между потенциалами бывает драматична, но далеко не всегда потенциалы конвертируются в значимые внешнеполитические достижения. Вероятно, наиболее точным общим знаменателем является качество внешнеполитической стратегии государств. В этом контексте важны не только крупнейшие игроки, но и малые страны, которые смогли разработать комплексную внешнеполитическую стратегию, ставшую для них мультипликатором мощи. Можно сказать, что в высшей лиге мировой политики играют только качественные стратегии.
Прототип модельного государства в анархичном мире – Израиль. Эта небольшая и молодая страна, находящаяся во враждебном окружении, выстроила внутреннюю мотивацию и внешнеполитическую стратегию, нацеленные на максимальное использование ограниченных ресурсов для национального развития. Кандидатами в число государств с оптимальными стратегиями можно назвать несколько стран, находящихся в сложных геополитических условиях: Южная Корея, Финляндия, Узбекистан. Но каковы критерии качества стратегии?
Попробуем деконструировать само понятие стратегии. Классическое определение гласит, что стратегия – это способность правильно соотносить внешнеполитические цели с ресурсами. Но не менее важными составными частями ее являются и несколько других компонентов.
Во-первых, способность элит правильно выстраивать причинно-следственные связи в происходящем и формировать цели внешней политики, исходя из подлинных, а не мнимых потребностей развития. Другими словами, умение адекватно осознавать собственные потребности и не выдвигать ложных целей.
Во-вторых, стратегическая культура, которая выступает как своеобразная «кредитная история» использования силы в прошлом и является продуктом накопленного опыта великодержавной политики. Европейские страны с обширным опытом применения силы и ведения переговоров (всякая война неизбежно заканчивается миром) нередко более искусные стратеги, чем молодые государства с неопытной элитой, которая пускается во внешнеполитические эксперименты.
В-третьих, лидерство, являющееся продуктом воли и целеустремленности, готовности к жертвам. В мире, который становясь все более анархичным, остается сравнительно безопасным и сытым, готовность к жертвам – величина убывающая.
В-четвертых, эмпатия как способность построить конструктивную стратегию с учетом интересов всех вовлеченных сторон. Только комплексный подход, принимающий во внимание общий контекст и специфику других игроков, будет устойчив в долгосрочной перспективе.
Наконец, организационный ресурс, подразумевающий потенциал для внутренней мобилизации и навыки сосредоточения на ключевых задачах развития. Сытость и расслабленность препятствуют мобилизации и часто не позволяют даже богатым и состоятельным державам достигать целей.
Если разложить эти параметры и применить их к анализу ведущих государств, будет видно, что у каждого из них имеется существенный изъян, препятствующий реализации наиболее эффективной стратегии. Иногда он неустраним.
Так, у Китая, Саудовской Аравии, Индии, Японии есть проблема конвертации серьезного экономического и политического потенциала в пропорциональное влияние на международной арене. Несмотря на явные преимущества по ряду показателей (а в случае КНР – и по большинству из них), перечисленные державы испытывают трудности в достижении важных для них стратегических целей.
США и Европейский союз объединяет проблема самопоглощенности, зацикленности на внутренних обстоятельствах и идеологической ангажированности. Страны Запада взрастили самодовольные политические элиты, которые, уверившись в собственной абсолютной правоте и устав от стратегического мышления, взяли каникулы и часто принимают решения, мало связанные с подлинными национальными интересами. В Соединенных Штатах под воздействием острейшей внутренней поляризации стратегические линии, прежде незыблемые, размываются.
Для Ирана, Израиля, Кубы и Северной Кореи наиболее жгучей проблемой является внешнее давление. В большинстве случаев оно настолько велико, что оказывает определяющее влияние на формирование их идентичности. Если давление ослабнет или исчезнет, это повлечёт значительные последствия для внутриполитической жизни стран.
Бразилия, Мексика и Индонезия испытывают трудности с внутренней мобилизацией и концентрацией на решении принципиально важных задач. Неоднородность и глубокое расслоение населения не позволяет государствам сосредоточиться на достижении ключевых целей развития.
Наконец, Украину, Грузию, Палестину можно поставить в один ряд и отнести к группе стран, не сформулировавших целей развития и опирающихся на мнимые, а не на подлинные потребности. Трудно представить себе, как добиться успеха, если его условием объявляется крушение более сильного оппонента.
Россия представляет собой с точки зрения стратегии особенный случай. Ей (как и Турции) присуща проблема внутренней хрупкости, способная подкосить даже самую искусную внешнеполитическую стратегию. Однако в текущей международной ситуации у российских элит есть ряд преимуществ. Выработанный с опытом прагматизм (нередко на грани цинизма) позволяет лучше соотносить цели внешней политики с доступными ресурсами. Прагматизм сочетается с достаточным уровнем эмпатии, готовности учитывать интересы соперников. Именно по этой причине России удается быть эффективным диспетчером безопасности на Ближнем Востоке или строить комплексные отношения с Китаем. Правда, российская эмпатия не распространяется на США и многие страны Европы – причина кроется в концептуальной дистанции между отечественным реализмом и западным идеализмом.
У России имеется обширный исторический опыт применения силы и дипломатии, и это делает ее стратегическую культуру одной из наиболее плодотворных. Российские элиты обладают большим запасом решимости и умеют мобилизовывать ресурсы для достижения внешнеполитических целей. Вероятно, стратегия, вытекающая из этих качеств, лучше прочих работает в условиях осыпания международного порядка и возрастающей анархии.
У каждого из названных государств есть существенные проблемы по части стратегий. Правда, наиболее крупные из них обладают тем преимуществом, что могут позволить себе ошибаться. По крайней мере, куда чаще, чем малые страны, у которых ресурс прочности существенно меньше и всякая ошибка грозит стать фатальной. Но и небольшие страны бывают значимы для международной системы, если их стратегия учитывает слабые места и формирует цели развития, опирающиеся на подлинные национальные потребности.
С – Стратегическая стабильность
Дмитрий Суслов
Д.В. Суслов – заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики».
Понятие стратегической стабильности вошло в российский внешнеполитический вокабуляр на рубеже 1980-х – 1990-х гг. одновременно с появлением соответствующей концепции. При этом уже в 1990-е гг. выявились отличительные особенности именно российского подхода. После распада СССР поддержание стратегической стабильности стало для Москвы не только вопросом национальной и международной безопасности – предотвращения ядерной войны и гонки вооружений, но и поддержания международно-политического статуса великой державы.
В США в период холодной войны для концептуализации отношений с Советским Союзом в области ядерного оружия использовались понятия «кризисная стабильность», «стабильность первого ядерного удара» и «стабильность гонки вооружений». В Советском Союзе открытых теорий ядерного сдерживания до конца 1980-х гг. не было.
Концепция стратегической стабильности возникла, когда острая конфронтация холодной войны уже сошла на нет, но СССР и биполярная структура международной системы еще существовали, равно как и огромные ядерные запасы обеих сверхдержав. Эта концепция совмещает в себе «стабильность первого удара / кризисную стабильность» и «стабильность гонки вооружений» и при этом призвана подчеркнуть стремление сторон подходить к вопросам стратегического сдерживания позитивно, через сотрудничество.
Впервые понятие упоминается в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности[4], подписанном в 1987 году в Вашингтоне Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом. Затем оно получает развитие в «Совместном заявлении СССР и США относительно будущих переговоров по ядерным и космическим вооружениям и дальнейшему укреплению стратегической стабильности» (июнь 1990 г.). В этом документе говорится, что цель переговоров – «уменьшить опасность возникновения войны, особенно ядерной войны, обеспечить стратегическую стабильность, траспарентность и предсказуемость посредством дальнейших стабилизирующих сокращений стратегических арсеналов обеих стран. Это будет достигнуто путем поиска договоренностей, повышающих выживаемость, устраняющих стимулы для нанесения первого ядерного удара и воплощающих соответствующую взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными средствами».
То есть понятие «стратегическая стабильность» носило двусторонний российско-американский характер, касалось только стратегических ядерных вооружений и включало в себя как принципы развития ядерных арсеналов России и США, так и отношений двух стран.
Прежде всего, понятие «стратегическая стабильность», как и «стабильность первого удара / кризисная стабильность», означало поддержание такого состояния ядерных арсеналов двух стран и такого характера российско-американских отношений, при котором ни у одной из сторон нет стимула для нанесения первого удара. Это подразумевало, во-первых, наличие у обеих сторон надежного потенциала ответного удара, способного нанести неотвратимый неприемлемый ущерб, – то есть ситуацию взаимного ядерного сдерживания. Во-вторых, отсутствие у сторон вооружений, наиболее опасных с точки зрения ядерной эскалации. На тот период – систем ПРО и ракет средней и меньшей дальности, которые действительно могли бы создать соблазн нанести обезоруживающий (в случае с ПРО) или упреждающий (в случае с РСМД) удар. В-третьих, прозрачность и предсказуемость, что давало бы сторонам относительную уверенность в том, что угроза неожиданного ядерного удара минимальна и вторая сторона не стремится явным образом к стратегическому превосходству. Это обеспечивалось постоянным российско-американским диалогом по контролю над вооружениями, мониторингом и верификацией выполнения обязательств по ограничению и сокращению вооружений.
Общими для Москвы и Вашингтона целями укрепления стратегической стабильности (посредством двустороннего контроля над ядерными вооружениями и поддержания надежных потенциалов ответного удара) были уменьшение угрозы ядерной войны, ограничение гонки вооружений, постепенное сокращение ядерных вооружений в целом, а также укрепление двусторонних политических отношений.
Подобное понимание создало концептуальную основу для переговоров по Договору СНВ-1 (подписан в июле 1991 г.), а также установило тесную связь между понятиями «стратегическая стабильность» и «контроль над вооружениями». Мнение, что именно контроль над вооружениями является единственно надежным способом обеспечения стратегической стабильности, стало доминирующим. В дальнейшем эти понятия воспринимались как синонимы.
Однако распад СССР вскоре после подписания договора СНВ-1 и резкое сокращение международного веса России существенно скорректировали ее подход к концепции стратегической стабильности. Москва начала видеть в ней и в соответствующем взаимодействии с Вашингтоном способ обеспечения не только безопасности, но и статуса великой державы.
Это выразилось, прежде всего, в приверженности России приблизительному количественному паритету с Америкой в области стратегических ядерных сил (СЯС) и ситуации взаимного гарантированного уничтожения (ВГУ) в варианте «зрелого» периода холодной войны – несмотря на прекращение холодной войны и резко изменившееся положение России и США в мире. Изначальная концепция стратегической стабильности не настаивает на паритете и способности сторон стереть друг друга с лица Земли. В ней речь идет о сдерживании, понимаемом как сохранение потенциала для неотвратимого ответного удара с заведомо неприемлемым для агрессора ущербом, что отнюдь не обязательно обеспечивается паритетом. В отношениях Вашингтона и Пекина, например, сдерживание не имеет какого-либо намека на паритет (так называемое «минимальное сдерживание»).
Россия же на протяжении 1990-х и 2000-х гг. последовательно рассматривала любые отклонения от паритета и ВГУ как угрозу стратегической стабильности и собственной военной безопасности. Даже в период наибольших финансово-экономических трудностей 1990-х гг. Москва строго следила за тем, чтобы ее арсенал СЯС был приблизительно равен американскому и чтобы все последующие российско-американские договоры об ограничении и сокращении стратегических ядерных вооружений носили паритетный характер и не допускали приобретения одной из сторон количественного превосходства.
Также Россия жестко критиковала стремление Соединенных Штатов создать ограниченную систему стратегической ПРО. Именно фактор ПРО похоронил Договор СНВ-2. Сразу после одностороннего выхода Вашингтона из Договора по ПРО 1972 г. (и выхода России из ДСНВ-2) Москва начала создавать вооружения, способные преодолевать любые перспективные системы противоракетной обороны, включая новейшие тяжелые жидкостные МБР и гиперзвуковые носители ядерного оружия.
Разумеется, изначальное понимание стратегической стабильности тоже рассматривало системы ПРО как дестабилизирующие, указывая на «взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными средствами». Однако даже в российском, не говоря уже об американском, экспертном сообществе преобладает мнение, что никакие системы ПРО, которые США гипотетически могут создать в обозримой перспективе и тем более те, что создавались администрациями Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы и Дональда Трампа, не способны поколебать российский потенциал ответного удара. Более того, наличие продвинутой системы предупреждения о ракетном нападении означает, что на практике речь в случае ядерной войны будет идти не об ответном, а об ответно-встречном ударе, минимизировать который средствами ПРО физически невозможно.
Причина жесткого подхода России в том, что она воспринимала создание Соединенными Штатами системы ПРО не только как фактор ослабления сдерживания, а как угрозу для стратегического паритета и ВГУ в классическом смысле.
Еще один пример приверженности России паритету и ВГУ – нежелание идти на дальнейшие сокращения СЯС после ДСНВ-3, как указывалось в официальной позиции, «без учета всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность». Действительно, к началу 2010-х гг. США продвинулись существенно дальше России в области ПРО и высокоточных вооружений в неядерном оснащении, и эти системы стали рассматриваться как ослабляющие стратегическое сдерживание. Заговорили о «стирании грани» между ядерными и высокоточными обычными вооружениями в части их способности наносить обезоруживающий удар. Соответственно, Россия стала требовать их ограничения как условия дальнейшего сокращения СЯС.
Опять-таки на уровне теории российский подход полностью соответствует первоначальному пониманию стратстабильности. Однако на практике способность высокоточных неядерных вооружений вывести из строя значительную часть СЯС невелика, особенно в реалиях начала 2010-х годов. Россия стремилась не столько сохранить сдерживание как таковое, сколько предотвратить общий военный дисбаланс с США по мере их прогресса в области неядерных вооружений.
Наконец, доказательством приверженности России ВГУ и ее стремлению не допустить общий военный дисбаланс с Соединенными Штатами и НАТО служит повышение значимости ядерного оружия в ее военной доктрине после распада СССР. Это выразилось в отказе от советского принципа неприменения ядерного оружия первым (нынешняя ядерная доктрина РФ предполагает готовность применить ядерное оружие в ответ на неядерное нападение «в случае угрозы самому существованию государства») и в повышении значимости тактического ядерного оружия (ТЯО), которое стало рассматриваться как способ компенсировать превосходство НАТО в области неядерных средств. В связи с этим Москва жестко выступает против попыток Вашингтона включить ТЯО в контроль над вооружениями и установить для него какие-либо ограничивающие лимиты и правила.
Главная причина приверженности России стратегическому ядерному паритету и ВГУ – политическая. После распада СССР только в этих областях у Москвы сохранялось равенство с США и значительное превосходство над всеми другими центрами силы, включая Китай, а потому они стали важнейшими индикаторами статуса России как великой державы. Указание на особую ответственность России и Соединенных Штатов как стран, у которых свыше 90% мирового ядерного арсенала, за глобальную безопасность – одна из излюбленных тем внешнеполитической риторики Москвы.
Восприятие Россией статуса ядерной сверхдержавы как чуть ли не несущей опоры ее великодержавности предопределило и ее отношение к контролю над вооружениями. Москва воспринимала его не только как механизм уменьшения угрозы ядерной войны и ограничения гонки вооружений, но и как важнейший способ подчеркивать и институционализировать свой статус уникального партнера США по управлению стратегической стабильностью, державы, на которую возложена великая миссия обеспечивать мир и безопасность на всей планете.
Это выражалось, во-первых, в стремлении России сохранять процесс и континуум российско-американского контроля над вооружениями, не допускать периодов отсутствия действия договоров по типу СНВ-1 вопреки периодическим попыткам США положить этому процессу конец. Так, после одностороннего выхода Вашингтона из Договора по ПРО и гибели ДСНВ-2 Москва приложила немалые усилия, убеждая администрацию Буша-младшего, утверждавшую, что контроль над вооружениями потерял актуальность, все же не допускать его полного развала. Результатом стал Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов, который, хотя и казался легковесным по сравнению с Договорами СНВ-1, СНВ-2, все же был юридически обязывающим документом, сохранявшим формат двустороннего сотрудничества России и США по контролю над вооружениями. Аналогичные усилия Москва предпринимает сегодня, пытаясь убедить администрацию Трампа продлить ДСНВ-3.
Во-вторых, торжественное подписание «больших» договоров с американцами часто рассматривалось как признание лично президента России мировым лидером. Своего рода международная легитимация. Во многом именно соображения статуса толкали Москву к тому, чтобы подписать с США Договор СНВ-2 ещё до вступления в силу Договора СНВ-1: Борису Ельцину хотелось выглядеть не менее значимым мировым лидером, чем был подписавший ДСНВ-1 Михаил Горбачёв.
В-третьих, Россия болезненно реагирует на нынешние призывы администрации Трампа лишить ее статуса эксклюзивного партнера США по вопросам стратегической стабильности и включить в переговоры по контролю над вооружениями Китай. Негативное отношение к этой идее связано не только с невозможностью ее воплощения в жизнь в силу нежелания Пекина участвовать в подобном процессе, пока Москва и Вашингтон не понизят свои ядерные арсеналы до его уровня, и не только с тем, что оно в целом выглядит как попытка найти оправдание для непродления двустороннего российско-американского ДСНВ-3 на новый срок. Подключение Китая ликвидирует последнюю область мировой политики, в которой Москва заведомо важнее и влиятельнее Пекина. Вот почему Россия продолжает уговаривать администрацию Трампа все же продлить действие ДСНВ-3 до 2026 г. и использовать этот период для выработки новых или коррекции прежних подходов к поддержанию стратегической стабильности.
В последнее время в мире происходят настолько серьезные изменения, что и российский подход к стратегической стабильности, характерный для периода после распада СССР, и ее понимание образца 1990 г. стремительно устаревают. Приобретение неядерными вооружениями стратегических свойств и стирание грани между войной и миром в корне меняют содержание угрозы ядерной войны: сегодня ее начало гораздо более вероятно вследствие эскалации неядерного конфликта, нежели неожиданного ядерного нападения. Стремительная диверсификация средств нанесения стратегического ущерба, которые сегодня включают в себя в том числе киберсредства, меняют природу гонки вооружений и делают продолжение традиционного процесса ограничения и сокращения СЯС нереализуемым технически и бессмысленным с военной точки зрения.
Все это разрывает казавшуюся в 1990 г. незыблемой связь между стратегической стабильностью и контролем над вооружениями в виде системы соглашений и режимов по сокращению и ограничению СЯС. Последние уже не в силах гарантированно свести угрозу ядерной войны к минимуму. Они также перестают оказывать решающее влияние на гонку вооружений. Она ведется в других средах, ставших стратегическими. Гонка же ядерных вооружений теряет военный смысл в условиях появления гиперзвуковых носителей, позволяющих нанести агрессору неприемлемый ущерб при любом количественном уровне его СЯС и ПРО. Да и сами эти договоры последовательно отмирают.
Диверсификация стратегических вооружений делает поддержание количественного паритета с Соединенными Штатами по СЯС невозможным и еще более бессмысленным с точки зрения сдерживания. Даже новейшие российские гиперзвуковые системы – шаг в сторону от паритета и возможность отказаться от него на политико-доктринальном уровне.
Конфронтация США с Китаем, которая имеет все шансы стать главной темой международных отношений ближайших десятилетий, вкупе с совершенствованием стратегических сил КНР ставят крест на двусторонней российско-американской природе стратегической стабильности. Экономические и технологические ресурсы Китая позволяют ему совершить в случае необходимости рывок и выйти на уровни СЯС России и Соединенных Штатов к 2030-м годам. Уже сейчас Россия, как заявил в октябре 2019 г. Владимир Путин, содействует модернизации китайской СПРН, укрепляя тем самым ситуацию ВГУ между США и Китаем.
С – Суверенитет
Александр Филиппов
Понятие «суверенитет» – несомненно, одно из ключевых для российского политического, в том числе внешнеполитического, нарратива.
«Суверенитет» является, прежде всего, формулой политической риторики, то есть публичной речи, опознаваемой как политическая. Риторика суверенитета может иметь вид описания фактического положения дел, однако по сути это всегда послание о должном и недолжном. Упоминание о суверенитете есть способ напомнить о нем, утвердить требование, указать на возможность утраты и необходимость восстановления.
Смысл слова «суверенитет» ясен: это высшая власть. Поэтому суверенен в государстве тот, за кем, хотя бы на словах, она признается. В международных отношениях суверенитет есть признание, опять же – хотя бы на словах, независимости внутренней суверенной власти от внешних политических сил, от других государств, а еще более точно – независимость внутренних суверенов одних государств от внутренних суверенов других. Утверждение «такая-то страна есть суверенное государство» означает, что верховная власть в этой стране принимает решения, которые не продиктованы верховной властью других стран.
Но здесь-то и начинаются проблемы. Международное право и международные организации могут быть проблемой для тех, кто принимает суверенные решения, а внутренний суверенитет может быть проблемой для международного права и международных организаций. Способы постановки проблемы и ее решения меняются с годами, и если в 2000-е гг. и немного позже мы часто слышали, что время классического суверенитета ушло[5], что само понятие может считаться чуть ли не устаревшим, то в середине и ближе к концу 2010-х гг. ситуация изменилась. «Для нас суверенитет означает контроль над своим правительством. Таким образом, те, кто предлагает “разделить” или “объединить” американский суверенитет с международными организациями, чтобы вместе справляться с “глобальными” проблемами, говорят в реальности вот что: мы должны уступить часть нашего суверенитета институтам, которые будут находиться под влиянием или даже контролем также и других наций. Это, несомненно, формула уменьшения автономии США и нашего контроля над своим правительством»[6], – писал в начале десятилетия Джон Болтон. Болтон был последователен. Он атаковал не только Барака Обаму, левых университетских интеллектуалов и глобалистов, глобальное управление во всех его видах, но и саму идею международного права, проницательно, как оказалось впоследствии, указывая на то, что вопрос о роли и границах международного права и суверенитета станет ключевым в дискуссиях ближайших лет[7].
Действительно, чуть ли не наугад выбранное в источниках 2016 г. суждение в пользу Дональда Трампа кажется просто продолжением предыдущего: «Как следует нами править – посредством ли американского конституционализма или международного права? Должно ли правление быть укоренено в американском суверенитете или в глобальном управлении? … Есть ли право у американского народа сохранять и продолжить свой образ жизни или нет? Есть ли у американцев право быть законодателями самим себе или важнейшие решения будут принимать за них другие (например, иностранные судьи)?».[8]
Эти вопросы имеют риторический характер, все «да» и «нет» уже известны заранее. Однако такова риторика суверенитета! Несмотря на все значение этой позиции для Америки и Америки для всего мира, в самой сути этих формулировок нет ничего специфически американского, как нет ничего специфически американского в том более общем движении, которое эти формулировки иллюстрируют и которое, как мы видим, набирает силу в последние годы. Суверенитет видится в этой перспективе как род очевидности, безусловного блага. Мы должны рассмотреть эту очевидность, не останавливаясь на исследовании истории и множества источников, которые часто противоречат друг другу, хотя бы потому, что побеждающее в наши дни понимание суверенитета, в общем, достаточно простое и достаточно старое, словно бы выносящее за скобки всю интеллектуальную работу, которая совершается по сей день.
Что собой представляет это понятие? Прежде всего, оно предполагает, что суверенитет имеет отчетливо территориальный характер. Это далеко не очевидно по отношению ко всей вообще высшей власти, но имеет принципиальное значение в современном мире. Суверенная территория, то есть территория, на которую распространяется власть и на которой действуют законы, и является интуитивной очевидностью, опорой для политиков и политических публицистов. «Суверенитет – это территориальное определение политической власти. Территориальность стала принципом основания суверенной государственности в период раннего модерна и остается такой до сих пор»[9]. Территория, в принципе, может быть огорожена. Вокруг нее можно поставить забор, опутать колючей проволокой, закрыть небо над ней при помощи разного оружия… То же касается и людей: люди находятся на территории, и в понятие территориального государства недаром включено понятие физической силы, насилия, направленного на тело, которое находится в пределах досягаемости и, в целях реализации суверенной власти, может быть ограничено в перемещениях, подвергнуто чувствительному наказанию или, наоборот, снабжено пищей, теплом и средствами передвижения. Не в наказании и не в поощрении и поддержке как таковых состоит дело. Дело именно в живом теле. Из тел состоит население, народ, граждане, которые в большинстве современных стран объявлены носителями суверенитета, неотчуждаемым истоком власти.
Таким образом, суверенитет, как мы видим, без сомнения распространяется на людей в их телесности, поскольку они находятся на принципиально огораживаемой территории. Он распространяется на них, как на вещи, поскольку они доступны прямому физическому воздействию. Суверенитет также распространяется и на неодушевленные предметы, про которые можно сказать, например, что они находятся в собственности государства и под его контролем, а также на те нормы, в соответствии с которыми это воздействие на тела и предметы могло бы совершаться. Народ, что кажется вполне очевидным, располагается, как правило, на территории, является солидарным сообществом, которое определяет самое себя. Такова идея народного суверенитета, в ней так или иначе зашита идея «политического тела», как бы это ни называлось.
Конечно, это метафора, но иногда метафоры, употребляемые как бы полусознательно, без дополнительной работы над ними, начинают словно бы мыслить за нас, вместо нас. Полезно бывает вернуться к истокам собственной мысли, чтобы проверить, не связана ли с ней такая подспудная работа метафоры. В данном случае без метафоры тела все очевидности, все традиционные интуиции суверенитета кажутся бессмысленными.
Но чем больше мы отходим от этой, говоря языком философии, непосредственной телесности, тем сложнее говорить о суверенитете. Вся критика суверенитета так или иначе связана с оспариванием его основной метафоры и связанных с нею понятий. Здесь важно провести различия.
Один из самых распространенных способов борьбы против суверенитета государства связан не с отказом от метафорики политического тела как таковой, а с ее переинтерпретацией. Сначала связь государства и политического тела народа должна быть поставлена под сомнение. «Население», если оно очевидным образом разнородно, а территория, на которой оно находится, велика, риторически перестает считаться народом, за этим народом больше нет очевидности коллективного тела, зато она есть за другими, как правило, меньшими группами, однородность которых подтверждается языком, религией, подлинным или вымышленным общим происхождением и тому подобным. Логика сопряжения народа и территории, логика суверенитета сохраняется, но переносится на меньшие образования.
Иной случай – это сохранение ставки на телесность, но уже не коллективную, а индивидуальную. Отказ от метафорики политического тела и акцент на то, что самым подлинным, интуитивно неоспоримым, достоверным является индивид как живое смертное существо, приводит к идее естественных прав индивида, от имени которых можно оценивать, ставить под сомнение, оспаривать права любой общности, прежде всего, конечно, традиционного суверенного государства. Современное международное право, строго говоря, уже ставит права личности выше прав политической общности. Защита прав человека образует ядро международного права, в котором далеко не всегда удается находить баланс между уважением к правам человека и соблюдением принципа суверенитета. Однако критики суверенитета последовательны, они идут еще дальше, усматривая в перспективе «глобальный легальный порядок» всего человечества[10].
Наконец, третье направление – это радикальная детерриториализация социального.
Современные средства коммуникации уничтожают расстояния. Еще в самом начале XX века Георг Зиммель проницательно замечал, что деньги побеждают пространство. Если у вас есть деньги, недоступные прежде товары окажутся у вас, а события в мире денег подействуют одно на другое, даже если биржи, например, сильно отдалены друг от друга.
С введением электронных средств коммуникации не только в экономическую, но и в повседневную жизнь указание на уменьшение роли традиционно понимаемого физического пространства стало общим местом. Идеи, культурные образцы (например, образовательные системы, способы подачи новостей и многое другое) преодолевают государственные границы, не будучи телами, то есть, строго говоря, не преодолевают их, а существуют помимо них, в другом измерении. Новые пространственные образования вроде «мировых городов» иначе организуют территории, становятся узлами мировой системы коммуникаций, которые находятся, с одной стороны, в теле государств, а с другой – на совершенно особом, автономном положении.
Международные организации и международно-правовые регуляции, ими производимые, безусловно, требуют реализации на территориях. Отсюда, собственно, известная концепция «R2P» (Responsibility to Protect), которая широко обсуждалась международными юристами в начале 2000-х гг. Данная концепция «берет за отправную точку человеческие потребности и перемещает фокус с прав государства на обязанности государства (и его ответственность)», трансформируя тем самым понятие суверенитета[11].
Во всех этих случаях более традиционно понимаемый суверенитет размывается, находится под угрозой, кажется, ему грозит если и не исчезновение, то еще более существенное, чем прежде, ограничение. Но все ли чисто в этих аргументах? С одной стороны, мы видим, что пространство, тело и суверенитет действительно не могут быть сохранены в привычных форматах. Но с чем же тогда связаны успехи тех движений, которые в буквальном смысле слова могут быть названы реакционными, то есть являются реакциями на далеко зашедшие процессы глобализации и детерриториализации политики.
Возможно, вопрос о суверенитете должен быть действительно поставлен по-новому. Вот несколько оснований. Во-первых, его нужно радикально отделить от идеи коллективного тела, у которого есть некая особая, привилегированная естественность по сравнению с другими коллективными образованиями. Дело не в том, что государство не имеет здесь преференций, а в том, что в современном мире оно проиграет эту войну риторик другим поднимающимся общностям с их притязаниями. Радикальный отказ от этой риторики не подрывает государство, он подрывает притязания его соперников.
Во-вторых, государства должны перепроверить то, что может и что не может находиться в зоне их ответственности. Притязать на права там, где не способен проявить ответственность, – не лучшая тактика и худшая стратегия.
[3] Пустогаров В. В. Ф. Ф. Мартенс – юрист, дипломат. – М.: Международные отношения, 1999. С.150-153.
[4] http://docs.cntd.ru/document/1902104
[5] Разумеется, это не было всеобщим мнением. Так, знаменитый социолог Майкл Манн писал еще в начале 90-х гг. прошлого века: «Государство-нация отнюдь не находится в состоянии общего упадка. Некоторым образом оно все еще созревает. … Современное государство-нация остается уникально интенсивной концепцией суверенитета» (Mann, Michael. Nation-states in Europe and other continents // Daedalus, 1993. Vol. 122, no 3, p. 118.). [“The nation-state is thus not in any general decline, anywhere. In some ways, it is still maturing. … The modern nation-state remains a uniquely intense conception of sovereignty”]
[6] Bolton, John R. How Barack Obama is Endangering our National Sovereignty. Encouter Broadsides, 2010. Kindle Edition. Loc. 21 ff.
[7] См.: Ibid. : Loc. 161.
[8] Fonte, John & O’Sullivan, The Return of American Nationalism // https://www.hudson.org/research/13039-the-return-of-american-nationalism.
[9] Jackson, Robert. Sovereignty: Evolution of an Idea. Cambridge, UK: Polity, 2007. P. 104.
[10] См., например: Domingo, Rafael. The New Global Law. N.Y. etc.: Cambrige University Press, 2010. «Подобно семье человечество представляет собой естественную сущность, а не только культурную», – пишет автор, практически полностью растворяющий государство в длинном перечне сообществ между семьей и человечеством (P. 117). [Like a family, humanity is a natural entity, not just cultural.]
[11] См.: Klabbers, J., Peters, A. and Ulfstein, G. The Constitutionalization of International Law, The Constitutionalization of International Law. Oxford: Oxford University Press. 2010. P. 184.
Строительство новой столицы Египта на 20% финансируют иностранцы
Жильё в новом городе будет слишком дорогим для тех, кто должен там работать.
Что случилось? В Египте полным ходом идёт строительство новой столицы, сообщает ZDNet. Город площадью более 700 кв км возводится к востоку от Каира, между Нилом и Суэцким каналом. По планам, министерства переедут уже в этом году. Тем не менее, новый город пока не получил даже официального названия.
Что там будет?
-комплекс правительственных учреждений и дипломатический квартал,
-крупнейший аэропорт Египта,
-самая высокая башня в Африке,
-крупнейший оперный театр на Ближнем Востоке,
-развлекательный район стоимостью $20 млрд
-гигантский городской парк, по площади превышающий Центральный парк в Нью-Йорке.
И всё это будет построено в пустыне.
Причины. Официально говорится о том, что нынешняя столица, Каир, перенаселена. Ожидается, что к 2050 году его население удвоится и составит 40 млн чел. Кроме того, город входит в лидеры по загрязнённости воздуха. Однако многие эксперты считают истинной причиной желание президента Ал-Сиси оставить память о себе.
Умный город. Новая столица видится аванпостом прогресса и идеальной средой для бизнеса. Там будут присутствовать все атрибуты умного города, такие как автоматический контроль трафика и предотвращение аварий, умные здания, оптимизация коммунальных расходов, а также управление энергопотреблением с акцентом на возобновляемую энергию. В частности, будет построена «солнечная ферма» площадью 90 кв км. Кроме того, новую административную столицу хотят сделать первым безналичным городом в стране.
Финансы. Прогнозируемые затраты колеблются от $45 до 58 млрд. Критики считают, что эти деньги были бы с бОльшим смыслом потрачены на решение существующих в стране проблем, таких как быстрая инфляция, безработица, спад в туризме и неразвитая инфраструктура. Кроме того, правительство Египта не в состоянии профинансировать проект из бюджета.
Цитата. «Нам нужно очень обширное финансирование, – рассказывает Ахмед Заки Абдин, генерал в отставке, возглавляющий компанию-застройщика нового города. – И у государства нет денег, чтобы дать их мне». В результате на сегодняшний день около 20% инвестиций поступило из-за рубежа.
По словам Абдина, Китай выделил до $4,5 млрд на покрытие расходов, также государственная китайская строительная компания обучает 10 000 египетских строителей. Как отметил Мэтт Уокер из MTN Consulting в статье для Daily News Egypt, значительная часть вклада Китая – это кредиты, а «китайские банки дают средства только для покупки китайского оборудования».
Проблемы. Строительство в пустыне сопряжено с другими проблемами. Самая очевидная из них – город будет потреблять около 650 000 кубометров воды в день из скудных ресурсов Северной Африки. Кроме того, он будет слишком дорогим для тех, кто, как предполагается, будет там работать. Сюда планируется переселить более 6,5 млн чел, большинство из них - государственные служащие. Как пишет The Economist, они зарабатывают в среднем $70 в неделю, а, по данным министерства жилищного строительства, цены на квартиры будут превышать $700 за квадрат.
Автор: Ксения Ватник
Программы развития заповедного волонтерства представлены на фестивале «Первозданная Россия»
Сегодня, 29 января, в Гостином дворе на площадке фестиваля «Первозданная Россия» прошел тематический «День волонтера», организованный Росзаповедцентром Министерства природных ресурсов и экологии РФ при участии Ассоциации волонтёрских центров России.
«В последние годы волонтерство на заповедных территориях активно развивается, демонстрируя устойчивый интерес различных групп населения нашей страны к всесторонней помощи заповедному делу. Радует, что результаты работы добровольцев оцениваются не только в количественных показателях – ежегодном увеличении численности волонтёров на ООПТ и количестве проведенных работ, но и в качественном отношении – разнообразии форм и видов добровольчества, появлении стабильно функционирующих сообществ волонтеров, а также формировании общественной поддержки», – подчеркнула значимость направления деятельности начальник отдела экологического просвещения Росзаповедцентра Минприроды России Вероника Лещинская.
Высокий интерес у посетителей выставки вызвала информация о волонтерских программах национального парка «Лосиный остров» (г.Москва, Московская область). Методист ООПТ Ольга Коценко рассказала гостям фестиваля о системе нематериального поощрения волонтёров, специальных экскурсионных программах для добровольцев и международной волонтерской помощи. Так, в 2019 г. на территории нацпарка был реализован проeкт «Global Volunteer» международной молодежной организации AIESEC. Участие в нем приняли студенты из Алжира, Египта, Италии, Индии, Китая, Польши, Турции и многих других стран. Всего в 2019 году в экологических акциях ООПТ приняли участие 5 тыс. человек.
Методист национального парка «Красноярские столбы» (Красноярский край) Светлана Юшкова представила проект о волонтерском проекте по раздельному сбору отходов, ежегодном проекте «Заповедный десант», а также о партнерском взаимодействии с коммерческими организациями в рамках развития корпоративного волонтерства. В частности, в добровольческих проектах нацпарка принимают участие компании РЖД, РУСАЛ, DHL и другие.
Востребованность информации о реализуемых на ООПТ волонтерских проектах говорит об устойчивом интересе граждан к задачам охраны природы, а также возрастающем уровне экологической культуры граждан нашей страны. Все эти направления в полной мере соответствуют целям и задачам нацпроекта «Экология».
Фестиваль «Первозданная Россия» в Гостином дворе проходит до 16 февраля. Следите за анонсами мероприятий на нашем сайте и на официальной странице Минприроды России в социальной сети Фейсбук.

Наталья Бахова: «Когда экспортеры выходят на новые для них рынки, они боятся не получить выручку от иностранного контрагента»
По ее словам, российским компаниям сложно самостоятельно проанализировать потенциальных покупателей за рубежом
Начальник управления продаж и развития продуктов документарного и международного бизнеса Московского кредитного банка в интервью BFM.ru рассказала о том, чем России помогла санкционная политика США, как российские экспортеры осваивают новые для себя рынки и с какими рисками они могут столкнуться.
По данным Минэкономразвития, санкционная политика США помогла России нарастить экспорт нефти. Даже поставки российской нефти непосредственно в США выросли втрое. Российский экспорт продукции АПК увеличился с 2000 года в 20 раз. Вот такими приятными заголовками сегодня пестрят российские СМИ. Понятно, что в плане США это все — эффект базы. То есть мы изначально туда не очень много поставляли, но вообще в целом все ли так хорошо с российским экспортом?
Наталья Бахова: По данным Федеральной таможенной службы за январь и ноябрь прошлого года, поставки сырой нефти выросли в районе 3,8%. Положительную роль сыграли санкции против Ирана и Венесуэлы. Российские экспортеры увеличили свои погрузки в Турцию и США. К примеру, в Турцию за предыдущий год экспорт январь — ноябрь составлял 1,7 млн тонн, при этом в 2019 году он составил 7,5 млн тонн. Мы также увеличили экспорт нефти в Китай — это наш основной покупатель. Хотела бы заметить, что в целом топливно-энергетический экспорт России, который включает не только нефть, но и газ, сжиженный газ, нефтепродукты, — он снизился. Снижение с января по ноябрь составило около 9%. В 2019 году произошло снижение экспорта в сравнении с 2018 годом около 7%. Все это за счет конъюнктуры рынка, за счет снижения цен на нефть, за счет уменьшения экспорта зерна. Сейчас государство нацелено на уменьшение доли экспорта зерна и на увеличение доли экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. В текущий момент государство стимулирует экспорт масляничной продукции, масложировой продукции, мы экспортируем рыбу. И на текущий момент планируем это увеличивать.
Для того чтобы этого добиться, у государства есть программа поддержки, которую оно оказывает российскому экспорту. И эти программы, наверное, тоже видоизменяются.
Наталья Бахова: Программы поддержки соответствуют тем отраслям, которые государство стимулирует с точки зрения экспорта. Согласно 620-му постановлению 2017 года, банки могли предоставлять кредиты зернотрейдерам и финансировать их по субсидируемой ставке. По новым постановлениям мы не имеем возможности финансировать зернотрейдеров. При этом мы можем финансировать отрасли растениеводства, животноводства, масла, шоколада, хлеба, кондитерской продукции. Во всяком случае, новое постановление поддерживает именно продукцию с высокой добавочной стоимостью.
Расскажите, пожалуйста, о самой главной боли российских экспортеров на сегодняшний день. Чего боится бизнес, выходя на экспортные рынки?
Наталья Бахова: Когда экспортеры выходят на новые для них рынки, им нужно оценить все риски от этой сделки. Они боятся не получить выручку от иностранного контрагента, так как им, со своей стороны, тяжело проанализировать незнакомого покупателя. У наших экспортеров много конкурентов, потому что не только российские компании выходят на новые рынки со своим продуктом: также присутствуют игроки и с китайской стороны, и из Европы. Нашим экспортерам необходимо предоставить конкурентоспособный продукт, который будет включать в себя форму финансирования для иностранного покупателя.
Какие банковские продукты сейчас пользуются наибольшим спросом у российских экспортеров? Приведите, пожалуйста, несколько примеров знаковых для вас сделок.
Наталья Бахова: У нас есть ряд сделок, которые мы реализуем и реализовали. Например, в 2019 году — безрегрессный экспортный факторинг в Белоруссию. Покупателем выступил крупнейший ретейлер — «Евроторг». Мы установили лимит на эту кампанию и в рамках этого лимита предоставляем финансирование в рамках факторинга российским экспортерам. Недавно мы реализовали продукт, а именно дисконтирование экспортного аккредитива. Наш крупный машиностроитель отгружал технику в Казахстан, и без нашего инструмента российский экспортер использовал предоплатную форму расчетов от иностранного покупателя. С помощью дисконтирования аккредитива российский экспортер начал предоставлять строчку платежа своему дилеру в Казахстане, и мы этот аккредитив дисконтировали. Если зернотрейдер отгружает товар в Саудовскую Аравию либо в Египет, то там покупателями выступают государственные компании и наши зернотрейдеры должны участвовать в тендерах. Следовательно, они нуждаются в выпуске тендерной гарантии. При этом иностранные покупатели — государственные компании просят, чтобы гарантии были выпущены локальными банками. То есть должна быть, например, выпущена гарантия от египетского банка. В рамках нашей гарантии египетские банки выпускают уже гарантию на конечного покупателя.
Новый премьер Мишустин утвердил стратегию развития электронной промышленности России на период до 2030 года. Объем экспорта должен вырасти почти в три раза: до 12 млрд 200 млн долларов. Что мы можем продавать в этом сегменте?
Наталья Бахова: На текущий момент отрасль электроники не развита, то есть мы не видим на полках гаджеты российского происхождения. Согласно новой стратегии, государство планирует поддерживать эту отрасль с помощью экономического стимулирования и развития кадров. Мы, если говорить про Московский кредитный банк, работаем с этой отраслью. Наши клиенты в основном — это импортеры, которым мы предоставляем различные продукты. Как это происходит: российский импортер размещает заказ на китайской фабрике, и ему для этого нужно выпустить аккредитив — гарантийную функцию. Московский кредитный банк предоставляет опцию постфинансирования в отличной от аккредитива валюте. Что это значит: рынок сбыта у нашего клиента фактически — это Россия. У него вся выручка в рублях. При этом он продает ту продукцию, которую покупает в долларах. Следовательно, если ему предоставлять аккредитив в долларах с постфинансированием в долларах, то это неинтересно: он несет валютные риски. На любом этапе постфинансирования мы имеем возможность перевернуть задолженность одной валюты в другую. В общем-то, мы очень гибкий банк в этом направлении, клиентам это нравится, они с нами работают по аккредитивам. И гарантии также пользуются популярностью. Здесь есть такое новшество, когда у клиента, например, не одно юридическое лицо, а несколько, и ему неинтересно заключать соглашение по гарантии со всем рядом своих компаний, которые могут импортировать. Мы предоставляем опцию мультипринципального соглашения, когда у нас соглашение по гарантиям заключается с одним клиентом. И этот клиент нам дает гарантию за любых принципалов в рамках этого соглашения, и мы от лица любых принципалов, входящих в группу третьих лиц, выпускаем гарантии, когда клиенту это необходимо. Тоже достаточно оперативно получается, гибко и удобно.
Что касается планов на 2020 год. Насколько они оптимистичны?
Наталья Бахова: Планы такие, чтобы развивалась российская составляющая на международных рынках.
Арабо-Африканский международный инвестиционный форум
C 6 по 8 апреля 2020 года в г. Джидда, Саудовская Аравия, пройдет Арабо-Африканский
международный инвестиционный форум, в контексте углубления Арабо-Африкансих
экономических связей и взаимоотношений, достижения целей экономической интеграции и
поддержки целей КСА в достижении экономического процветания. Форум проводится при
поддержке ТПП Джидды и Министерством КСА по конгрессно-выставочной деятельности,
Африканского союза по двусторонней торговле и под патронажем Инвестиционного агентства
Египта.
Первый день форума будет посвящен церемонии открытия и проведению конференции,
состоящей из 5 частей, на которой ожидаются официальные лица из ряда арабских и
африканских стран. Параллельно с форумом свои двери откроет выставка, на которой
компании смогут ознакомиться с инвестиционными возможностями в арабских и африканских
государствах.
Форум будет способствовать созданию большой платформы, которая продемонстрирует
инвестиционные возможности в разных отраслях и послужит площадкой для коммуникации
между предпринимателями с африканского континента и остального мира.
Основные цели форума:
- Создание экосистемы для развития и роста инвестиций, промышленности и межотраслевой
торговли в регионе Ближнего Востока и Северной Африки
- Выработка мер по комплексному развитию региона персидского залива.
- Познакомить посетителей с товарами из африканских и арабских стран
- Обмен коммерческой, логистической информацией между африканскими и арабскими
странами
- Создание площадки для взаимодействия молодых предпринимателей из Африка и стран
залива
Больше информации по ссылке: http://aaiif.com
Ливия, которую мы все еще не потеряли
Перспективы урегулирования ситуации в Ливии, какими бы отдаленными они ни выглядели на сегодняшний день, позволяют надеяться, что эта страна восстановит свое некогда солидное место в клубе нефтедобывающих государств. Именно на этот вариант развития событий рассчитывают российские нефтяные компании, начиная высокорискованные ливийские проекты. Но если преодолеть внутренние конфликты и восстановить целостность государства в Ливии не удастся, то мировой рынок нефти, как бы цинично это ни звучало, практически не ощутит эту утрату: влияние событий в Ливии на конъюнктуру нефтяных цен уже давно минимально.
Обещаем обещать
Конференция по мирному урегулированию конфликта в Ливии, состоявшаяся 19 января в Берлине, и предшествующие ей переговоры в Москве предсказуемо закончились ничем. Две стороны противостояния — контролирующее столицу Триполи Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем и закрепившаяся на нефтедобывающем востоке страны Палата представителей Ливии (ППЛ), ключевой фигурой которой является главнокомандующий ее вооруженными силами Халифа Хафтар, — так и не смогли найти компромисс. Московские переговоры были фактически сорваны после того как их покинул Хафтар, отказавшийся подписать соглашение о ПНС, не удалось организовать прямые переговоры между оппонентами и в Берлине.
Основным итогом берлинской конференции стало принятие обращения ее участников — России, США, Великобритании, Франции, Германии, Китая и ряда других стран — к сторонам конфликта, выдержанное в духе формулировки «за все хорошее и против всего плохого». В частности, прозвучало заявление о необходимости гарантировать безопасность нефтяных объектов и воздержаться от любых враждебных действий в отношении нефтяной инфраструктуры страны, а единственной независимой и законной нефтяной компанией Ливии была в очередной раз названа Национальная нефтяная корпорация (NOC), что уже было проговорено в резолюциях Совета безопасности ООН в 2015 и 2018 годах.
Эти благие пожелания прозвучали на фоне очередного обострения ситуации вокруг ливийской нефти. 18 января, за день до берлинского саммита, ливийская NOC объявила о ситуации форс-мажора после того как командование возглавляемой Хафтаром Ливийской национальной армии (ЛНА) приказало прекратить отгрузку нефти и закрыть порты побережья залива Сирт — Рас-Лануф, Эс-Сидру, Марса-эль-Брегу, Эль-Харигу и Эз-Зувайтину. Это решение было принято вслед за требованием объединения племен и городов востока Ливии открыть под контролем ООН специальный счет, на который поступала бы выручка от экспорта нефти. В настоящий момент, пояснили авторы этого заявления, все нефтяные доходы направляются в Триполи и используются не для развития востока страны, а на военные нужды, включая вооружение боевиков, нападающих на нефтяные скважины.
Ежедневный ущерб от закрытия портов, по оценке нефтяной компании Ливии, может составить 800 тыс. баррелей, или порядка $55 млн в день.
По состоянию на 27 января добыча нефти в Ливии снизилась до 284 тыс. б/с, тогда как обычный уровень до этого составлял 1,22 млн баррелей.
Несмотря на то, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Сарраджа и Хафтара полностью принять итоги берлинской конференции, это предложение, видимо, тоже останется благим пожеланием. Как сообщила 24 января канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров в Анкаре с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, Саррадж принял предложение о перемирии и 55 пунктов согласованного в Берлине документа о принципах урегулирования конфликта, а Хафтар согласился только с перемирием. Сторонники реалистичного подхода к ситуации в Ливии дают понять, что рассчитывать на быструю нормализацию крайне преждевременно. «Там далеко еще до того, чтобы государственность была восстановлена», — заявил в преддверии берлинских переговоров глава МИД России Сергей Лавров.
Основная трудность для переговоров, поясняет Михаил Балбус, эксперт Института глобализации и социальных движений, состоит в том, что Хафтар находится в выигрышном положении. Прошлогоднее наступление не принесло ему быстрой победы, но в ближайшие месяцы у него есть серьёзные перспективы захватить Мисрату, а Сирт, один из главных центров ливийской нефтедобычи, уже захвачен. При этом у России есть лишь ограниченное влияние на Хафтара, у которого имеются более серьёзно настроенные союзники в лице Египта и ОАЭ.
«Происходящее в Ливии — это не гражданская война, а этноконфессиональный конфликт, который будет длиться долго, несмотря на усилия разных сторон в попытках урегулирования, — считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента компании AMarkets. — Стабильность в такой нефтедобывающей стране не нужна никому, потому что есть возможность получить за бесценок дорогостоящие активы. Но это сопряжено с серьезными угрозами военного плана и отсутствием гарантий, что инвестиции будут сохранены. Подобные конфликты заканчиваются, когда стороны устают воевать, как это было в Ливане после 15 лет гражданской войны».
Замах на достижения Каддафи
Тем не менее, даже в условиях обострения противостояния между Сарраджем и Хафтаром нефтедобычу в Ливии не постиг коллапс. По итогам прошлого года общие доходы NOC от нефти, газа и нефтепродуктов составили $22,5 млрд, что лишь на 8,5% ниже по сравнению с 2018 годом. А в минувшем декабре компания была регулярным поставщиком обнадеживающих новостей. В частности, стало известно об увеличении добычи на месторождениях Нафура и Хамад, о возобновлении добычи на месторождении Гани с дебитом 5 тыс. б/с, о приросте добычи на 2,5 тыс. б/с на месторождении Абу-Аттифель и т. д.
В октябре прошлого года руководитель NOC Мустафа Саналла заявил, что в перспективе пяти лет добыча нефти в Ливии может вырасти до 2,1 млн б/с, то есть увеличиться более чем на 60% к достигнутому на тот момент уровню. Если этот план будет выполнен, то Ливия сможет заметно превзойти тот уровень добычи, который имелся незадолго до падения режима Муаммара Каддафи (1,6 млн б/с), хотя его планы простирались гораздо дальше: свергнутый в 2011 году и убитый ливийский лидер собирался довести его до 3 млн б/с.
Еще в 2009 году Ливия заявила инвестиционную программу развития нефтяной отрасли в объеме $10 млрд, и теперь постепенно возвращается к этим планам.
Для реализации стратегического плана повышения добычи правительством в Триполи специальным указом был принят «исключительный бюджет», из которого для компенсации недостающих платежей из бюджета NOC осенью прошлого года было обещано выделить сумму, эквивалентную примерно $1 млрд.
Одновременно была активизирована работа с иностранными инвесторами, которая уже принесла определенные результаты. В декабре прошлого года, например, власти в Триполи одобрили приобретение французской Total доли в 16,33% в компании Marathon Oil в рамках концессии Waha Oil. Предполагается, что Total инвестирует в этот проект $650 млн, увеличив добычу на 180 тыс. б/с.
Активизировались в Ливии и российские нефтяники. В конце прошлого года «Татнефть» возобновила сейсморазведочные работы в бассейне Гедамес, приостановленные в 2014 году, хотя три года назад ее глава Равиль Маганов говорил, что возобновлять добычную деятельность в Ливии не планируется до полной стабилизации обстановки в стране. Работа на территории Гедамеса велась компанией еще до свержения Каддафи, в рамках заключенного в 2005 году соглашение на разведку и раздел продукции, а вскоре после этого «Татнефть» выиграла право работать еще на трех нефтяных участках в бассейнах Гедамес и Сирт.
Одновременно с возвращением «Татнефти» Wintershall Aktiengesellschaft (WIAG), совместное предприятие немецкой компании Wintershall Dea и дочерней структуры «Гапрома» Gazprom E& P International, подписали с ливийской NOC соглашения на разведку и раздел продукции в 91-м и 107-м районах бассейна Сирт сроком действия до 2036 и 2037 годов. За операционную деятельность в этом проекте будет отвечать совместное предприятие Sarir Oil Operations, в которой ливийцам принадлежит 51%, а WIAG — 49%. Ливийское партнерство «Газпрома» и Wintershall также началось еще при Каддафи: в 2008 году Gazprom E& P International получила 49% в двух концессиях бассейна Сирта, на которых Wintershall Aktiengesellschaft разрабатывает 9 месторождений с 1966 года.
Планы сотрудничества с Ливией также имеются у «Роснефти», которая подписала соглашение с ливийской NOC в феврале 2017 года. Оно предусматривало как закупку в Ливии сырой нефти, так и инвестиции с российской стороны.
Участие России в урегулировании ливийской экономической и политической ситуации обусловлено защитой национальных, в том числе экономических, интересов, отмечает генеральный директор нефтесервисной компании «НафтаГаз» Ислам Назаралиев.
По его мнению, восстановление российских позиций в Ливии даст шанс компенсировать в том или ином виде убытки, которые понесли российские нефтяники, успешно работавшие в стране в период правления Каддафи.
«К сожалению, за почти десять лет, прошедших с момента свержения полковника, значительных положительных изменений в Ливии практически не произошло, — констатирует эксперт. — В стране имеется два правительства, действует масса бандформирований, которые используют нефтяные вентили в целях шантажа тех или иных „центральных властей“ — захватывают объекты инфраструктуры, занимаются контрабандой и другой нелегальной деятельностью. Однако, как показала история конфликта в Сирии, в принципе не обязательно ожидать установление какой-то единой власти над всей страной. Главное, чтобы все участники гражданского противостояния пришли к общим мирным договоренностям».
По мнению Михаила Балбуса, возвращение в Ливию «Татнефти» свидетельствует, что варианты завершения конфликта начинают отдалённо просматриваться. Для российских компаний, полагает эксперт, есть перспективы для работы при условии победы Хафтара (к «группе поддержки» которого также относится Франция) или каддафистов на гипотетических выборах, но и в том случае, если правительство ЛНА и Саррадж смогут договорится об урегулировании, возможности также сохранятся.
Есть, впрочем, и скептические прогнозы. Как полагает Артем Деев, ставить на Хафтара, который почти 30 лет прожил в США, которого поддерживали американцы во время операции в Сирте в 2016 году, а сейчас поддерживает Франция, — большой риск. Поэтому для российских компаний, считает эксперт, более разумным будет сосредоточиться на проблеме разработки внутренних трудноизвлекаемых запасов нефти в преддверии падения добычи легкодоступных запасов.
Сотрудничество же России и Ливии возможно только в случае гарантий со стороны ливийских властей по защите российских инвестиций на длительный период.
Также необходимо решить вопрос о прощении долга $4,5 млрд, который числится за Триполи еще времен СССР и перспектив проектов с «Газпромом».
Запасной игрок
Так или иначе, по сравнению с временами Каддафи, когда Ливии хватало нефти не только на оплату собственных проектов развития, но и на выстраивание альянсов с соседними африканскими государствами, сейчас роль этой страны на мировом рынке углеводородов, по большому счету, мизерна. Именно поэтому даже резкие форс-мажорные скачки в ливийской добыче не оказывают существенного влияния на мировые цены на нефть.
Если в период анархии, последовавшей за «арабской весной» 2011 года, рынок бурно реагировал на снижение объема поставок из Ливии, то в дальнейшем даже на фоне гражданской войны в стране цены особо не росли, отмечает Екатерина Грушевенко, эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково». Сейчас, по ее мнению, ситуация схожая: на фоне сообщений о прекращении добычи на том или ином месторождении могут наблюдаться колебания цен в течение одного-двух дней, но не более.
«Значительного влияния добыча нефти в Ливии на рынок уже не оказывает — все слишком привыкли к конфликтам на Ближнем Востоке»,
— резюмирует Грушевенко, отмечая, впрочем, и определенные успехи в восстановлении отрасли. Если в 2011 году добыча в стране снизилась практически до нуля, то затем она быстро достигла практически довоенных значений. В 2014 году в Ливии снова началась гражданская война, добыча упала с 1,5 млн до 0,5 млн б/с, однако в прошлом году она восстановилась до около 1 млн б/с, при том что в стране регулярно происходит закрытие месторождений и экспортных мощностей.
Но вакуума на рынке нефти и газа из-за нестабильности в Ливии точно не образовалось, считает Ислам Назаралиев. Более того, Ливии будет очень сложно вернуть ранее утраченные позиции.
Блокирование экспорта нефти из нескольких портов Ливии может привести к снижению в стране нефтедобычи, сопоставимой с дополнительными в 2020 году объемами сокращения в рамках сделки ОПЕК+, добавляет Тамара Сафонова, доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС.
Тот факт, что на фоне резкого падения ливийской добычи начиная с 18 января нефтяные цены находились в устойчивом коридоре $64-65 за баррель, подтверждает, что риски сохраняющейся нестабильности в Ливии заложены инвесторами в текущих котировках.
После 2011 года Ливия фактически исключена из списка ведущих игроков нефтяного рынка, и то, как развивается ситуация в этой стране, не имеет серьезного значения для рынка, пока там не будет восстановлена государственная власть и страна не выйдет на прежние объемы добычи, констатирует Артем Деев. И в ближайшее время, считает он, такое вряд ли возможно: «Из страны ушли Royal Dutch Shell, BP и другие крупнейшие производители. Заявления о росте добычи со стороны иностранных компаний пока демонстрируют слишком низкие объемы по сравнению с теми, которые были до 2011 года, и большого значения для рынка не имеют. Последние действия Турции и соглашение с Ливией о морских границах Средиземного моря закрепило главенствующую роль Анкары в разведке морских запасов нефти и газа. Сохраняющаяся нестабильность в Ливии лишь на руку США, которые выходят на первое место по объемам добычи нефти в мире».
Анатолий Радченко

Американская «сделка века»
что ждёт Ближний Восток?
Рами Аль-Шаер
Западные СМИ обещают, что президент США Дональд Трамп уже в ближайшее время сделает достоянием публики детали его плана урегулирования арабо-израильского конфликта. Этот план известен под громким названием «Сделка века», и о нем уже давно говорят и на Западе, и на Ближнем Востоке. Некоторые особенности американского плана, судя по всему, уже просочились в высшие эшелоны таких стран как Израиль, Иордания и Франция. Но, судя по всему, не только в них. Ливанский телеканал «Аль-Майядиин», например, сообщил телезрителям, что, согласно черновику плана, Иерусалим не будет разделён, а останется единым под израильским контролем, хотя «некоторую ответственность» Израиль будет делить с палестинским государством. По полученной мной информации, «сделкой века» разрешено объявить некоторые районы восточного Иерусалима столицей государства Палестины.
Налицо, таким образом, первое нарушение принятой в 1947 году Генеральной Ассамблеей ООН резолюции 181 «О разделе Палестины на два государства», где определены границы Палестинского и Израильского государств, в том числе разделение Иерусалима на Западный и Восточный, а также нарушение резолюции Совбеза ООН, который давным-давно определил, что столицей Палестинского государства должен быть Восточный Иерусалим. План Трампа также якобы предусматривает, что будет образована «Новая Палестина» на территориях Западного берега Иордана и в секторе Газа, но участки земли, на которых располагаются еврейские поселения, останутся в суверенитете Израиля. Налицо, таким образом, второе грубейшее нарушение резолюции, согласно которой все израильские поселения на палестинской земле являются незаконными и должны быть демонтированы.
Хочу подчеркнуть (создаётся впечатление), что одна из основных целей «сделки века» - похоронить все решения ООН, которые определили границы Израильского и Палестинского государств и нанести ущерб всем усилиям мирового сообщества, в том числе России, для справедливого решения арабо-израильского конфликта.
Но этим нарушения международного права не ограничиваются. Напомним, что израильский премьер Нетаньяху ещё осенью пообещал, что он аннексирует долину реки Иордан ещё до окончания президентских выборов или же сразу после них. Зять Трампа Джаред Кушнер, правда, посоветовал Нетаньяху не делать этого, пока «Сделка века» не будет реализована. Но этот совет – лишнее доказательство, что и палестинцев, и мировую общественность хотят обмануть: сначала навязать арабам «Сделку века», а потом поставить палестинцев перед фактом аннексии одной из важнейших территорий палестинского государства.
Я не удивлюсь, если в опубликованном тексте американского плана обнаружатся и другие сюрпризы. Пока же обратим внимание на тот факт, что американский план есть, по сути дела, «фальшивая сделка», потому что изначально, (видимо) задуман как обман палестинского народа, и по сути своей призван надолго, если не навсегда, лишить этот народ законных прав на независимое существование в пределах отведённых для его государства границ. А то, что его опубликование планируется именно сейчас, в очередной раз доказывает, что он исключительно выгоден и президенту Трампу, и премьер-министру Нетаньяху. Ведь у обоих сейчас непростые времена. В Сенате США дебатируется вопрос об импичменте Трампа, и ему крайне важна поддержка американских евреев, особенно миллиардеров. Нетаньяху обвиняется в таких преступлениях, как дача взятки, подлог и подрыв доверия, и «Сделка века» может стать для него палочкой-выручалочкой: он обгонит по популярности своего соперника на выборах - Ганца и, возможно, даже получит «иммунитет» от судебного разбирательства.
Широковещательное опубликование «Сделки века» явится, таким образом, подарком для обоих. Американский президент неминуемо заявит, что в то время, как он решает мировые проблемы, насущные не только для Ближнего Востока, но и для всего мира, демократы пытаются ему помешать, выдвигая обвинения столь же абсурдные, сколь и разрушающие его политику, направленную на обеспечение интересов США и их главного союзника в ближневосточном регионе. Премьер-министр заявит, что его дружба с Трампом и обеспечение реализации «Сделки века» есть результат его мудрой политики и умелого стратегического маневрирования, в то время как люди, требующие расследования его повседневной внутренней политики, есть интриганы и политиканы, действующие в интересах завистников и оппозиционных лидеров. И в США, и в Израиле внимание общественности будет приковано к тому, как воспринимают американский план в регионе и в мире, а не к личным проблемам двух государственных мужей.
Кроме того, надо признать, что время оба выбрали крайне удачно. 23 января Путин, прибывший в Израиль на форум «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», встретился с Нетаньяху и другими деятелями, но для общественности страны ещё более важно, что он встретился также с матерью осуждённой за контрабанду и хранение наркотиков в РФ израильтянки Наамы Иссахарза. Это тоже идёт в зачёт Нетаньяху. Наконец, нельзя недооценивать важность форума с точки зрения симпатии мировой общественности к евреям, которые понесли страшные жертвы в годы Второй Мировой войны, и Нетаньяху в очередной раз выступил на этом международном форуме как сторонник твёрдой борьбы против антисемитизма, защитник евреев во всех странах мира.
На форум, посвящённый памяти жертв фашистского геноцида в отношении евреев и борьбе с антисемитизмом, приехало около пятидесяти мировых лидеров и крупных политических деятелей. Отношение мировой общественности к Холокосту – это пример скорби о евреях, погибших в концлагерях и умерщвлённых германскими нацистами с помощью их пособников из числа латышей, литовцев, украинских националистов и прислужников фашизма из других стран. Юдофобами и антисемитами в Европе было уничтожено более трети всех евреев на нашей планете. Это величайшая мировая трагедия. Форум в Израиле, разумеется, - наглядный пример решимости большинства народов на нашей планете не допустить повторения страшной трагедии такого рода.
Вместе с тем, скорбя вместе с евреями о гибели миллионов ни в чём не повинных людей на территории Европы, трудно не вспомнить о том, что живущий рядом с израильским народом палестинский народ испытывает сегодня страшные тяготы, живёт в условиях оккупационного режима. А режим этот создан евреями, в исторической памяти которых страдания и угнетения, пережитые ими в Европе, должны были, думается, выработать иммунитет против превращения палестинских территорий в огромный концлагерь.
Так думают, кстати, и многие люди в самом Израиле. Израильский журналист Гидеон Леви так написал в газете «Гаарец» относительно форума, прошедшего в последние дни: «Быть гостями в Израиле и не упомянуть о преступлениях, которые он совершил; отдать дань памяти Холокосту и проигнорировать его уроки». Это горькие слова, но их суть понятна: человечество помнит трагедию евреев, но очень мало делает, чтобы трагическим событиям в Палестине был положен конец. Президент Владимир Путин одновременно с посещением Иерусалима также посетил Палестинскую территорию и встретился с руководством Палестины, где выразил поддержку Россией борьбы палестинского народа для достижения своих национальных прав в создании независимого государства Палестины в рамках решения Организации Объединенных наций.
Более того, значительная часть палестинского народа сознаёт, что он даже не является участником «Сделки века». Если он согласится на условия, которые выдвинет Трамп, всегда найдётся повод, чтобы Израиль продолжил оккупацию земель в Палестине. А если американский план будет отвергнут, это даст повод Израилю начать пересмотр даже тех условий, в которых палестинский народ находится сегодня. Начнётся процесс односторонней аннексии самых важных и самых плодородных палестинских районов, сжимание палестинских территорий и выдавливание местного населения из так называемых «библейских земель».
Ряд арабских стран воздерживаются от критики американского плана, а их политики предпочитают отделываться туманными фразами. На мой взгляд, это вполне естественно. Так всегда бывает, когда государство отказывается от реального суверенитета, слепо выполняет то, что ему «советуют» делать руководители НАТО, дрожит, когда поступает окрик из-за океана. Подчинив себя воле США, которые присвоили себе право решать, что на Ближнем Востоке хорошо, а что – плохо, их союзники в регионе фактически потеряли право голоса, стали проводниками американской политики. И США знают теперь, что, даже если народы выскажут своё отрицательное отношение к американскому плану, они всё равно, не мытьем, так катаньем продавят принятие их плана в целом ряде ближневосточных государств. Если раньше сами ближневосточные страны выдвигали свои пути решения конфликта, то теперь предпочитают выглядеть, как кролики перед удавом.
Что можно сказать по этому поводу? Вспомним: во время 6-дневной арабо-израильской Войны 1967 года арабские страны Залива приняли совместное решение прекратить поставки нефти на Запад, чтобы Европа отказалась от поддержки Израиля и осуществила давление на США, бесперебойно поставлявших оружие Израилю. Мне трудно представить, что сегодня такое возможно – даже если учесть, что общественность в этих странах в своём большинстве выступит против «Сделки века». НАТО удалось связать арабские страны по рукам и ногам. Даже родина Ислама, хранительница исламских святынь, не в состоянии возражать сегодня Америке, давно известной своими антиарабскими акциями. Ряд арабских стран связан с Западом договорными отношениями довольно кабального типа настолько, что их порой называют «дистанционными пультами Вашингтона». К тому же Запад постоянно запугивает страны Залива мнимой иранской угрозой.
В Европе известие о скором опубликовании американского мирного плана также приняли с огромным скептицизмом. Западные и израильские газеты даже прокомментировали их отношение к «Сделке века» так: западноевропейские страны не собираются выдвигать свой, альтернативный мирный план, они просто дожидаются того, чтобы план американского президента развалился на глазах у всего мира. Что же касается президента Франции, то Макрон справедливо заметил: ни один мирный план никогда не увенчается успехом, если обе стороны не захотят совместными усилиями добиться мира. Палестинцы, надо полагать, могли бы пойти на изменения в границах между двумя государствами путём обмена некоторых территорий, но они явно не пойдут на принятие односторонних аннексий их земель Израилем.
В самом Израиле есть немало политиков и политологов, которые считают, что путь, выбранный Нетаньяху и якобы одобренный США, не только не улучшит положение Израиля в регионе, но наоборот, сделает его намного хуже. А «Сделка века» внесёт в это немалую лепту, так как способна превратить конфронтацию в регионе из политической в военную. Бывший израильский премьер Ехуд Ольмерт заявил, что намерение Нетаньяху аннексировать долину Иордана – это популистский и провокационный политический акт, который принесёт вред безопасности Израиля и резко отрицательно скажется на его имидже в мире. В сущности, эта акция не может иметь никаких выгод ни с дипломатической точки зрения, ни с точки зрения безопасности.
Я со своей стороны считаю, что заявления о возможной аннексии долины Иордана имели две цели. Первая – это прозондировать почву, насколько США готовы принять такое развитие событий. Там, как известно, эту инициативу не только не отвергли, но даже отнеслись к ней «с пониманием». Второй целью было вызвать какие-то отклики в арабском мире, и здесь вновь мы увидели, как арабские страны, включая Иорданию, находящуюся на Восточном берегу Иордана, выдавили из себя не резкое осуждение, а нечто вроде нечленораздельных междометий. Теперь становится понятно, что намерение аннексировать долину Иордана перестало быть «идеей», а принимает форму осознанной политической цели, которую Нетаньяху ставит перед своим государством.
Как палестинец, я считаю себя просто обязанным высказать свою точку зрения на то, как могут пойти дела на Ближнем Востоке после опубликования «Сделки века». Верна эта точка зрения или нет, покажет время, но эту точку зрения поддерживают политологи в Сирии, Ираке и Иране, не говоря уже о палестинцах. Делается это на основе разных фактов и факторов, действующих в регионе в наши дни.
Начну с того, что в ряде стран региона враждебность к Израилю в целом на уровне общественности возрастёт. Я предвижу такое развитие ситуации в южной части Ливана, в значительной части Сирии, в южном и центральном Ираке, в Иордании, в Йемене и даже в некоторой части Саудовской Аравии. Резко враждебно будет относиться к Израилю и Иран, особенно после публикаций в печати, в которых сообщалось о том, что израильская разведка помогла американцам убить генерала Сулеймани, народного героя Ирана.
Враждебность, увы, часто принимает форму партизанских действий на уровне отдельных личностей или даже акций смертников-одиночек. Чем больше будет районов, которые аннексирует Израиль, тем больше будет подобных акций и, следовательно, тем больше будет угроза безопасности граждан Израиля. Израильская контрразведка сообщает о том, что ежегодно нейтрализует от полутысячи до тысячи террористических актов, но речь идет в основном об актах борьбы за освобождение своей родины, а также отчаяния людей, доведенных буквально до умопомрачения. Израиль ещё никогда по-настоящему не сталкивался с организованным партизанским сопротивлением, и было бы большим несчастьем для его народа, если бы это приняло крупные масштабы. Кроме того, ущемление национальной гордости арабов может вызвать новый всплеск терроризма на Ближнем Востоке.
Всё это вполне реально также и по целому ряду иных причин. Первая – это разобщённость палестинцев, в том числе напряженные отношения между руководителями Палестинской автономии и руководителями Хамас в секторе Газа. Было время, когда этот раскол израильтянами приветствовался; теперь они могут горько пожалеть об этом. Отряды Хамас сегодня значительно лучше обучены и оснащены, чем прежде, и они даже бросают вызов египетским подразделениям на границе сектора Газа. Махмуд Аббас, палестинский президент, не имеет должного авторитета в Газе: после того, как власть там силой захватило движение Хамас, оно полностью игнорирует ООП, включая ФАТХ, которая является самой крупной составной частью ООП, и, соответственно, руководство Палестинской автономии.
В ответ ФАТХ в конце декабря обвинила ХАМАС в том, что оно, в сущности, способствует продвижению американского плана, так как глава Хамас Исмаил Ханийя не только не может представлять палестинский народ, но более того – он представляет тех, кто плетёт заговоры против палестинского народа. Как видим, налицо раскол, обострение отношений между двумя районами, в которых проживает палестинское население, и, значит, израильтянам придётся иметь дело с двумя силами, которые не собираются договариваться между собой. Вместе с тем, Махмуд Аббас объявил, что реализация «Сделки века» заставит палестинское руководство на Западном берегу принять те меры против Израиля, на которые Палестинская автономия вполне способна: он отзовёт признание Израиля, что аукнется во всем арабском мире, и перестанет координировать на Западном берегу усилия по обеспечению безопасности с израильской армией. И то, и другое способно привести к хаосу.
Между тем, политологи, знакомые с американским планом, напоминают, что он предусматривает создание некоего палестинского государства как достижение трёхстороннего соглашения между Израилем, Палестинской автономией и Хамас. В нынешних условиях это соглашение остается утопией, а реализация американского плана остается возможной только с применением силы - либо израильской, либо натовской. И в одном, и в другом случае речь идет о новом кровопролитии. Палестинцам в их нынешнем положении терять, в сущности, нечего. Но что будет, если вооружённые столкновения охватят чуть ли весь регион?
Нужно напомнить ещё, что руководители Палестинской автономии предупредили администрацию США: американский план вместо того, чтобы принести мир на землю Палестины, вызовет массовые протесты и на Западном берегу, и в секторе Газа. Абсурдность ситуации ещё и в том, что Трамп и его окружение, входя в контакт с союзниками США по поводу «Сделки века», не соблаговолили хотя бы проконсультироваться относительно своего плана со стороной, играющей главную роль в достижении мира: с палестинским народом. Неудивительно, что палестинцы расценили план Трампа как «американо-сионистский заговор».
Ближневосточные политологи справедливо заметили, что «Сделка века» сыграла своего рода положительную роль для палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа: она заставила их выработать некую сходную позицию. А уже это грозит созданием единого фронта против американского плана и для ликвидации угрозы аннексии палестинских территорий. Если раньше Махмуд Аббас рассчитывал на американскую помощь для поддержания более или менее сносного уровня жизни в Палестинской автономии, то после решения Трампа в 2017 году признать Иерусалим столицей Израиля сотрудничество Палестинской автономии и США практически сведено на нет. Для политиков Палестины - США и его натовские союзники потеряли всякий авторитет как посредники в ближневосточном урегулировании. А две палестинские организации, имеющие долгий опыт национально-освободительной борьбы – Народный Фронт Освобождения Палестины и Демократический Фронт Освобождения Палестины – призвали палестинский народ к народному восстанию против политических махинаций США и Израиля.
Возможно, это ещё не завершение того провала, к которому идёт американский план, но я искренне верю в то, что трамповскую авантюру со «Сделкой века» ждёт позорное отступление. Его постигнет та же участь, что постигла все предыдущие мирные планы США, которые Америка выдвигала на протяжении последних 27 лет, начиная с дьявольски хитроумного Соглашения в Осло. Более того, надеюсь также, что все те ближневосточные политики и стратеги, которые под влиянием западных СМИ и с благословения неоимпериалистов из НАТО, щедро раздающих подачки, уйдут с международной арены. Им настало время уйти, освободить место для молодых, преданных своим народам, настоящим борцам, которые ведут дело не к расколу народных движений, а к сплочённому фронту за независимость и суверенитет арабских народов. И первым их походом должно быть развенчание и срыв планов США и их союзников в регионе, которые хотят сохранить закабаление арабских стран. Новые поколения ни в коем случае не должны допустить это.
Генсек Ассоциации арабских университетов стал почетным профессором МГУ
Генеральный секретарь Ассоциации арабских университетов, профессор Амр Эззат Салама стал почётным профессором МГУ.
Как отметил ректор МГУ, академик Виктор Садовничий, Салама также является председателем попечительского совета и президентом исполнительного бюро фонда детской онкологической больницы, возглавляет Совет по жилищному строительству академии научных исследований и технологий Египта, преподает в Университете Хелван в Египте.
"Профессор Салама уделяет большое внимание деятельности Федерации ректоров российских и арабских университетов, вносит большой вклад в развитие и укрепление образовательного и научного сотрудничества на этой представительной международной площадке", - заявил ректор МГУ на торжественном заседании, посвященном 265-летию Московского университета.
Он также отметил, что в рамках совместной работы прошло уже два форума ректоров, на которых было подписано более 30 соглашений о сотрудничестве.
"Профессор Салама, я с большим удовольствием хочу сообщить, что, учитывая ваш выдающийся вклад в развитие российско-арабских научно-образовательных связей и плодотворное сотрудничество с Московским университетом, ученый совет Московского университета принял решение о присвоении вам звания "Почетный профессор Московского университета", - добавил Садовничий.
Также почётным профессором Московского университета стал академик Владислав Панченко – глава научной школы, специалист в области медицинской физики, нелинейной оптики, лазерно-информационных технологий, руководитель кафедры медицинской физики физического факультета МГУ.
"Глубокоуважаемый Владислав Яковлевич, я с большим удовольствием хочу сообщить, что, учитывая ваши выдающиеся достижения в области медицинской физики и большой вклад в развитие научных школ Московского университета, ученый совет МГУ принял решение о присвоении вам звания "Почетный профессор Московского университета", - сказал Садовничий.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























