Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
OCSiAl досрочно погасил бонды РОСНАНО
OCSiAl успешно закрыл серию раундов по привлечению инвестиций в $100 млн. Инвесторы оценили компанию около $2 млрд. Об этом говорится в сообщении РОСНАНО.
Часть полученных средств направлена на досрочное погашение пятилетних бондов, ранее выпущенных OCSiAl в пользу РОСНАНО.
РОСНАНО инвестировало в акции и бонды OCSiAl $60 млн, полностью вернуло инвестиции и зафиксировало прибыль в $10 млн по ранее выпущенным бондам, одновременно оставшись акционером OCSiAl.
Текущая рыночная стоимость пакета акций OCSiAl, принадлежащего РОСНАНО, составляет более $300 млн.
OCSiAl - крупнейший в мире производитель графеновых нанотрубок, единственная компания, владеющая масштабируемой технологией их промышленного синтеза. OCSiAl разрабатывает решения на основе нанотрубок для электрохимических источников тока, эластомеров, красок и покрытий, композитов, пластиков. Компания представлена в России, Европе, США, Корее, Китае, Гонконге, Малайзии, Мексике, Японии и Австралии.
Текущие производственные мощности компании - 80 т нанотрубок в год, что составляет 97% мировых мощностей. В 2024 году OCSiAl запустит новый завод в Люксембурге, мощность первой очереди составит до 100 т.
Компания «Гедеон Рихтер» запустила собственном заводе в Егорьевске производство карипразина, предназначенного для пациентов с шизофренией и биполярным расстройством. Трансфер полного цикла производства капсул препарата в четырех дозировках: 1,5 мг, 3 мг, 4,5 и 6 мг был успешно завершён 1 июля 2021 года.
По плану первая коммерческая партия препарата в дозировке 1,5 мг поступит на склады дистрибьюторов уже в августе 2021 года. Запуск производства препарата в дозировке 3 мг ожидается в ноябре, а в дозировках 4,5 и 6 мг – в начале 2022 года.
Карипразин был зарегистрирован на российском рынке в 2019 году и изначально применялся у пациентов с шизофренией. В июне 2021 года Минздрав расширил список показаний к применению препарата, включив в него такие состояния при биполярном расстройстве у взрослых, как маниакальный или смешанный эпизоды, а также биполярную депрессию. Помимо стран ЕС, других стран Европы и СНГ, препарат представлен в Израиле, Таиланде, Малайзии и Сингапуре, а также в некоторых странах Ближнего Востока. В настоящее время в США изучается возможность применения карипразина в качестве дополнения к терапии антидепрессантами у взрослых с большим депрессивным расстройством.
В странах Азии зарегистрирован рекордный рост заболеваемости коронавирусом
Текст: Диана Ковалева
В странах Азии зарегистрирован рекордный рост заболеваемости коронавирусом. В минувший четверг в Японии за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев COVID-19 - рекорд с начала пандемии.
Особенно тяжелая ситуация сложилась в Малайзии, где в минувшую субботу суточный прирост заболевших COVID-19 составил 17 786 человек, и в Таиланде - 18 912 человек. Власти последнего также сообщили, что за сутки в стране от коронавируса скончались 178 пациентов - таких цифр королевство еще не видело.
По статистике, на штамм Дельта приходится более 60 процентов случаев в Таиланде и 80 процентов случаев в Бангкоке. С понедельника строжайшие ограничения на передвижение в некоторых городах вводит Вьетнам, для которого нынешняя вспышка COVID-19 стала самой тяжелой с начала пандемии. Вверх поползла кривая заболеваемости и в Турции, где в среду число новых зарегистрированных случаев коронавируса за сутки составило 22 291 человек - самый высокий показатель с мая. А в Иране за минувшую неделю зафиксировали сразу два антирекорда по суточному приросту инфицированных: 31 814 в понедельник и 34 900 во вторник.
Против импорта малазийского металлического кремния США могут ввести пошлины
Как сообщает yieh.com, члены Комиссии по международной торговле США (USITC) проголосовали за определение, что импорт металлического кремния из Малайзии нанес материальный ущерб американской промышленности вследствие того, что данная продукция продавалась по ценам ниже справедливых, как это ранее зафиксировал Минторг США.
После опубликования постановления USITC Минторг вправе назначить антидемпинговые пошлины на указанную малазийскую продукцию.
Daikin Industries вошла в состав акционеров OCSiAl
Daikin Industries вошла в состав акционеров OCSiAl. Также компании подписали соглашение о разработке, производстве и выводе на рынок решений на основе графеновых нанотрубок для литий-ионных аккумуляторов следующего поколения и фторполимеров. Об этом говорится в сообщении РОСНАНО.
OCSiAl — крупнейший в мире производитель графеновых нанотрубок, единственная компания, владеющая масштабируемой технологией их промышленного синтеза. Графеновые нанотрубки, или одностенные углеродные нанотрубки, представляют собой свернутые в цилиндр плоскости графена. Они обладают уникальными свойствами — высокой электро- и теплопроводностью, прочностью, соотношением длины к диаметру. При внесении в матрицу материала графеновые нанотрубки создают трехмерную сеть, которая придает материалам проводящие и армирующие свойства. OCSiAl производит нанотрубки под брендом TUBALL™.
В Новосибирске находятся производственные мощности и научно-исследовательская база компании, а также центр прототипирования материалов и технологий на базе графеновых нанотрубок — TUBALL CENTER. В 2019 году второй TUBALL CENTER был открыт в Шанхае (Китай). Третий TUBALL CENTER планируется открыть в Люксембурге.
Региональные отделения OCSiAl работают в Европе, США, Корее, Китае (Шэньчжэнь, Шанхай), Гонконге и России, представительства — в Мексике, Израиле, Японии, Индии, Австралии, Германии и Малайзии. Помимо собственных офисов и представительств, OCSiAl имеет партнёров и дистрибьютеров в 45 странах.
В OCSiAl работают более 450 сотрудников из 16 стран мира. В научно-исследовательском отделении компании работают более 100 учёных.
В группу "РОСНАНО" входят АО "РОСНАНО", Управляющая компания "РОСНАНО" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.
Daikin Industries, Ltd. — мировой лидер на рынке систем кондиционирования воздуха для жилых, коммерческих и промышленных помещений. Сегодня компания работает более чем в 160 странах мира, а годовой объем продаж Daikin превышает $24 млрд.
Японская Daikin Industries вошла в состав акционеров OCSiAl, портфельной компании «РОСНАНО»
Инвестиции подтвердили оценку крупнейшего в мире производителя графеновых нанотрубок в размере около $2 млрд.
Также компании подписали соглашение о разработке, производстве и выводе на рынок решений на основе графеновых нанотрубок для литий-ионных аккумуляторов следующего поколения и фторполимеров, которые являются стратегическим направлением бизнеса Daikin Industries. Графеновые нанотрубки обладают исключительными характеристиками и преимуществами по сравнению со стандартными добавками, что открывает новые возможности для ряда отраслей.
Сегодня OCSiAl — это:
единственная в мире компания с технологией масштабирования производства графеновых нанотрубок;
порядка 97% мирового рынка нанотрубок;
80 тонн — производственная мощность в 2020 году;
16 000 м² — площадь научно-производственного комплекса в Новосибирске, строительство которого планируется к 2025 году.
СПРАВКА
OCSiAl — крупнейший в мире производитель графеновых нанотрубок, единственная компания, владеющая масштабируемой технологией их промышленного синтеза. OCSiAl разрабатывает решения на основе нанотрубок для электрохимических источников тока, эластомеров, красок и покрытий, композитов, пластиков. В некоторых индустриях графеновые нанотрубки стали отраслевым стандартом: так, например, 10 из 10 крупнейших мировых производителей литий-ионных батарей разрабатывают ячейки с нанотрубками OCSiAl для ведущих мировых производителей электромобилей.
Текущие производственные мощности компании — 80 тонн нанотрубок в год, что составляет 97% мировых мощностей. В 2024 году OCSiAl запустит новый завод в Люксембурге, мощность первой очереди составит до 100 тонн. Компания представлена в России, Европе, США, Корее, Китае, Гонконге, Малайзии, Мексике, Японии и Австралии. В 2019 году компания вошла в глобальные списки компаний-«единорогов» Crunchbase и CB Insights с капитализацией в $1 млрд.
* * *
В Группу «РОСНАНО» входят Акционерное общество «РОСНАНО», Управляющая компания «РОСНАНО» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.
* * *
Daikin Industries, Ltd. — мировой лидер на рынке систем кондиционирования воздуха для жилых, коммерческих и промышленных помещений. Сегодня компания работает более чем в 160 странах мира, а годовой объем продаж Daikin превышает $24 млрд.
Индия отменяет пошлины на плоский прокат из нержавеющей стали из 15 стран
Как сообщает Yieh.com, министерство торговли и промышленности Индии приняло решение не вводить антидемпинговые пошлины на импорт плоского проката из нержавеющей стали из 15 стран, включая Китай , Южную Корею, ЕС, Японию, Тайвань, Индонезию, США, Таиланд, Южную Африку, ОАЭ, Гонконг, Сингапур, Мексику, Вьетнам и Малайзию.
3 июля 2019 года Министерство торговли и промышленности Индии начало антидемпинговое расследование по предметным товарам из этих 15 стран на основании заявки, поданной Индийской ассоциацией производителей нержавеющей стали (ISSDA), Jindal Stainless Limited, Jindal Stainless (Hisar) Limited. , и Jindal Stainless Steelway Limited.
Codelco выйдет на индийский рынок
Как сообщает yieh.com, чилийская горнопромышленная компания Codelco заявила о планах вхождения на индийский рынок и увеличения вчетверо продаж на Юго-Восточном рынке к 2023 г. с целью снижения тяжелой зависимости компании от продаж продукции в Китай.
Codelco сообщила об открытии в августе нового офиса в Сингапуре с целью продвижения бизнеса во Вьетнаме, Малайзии и Таиланде. В компании полагают, что потребление меди на юго-восточном и индийском рынках может испытать самый активный рост в ближайшие 20 лет.
Текущее потребление рафинированной меди в Юго-Восточной Азии и Индии составляет около 8% от общемирового уровня, а к 2040 г., как ожидается, этот показатель превысит 20%.
Lynas сообщила о росте выручки и производства продукции
Австралийский производитель редкоземельной продукции Lynas заявил, что его выручка от квартальных продаж (апрель-июнь) составила 185,9 млн австралийских долларов по сравнению со 110 млн австралийских долларов в третьем квартале 2021 финансового года.
Производство редкоземельных оксидов компании снизилось, составив в отчетном периоде 3778 т по сравнению с 4463 т в предыдущем квартале.
Производственные результаты компании отразили устойчивый спрос на неодим-празеодим и сильные цены на данную продукцию. Выпуск неодима-празеодима составил в указанном периоде 1393 т, несколько увеличившись относительно предыдущих кварталов. Компания считает это прекрасным результатом, учитывая сохраняющиеся вызовы в связи с продолжающейся пандемией, в частности в Малайзии.
Также Lynas сообщила о начале предварительных работ на участке, где будет расположен проект Kalgoorlie.

Иранские яблоки экспортировались в 27 стран за год
Как сообщил представитель Таможенной администрации Исламской Республики Иран (IRICA), Иран экспортировал 884 798 тонн яблок на сумму 326 668 миллионов долларов в 27 стран в прошлом 1399 иранском календарном году (завершившемся 20 марта).
Рухолла Латифи сказал, что Ирак купил этой продукции на 105 миллионов долларов, Россия на 95,4 миллиона долларов, Афганистан на 51,7 миллиона долларов, Индия на 26,6 миллиона долларов и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) на 21,1 миллиона долларов яблок у Ирана в прошлом году и оказались в пятерке крупнейших экспортных покупателей иранских яблок в том году.
Казахстан, Украина, Оман, Кыргызстан, Туркменистан, Пакистан, Катар, Армения, Кувейт, Грузия, Сирия, Азербайджан, Турция, Ливия, Бахрейн, Узбекистан, Малайзия, Монголия, Шри-Ланка, Египет, Норвегия и Великобритания заняли с шестого 27-е места в рейтинге, соответственно, добавил он.
Чиновник также сообщил, что в первом квартале текущего 1400 иранского календарного года (21 марта - 21 июня) было экспортировано 207 257 тонн яблок на сумму 62,587 миллиона долларов.
Как ранее заявлял Латифи, продукты питания и сельскохозяйственная продукция составили 7,7 процента от общего объема экспорта страны в предыдущем году, а доля этих товаров в стоимостном выражении составила более 17,6 процента от общей стоимости экспорта.
По его словам, в прошлом году было экспортировано более 8,832 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции, продуктов животноводства, рыболовства и продуктов питания на сумму 6,167 миллиарда долларов, средняя стоимость каждой тонны составила 698 долларов, что составляет около 70 центов за килограмм.
Экспорт Ирана, не связанный с нефтью, составил 112 миллионов тонн на сумму 34,5 миллиарда долларов в предыдущем году.
Чувствительные к touch screen протезы «Моторики» с нанотрубками OCSiAl дешевле аналогов в 10-15 раз
Сегодня в мире проживает более 1,5 млн людей, которым необходимы протезы рук. По данным Международной организации здравоохранения только 1 из 10 получает необходимую помощь в протезировании. В России и СНГ в протезах нуждаются 50 тыс. человек, в Европе и Северной Америке около 200 тыс., в Индии и Китае около 640 тыс.
Даже те, кто получал протез, как правило, не имел возможности использовать его для работы с сенсорными экранами современных гаджетов. Цена подобных протезов ранее достигала $30 тыс.
Совместная работа компаний «Моторика» и OCSiAl, входящих в контур Группы «РОСНАНО», позволила создать доступные и современные киберпротезы, благодаря которым тысячи людей получат возможность пользоваться смартфонами и планшетами.
Киберпротезы «Моторики» с такой функцией стоят в 10–15 раз дешевле ближайших аналогов. Чувствительный к сенсорным экранам протез появился благодаря использованию электропроводящих накладок-напальчников из силикона с графеновыми нанонтрубками TUBALL компании OCSiAl, которые передают электротоки человеческого тела. Они устанавливаются на тяговые и бионические протезы в базовых комплектациях.
Гибкие и ультрапрочные графеновые нанотрубки используются для улучшения свойств обычных материалов, делая их прочнее и легче. По форме они напоминают длинный человеческий волос, только в 50 тыс. раз тоньше. Минимальная эффективная концентрация, необходимая для улучшения физических свойств материалов, составляет 0,01%.
СПРАВКА
OCSiAl — крупнейший в мире производитель графеновых нанотрубок, единственная компания, владеющая масштабируемой технологией их промышленного синтеза. OCSiAl разрабатывает решения на основе нанотрубок для электрохимических источников тока, эластомеров, красок и покрытий, композитов, пластиков. В некоторых индустриях графеновые нанотрубки стали отраслевым стандартом: так, например, 10 из 10 крупнейших мировых производителей литий-ионных батарей разрабатывают ячейки с нанотрубками OCSiAl для ведущих мировых производителей электромобилей.
Текущие производственные мощности компании — 80 тонн нанотрубок в год, что составляет 97% мировых мощностей. В 2024 году OCSiAl запустит новый завод в Люксембурге, мощность первой очереди составит до 100 тонн. Компания представлена в России, Европе, США, Корее, Китае, Гонконге, Малайзии, Мексике, Японии и Австралии. В 2019 году компания вошла в глобальные списки компаний-«единорогов» Crunchbase и CB Insights с капитализацией в $1 млрд.
* * *
В Группу «РОСНАНО» входят Акционерное общество «РОСНАНО», Управляющая компания «РОСНАНО» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям РОСНАНО работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.
* * *
«Моторика» — высокотехнологичная компания, работающая на стыке медицины и робототехники с 2015 год. Команда «Моторики» разрабатывает и производит роботизированные функциональные протезы рук с индивидуальным дизайном. У компании более 2000 клиентов в 12 странах мира. В основе видения Компании заложена идея о том, что современные протезы рук превращают особенности людей с ограниченными возможностями здоровья в их преимущества. Исследования и разработки Компании сфокусированы на применении технологий VR, IoT, AI в протезировании, а также инвазивных технологиях.
Россельхознадзор принял участие в 80-ом заседании Комитета ВТО по санитарным и фитосанитаным мерам
С 14 по 16 июля прошло 80-е заседание Комитета ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам. В мероприятии приняли участие представители Россельхознадзора.
Страны-члены ВТО (Канада, США, Австралия, Индия, Россия, страны ЕС, Япония, Великобритания, Швейцария, Новая Зеландия, Кения) продолжают выражать озабоченность санитарными мерами Китая, призванными сдерживать распространение COVID-19.
По их мнению, применяемые Китаем меры (требования к тестированию и дезинфекции импортируемых пищевых продуктов, запрет на ввоз при положительных результатах тестов на наличие следов коронавируса на упаковке, приостановка импорта с конкретных объектов) чрезмерны, непрозрачны и не основаны на научных данных, так как научных фактов того, что пищевая продукция, упаковка и транспортные средства могут служить источником передачи вируса, не установлено.
Китайская сторона пояснила, что следует рекомендациям ВОЗ по профилактике распространения коронавирусной инфекции и по состоянию на 22 июня текущего года выявила 26 положительных результатов тестов на наличие следов вируса в 17 партиях рыбо- и морепродукции (как на внешней упаковке, так и на внутренней). Поэтому, хотя до настоящего времени Китай не предоставил научного обоснования применения указанных мер, ожидать снижения уровня контроля импортируемых в Китай товаров пока не приходится.
Сохраняется торговая обеспокоенность в отношении обновленных требований ЕС к ввозу композитной продукции. Основные возражения у стран-членов ВТО (Австралия, Тайвань, Новая Зеландия, Малайзия, США, Россия) вызывает ужесточение требований ЕС для продукции низкого риска независимо от процентного содержания компонентов животного происхождения. В частности, требования по аттестации предприятий, вырабатывающих сырье для экспортируемой в ЕС композитной продукции, и необходимости сопроводительной документации для продукции низкого риска, ведет к дополнительным затратам бизнеса и создает барьеры в торговле.
ЕС напомнил о том, что предъявляемые требования к ввозу композитной продукции имеют научное обоснование, а продукция низкого риска подлежит исключению из-под контроля на границе и сопровождению свидетельством о частной аттестации.
Тем не менее, Европейская комиссия оценивает полученные в последнее время комментарии и рассматривает возможность упрощения требований к композитной продукции, содержащей желатин и коллаген, если это единственные мясные продукты в составе.
Актуальная информация о требованиях к ввозу композитной продукции в ЕС располагается на сайте Европейской комиссии: https://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/special-eu-import-conditions-composite-products_en.
Европейский союз после длительного перерыва вновь озвучил торговую обеспокоенность в отношении российских ограничений на поставки с рыбоперерабатывающих предприятий Эстонии и Латвии, которые были введены в связи с выявлением нарушений в системе контроля безопасности рыбной продукции после инспекций, проведенных Россельхознадзором в 2015 году в Латвии и в 2016 году – в Эстонии.
Реагируя на принятые компетентными службами меры, по результатам повторных инспекций Россельхознадзор отменил временные ограничения в отношении одного эстонского рыбзавода (в 2016 году) и одного латвийского предприятия (в 2019 году).
Российская Федерация в очередной раз присоединилась к обеспокоенностям ЕС в части ограничений Южной Кореи на импорт свинины и птицы в связи с АЧС и гриппом птиц, соответственно. Представитель России отметил, что российской стороной была направлена вся необходимая информация для проведения оценки риска и признания регионализации территории Российской Федерации по гриппу птиц и АЧС.
Однако позиция корейских коллег пока остается неизменной: вопрос допуска свинины и птицы на корейский рынок может быть рассмотрен после улучшения эпизоотической обстановки на всей территории России, несмотря на то, что Кодекс здоровья наземных животных МЭБ допускает импорт продукции из неблагополучных регионов при соблюдении международных стандартов по регионализации.
Озвучен ряд вопросов к малазийской стороне. Представитель российской делегации, отметив незначительный прогресс во взаимодействии с компетентной службой Малайзии, подчеркнул, что Россельхознадзор все еще ожидает согласования ветеринарных сертификатов (на свинину, мясо птицы, говядину и молочную продукцию). Также малазийская сторона не дает ответов и по вопросу признания регионализации территории России по гриппу птиц и доступа продукции птицеводства на малазийский рынок, несмотря на предоставленные Россельхознадзором актуализированные материалы о мерах контроля и ликвидации этого заболевания.
Российская сторона в очередной раз подняла вопрос о поставках российской животноводческой продукции в Индию. В настоящее время отсутствует решение индийской стороны о признании регионализации территории Российской Федерации по гриппу птиц и о возможности экспорта в Индию безопасной продукции птицеводства, хотя все необходимые материалы у индийской ветслужбы имеются. Отмечено, что затягивается процедура согласования ветеринарных сертификатов для поставок в Индию российского мяса птицы и продуктов из него (субпродуктов), а также рыбной продукции.
Индийские представители подняли тему применяемой в России процедуры для получения права экспорта на территорию РФ рыбы и рыбопродукции. Российская сторона сообщила, что включение новых зарубежных предприятий в реестр компаний, имеющих право на отправки продукции в Россию, невозможно без проведения их инспекций и актуализации уже действующего списка поставщиков. Однако ответ на ранее направленные предложения от индийской стороны не поступал.
В связи с отсутствием подвижек в части доступа на рынок Филиппин российской говядины и свинины была заявлена торговая обеспокоенность.
Филиппинская сторона не предоставила свою оценку направленных российской стороной материалов о контролируемой эпизоотической ситуации в Российской Федерации и мерах профилактики АЧС, нодулярного дерматита и BSE.
Компетентное ведомство Филиппин не отвечает на предложения Россельхознадзора о проведении двусторонних встреч, даже несмотря на то, что указанные вопросы обсуждались на полях 79-го СФС-Комитета с представителем миссии Республики Филиппины при ВТО.
Кроме того, на полях 80-го СФС-Комитета представители Россельхознадзора провели двусторонние встречи с представителями Сингапура и Саудовской Аравии, в рамках которых обсудили вопросы доступа российской животноводческой продукции.
Более чем на 22% увеличила РФ экспорт нефти в Китай в июне 2021
Резко увеличила Россия поставки нефти в Китай: в июне 2021 года поставки нефти из РФ выросли на 22,24% в месячном выражении — до 6,65 млн тонн против 5,44 млн тонн в мае, сообщает Главное таможенное управление Китая. Так что в июне РФ сохранила второе место в мире по объему поставок нефти в Китай, отмечают vesti.ru.
Первое место в июне заняла Саудовская Аравия — 7,2 млн тонн нефти, как и в мае. Между тем Ангола, США и Малайзия также увеличили поставки нефти в Китай. Ангола нарастила экспорт с 3,22 млн тонн в мае до 3,68 млн тонн в июне (+14,29%). Таким образом, Ангола заняла четвертое место, уступив Саудовской Аравии, России и Оману.
Поставки нефти из США в Китай увеличились в июне на 32,71% — с 1,07 млн тонн в мае до 1,42 млн тонн. Малайзия увеличила поставки на 12,5% — с 1,04 млн тонн в мае до 1,17 млн тонн.
Экспорт нефти в Китай из ОАЭ сократился на 28,81% — с 2,43 млн тонн в мае до 1,73 млн тонн. Оман уменьшил поставки с 4,15 млн тонн в мае до 3,84 млн тонн (-7,47%), Ирак — с 4,49 млн тонн в мае до 3,55 млн тонн (-20,94%), Бразилия — с 2,74 млн тонн в мае до 2,35 млн тонн (-14,23%).
Объем агроэкспорта из РФ в Турцию увеличился на 15% до $1.8 млрд
Объем агроэкспорта из РФ в Турцию в первом полугодии 2021 года увеличился на 15% до $1.8 млрд. В физическом выражении показатель уменьшился на 17%. Турция сохраняет второе место среди крупнейших стран-импортеров российского продовольствия после Китая с долей 12%, говорится в сообщении пресс-службы ФЦ «Агроэкспорт».
Структура продаж в Турцию изменилась. На первое место вышли поставки подсолнечного масла, увеличившиеся на 36% до 513 тыс. т, в денежном – в 2.4 раза до $605 млн. При этом Турция стала лидером среди покупателей российского подсолнечного масла. На втором месте - пшеница, поставки которой уменьшились на 29% до 2.3 млн т, в стоимостном выражении – на 17% до $579 млн. Турция в первом полугодии остается вторым покупателем российской пшеницы и крупнейшим – кукурузы и отрубей.
Россия является крупнейшим поставщиком продукции АПК в Турцию. В 2020 году из общего объема турецкого агроимпорта в размере $15.2 млрд на Россию пришлось 20.8% ($3.2 млрд). Также в топ-5 входили Бразилия (9.4%), Украина (6.9%), США (4.6%) и Малайзия (3.9%).
«СУЭК» увеличила чистую прибыль в I полугодии до $613 млн
АО «СУЭК» опубликовало промежуточные консолидированные финансовые результаты в соответствии с МСФО за первое полугодие 2021 года.
Выручка СУЭК составила 4,2 млрд долл. США, продемонстрировав рост на 26% по сравнению с первым полугодием 2020 года на фоне высоких цен и спроса во всех сегментах
Показатель EBITDA вырос на 35% относительно прошлого года до 1,4 млрд долл. США
Рентабельность по EBITDA выросла на 2 п.п. до 34%
Операционный денежный поток достиг 1,2 млрд долл. США, увеличившись на 31% по сравнению с первым полугодием 2020 года
Чистая прибыль компании увеличилась до 613 млн долл. США по сравнению с 132 млн долл. США в первом полугодии 2020 года
Отношение чистого долга к EBITDA по итогам первого полугодия 2021 года снизилось до 2,5х по сравнению с 3,3х по итогам 2020 года
Степан Солженицын, генеральный директор СУЭК, отметил:
«В первой половине 2021 года мы наблюдали восстановление рынков после спада, вызванного пандемией COVID-19, который коснулся всех сфер деятельности. По всему миру восстанавливаются производства и потребительская активность, благодаря чему различные секторы экономики растут даже сильнее, чем до пандемии, что увеличивает потребление энергии. Оживление экономики набирает темпы несмотря на продолжающиеся новые вспышки распространения коронавируса, в основном за счет того, что страны намного лучше справляются с ними.
Тем не менее, ввиду пандемии общая ситуация в мире остается нестабильной. Поэтому мы продолжаем прилагать все усилия для обеспечения бесперебойной работы наших предприятий, для охраны здоровья и безопасности сотрудников и активно помогаем регионам нашего присутствия. Мы еженедельно проводим тестирование персонала на COVID-19, а в феврале 2021 года мы начали программу вакцинации в масштабах всей компании. Уровень заболеваемости в первой половине 2021 года составил менее 3% по сравнению с 10% в 2020 году.
Стабильные финансовые и производственные показатели компании в очередной раз демонстрируют способность СУЭК преодолевать трудности. Мы добились таких высоких результатов благодаря диверсификации источников выручки, своевременным инвестициям в эффективные мощности, оптимально выстроенным производственным процессам и слаженной работе нашей команды».
Выручка компании увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4 202 млн долл. США. Рост выручки наблюдался по всем трем дивизионам благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре, восстановлению цен и росту объемов продаж.
Показатель EBITDA вырос на 35% до 1 437 млн долл. США в результате увеличения выручки. Строгий контроль за расходами и влияние эффекта синергии позволили сохранить рентабельность на стабильном уровне; за отчетный период маржа по EBITDA достигла 34%. Чистая прибыль выросла по сравнению с первым полугодием 2020 года до 613 млн долл. США за счет роста операционной прибыли.
Операционная деятельность предприятий Группы сгенерировала операционный денежный поток в размере 1 247 млн долл. США, что позволило продолжить реализацию ключевых инвестиционных проектов. Капитальные затраты на развитие и поддержание мощностей составили 386 млн долл. США и в основном были направлены на повышение операционной эффективности и экологических показателей.
Мы начали модернизацию основного оборудования на красноярских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 и Томь-Усинской ГРЭС в Кузбассе в рамках программы ДПМ-2. Кроме того, к июню 2021 года, в рамках экологического проекта по снижению выбросов в атмосферу, на Красноярской ТЭЦ-1 были запущены первые два электрофильтра с эффективностью очистки дымовых газов более 99%. К концу 2024 года будет установлено в общей сложности 14 электрофильтров.
Началась масштабная программа модернизации на недавно приобретенной Приморской ГРЭС, в рамках которой мы заменили газоходы и поверхности нагрева, а также начали ремонт турбины с целью повышения эффективности работы и безопасности здоровья сотрудников. Кроме этого, было восстановлено природоохранное оборудование, такое как мокрые золоуловители, газозаборные шахты, системы пылеподавления.
Благоприятная рыночная конъюнктура позволила нам начать добычу на новой лаве на шахте «7 Ноября - Новая» в Кузбассе. Компания продолжила работу по наращиванию производства на активах, нацеленных на поставки на азиатские премиальные рынки.
Отношение чистого долга к EBITDA по итогам первого полугодия 2021 года снизилось до 2,5х по сравнению с 3,3х в конце 2020 года. Улучшение показателя связано с ростом показателя EBITDA в первом полугодии 2021 года и уменьшением размера общего долга на 648 млн долл. США до 6 354 млн долл. США.
Благодаря стабильному денежному потоку и снижению долговой нагрузки международные рейтинговые агентства Moody’s и Fitch в апреле изменили прогноз с «негативного» на «стабильный» и подтвердили кредитные рейтинги СУЭК на уровне «Ba2» и «BB», соответственно. В июне 2021 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг СУЭК с «ruA+» до «ruAA-», сохранив прогноз на «стабильном» уровне. Агентство отметило ведущие позиции СУЭК в отрасли и высокую степень вертикальной интеграции компании.
Энергетический сегмент
Выручка Сибирской генерирующей компании (СГК) в первом полугодии 2021 года увеличилась на 17% до 1 442 млн долл. США за счет увеличившихся объемов реализации мощности, электрической и тепловой энергии, а также благодаря более высоким ценам в рублях, которые компенсировали отрицательное влияние девальвации рубля на выручку в долларах США. Показатель EBITDA вырос на 7% до 480 млн долл. США по сравнению с первым полугодием 2020 года, операционная прибыль составила 343 млн долл. США.
Высокий спрос на электроэнергию на фоне более низких температур воздуха и восстановления экономики после окончания первой волны коронавируса, а также учет объемов продаж Приморской ГРЭС и Красноярской ГРЭС-2, вошедших в состав Компании в 2020 году, способствовали росту продаж электроэнергии на 13% до 38,6 млрд кВт·ч и повышению продаж мощности на 11% до 15,6 ГВт.
Продажи тепла выросли на 25% до 24,3 млн Гкал в связи с более низкими температурами в 2021 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В ответ на повышенный спрос электростанции СГК, которые в основном работают в комбинированном цикле, вырабатывая электроэнергию и тепло, увеличили производство электроэнергии до 36,5 ТВт·ч и выработку тепла до 28,4 млн Гкал.
Угольный сегмент
Общая выручка угольного сегмента СУЭК выросла на 27% по сравнению с первым полугодием 2020 года до 2 936 млн долл. США, включая 2 513 млн долл. США внешней выручки и 423 млн долл. США внутригрупповой выручки, благодаря значительному росту цен. Рост выручки и контроль за расходами способствовали повышению показателя EBITDA угольного сегмента до 655 млн долл. США и операционной прибыли до 344 млн долл. США.
К июню 2021 года основные международные индексы цен на энергетический уголь выросли более чем вдвое по сравнению с минимальными значениями 2020 года. Это произошло в основном на фоне перебоев в поставках на международном рынке, низких температур в Северном полушарии зимой 2020–2021 годов и продолжающихся ограничений Китая на импорт австралийского угля из-за политических разногласий, которые привели к перераспределению товарных потоков. При этом российский уголь частично восполнил выпавшие австралийские поставки на китайский рынок. Перебои с поставками были вызваны различными факторами, но основными были инфраструктурные проблемы и обильные дожди. Кроме того, повышение цен на газ зимой в Азии и летом в Европе оказало положительное влияние на угольный рынок.
Объемы международных поставок за шесть месяцев увеличились на 5% до 27,4 млн тонн в связи с восстановлением спроса как на Азиатско-Тихоокеанском, так и на Атлантическом рынках. Основными направлениями международных продаж были Китай, Япония, Тайвань, Южная Корея, Марокко, Турция, Вьетнам, Польша, Германия и Малайзия. Продажи угля российским потребителям увеличились на 23% до 31,5 млн тонн, 21,8 млн тонн из которых было отгружено на электростанции СГК, что на 45% выше показателя первого полугодия 2020 года. Увеличение объемов продаж связано с ростом периметра СГК и повышением спроса.
Добыча угля выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 53,7 млн тонн в ответ на оживившийся спрос в России и за рубежом. Объемы обогащения составили 22,4 млн тонн.
Логистический сегмент
Общая выручка Национальной транспортной компании (НТК) за отчетный период достигла 1 175 млн долл. США, включая 279 млн долл. США внешней выручки, увеличившись на 21% за счет роста объемов перевозок. Показатель EBITDA логистического бизнеса сократился на 11% до $319 на фоне снижения операционной прибыли на 13% до 217 млн долл. США, вызванного более низкими ставками на полувагоны по сравнению с прошлым годом в условиях избытка полувагонов на рынке в первые месяцы текущего года.
По состоянию на конец июня вагонный парк под управлением компании превысил 56 000 вагонов, причем доля инновационных вагонов достигла 67% всего парка полувагонов и 32% парка вагонов-хопперов. В отчетном периоде общий объем железнодорожных перевозок различных видов грузов, осуществленный с использованием вагонного парка под управлением СУЭК, увеличился на 19% до 63,0 млн тонн, благодаря перевозкам вагонами-хопперами, принятыми в управление в начале 2021 года, и увеличению объемов поставок угля.
Перевалка в портах выросла на 1% до 23,7 млн тонн, включая 18% неугольных грузов, благодаря возросшему экспорту.
Дубай, ОАЭ. Авиакомпания Etihad Airways, национальный перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов, предложила бесплатный частный трансфер в Дубай и обратно (в Международный аэропорт Абу-Даби) для пассажиров, путешествующих в эконом-классе.
Услуга действует при условии покупки билета до 11 августа на рейсы, включая рейсы в Москву, до 30 сентября 2021 года. Путешественникам также будут начислены двойные Гостевые мили Etihad. Пассажиры первого и бизнес-класса авиакомпании по-прежнему могут воспользоваться бесплатной услугой шофера Etihad на любом рейсе.
В соответствии с программой Etihad Wellness водитель работает в маске и одноразовых перчатках, а все транспортные средства проходят санитарную обработку после каждой поездки.
Бесплатный частный трансфер из аэропорта предоставляется всем пассажирам, путешествующим между Дубаем и одним из следующих городов: Амстердам, Афины, Бангкок, Барселона, Брюссель, Касабланка, Чикаго, Дублин, Франкфурт, Женева, Стамбул, Джакарта, Куала-Лумпур, Лондон, Мадрид, Малага, Манчестер, Манила, Мельбурн, Милан, Москва, Мюнхен, Миконос, Париж, Пхукет, Рабат, Рим, Нью-Йорк, Санторини, Сеул, Шанхай, Сингапур, Сидней, Токио, Торонто, Вашингтон или Цюрих.
Ранее в Абу-Даби вступили в силу новые правила безопасности для граждан и резидентов ОАЭ, возвращающихся из-за рубежа. Вакцинированные путешественники, возвращающиеся из стран «зеленого» списка, сдают ПЦР-тесты по прибытии и на шестой день пребывания в Абу-Даби, при этом они освобождаются от прохождения карантина.
Правило распространяется на вакцинированных граждан и резидентов ОАЭ, которые получили вторую дозу вакцины от COVID-19 не менее 28 дней назад, что должно быть задокументировано в приложении Al Hosn.
Невакцинированные граждане и резиденты ОАЭ, прибывающие в Абу-Даби из стран «зеленого» списка, сдают ПЦР-тесты по прибытии, а также на шестой и 12 день пребывания в столице ОАЭ. Все остальные помещаются на карантин на 12 дней, носят электронные браслеты и сдают ПЦР-тесты по прибытии и на 11 день пребывания в столице.
Укрепление рубля снизит цены на бензин — Федун
Цена на бензин может снизиться только при укреплении рубля, заявил журналистам вице-президент по стратегическому развитию ЛУКОЙЛа Леонид Федун. При этом валютный курс в России «работает только в сторону повышения», добавил он.
«Если, условно говоря, евро будет стоить тоже 20 или 30 рублей. Даже если будет стоить 50, тогда бензин будет по 20 рублей», — цитирует Федуна ТАСС.
«Пока доминанта — это забота ЦБ о ликвидности подопечных ему банков, в первую очередь государственных», — сказал Федун, рассуждая о регулировании ставок и действиях Центробанка на валютном рынке.
Зато Федун уверен, что сделка ОПЕК+ продолжит действовать после 2022 года, и дал позитивный прогноз для ОПЕК: «В целом, мы не видим никаких ограничений для деятельности нашей компании ни при каком сценарии развития. Даже при радикальном сценарии МЭА, где поставки нефти сократятся на 30%, мы видим, что ОПЕК просто увеличит свою долю в рынке, с сегодняшних примерно 30% до 70-80% рынка будет контролироваться ОПЕК».
Впрочем, европейская «зеленая сделка» все равно угрожает экспортерам нефти, в том числе и России. Через 10 лет рынок ЕС попросту станет иным, и у РФ есть примерно десятилетие, чтобы перестроить свои экспортные потоки.
«Но нехорошая новость заключается в том, что через 10 лет европейский энергетический рынок в том виде, в котором он сейчас существует, начнет исчезать. То есть поставленные задачи к 2035 году выйти на нулевые выбросы от автотранспорта, резко сократить выбросы по самолетам и судам приведут к тому, что Европа не будет импортировать то количество нефти, дизельного топлива и бензина, которые в настоящий момент она импортирует, — цитирует Федуна ТАСС. — Фактически российским компаниям придется искать новые рынки сбыта, понимая, что Европа постепенно начнет сжиматься».
В качестве приоритетного Федун называет рынок Азии: «Такие страны, как Индонезия, Пакистан, Индия, Вьетнам, Малайзия». Китай же, который тоже сокращает выбросы углекислого газа, скорее всего введет углеродный сбор на импорт по образцу европейского.
Цветные металлы дорожают на позитивных китайских сводках
В четверг, 15 июля, отмечен рост стоимости фьючерсов на цветные металлы на LME на фоне опубликования позитивных китайских экономических сводок и пока сохраняющейся мягкой позиции ФРС США в отношении процентных ставок. Трехмесячный контракт на медь продолжил ценовой рост в Лондоне, подорожав на 1,5% к итогам среды, до $9486,50 за т, пользуясь устойчивым состоянием рынка. «Это будет вовсе не «медвежьим» подходом – установить «новую нормальность» - диапазон $8000-$10000 за т, - отметил аналитик Marex Гай Вульф. – Но если бы вы сказали такое в прошлом году, вас бы высмеяли».
«Закрытие меди «в зеленом», вероятно, до некоторой степени смягчит рыночное давление на металл в сторону ценового снижения», - полагает аналитик Энди Фарида, считая, что рост цены меди, возможно, продолжится.
Трехмесячный контакт на олово подорожал на торгах на $470 на стоимость тонны (+1,4%), финишировав на отметке $33130 за т. В ходе торгов цена металла выросла до $33180 за т.
Рост стоимости олова происходит на фоне ухудшения ситуации с поставками металла. Сообщается, что китайские заводы в провинции Юньнань должны будут сократить объемы производства на 25%. Поставки олова из Малайзии и Индонезии уже ограниченны.
Форвардный контракт на свинец подорожал на LME на 1,3%, до $2329,50 за т, вернувшись к уровням 9 июля. Тем временем запасы свинца на складах биржи упали до годового минимума 67,9 тыс. т (-49% к началу 2021 г.). На ShFE запасы никеля снизились до 7555 т (-58% с начала года; -74% относительно такого же периода годом ранее).
Трехмесячный контракт на алюминий подешевел на торгах на $7, до $2518 за т.
На утренних торгах пятницы цена никеля поднялась до самого высокого значения приблизительно за 5 месяцев, отражая серьезное подорожание нержавейки и уверенный спрос на никель на фоне недостаточного его предложения. Так, китайские фьючерсы на нержавеющую сталь выросли в цене более чем на 5%, до исторического рекорда, на фоне активного спроса на сталь и дефицита сырья для ее производства, а также ввиду слухов о возможном сокращении выработки в стальной отрасли.
Трехмесячный контракт на никель на LME подорожал на 2,3%, до $19205 за т.
Августовский контракт на металл в Шанхае вырос в цене на 3,1%, до 142950 юаней ($22110,34) за т, обновив максимум от 26 февраля.
Фьючерсы на медь в Лондоне подорожали на 0,1%, до 69,380 тыс. юаней за т. Стоимость олова выросла до рекордного показателя 228,5 тыс. т. Цена цинка выросла на 1,9%, до 22,355 тыс. юаней за т.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 10:57 моск.вр. 16.07.2021 г.:
на LME (cash): алюминий – $2503.5 за т, медь – $9424 за т, свинец – $2318.5 за т, никель – $19026.5 за т, олово – $34000 за т, цинк – $2965.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2520.5 за т, медь – $9458.5 за т, свинец – $2326 за т, никель – $19030 за т, олово – $33320 за т, цинк – $2978.5 за т;
на ShFE (поставка август 2021 г.): алюминий – $3013 за т, медь – $10730.5 за т, свинец – $2461.5 за т, никель – $21881 за т, олово – $35330.5 за т, цинк – $3476.5 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка октябрь 2021 г.): алюминий – $3013 за т, медь – $10751 за т, свинец – $2481.5 за т, никель – $21748 за т, олово – $34552 за т, цинк – $3469 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июль 2021 г.): медь – $9541.5 за т;
на NYMEX (поставка октябрь 2021 г.): медь – $9525 за т.
Международный обзор событий 12–16 июля
Тракторный марш в Новой Зеландии, обделённые американскими субсидиями китайцы и консолидация конголезского кобальта в руках Trafigura — в нашем обзоре
Китайские электробусы обделили американскими субсидиями
Компания BYD North America, подразделение китайского производителя общественного транспорта с электродвигателями BYD, намерена оспорить решение властей США, в соответствии с которым она не сможет получать субсидии на электрификацию американского автобусного парка. В ближайшие месяцы администрация Джо Байдена начнет программу поддержки этого направления в объеме $7,5 млрд, поскольку внедрение электробусов считается одним из самых быстрых способов сокращения выбросов парниковых газов в транспортном секторе.
Основным конкурентом завода электрических автобусов BYD, расположенного к северу от Лос-Анджелеса, является также базирующаяся в Калифорнии американская компания Proterra Inc. На сегодняшний день каждый игрок продал в США около тысячи электробусов — мизерные объемы в сравнении с ожидаемыми будущими заказами. В течение восьми лет планируется оборудовать электродвигателями около 50 тысяч американских автобусов, которые сейчас используют дизельное топливо, или примерно 70% имеющегося в США парка.
Однако, начиная с 2022 года, подразделение китайской BYD будет попадать под санкционные статьи американского законодательства, направленные против компаний из КНР, которые пользуются господдержкой на родине. Еще в 2019 году в отчете американского Конгресса утверждалось, что BYD получала субсидии от китайских государственных инвестиционных фондов и китайского бюджета для строительства заводов по производству аккумуляторных батарей, а это означает, что аналогичные льготы в США ей не положены.
Со своей стороны BYD заявляет, что 60% ее акций принадлежит инвесторам из США, включая знаменитого Уоррена Баффета, и усматривает в ограничениях очередное проявление антикитайской политики американских властей. Если BYD не удастся получить субсидии, ее потенциальная доля рынка электробусов может достаться другим производителям наподобие американской GILLIG или канадской Novabus, дочерней компании Volvo, однако пока они отстают от китайской компании в производственных мощностях.
Американец украинского происхождения хочет стать пионером водородной авиации
Базирующаяся в Лос-Анджелесе компания Universal Hydrogen собирается объявить о предварительных контрактах с рядом авиакомпаний по своему проекту развития авиации на водородном топливе. Одним из первых ее партнеров может выступить Icelandair, национальный авиаперевозчик Исландии.
Основателем Universal Hydrogen в 2020 году выступил выходец из Украины Павел (Пол) Еременко, ранее возглавлявший технический отдел авиастроительной корпорации Airbus. Нынешней весной стартап смог привлечь $20,5 млн от венчурного фонда Playground Global и других инвесторов на расширение команды и дальнейшее развитие собственных технологий.
Емкость рынка региональных воздушных судов с водородным топливом Еременко оценивает в $2,5 млрд, а разработки своей компании бизнесмен сравнивает с модульными капсулами компании Nestle, которые произвели революцию в потреблении кофе. Задача Universal Hydrogen, по его словам, заключается в том, чтобы разработать пакетные решения по переоборудованию существующих самолетов на использование водорода и предложить его региональным авиалиниям.
Одновременно Universal Hydrogen разрабатывает собственный водородный самолет с модифицированным турбовинтовым двигателем, который сможет вместить 40−60 пассажиров и выполнять полеты на расстояние до 700 миль. Партнерами проекта выступают компании Plug Power, которая возьмет на себя поставку водорода и топливных элементов, и magniX, разрабатывающая электродвигатели для авиации. Первый самолет на водородных элементах Universal Hydrogen обещает представить уже в 2025 году.
Новозеландские фермеры провели тракторный марш против климатической политики властей
Мелкие сельхозпроизводители Новой Зеландии 15 июля организовали общенациональную акцию под названием «Вопль протеста» с требованием ослабить экологическую политику властей. Для этого аграрии избрали популярный среди фермеров многих стран формат тракторного марша, выехав на автомагистрали на сельскохозяйственной технике, что спровоцировало пробки во многих новозеландских городах.
Основное требование протестующих — отмена «налога Ute», нового пакета законов, предполагающего введение субсидий для электромобилей при одновременном повышении сборов за большие автомобили с двигателями внутреннего сгорания, которые активно используются фермерами и продавцами их продукции.
Одновременно участники марша обратились к правительству с просьбой ослабить некоторые меры пограничного контроля в связи с коронавирусом, чтобы в страну могло въехать больше сезонных иностранных рабочих. «Нет фермера — нет еды» и «Не кусай руку, которая тебя кормит» — так звучали основные лозунги митингующих.
Сельское хозяйство и смежные отрасли напрямую формируют около 7% ВВП Новой Зеландии и являются основными источниками экспорта страны.
Конго и Trafigura консолидируют кобальтовую монополию
Демократическая Республика Конго (ДРК) собирается укрепить свое монопольное положение на мировом рынке кобальта — цветного металла, незаменимого в производстве батарей для электромобилей. В недрах одной из беднейших стран мира содержится основная часть его глобальных запасов, но значительные объемы кобальтового сырья, добываемого местными самодеятельными старателями, до недавнего времени проходили «мимо кассы», доставаясь различным посредникам.
Теперь государственная компания Entreprise Generale du Cobalt (EGC) намерена установить минимальную цену в $30 тыс. за тонну для кобальта, закупаемого у кустарей-одиночек. Эта попытка пополнить бюджет ДРК может спровоцировать очередной скачок цены на кобальт на мировом рынке, которая уже достигла $50 тыс. за тонну.
Одним из главных бенефициаров новой схемы может стать международный сырьевой трейдер Trafigura, который в ноябре прошлого года подписал с конголезской компанией пятилетнее соглашение о предоставлении авансового финансирования на будущие закупки 45 тыс. тонн кобальта. По условиям сделки, EGC имеет право продавать напрямую альтернативным покупателям лишь 50% производимого кобальта.
В ближайшие пару лет EGC намерена увеличить закупки гидроксида кобальта в южной провинции Луалаба втрое — с 7 тыс. до 20 тыс. тонн в год. В прошлом году объем производства кобальта в ДРК составил около 100 тыс. тонн (71% от общемирового), из которых порядка 10% было получено кустарным способом.
Сингапур извлекает солнечную энергию на плаву
Компания Sembcorp Industries открыла в Сингапуре одну из крупнейших в мире плавучих солнечных электростанций, которая способна производить до 60 МВт электроэнергии. Проект, реализованный на водохранилище Тенге, состоит из 122 тыс. солнечных панелей, занимающих территорию 45 гектаров.
По сообщению властей Сингапура, объемы новой солнечной генерации эквивалентны удалению 7 тыс. автомобилей с дорог города-государства. Электроэнергия будет использоваться для работы пяти водоочистных сооружений.
Еще одна аналогичная электростанция уже построена в проливе Джохор, который отделяет Сингапур от Малайзии. К 2025 году островное государство стремится к 2025 году увеличить производство солнечной энергии в четыре раза.
Брошенные в морях России суда попадут под Найробийскую конвенцию
В Госдуму внесен законопроект о присоединении России к Найробийской конвенции об удалении затонувших судов. Ее требования распространятся на флот в территориальном море РФ.
Ранее законопроект поддержало правительство РФ. Конвенция, принятая 18 мая 2007 г. в Найроби (Кения) применяется к судам, затонувшим в исключительной экономической зоне государства. Документ регламентирует информирование об инциденте с морским судном, определение опасности затронутым государством, вопросы уборки акваторий, страхование ответственности владельца судна.
Страна-участница может распространить применение конвенции на флот, затонувший в пределах его территории, включая территориальное море. Согласно законопроекту, именно с такой формулировкой Россия планирует присоединиться к конвенции, сообщает корреспондент Fishnews. Также предусмотрена следующая оговорка: «Российская Федерация не считает себя связанной положениями пунктов 2 и 3 статьи 15 Конвенции (они касаются урегулирования споров – прим. ред.)».
«Неучастие Российской Федерации в Конвенции создает ситуацию, когда российские суда, совершающие международные рейсы, обязаны выполнять положения Конвенции при заходе в воды стран – участниц Конвенции (это в том числе Бельгия, Болгария, Канада, Китай, Кипр, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Индия, Иран, Малайзия, Мальта, Марокко, Нидерланды, Панама, Португалия, Сингапур, Швеция и Великобритания), но не могут получить в России предусмотренное Конвенцией свидетельство, а иностранные суда, заходящие в российские воды, под аналогичные требования не подпадают», – отмечено в пояснительной записке.
Авторы законопроекта обращают внимание: выполняя требования документа в иностранных водах, РФ в своих морских водах не пользуется преимуществами участника конвенции. Присоединение к ней отвечает российским интересам.
Fishnews
Вокруг Африки
О бедном пирате замолвите слово
Константин Батанов
В январе этого года пираты напали на шедшее под флагом Либерии грузовое судно "Моцарт" в Гвинейском заливе, 15 членов экипажа взяты в плен, один погиб.
11 марта судно "Дэвид Би" подверглось нападению у берегов Бенина. В результате нападения 15 членов экипажа были похищены.
20 мая недалеко от побережья Ганы на рыболовецкое судно также напали пираты и похитили пять членов экипажа, состоявшего из граждан Кореи, Китая и России.
Министерство обороны Индии объявило, что с 18 по 19 июня Индия и Европейский Союз провели в Аденском заливе совместные военно-морские учения по борьбе с пиратством. В учениях приняли участие: фрегат ВМС Индии "Триканд", сомалийский авианосец "Аталанта", итальянский фрегат "Карабиньере", испанский фрегат "Наварра", французские фрегат "Суркуф" и десантный вертолётоносец "Тоннерре".
Это лишь небольшая часть списка новостей на пиратскую тематику. Обычно российские СМИ готовят репортажи о пиратах, если в результате их действий пострадали граждане России или если российские ВМС предпринимают антипиратские меры. На самом деле масштабы пиратства намного шире, и эта проблема не теряет свою актуальность.
В прошлом году было зарегистрировано 195 случаев пиратства и вооружённых нападений на морские суда, что на 30 инцидентов больше, чем в предыдущий год.
Чаще всего пиратство ассоциируется с Сомали и «африканским рогом», точнее — с Аденским заливом. О сомалийских пиратах пишут чаще, чем о других, потому что маршрут «вдоль берегов Сомали» является продолжением грузопотока через Суэцкий канал, то есть по нему проходит свыше миллиарда тонн грузов в год (данные 2020 года), что равно примерно 12% мирового объёма грузоперевозок и 19 тыс. судов в год. Этот же маршрут является основным путём для поставок нефти с Ближнего Востока в Европу и США (600 тыс. баррелей сырой нефти в год). Таким образом, деятельность сомалийских пиратов затрагивает интересы очень большого числа стран и не может оставаться без внимания.
Кроме Аденского залива можно выделить следующие зоны высокой активности пиратов.
Первая — Малаккский пролив. Здесь тоже проходит один из важнейших морских путей в мире. Пиратство в этом регионе исторически очень развито и по своим масштабам не уступает «африканскому рогу». Ширина Малаккского пролива всего около 40 км, через него проходит около четверти ежегодных мировых торговых грузоперевозок. Его значимость растёт параллельно с ростом экономик стран Северо-Восточной Азии: Китая, Японии и Южной Кореи.
Вторая — Карибский бассейн. Этот регион имеет долгую историю развития пиратства и широко известен благодаря фильму "Пираты Карибского моря". Хотя в последние годы число инцидентов уменьшается, и их суть сводится к банальному грабежу яхт. Большинство случаев пиратства происходит у побережья Венесуэлы или на островах в восточной части Атлантического океана и вокруг них, таких как Тринидад и Тобаго, Барбадос и Гренада.
Третья — Гвинейский залив, омывающий берега Нигерии, Бенина, Того и Ганы. Отличительной особенностью местных пиратов является то, что если их малаккские и сомалийские «коллеги» предпочитают грабить торговые суда, то пираты — гвинейцы часто нападают на нефтяные танкеры. Если им удаётся захватить танкер, то они отгоняют его к берегам Нигерии и продают нефть на нелегальные нефтеперерабатывающие заводы. Вторая особенность заключается в том, что пираты из других регионов обычно, находясь на суше, ведут мирный образ жизни, тогда как нигерийские пираты и их собратья из соседних с Нигерией стран «ведут войну» постоянно, независимо от своего местоположения. По сути, они являются «морским филиалом» преступных группировок, действующих на суше. Они могут передислоцироваться с моря на сушу и наоборот в соответствии со своими криминальными целями и участвуют не только в морских грабежах, но и в контрабанде наркотиков, похищениях людей и других самых разных видах противозаконной деятельности.
Если малаккцы и сомалийцы преследуют цели исключительно собственной наживы (по сути, они «коммерсанты»), то нигерийцы могут иметь политические мотивы, так как находятся в тесном контакте с террористами и экстремистами. Как видим, у пиратов разных регионов разные задачи и источники финансирования. По этой причине «коммерсанты» при приближении военного корабля стараются скрыться. Если скрыться не удаётся, то они выбрасывают оружие за борт и говорят, что являются простыми рыбаками. Пираты Гвинейского залива ведут себя иначе: они обладают серьёзной огневой мощью и могут вступать в бой с местными ВМФ. Причём нельзя сказать, что военно-морские силы той же Нигерии обладают абсолютным преимуществом и обязательно выйдут из схватки победителями.
Как было сказано выше, целью сомалийских и малаккских пиратов является получение прибыли, то есть для них пиратство — это своего рода бизнес-проект. Обычно они являются рыбаками, которые раздобыли современное оружие (АК-47, РПГ и др.), средства спутниковой связи, быстроходные катера (обычно бригада состоит из 5–7 катеров) и решили попытать счастья — быстро разбогатеть. Дополнительные расходы включают в себя ремонт и техническое обслуживание катеров, медицинские услуги в случае ранения кого-то из пиратов и т.д. При приблизительном подсчёте затрат на их вылазки получится неподъёмная сумма для нищих сомалийцев, которые не могут позволить себе даже прилично одеться.
Поэтому существуют пиратские стартапы: местные жители могут не участвовать в пиратской деятельности напрямую, а вкладывают через местных бандитов деньги в потенциально прибыльные проекты. Для этого оценивается бюджет, после чего желающие могут внести определённую сумму и претендовать на свой процент от полученной прибыли. Число желающих принять участие в таком «краудфандинге» велико, так как прибыль может достигать несколько сотен процентов от вложенных средств (по некоторым данным — 600–700%). Существует множество форм долевого участия, помимо денег. Например, это может быть личное участие в составе пиратской бригады, также это может быть предоставление катера, автомата Калашникова или гранат.
После того, как пираты получают деньги от продажи захваченного товара или выкуп за освобождение заложников, очень часто им остаётся относительно небольшая сумма (иногда всего 1–2% от полученных денег), так как им приходится делиться с «инвесторами» и «крышей». «Крыша» — местные чиновники и криминальные лидеры, которые всё про всех знают и могут легко создать серьёзные проблемы пиратам и их семьям. В Сомали успешное ограбление одного корабля до последнего времени в среднем приносило около 1,85 млн долл. Согласно статистике, с 2000 по 2015 год сомалийские пираты совершили нападения на корабли более 3000 раз, 237 раз оказались успешными (то есть 8% от общего числа), общая прибыль (в том числе выкуп за захваченных заложников) составила 440 млн долл. Желающих откусить от такого пирога всегда найдётся немало.
Причина возникновения пиратства банальна: длительное пребывание за чертой бедности в нестабильных и неспокойных странах. В том же Сомали с 1991 года идёт гражданская война, страна поделена между полевыми командирами, которые под разными предлогами обирают живущее на подконтрольных им территориях население.
Мировое сообщество, ООН и различные фонды регулярно направляют гуманитарную помощь Сомали, чтобы как-то улучшить ситуацию и хотя бы не допустить голодной смерти миллионов сомалийцев (по разным оценкам, от голода там страдает около 3 млн человек), но эта помощь в конечном итоге попадает в руки местных полевых командиров.
Другой пример — Индонезия. В 1998 году там случился финансовый кризис, население страны на тот момент составляло 158 млн человек, а ВВП на душу населения — примерно 460 долл. (что даже ниже, чем в Западной Африке). Молодые индонезийцы (особенно из прибрежной сельской местности) после кризиса испытывали огромный соблазн раз и навсегда решить свои материальные проблемы, встав на преступный путь. Сейчас ситуация в индонезийской экономике начала улучшаться.
Про Нигерию и окружающие её страны говорить нет необходимости, потому что общеизвестно, что там низкий уровень жизни населения и нестабильная политическая обстановка. Хотя Нигерия богата полезными ископаемыми, люди там живут бедно. В 1970-х годах доказанные запасы нефти стран Гвинейского залива превысили 80 млрд баррелей, что составляет более 10% мировых запасов. Почти половина этого объёма приходится на Нигерию (36 млрд баррелей). Эта страна является крупнейшим производителем нефти в Африке: 90% её экспортных доходов приносят поставки нефти. Однако почти две трети населения Нигерии живёт за чертой бедности. Согласно оценкам Африканского банка развития, около 152 млн нигерийцев живут менее чем на 2 долл. в день. Различные группировки боевиков борются за перераспределение нефтяных доходов, усугубляя тяжёлое положение простого народа.
В результате политических и экономических потрясений, военных конфликтов и действий политического руководства возникает большое количество бедного населения, которое не может найти работу и вынуждено промышлять ловлей рыбы, чтобы не умереть с голоду. Поэтому изначально пираты были обычными рыбаками. Зачастую они продолжают заниматься рыбной ловлей, пока в их поле зрения не попадёт торговое судно. Далее они достают спрятанное оружие и готовы, не раздумывая, убивать всех, кто им сопротивляется.
Второй фактор, благоприятствующий этому промыслу, — рельеф местности. Пиратство развито там, где есть подходящие для этого природные условия: множество островов, небольших бухт, узкие проливы. Например, Аденский залив и Малаккский пролив очень узкие. Если пираты видят опасность со стороны иностранного военного корабля, они срочно отступают в территориальные воды своей страны, где иностранцы не могут их преследовать, потому что это будет означать вторжение в независимое государство. Поэтому у пиратов есть иллюзия безопасности. Кроме того, если они успевают добраться до берега, они сразу же смешиваются с местными жителями и их невозможно выделить и поймать.
Третий фактор — климатические особенности. Пираты чаще всего используют так называемую тактику волчьей стаи: обычно это группировка из 7–8 быстроходных катеров, на каждом из которых по 3–5 человек. Из-за того, что катер невелик размером, у него небольшой вес и низкие борта, пираты не могут заниматься своим промыслом в бурных морях, где постоянный сильный ветер или часто бывает плохая погода.
В продолжение тезиса о «тактике волчьей стаи» надо сказать, что между группами каждой «стаи» есть чёткое распределение обязанностей: несколько катеров приближаются к кораблю — «жертве», забрасывают на него крюки и верёвочные лестницы, а несколько других катеров остаются на расстоянии примерно 100 м и держат команду «жертвы» на прицеле, чтобы сразу открыть огонь в случае сопротивления. Обычно они действуют на рассвете или вечером, иногда во время обеденных перерывов, когда команда торгового судна устала или занята бытовыми вопросами.
Катера имеют технические преимущества и недостатки. Из преимуществ: они могут быть сделаны из дерева или пластика, их бывает сложно засечь радарами, поэтому они способны подобраться быстро и незаметно. Главный недостаток — их запас топлива крайне ограничен, обычно его хватает на один час быстрой езды. Этот недостаток даёт хороший шанс «жертве»: от пиратов можно просто «убежать», достаточно продержаться всего лишь час.
Четвёртый фактор, обеспечивающий развитие пиратства, — это юридические проблемы. Многие страны, чьи граждане являются пиратами, не согласны с тем, чтобы их территориальные воды патрулировали иностранные военные суда. Согласно законодательству той же Нигерии, охранные услуги иностранным торговым судам могут предоставлять только местные военные и полицейские корабли, чья эффективность вызывает большие вопросы. При согласовании планов борьбы с пиратством такие страны, как Нигерия, Сомали и Индонезия выступают против решительных действий иностранцев на их территории и в их водах. Другой общеизвестный факт — в соответствии с международным правом на торговых судах запрещено иметь оружие, поэтому пираты не боятся на них нападать.
Пятый фактор — отношение судовладельцев. Они предпочитают откупаться от пиратов, ведут с ними переговоры и дают деньги. Если пиратам удалось захватить корабль, то они почти гарантированно получат прибыль, потому что судовладельцам дешевле заплатить им, чем потерять груз. Это также дешевле, чем нанять квалифицированную охрану (которая, кстати, может вообще не понадобиться, если удастся избежать встречи с пиратами, но оплачивать дорогостоящие охранные услуги надо в любом случае). Большинству стран и судовладельцев также приходится послушно платить огромный выкуп в обмен на безопасность экипажа, спасая жизни своих сограждан.
Шестой фактор — на самом деле существование пиратов в некоторой степени выгодно крупным геополитическим игрокам. Под предлогом борьбы с пиратством они направляют свои боевые корабли патрулировать африканское побережье и основные грузовые маршруты. Это приносит им существенную пользу. Во-первых, это повышает международный престиж государства, потому что слабая страна не может себе этого позволить. Во-вторых, это держит в тонусе геополитических соперников, давая им понять, что в случае недружественных шагов с их стороны ответ может быть получен очень быстро. В-третьих, эту возможность можно использовать для подготовки персонала к несению службы в океане, отработки алгоритмов боевых заданий, проведения научных исследований и т.д. Под предлогом необходимости обеспечения безопасности торговых судов мобильные военные флоты в Индийском океане теперь имеют семнадцать стран. Некоторые из них создали базы своих военно-морских сил в регионе. Например, в соседнем с Сомали государстве Джибути существуют базы США, Франции, Японии, Италии и Китая. Также там несут службу военные Германии и Испании (своих баз эти страны там не имеют). Учитывая реалии геополитической борьбы в мире, если бы пиратов не существовало, то их бы придумали.
Резюмируя вышесказанное, можно прийти к выводу, что пиратство будет существовать долгие годы и само по себе не исчезнет. Для решения этой проблемы необходимо навести порядок и повысить уровень жизни в основных очагах пиратства, а это затрагивает очень много политических, экономических, международных проблем и, соответственно, займёт не одно десятилетие.
Геополитическая обида «Газпрома»
В росте цен на газ европейские потребители обвиняют именно «Газпром», планируя в будущем и вовсе отказаться от газовых поставок из России
Несмотря на существенный рост импорта газа из РФ в первом полугодии в Европе сформировался дефицит этого вида топлива. Цены бьют исторические рекорды, причем европейские потребители обвиняют именно «Газпром», который, соблюдая договоренности по долгосрочным контрактам, якобы не хочет наращивать спотовые поставки. «Нефть и Капитал» побеседовал с отраслевыми экспертами, которые считают, что «Газпром» таким образом пытается убедить Европу в необходимости запуска «Северного потока-2». Однако в отдаленной перспективе ЕС может вообще отказаться от российского природного газа и России не удастся заменить его, например, водородом.
Взлет газовых цен на европейских рынках
За последние дни газовые цены в Европе несколько раз обновляли многолетние рекорды. Так, еще 25 июня стоимость 1 тыс. кубометров в ЕС обновила максимумы за 13 лет, и это было только начало. 29 июня цена газа на хабе TTF в Нидерландах превысила $400 за 1 тыс. кубометров, а 1 июля стало известно, что стоимость августовских фьючерсов на газ (также на TTF) уже превысила $450. Тогда же цена тысячи кубов на спотовом рынке (данные биржи EEX) поднялась выше отметки в $430.
«Первопричина высоких цен в Европе — холодная и продолжительная зима, — напоминает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
— Европейцы израсходовали много газа из подземных хранилищ. А когда настало время их заполнять, оказалось, что текущее предложение недостаточно. Дефицит образовался из-за того, что в Азии потребление газа растет быстрыми темпами, и там цены на газ очень высоки.
В итоге сжиженный природный газ со всего мира направился именно в Азию. Это и создало дефицит предложения в Европе и повысило цены».
Юшков отметил, что на хабах, где цену определяет именно СПГ, котировки значительно выше, чем на тех, где сильно влияние трубопроводного газа (например, в Германии).
Главный директор энергетического направления Института энергетики и финансов Алексей Громов также указывает, что полностью обеспечить рост спроса какими-то другими поставками (не от «Газпрома») Европа не может, иначе давно бы уже это сделала.
«Сейчас возникла ситуация, когда, например, объемов сжиженного природного газа для обеспечения нужд европейских потребителей не хватает либо этот газ стоит слишком дорого», — говорит эксперт.
Виноват «Газпром»?
Дефицит газа в Европе произошел на фоне роста поставок со стороны «Газпрома». Как сообщала компания 1 июля, поставки в дальнее зарубежье в январе–июне выросли год к году на 25,7% и достигли 99,9 млрд кубометров, что близко к историческому рекорду. В частности, поставки топлива в Румынию выросли на 264%, в Турцию — на 209,3%, в Сербию — на 103%, в Германию — на 43,4%, в Болгарию — на 42,6%, в Грецию — на 24%, в Польшу — на 18,6%, во Францию — на 15,1%, в Италию — на 14,1%.
Кстати, ранее «Газпром», ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe, неоднократно отмечал, что Европа в текущем году существенно отстает в заполнении своих хранилищ. Зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова говорила, что закачка газа в европейские ПХГ в 2021 году может завершиться не в октябре, как обычно, а позднее. 1 июля газовый холдинг сообщил, что запасы в хранилищах Европы по состоянию на 29 июня составляли лишь 18 млрд кубометров, тогда как за осенне-зимний период из ПХГ было отобрано 66 млрд кубов. При этом в отдельные дни июня суточная закачка газа в европейские хранилища находилась на минимальных уровнях за много лет: 22 июня было 247,9 млн кубов (минимум с 2013 года), 23 июня — 237,1 млн кубов (минимум с 2012 г.).
Однако, как сообщали ранее Financial Times, игроки европейского газового рынка и отраслевые эксперты обвиняют в сложившейся ситуации именно «Газпром». Холдинг якобы ведет себя как оппортунист и не хочет поставлять дополнительные объемы топлива по спотовым контрактам. Масла в огонь подлил тот факт, что в конце июня «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности украинской газотранспортной системы (на торги были выставлены транзитные мощности по прокачке 63,7 млн кубометров в сутки).
«Газпром» в ответ заявил, что поставки газа ведутся в точном соответствии с запросами потребителей и с учетом пропускной способности по конкретным направлениям.
«Позиция „Газпрома“ здесь очевидна: компания с одной стороны выполняет все свои обязательства по долгосрочным контрактам, но с другой не дает дополнительный газ на спотовый рынок, так как рыночная конъюнктура благоприятная, цены растут и еще будут расти. Так что в данной ситуации „Газпром“ просто выжидает, чтобы увеличить доход от продаж (особенно с учетом ценового провала второй половины 2020 года). А сейчас период заполнения хранилищ только начинается, цены в июле еще подрастут, и „Газпром“ свое слово еще скажет, когда это будет максимально выгодно компании, — комментирует Алексей Громов.
— Единственное, чего „Газпром“ не хочет из политических соображений, это наращивать транзит через Украину. Именно этим обусловлено нежелание компании бронировать дополнительные мощности».
Следует отметить, что «Газпром» с самого начала выступал против спота, говоря о его меньшей надежности по сравнению с долгосрочными контрактами. Помимо того, что спотовый рынок далеко не всегда обеспечен необходимыми объемами газа, резкое увеличение спроса приводит к существенному росту цен, что, собственно, и происходит сейчас. Однако европейские партнеры «Газпрома» еще в начале 2010-х добились введения в ценовую формулу российского холдинга спотовой составляющей. Сейчас около 30% продаваемого «Газпромом» топлива индексируется по ценам спотовых площадок.
Есть, впрочем, и другая сторона вопроса. Алексей Громов полагает, что со стороны «Газпрома» может присутствовать и элемент своеобразной «геополитической обиды».
«Европа столько усилий потратила на борьбу с «Северным потоком-2», а сейчас она действительно нуждается в газе. И «Газпром» в свою очередь показывает характер: «Окей, мы свои долгосрочные обязательства выполняем, но смотрите, как вам без газа все-таки не очень хорошо. И все же подчеркну, что «Газпром» — коммерческая структура, которая во главу угла ставит реализацию своего газа с максимальной выгодой», — говорит эксперт.
Игорь Юшков также полагает, что «Газпром» подталкивает Европу к беспрепятственному вводу в строй «Северного потока-2», в том числе отказываясь от бронирования допмощностей украинской ГТС. Холдинг, по словам эксперта, откровенно намекает: хотите дополнительные поставки — давайте запускать новую инфраструктуру.
Что будет дальше?
Такое поведение «Газпрома» может вызвать негативную реакцию со стороны его европейских партнеров. А в долгосрочной перспективе Европа вообще намерена отказаться от использования природного газа. Пока, впрочем, в первую очередь планируется отказ от угля и нефти, а газ считается «топливом переходного периода», пока Европа полностью не «озеленит» свою энергетику.
Игорь Юшков не считает, что Европа «в отместку» решит, например, отказаться от российского газа. Эксперт указывает, что европейские потребители не отказываются от СПГ из Катара, Соединенных Штатов и других стран, хотя поставщики и перенаправляют потоки на премиальный азиатский рынок. В то же время, по словам Юшкова, при высоких ценах на газ в Европе уже начала развиваться межтопливная конкуренция, причем пока выигрывают не ВИЭ или водород, а как раз уголь, от которого ЕС планирует избавиться.
У Алексея Громова несколько иная точка зрения. Он также считает, что в перспективе как минимум ближайших десяти лет Европа не сможет отказаться от использования природного газа, который сейчас является наиболее востребованным источником энергии в Евросоюзе после ВИЭ.
«Но после 2030 года истекут сроки долгосрочных контрактов „Газпрома“. И возникает вопрос: что делать „Газпрому“ после того, как Европа перестанет нуждаться в российском природном газе? Перспективами водорода, произведенного из природного газа, Европа явно не вдохновлена. Точнее, речь идет именно о потенциальных водородных поставках „Газпрома“. Я участвовал в переговорах по этим вопросам, и все инициативы холдинга в этой сфере (например, поставки метано-водородных смесей по уже существующей инфраструктуре) в ЕС либо наталкиваются на равнодушие, либо попросту игнорируются.
Потому что, исходя из этих переговоров, становится понятно, что европейцы в своей энергетике хотят заменить водородом конкретно российский природный газ, снизить зависимость именно от России. И они совсем не хотят менять российский природный газ на российский же водород», — говорит Громов.
По его мнению, в «Газпроме» это тоже прекрасно понимают. Громов констатирует, что отношения с Европой в газовой сфере стали очень напряженными, сейчас их уже нельзя назвать партнерскими: стороны лишь четко придерживаются буквы заключенных ранее договоренностей. Так, Европа откровенно саботировала тот же «Северный поток-2» всеми возможными способами (только Германия поддерживала этот проект).
«Учитывая, что после 2030–2035 гг. Европа уже не будет главным рынком для „Газпрома“, российскому холдингу следует, во-первых, развивать сектор СПГ (в этом направлении „Газпром“ пока отстает от того же НОВАТЭКа) и переориентироваться на азиатское направление, как наиболее перспективное. Причем это уже не только Китай, но и страны, заинтересованные в российском газе, но не имеющие возможности получить его по трубопроводам. В первую очередь это Индия, но также Бангладеш и даже Малайзия, которая пока является экспортером СПГ, но, учитывая рост внутреннего потребления, в будущем начнет его импортировать», — рассказывает эксперт, добавляя, что параллельно «Газпрому», безусловно, следует развивать и водородное направление.
Алексей Топалов

Девять лет развития. Владимир Жидкин: строим город мечты с комфортом для его жителей
Вчера Троицкому и Новомосковскому округам исполнилось девять лет. За эти годы была проделана огромная работа по созданию комфортной среды на присоединенных территориях. Здесь проложены две линии метрополитена, строятся широкие магистрали, возводятся социальные и инженерные объекты. О том, что ожидает самые молодые округа Москвы, в интервью "ВМ" рассказал руководитель Департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.
- Владимир Федорович, давайте попробуем вернуться на девять лет назад. С какими сложностями столкнулись на первых этапах освоения территорий, которые из ведения Московской области перешли столице?
- Сейчас мы двигаемся по намеченному курсу, и все утвержденные планы получаются. Но тогда, в самом начале пути, нам приходилось подбирать оптимальные пути развития и решения самых разных проблем. Поиск ответов на волнующие вопросы проходил при участии в том числе и мирового сообщества. Мы смотрели варианты сценариев развития в других мегаполисах, где реализовывались подобные проекты по увеличению городских территорий. Поездки предпринимались в различные страны. Мы изучали опыт Шанхая, где за 20 лет была освоена и застроена прилегающая территория. Смотрели на Куала-Лумпур - город, развивающийся на свободной территории. Был рядом и более близкий пример - Астана, ныне Нурсултан. Обращались также к опыту Парижа, где о расширении границ заявили раньше Москвы. Мы нашли для себя оптимальные модели и с первых дней закрепили за этим мегапроектом принцип комплексного развития.
- Что он в себя включает?
- Создание центров притяжения, рабочих мест, строительство дорог, станций Московского метрополитена, модернизацию инженерной инфраструктуры, улучшение жилищных условий, возведение социальных объектов, нехватка которых очень остро ощущалась тогда. Сложностью было и то, что почти 93 процента свободных от застройки земельных участков принадлежало различным инвесторам. И мы решили, что проект развития присоединенных территорий должен быть совместным: город и застройщики должны приложить усилия к тому, чтобы сделать два самых молодых округа столицы полноценной ее частью.
И это удается? Московский опыт оказался интересен в тех странах, где вы пробовали перенять принципы расширения и освоения территорий? Теперь и азиатские, и европейские страны обращаются к московскому опыту. Взять, к примеру, Большой Париж - один из проектов, по которому происходило расширение городских границ, на который мы опирались. Поначалу мы обращались к их идеям, тем более что французы быстро проектировали. Однако их темп строительства оказался значительно ниже, нежели в Москве. Теперь они охотно советуются с нами, удивляясь тому, какое развитие получает российский мегаполис.
- А застройщики охотно взялись за помощь городу, за развитие территорий?
- Это было и в их интересах в том числе. Но мы поставили ряд жестких условий: никаких спальных районов с многоэтажками без детсадов, школ и больниц. Хочешь строить - не забывай о создании рабочих мест и социальных объектах. Город поможет с развитием транспортной и инженерной инфраструктуры, определит сроки и порядок реализации ключевых проектов. Что важно, инвесторы видят нашу работу и вложения от города: за девять лет Москва потратила более 600 миллиардов на развитие присоединенных территорий.
- А инвесторы?
- Их доля вложений выше - за девять лет они потратили 1,6 триллиона рублей. Мы планируем, что этот показатель будет только расти.
Центры притяжения
- Владимир Федорович, вы говорите о центрах притяжения. Что они значат для Новой Москвы?
- Это те точки роста, которые привлекают и будут привлекать инвесторов и жителей. Например, административно-деловой центр "Коммунарка" - один из самых крупных проектов в Новой Москве. Только сейчас здесь проектируется и строится порядка полумиллиона квадратных метров различной недвижимости.
Введены в эксплуатацию корпуса одной из крупнейших городских больниц, работают офисы, в том числе и городских структур. Интерес застройщиков к этой части Новой Москвы только растет. Его проявляют крупные системные российские девелоперы, есть и зарубежные компании, которые хотели бы разместить здесь свои объекты. Другой пример - Прокшино, где устроен большой парк, работает станция метро и создается один из лучших жилых кварталов. Румянцево - и метро, и жилье, и рабочие места - все есть в этой части присоединенных территорий. И таких точек в Новой Москве 12. Однако это не означает, что мы забываем об остальных территориях двух самых молодых округов столицы. Мы продолжаем их комплексно развивать, давая им ту инфраструктуру, которая нужна: дороги связки, благоустроенные дворы, парки, скверы, новое жилье и социальные объекты. Это стандарт развития Новой Москвы - города мечты, который мы строим в столь короткие сроки.
- А какое количество рабочих мест уже создано в Троицком и Новомосковском округах?
На момент присоединения новых территорий в их границах существовало 84,8 тысячи мест приложения труда. Всего с 2012 года на территории Новой Москвы с учетом инновационного центра "Сколково" создано более 182 тысяч новых мест приложения труда. Их общее число составляет 267 тысяч, то есть мы отмечаем за девять лет рост более чем в три раза. Дефицит рабочих мест в Новой Москвы ликвидирован. Сегодня эта территория является профицитной с точки зрения мест приложения труда.
Социальный ориентир
- Вы отмечали, что одна из проблем, с которой столкнулись в самом начале, - дефицит социальных объектов. Как решается вопрос сейчас?
- О социальной ориентированности развития новых территорий говорят статистические данные: с 2012 года за счет городского бюджета построено 54 детских сада, 19 школ, 15 объектов здравоохранения. Еще более 50 социальных объектов введено за счет инвесторов. И эту работу они планируют продолжить с нарастающими объемами.
- О каких объемах может идти речь?
- За пять ближайших лет инвесторы построят в Новой Москве 112 объектов социального назначения. В их числе - 41 школа, 64 детских сада, 7 поликлиник. Реалистичность планов инвесторов подтверждает тот факт, что 31 объект из перечисленных уже находится в стадии строительства.
- Владимир Федорович, а как дела с сооружением спортивных центров и комплексов?
- В настоящее время на территории Троицкого и Новомосковского округов города реализуется сразу несколько проектов за счет средств Адресной инвестиционной программы. Среди знаковых могу назвать многофункциональный физкультурно-оздоровительный центр с бассейнами, катком и универсальными спортивными залами на территории Административно-делового центра в поселке Коммунарка, рекреационно-спортивный комплекс городской спортивно-оздоровительной базы "Лесная", спортивный кластер "Красная Пахра", в составе которого возведут ледовый каток, ФОК, а также оборудуют горнолыжный склон. Кроме того, мы большое внимание уделяем созданию парков, где также есть спортплощадки.
- Кстати, а сколько зеленых зон обустроено в Новой Москве?
- За прошедшие девять лет построено 19 парков, в настоящее время семь объектов находится в различной степени готовности.
Ставка на здоровье
- Владимир Федорович, давайте поговорим о будущем. Сейчас многих волнует вопрос создания дополнительных медицинских мощностей. Что будет сделано в ближайшие годы в Новой Москве?
- Помимо возведения второй очереди больницы в Коммунарке, о которой я говорил, планируется построить 17 объектов здравоохранения. Среди них: 13 поликлиник - в поселениях Внуковское, Московский, Сосенское, Воскресенское, Филимонковское, Первомайское, Мосрентген, Марушкино и Кокошкино. Появятся до конца 2023 года три подстанции скорой медицинской помощи в Московском, Киевском и в составе больничного комплекса в Коммунарке. Кроме того, запланировано открытие центра реабилитации инвалидов "Красная Пахра" Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Пока работа идет на его первой очереди.
- А что с точки зрения объектов культуры? Какие крупные проекты реализуете в этой сфере?
- На территории Административно-делового центра в Коммунарке ведется проектирование межмузейного многофункционального депозитарно-выставочного комплекса для музеев федерального и городского ведения. Общая ориентировочная площадь надземной части - 70 тысяч квадратных метров. Представляете масштаб? Город получит одно из крупнейших фондохранилищ. При этом федеральная часть комплекса рассчитана на размещение четырех музеев площадью 50 тысяч "квадратов", включая общественные пространства. Городская часть комплекса рассчитана на размещение фондов 16 музеев Москвы площадью 20 тысяч квадратных метров. Строительство объекта планируется завершить в 2024 году.
Километры новых магистралей
- Владимир Федорович, а как обстоят дела с транспортной составляющей Новой Москвы?
- За прошедшие годы открыто восемь станций Московского метрополитена, в их создание вложено порядка 200 миллиардов рублей. В ближайшие годы планируется ввести еще семь станций городской подземки. Большой упор мы делаем на развитие Московских центральных диаметров. Два маршрута пролегают через присоединенные территории. Для удобства пешеходов и автомобилистов построены современные путепроводы через железнодорожные пути. Появление станций Московских центральных диаметров дало новые возможности для передвижения жителей Новой Москвы.
- А дороги?
- За девять лет в Новой Москве построено почти 270 километров дорог. В этом году перешагнем 300-километровый рубеж, введя в эксплуатацию почти 50 километров дорог. В их составе - восемь искусственных сооружений и три пешеходных перехода. При этом Троицкий и Новомосковский округа получают современные трассы - их ширина зависит от места пролегания. В основном возводим 4-8-полосные магистрали. И на каждой из них обустроены современные остановочные пункты, есть энергоэффективные светильники. Оборудуем также велодорожки и тротуары для пешеходов.
- Какие крупные дорожные проекты реализуете в нынешнем году?
- Могу назвать следующие проекты: реконструкция Можайского шоссе и строительство путепровода через железнодорожные пути Белорусского направления МЖД вблизи платформы "Жаворонки", строительство транспортной развязки на Киевском шоссе в районе станции метро "Саларьево", реконструкция и строительство автомобильной дороги от М-3 "Украина" - деревня Середнево - деревня Марьино - деревня Десна. Возводим связку между городом Московский и станцией метро "Филатов Луг". Крупным проектом можно назвать строительство автомобильной дороги "Воскре- сенское - Каракашево - Щербинка". Кроме того, обустраиваем подъездные дороги к пожарным депо в поселениях Краснопахорское, Кленовское, Филимонковское, Киевский и в Щербинке.
Переезд продолжается
- Владимир Федорович, а каковы планы по программе реновации в Новой Москве?
- В нынешнем году планируется ввод жилых домов в поселениях Мосрентген, Рязановское и в Троицке. Продолжается строительство в Десеновском. Ведется проектирование и строительство объектов инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры для обслуживания кварталов реновации. Всего же по программе реновации на присоединенных территориях переселят 251 дом. В настоящее время под новостройки утверждено 13 стартовых площадок. Два дома уже возведены, оба располагаются в поселке Шишкин Лес.
- А в целом - каковы показатели по вводу недвижимости и жилья в Новой Москве?
- За почти девять лет в Новой Москве построили и ввели в эксплуатацию 21,3 миллиона квадратных метров недвижимости, из них 16,4 миллиона "квадратов" пришлось на жилье. В этом году темпов не снижаем, введем 2,5 миллиона квадратных метров. Мы сдерживаем рост строительства жилья, вводя все объекты по плану.
- Почему сдерживаете?
- Так мы корректируем планы застройщиков. Важно, чтобы в районах помимо жилья появлялись социальные объекты, создавалась качественная инженерная и транспортная инфраструктура. То есть мы стараемся соблюдать заложенные изначально принципы комплексного освоения и развития присоединенных территорий. И нам это удается. Хотя у нас еще много планов по созданию города будущего. Их реализуем сейчас.
ДОСЬЕ
Владимир Федорович Жидкин родился в 1963 году в Саранске. Окончил в 1985 году Мордовский ордена Дружбы народов государственный университет имени Огарева. Трудовую деятельность начал в 1985 году как мастер строительного участка. Генеральный директор ООО "Инженерно-строительная компания "Технотэкс-Кев" (2000-2001), первый заместитель генерального директора ГУП по развитию Московской области (2001-2003), первый заместитель министра строительства Московской области (2003-2008). Работал министром жилищно-коммунального хозяйства правительства Московской области (2008-2009), заместителем председателя правительства Московской области (2009-2012). 22 мая 2012 года распоряжением мэра Москвы назначен руководителем Департамента развития новых территорий города.
Цифра
2,2 триллиона рублей вложено в развитие Троицкого и Новомосковского округов за неполные девять лет.
Темпы возведения домов, станций метро и дорог не снижают ни столица, ни инвесторы
В ТЕМУ
Территория Москвы увеличилась в 2,4 раза с июля 2012 года: земли на юго-западе Подмосковья присоединили к столице, образовался Троицкий и Новомосковский административные округа, которые состоят из 21 муниципального образования. Здесь находятся крупнейший в Европе логистический узел, два международных аэропорта - Внуково и Остафьево. Железнодорожные перевозки осуществляются по Киевскому и Курскому направлениям и Большой окружной Московской железной дороге. За последние годы на территорию Новой Москвы пришло метро. Главный принцип развития территорий - полицентричность и создание крупных точек роста. Сейчас их 12 на карте самых молодых округов. Активнее всего развиваются Коммунарка, Прокшино и другие.
Василиса Чернявская
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА
"Коронавирус — классный!" В США год молчали об опасных экспериментах
Виктория Никифорова
Власти США продолжают искать организаторов утечки коронавируса в китайской лаборатории в Ухане. А вот сами американцы нашли возможного виновника гораздо ближе — на собственной территории. Им оказался британский ученый с засекреченной биографией и интересными международными связями.
Знакомьтесь, Питер Дашак. Видный зоолог. Глава загадочной благотворительной организации EcoHealth Alliance, в которой наряду с известными учеными состоят жены богатых американцев и высокопоставленные сотрудники спецслужб, в том числе бывший глава легендарной биолаборатории Форт-Детрик.
Только что американское издание добыло доказательства того, что уже больше десяти лет Питер Дашак занимался исследованиями коронавирусов в лабораториях и в дикой природе. Причем финансировались его "изыскания" американской корпорацией Google.
Интересно, что корпорация всячески скрывала эти проекты, хотя, казалось бы, спонсирование научных исследований — благое дело. Питер Дашак активно экспериментировал с коронавирусом, пытаясь модифицировать его так, чтобы он мог от животных передаваться людям.
"Коронавирус такой классный! — рассказывал он в 2019 году. — Им очень легко манипулировать в лаборатории. Мы с Ральфом Бариком (Университет Северной Каролины) работали над этим… Вставляешь в него кусочек другого вируса и дорабатываешь в лаборатории".
Однако сразу после начала пандемии Дашак стал главным спикером Google по теме коронавируса и принялся яростно отрицать саму возможность искусственного происхождения заразы. Он даже организовал письмо ученых в респектабельный научный журнал Lancet, в котором любое предположение о рукотворном характере коронавируса объявлялось ересью.
В это же самое время руководство Google топило в поисковике и откровенно банило всех спикеров, в том числе и знаменитых ученых, которые пытались озвучить альтернативную точку зрения. Лабораторное происхождение коронавируса на целый год стало табу.
Сегодня ситуация изменилась, однако Дашак продолжает пиарить версию естественного происхождения вируса. Зимой этого года он в составе комиссии ВОЗ ездил в Ухань и опять развенчивал идею об искусственном происхождении коронавируса.
Возникает вопрос: а зачем вообще IT-гиганту нужны проекты в области вирусологии? Послушаем "главврача" корпорации, главу подразделения Google Health Дэвида Фейнберга. "На самом деле Google — это компания, занимающаяся здравоохранением, — признается он журналистам. — Она хочет помочь миллиардам людей, к которым имеет доступ".
А миллиарды-то и не знали... До сих пор все планы Google Health по охране здоровья человечества остаются тайной за семью печатями. Изредка только наружу прорываются скандалы типа того, что случился в 2019-м.
Тогда, незадолго до пандемии, выяснилось, что в 2018-2019 годах корпорация запустила абсолютно засекреченный проект "Соловей" по сбору медицинских данных всех пациентов клиник американской сети "Вознесение" (Ascension). У "Вознесения" более 2600 клиник, действующих в 21 штате. Соответственно, в распоряжении корпорации оказалась интимнейшая персональная информация миллионов американцев. Зачем она Google, что она собирается с этими данными делать?
Не менее загадочен и скандал с Дашаком. Американцы сегодня сконцентрировались на том, что ученый не раз работал в уханьской лаборатории. Однако на самом деле он работал по всему миру. Эксперименты по передаче коронавируса от летучих мышей людям он проводил, например, на территории Бангладеш, другие опыты — в Танзании, Малайзии, Южной Африке, США.
Нет, никто не говорит, что британский ученый сконструировал вирус, а потом организовал его рукотворную утечку. Это годится разве что на сценарий фильма про Джеймса Бонда и суперзлодея. Однако невозможно не заметить, насколько выгодной оказалась пандемия для корпорации Google. Пока мы с вами теряли здоровье и заработки, хозяева корпорации бешеными темпами "рубили бабло": всего за год чистая прибыль Alphabet (хозяина Google) выросла на 17%, а капитализация — на треть.
Особенно зловещий характер программам здравоохранения от Google придает то, что корпорация давно и плотно сотрудничает с американским Министерством обороны. Топ-менеджер компании Айзек Тейлор заседает в экспериментальном подразделении Пентагона по инновациям (DIUx). Глава Alphabet Эрик Шмидт возглавляет Совет по оборонным инновациям при Пентагоне — вместе с ним там заседает глава Amazon Джефф Безос, кстати сказать. Оба эти совета занимаются в том числе вопросами биозащиты и военного применения новейших биотехнологий.
Неудивительно, что и опыты Дашака с коронавирусами спонсировались Пентагоном и правительственными агентствами США. Больше 64 миллионов долларов предоставило британскому ученому USAID — запрещенная в России организация, печально известная своими диверсиями и провокациями по всему миру.
Еще шесть с половиной миллионов Дашаку перевело Агентство по уменьшению оборонной угрозы при Министерстве обороны США (DTRA). Деньги перечислялись в 2017-2020 годах. Название гранта: "На изучение риска вспышки зоонотической эпидемии в Западной Азии, вызванной вирусом летучих мышей".
Раньше специалисты DTRA работали по предотвращению создания "грязной бомбы", искали источники радиоактивного заражения, сейчас большинство из них переквалифицировалось на поиски биологических угроз. Ищут их сотрудники агентства почти исключительно вдоль границ России — в Казахстане, Азербайджане, Грузии, Армении и, натурально, на Украине. То есть именно там, где расположены засекреченные американские биолаборатории.
Еще в 2007 году DTRA составляло план действий на случай эпидемии гриппа типа "испанки". В 2009-м рассматривался сценарий, в котором некий "гениальный злодей" осуществит биодиверсию, заразив десятки тысяч людей вирусом Марбурга. Казалось бы, борьба с биотерроризмом вещь хорошая, нужная. Парадокс, однако, в том, что мировым лидером по утечкам опасных веществ остаются сами Соединенные Штаты.
Из более чем полутора тысяч американских биолабораторий (это только те, которым разрешено работать с самыми опасными вирусами и бактериями) течет как из ведра. "В наших лабораториях по два инцидента каждую неделю, и все идет по нарастающей", — жаловался журналистам агентства Рейтер эпидемиолог Марк Липсич из Гарварда.
Только в 2014 году на правительственном уровне несколько раз обсуждались опасные происшествия, связанные с тем, что на свободу вырвались возбудители оспы, сибирской язвы и птичьего гриппа. "Как нам справиться с утечками? Позакрывать лаборатории", — писала пресса.
Но, что еще хуже, американские ученые осуществляли и сознательные диверсии. В 2001 году, всего спустя неделю после 11 сентября, Брюс Ивинс, работавший в биолаборатории Форт-Детрик, принялся рассылать по почте споры сибирской язвы. С 2007 года ФБР следило за ним. Наверное, на допросах Ивинс мог бы рассказать много интересного, однако в 2008-м он почему-то покончил с собой.
...И вот с таким удивительным бэкграундом американцы сегодня пытаются обвинить в утечке коронавируса китайских ученых. С больной головы на здоровую, что называется.
"Что же это получается, мои легкие были уничтожены биооружием, создание которого проспонсировало правительство США? Ну и кто ответит за эту тупость невероятную?" — задается вопросом читатель из Сан-Антонио.
Российская экспортная пошлина может подтолкнуть цены на ферросилиций в США
Как сообщает агентство Platts, производители и поставщики ферросилиция в США считают, что российская экспортная пошлина, которая будет взиматься с экспорта цветных металлов с 1 августа, может привести к еще большему росту рекордных цен на и без того напряженном рынке. Налоги установлены в размере $150 за тонну для ферросплавов и стали и будут применяться к экспорту с 1 августа по 31 декабря.«Я думаю, что вполне возможно, что в ближайшее время мы будем предлагать ферросилиций по $1,75 за фунт, и у нас будут забронированы товары по цене выше $1,70 только из-за налога», - сказал 29 июня источник производителя, который сообщил о спотовых продажах материала на уровне $1,60 за фунт.
Цена ферросилиция Platts в США в последний раз оценивалась 23 июня, когда она выросла до $1,55–$1,58 за фунт ($3417–$3483 за тонну) по сравнению с $1,50–$1,53 16 июня. С самого начала цена выросла с $1,42 до $1,47 за тонну. месяца и 97-99 центов в начале года.
Оценка 23 июня побила предыдущий рекорд, который последний раз наблюдался в июне 2008 года, когда оценка Platts достигла пика в $1,45–$1,55 за фунт. Следующая оценка рынка состоится после 30 июня.
Зависимый от импорта рынок США торгуется со значительной премией по сравнению с остальным миром. В Европе ферросилиций 23 июня был оценен в €1450 ($1 725) - €1 650 ($1 963) за тонну поставленной тонны с уплаченной пошлиной.
Китайские экспортные цены на 23 июня оценивались на уровне $1850–$1950 за тонну на условиях FOB.
Следующая оценка цен на ферросилиций Platts будет проведена 30 июня.
Экспорт ферросилиция из Азии в значительной степени зависит от контейнерных перевозок, где стоимость контейнера в США приближается к уровню $20 000 за TEU ($830 за тонну ферросилиция в объеме 24 т) по сравнению с примерно $2000 за TEU в четвертом квартале прошлого года. в прошлом году, когда между сталелитейными заводами были подписаны годовые контракты.
Производители из Малайзии и Азии из России также предпочитают продавать товары в Азии, поскольку более короткие сроки поставки означают, что, по словам источников на рынке, им быстрее платят.
Предполагается, что бразильские производители будут полностью проданы в третьем квартале и будут предлагать свои товары только на условиях FOB, поскольку они не хотят брать на себя риск фрахта, по словам участников рынка. Они также сталкиваются с производственными проблемами из-за засухи в стране. Это также способствует укреплению рынка США.
Второй источник согласился с тем, что российская экспортная пошлина, скорее всего, приведет к росту цен на ферросилиций в США, но не сказал, насколько выше.
Агент по закупкам на сталелитейном заводе сказал, что российская экспортная пошлина нежелательна и не могла быть введена в худшее время.
«Русские являются доминирующим поставщиком в США», - сказал покупатель. «И не похоже на то, что Малайзия может просто заменить их, поэтому сейчас неподходящий момент, когда цены уже резко выросли в этом году».
Юбилейная отгрузка
25 июня порт Козьмино отправил на экспорт 300-миллионную тонну нефти
Текст: Ирина Дробышева
Ежедневно в порту Козьмино идет прием российской нефти для последующей отгрузки на морские суда, которые доставляют углеводороды на экспорт в Китай, Японию, Южную Корею, Малайзию, Сингапур, США, Таиланд и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
С момента начала работы объем экспорта через Козьмино составил 300,05 миллиона тонн. Юбилейная тонна нефти марки ВСТО (ESPO) была отгружена 25 июня на борт танкера SEA PANTHER, после чего судно направилось в США.
Большая часть углеводородов традиционно поставлена в Китай - 56,2 процента. В тройке наиболее крупных экспортеров - Япония и Республика Корея (17,8 и 9,2 процента соответственно).
Главные преимущества восточного маршрута - высокое качество экспортного сорта нефти ESPO (его показатели полностью соответствуют требованиям ГОСТ), а также удобная транспортная логистика. Экспорт через терминал в Козьмино неизменно остается востребованным для нефтяных компаний.
- Несомненно, для всего коллектива отгрузка 300-миллионной тонны - знаковое событие. Очередная круглая цифра свидетельствует о стабильной, слаженной и надежной работе всех производственных звеньев нефтепорта, - отмечает заместитель генерального директора по товарно-транспортным операциям ООО "Транснефть - Порт Козьмино" Вадим Головченко.
Первые же 100 тысяч тонн были отгружены на танкер "Московский университет" 28 декабря 2009 года, и эта дата считается началом работы порта - конечной точки нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан". Его деятельность обеспечивают три высокотехнологичных звена: площадка приема нефти, нефтебаза, береговые и причальные сооружения. Мощность перевалки - 36 миллионов тонн нефти в год. Два причала позволяют принимать танкеры водоизмещением от 80 до 150 тысяч тонн.
Нефтепорт Козьмино - современное, высокотехнологичное и надежное предприятие. Его береговые и причальные объекты спроектированы так, чтобы суда обслуживались максимально безопасно и быстро. Морские сооружения оснащены новейшими системами мониторинга погодных показателей с волномером, лазерной системой швартовки крупнотоннажных судов, автоматизированной системой мониторинга гидротехнических сооружений, телескопическими трапами.
В порту действует современная единая система диспетчерского управления (ЕСДУ). Она позволяет контролировать процесс перекачки нефти на участке трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" в Приморском крае и осуществлять отгрузку в танкерный флот у причалов предприятия. Из диспетчерской нефтепорта ведется управление всем технологическим оборудованием. Основные параметры перекачки нефти на морские суда контролируются автоматизированными системами управления производственных процессов. Кроме того, действует система обнаружения и защиты технологических трубопроводов, а также магистрального трубопровода линейной части от утечек нефти и несанкционированных воздействий.
Надежности и безопасной эксплуатации оборудования в Козьмино уделяется самое пристальное внимание. Порт находится в суровых условиях влажного морского климата, вызывающего высокую коррозийную активность. В настоящее время в резервуарном парке нефтебазы ведутся работы в рамках программы технического перевооружения. Специалисты приступили к плановой замене антикоррозионного покрытия двух вертикальных стальных резервуаров с плавающими крышами объемом 50 тысяч кубометров каждый. В числе задач этого года - плановая диагностика технологических трубопроводов площадки береговых и причальных сооружений. Подобные мероприятия позволяют поддерживать высокую безопасность эксплуатации оборудования и стабильную работу всего терминала.
На всех объектах и в морской акватории в зоне береговых и причальных сооружений специалисты нефтепорта ежегодно проводят более 150 тренировочных занятий по отработке оперативных действий на случай нештатных ситуаций. К слову, для предотвращения разливов нефти в момент ее перекачки на танкер проводится "обоновка": каждое судно полностью перекрывается специальными плавучими заграждениями.
В порту созданы все условия для безопасности экосистемы бухты Козьмино и прилегающей территории. Собственная эколого-аналитическая лаборатория ежегодно проводит около 27 тысяч анализов для контроля состояния сточных и морских вод, малых водотоков и природной подземной воды, качества питьевой воды, атмосферного воздуха и почвы. Ежедневный анализ проб подтверждает: качество окружающей среды соответствует нормативам.
Самый наглядный индикатор экологической эффективности - расположенная в одноименной бухте, в непосредственной близости от терминала, плантация марикультуры. Ведь гребешок приморский, мидия тихоокеанская и ламинария японская крайне чувствительны к негативным изменениям окружающей среды, так что их прекрасное самочувствие - самый важный показатель чистоты воды. Кстати, для повышения биоразнообразия залива Находка экологи ежегодно выпускают в акваторию по десять тысяч особей приморского гребешка.
Отметим, в 2020 году очередной аудит соответствия международным требованиям деятельности подтвердил: нефтепорт Козьмино отвечает всем стандартам в области экологии, энергетики и охраны труда. А это значит, что впереди у предприятия - новые показатели отгруженного на экспорт сырья и десятки лет стратегически важной для страны работы.
Справка
ООО "Транснефть - Порт Козьмино" - победитель регионального этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности-2020" в трех номинациях: "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы", "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы", "За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности".
КПК намерена сохранить открытость
Партия перенимает опыт всего мира, чтобы обеспечить более эффективное управление
Текст: Чэнь Инцюнь
Когда в 1986 году Сюй Цинци организовал в Куала-Лумпуре в Малайзии самый первый семинар на тему китайской политики реформ и открытости, он был впечатлен тем, что все китайские правительственные чиновники, члены Коммунистической партии Китая, выступавшие на семинаре, были открыты, любознательны и жаждали новых знаний.
"Они задали мне множество вопросов, в том числе о том, как Китай воспринимается внешним миром и что страна может сделать, чтобы лучше развиваться. Они были искренни, хотели общаться с внешним миром и познавать опыт других", - говорит он.
В последующие десятилетия члены КПК и китайские правительственные чиновники часто задавали Сюю, президенту исследовательского Центра новой инклюзивной Азии (CNIA) в Куала-Лумпуре, подобные вопросы.
"Если проанализировать 100-летнюю историю КПК, легко заметить, что партия всегда была открыта идеям людей со стороны. Она неизменно пыталась быть наиболее эффективной в долгой борьбе за национальное освобождение и стремилась улучшить управление страной после образования Китайской Народной Республики, и особенно после введения политики реформ и открытости в конце 1970-х", - говорит он.
Действительно, желание руководства КПК учиться у более развитых стран помогло Китаю найти путь развития, который соответствовал бы его внутренней обстановке, и за 30 лет стать второй по величине экономикой мира, а также поднять уровень жизни в стране и внести вклад в мировой экономический рост, говорит Сюй.
С того времени, как была начата политика реформ и открытости, Китай вывел из бедности более 770 миллионов человек и достиг цели по искоренению бедности, поставленной в Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года, на десять лет раньше.
Кроме того, Китай рад поделиться своим опытом с остальными странами, а это достижение - огромный вклад в искоренение бедности во всем мире, отмечает Сюй.
Генеральный секретарь ЦК КПК и глава Китая Си Цзиньпин призвал мировое сообщество строить будущее, основанное на открытости, инклюзивности, взаимоуважении и любви к планете, говорит Сюй.
"Китай также предложил инициативу "Один пояс, один путь", цель которой - укрепить связи между странами посредством скоординированной политики, сопряженной инфраструктуры, свободной торговли и инвестиций, финансового сотрудничества и отношений между людьми, - говорит Сюй. - Этой инициативой Китай предлагает миру общественные блага, ведь "Один пояс, один путь" воплощает дух мира и сотрудничества, открытости и инклюзивности, взаимного обучения и взаимной выгоды, который присущ Шелковому пути".
В программной речи, которую он произнес по видеосвязи на церемонии открытия Боаоского азиатского форума в 2021 году, Си Цзиньпин подтвердил намерение Китая сделать инициативу "дорогой, открытой для всех, а не тропой, принадлежащей кому-то одному".
"Мы приглашаем все заинтересованные страны принять участие в этом сотрудничестве и разделить его выгоды, - сказал он. - Инициатива направлена на развитие и взаимную выгоду, и в ее основе лежит дух надежды".
По словам Сюя, в 2017 году в устав КПК включили концепцию построения "сообщества единой судьбы" и задачу содействовать развитию инициативы "Один пояс, один путь", основываясь на принципах обширных консультаций, совместного вклада и общих выгод, и это лучше всего демонстрирует открытость партии.
Более того, с тех пор, как началась пандемия COVID-19, Китай присоединился ко всему миру в борьбе с общим врагом человечества и оказал помощь многим странам, поставляя вакцины и маски, и это еще один пример открытости партии и китайского правительства.
Профессор Китайского народного университета в Пекине, специалист по вопросам европейской интеграции Ван Ивэй говорит, что в Китае открытость заложена в основу государственной политики, и это отражено в конституции страны и документах правящей партии. Такое бывает редко, и это показывает, что партия и китайская цивилизация в целом всегда придерживались принципов открытости.
По его словам, КПК приобрела особый китайский колорит. Это значит, что она интегрировалась с революцией и традиционной культурой, преобразовывая такие традиционные идеалы, как устранение разрыва в уровне благосостояния и великое единство, в сегодняшнюю идею построения среднезажиточного общества и проведения всесторонней модернизации.
В своем развитии КПК всегда придерживалась принципа открытости, и Китай многому научился у западной цивилизации, говорит Ван Ивэй.
По его словам, открытость КПК стимулирует открытость Китая, а также вносит вклад в развитие мира. К примеру, с конца 1970-х политика реформ и открытости дала экономическому развитию страны большой толчок и вдохнула жизнь в мировую экономику.
Благодаря обмену опытом с партиями других стран КПК способствует инновациям и развитию политической цивилизации человечества.
"КПК ориентирована на людей. Она поклялась служить народу и внести вклад в мировое развитие. Таким образом, открытость, желание учиться и внедрять инновации можно назвать ее извечными достоинствами", - говорит Ван.
Директор Китайско-бразильского центра исследований и бизнеса Ронни Линс говорит, что влюбился в Китай и его людей, когда много лет назад впервые посетил эту страну. С тех пор, возвращаясь туда, он каждый раз испытывает гордость за то, как сильно развились и городские, и сельские районы Китая под руководством КПК и правительства.
По его словам, КПК обладает важной характеристикой - открытостью, что помогает ей оставаться успешной на протяжении последних ста лет. "У ее лидеров всегда было смелое видение будущего, они ставили на первое место благополучие народа, и, основываясь на открытости, они работают, чтобы исполнить мечты и желания населения страны".
Открытость и желание впитывать достижения человеческой цивилизации в КПК остаются важнейшими принципами, хотя измерение и контекст разных эпох помогли усовершенствовать принцип открытости, говорит он.
По мнению Линса, лидеры КПК принимают важнейшие решения касательно процессов открытости и экономического развития Китая, и это позволило превратить бедную страну в одну из самых значительных торговых держав в мире.
К примеру, со времени начала реформ Китай предпринял ряд мер, чтобы стать открытым внешнему миру. Среди них - создание особых экономических зон, что позволило привлечь солидные иностранные инвестиции и знания о технологиях, а также значительно ускорить экономическое и социальное развитие Китая.
Более того, в последние несколько лет под руководством КПК Китай стал более открытым, в том числе как ярый сторонник мультилатерализма, а также передачи другим странам опыта по искоренению бедности и проведения различных мероприятий мирового уровня, к примеру, Китайской международной импортной выставки, для расширения международных обменов.
"Действия партии и правительства показывают, что Китай привержен политике открытости, - говорит Линс. - Мы видим, как на протяжении истории страны партия умело применяла политику открытости в соответствии с нуждами Китая. Она подстраивается под потребности времени".
Китай может укрепить многосторонние отношения со странами и институциями по всему миру, говорит он. "Еще большее взаимодействие с миром необходимо, чтобы получать знания и опыт и делиться ими. Именно так развиваются великие страны".
Посол Мозамбика в Китае Мария Густава говорит, что КПК удалось приспособиться к различным реалиям и стадиям развития благодаря опоре на фундаментальные принципы и стремлению создать благоприятные условия для процветания и улучшить жизнь китайского народа, а также поддержке дружественных связей, сотрудничеству и солидарности со всем миром.
Гиганты в пути
За приключениями слонов-путешественников следит весь мир
Текст: Ян Ваньли, Ли Инцин
Они прошли 500 километров от южных границ провинции Юньнань и привлекли к себе внимание жителей Китая и других стран. Теперь за стадом диких азиатских слонов, которое проделало большой путь на север, почти дойдя до административного центра провинции Куньмина, пристально следят чиновники и огромное количество пользователей соцсетей.
Все началось в прошлом году, когда семнадцать слонов, включая одного родившегося во время путешествия, покинули Сишуанбаньна-Дайский автономный округ на юге провинции Юньнань - свою естественную среду обитания. Двое слонов из семнадцати передумали следовать со стадом и вернулись на старое место обитания. На видео, снятом 27 мая в Эшань-Ийском автономном уезде, пятнадцать слонов ночью бродят по центру города. Пока новости и видео о похождениях слонов циркулировали по интернету, те продолжали идти на север, что нетипично, поскольку климат в той части провинции не слишком подходит этим обитателям тропических лесов. 2 июня слоны добрались до окраины города Куньмин, а спустя несколько дней повернули с севера на северо-запад, потом на юг. 6 июня по неизвестным причинам от стада отделился еще один самец. По состоянию на 24 июня они бродили по Эшань-Ийскому автономному уезду.
Почему слоны решили пуститься в путь, точно неизвестно, но эксперты считают, что это могло произойти из-за недостатка пищи или же вожак стада повел его не туда.
Власти мобилизовали огромные ресурсы, чтобы отслеживать стадо и не позволять ему приближаться к жилым районам. Везде, где побывали слоны, местные власти сделали все возможное, чтобы не пострадали ни люди, ни сами животные.
Лесные пожарные и отделы общественной безопасности в провинциях и городах отправили специальные группы, чтобы отслеживать перемещение слонов в круглосуточном режиме, а местные жители и жители близлежащих районов ежедневно получают оповещения.
7 июня более 410 работников аварийно-спасательных служб, 374 единицы транспорта и 14 дронов доставили более двух тонн корма для слонов, пытаясь перенаправить их подальше от населенных местностей, а людей на пути их следования эвакуировали. "Власти делают все возможное, используя технологии, чтобы обеспечить слонам безопасность, и это очень похвально", - отметил директор представительства Общества охраны дикой природы в Малайзии Марк Райан Дармарадж. По его словам, главная задача властей - решить, что делать дальше. Необходимо обеспечивать стаду безопасное передвижение, направляя его к ближайшему безопасному месту, и, возможно, вернуть его обратно в родной Сишуанбаньна-Дайский автономный округ. "Все это сопряжено с риском, неопределенностью, затратами и трудностями, которые еще предстоит оценить", - добавил эксперт.
Азиатский слон занесен в Красную книгу как находящийся под угрозой вымирания и находится в Китае под защитой класса А - как и большая панда. Провинция Юньнань, главная в Китае колыбель дикой природы, - это единственное в стране место, где обитают азиатские слоны. За последние десятилетия проводилась серьезная работа по их охране, и их число выросло с около 170 особей в 1970-х до около 300 в наши дни, рассказали в Государственном управлении лесного и степного хозяйства КНР провинции Юньнань.
В провинции учредили одиннадцать заповедников общей площадью около 510 тысяч гектаров. Число уездов, где обитают азиатские слоны, увеличилось с семи в 2017 году до восьми, и в прошлом году территорию площадью 7500 гектаров превратили в новое местообитание для этих животных. "Растущему числу слонов нужно больше места и больше корма", - пояснил директор исследовательского института в Национальном заповеднике Сишуанбаньна-Дайского автономного округа Го Сяньмин.
В заповеднике для диких животных, преимущественно азиатских слонов, разработали сбалансированное меню, которое включает бамбук, кукурузу, плантаны и сахарный тростник. В 2017 году масштабы этого пилотного проекта увеличили вдвое, чтобы снизить напряжение между жителями и слонами, которые из-за недостатка пищи поедали урожай. Спустя год в городском округе Пуэр построили "столовую для слонов" - еще одно место для их обитания. Общая посевная площадь "столовой" составила 200 гектаров, а сам проект получил инвестиции в размере 3,7 миллиона юаней.
Порт Козьмино отгрузил на экспорт 300-миллионную тонну нефти с момента запуска ВСТО
Объем экспорта нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона через порт Козьмино достиг 300 миллионов тонн с момента начала работы нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в 2009 году.
Юбилейная, 300-миллионная, тонна нефти сорта ESPO (ВСТО) была отгружена с причала 2. Партию в объеме 100 тысяч тонн принял на борт танкер Sea Partner, судно направится в США. Это 2980-й танкер, пришедший под погрузку в порт Козьмино с начала его работы.
Морской терминал в Козьмино обеспечивает танкерные поставки нефти в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Среди импортеров-получателей: Китай – 56,2%, Япония – 17,8%, Ю. Корея – 9,2%, США – 4,7%, Таиланд – 2,7%, Малайзия – 2,5%, Филиппины – 2,5%, Сингапур – 2,4%, Новая Зеландия – 1,2%, Тайвань – 0,4%, Индонезия – 0,3%, Перу - 0,1%.
Нефтепорт Козьмино, расположенный на побережье Японского моря в бухте Козьмина, ежегодно в рамках инспекционных аудитов подтверждает высокий уровень технологической надежности своих объектов и соответствие мировым стандартам в области экологии, энергетики и охраны труда. При строительстве нефтепорта были применены современные технологии, гарантирующие безопасность экосистемы бухты и прилегающей территории.
Экспорт нефти через терминал традиционно является востребованным среди нефтяных компаний. Главные преимущества маршрута ВСТО – качество нефти и транспортная логистика. Производственные мощности терминала, работающего в круглосуточном режиме, позволяют отгружать до 36 млн тонн нефти в год. Налив производится у двух причалов, принимающих суда дедвейтом от 80 до 150 тыс. тонн. За год порт способен принимать в среднем 360 танкеров.
Порт Козьмино является конечной точкой трубопроводной системы ВСТО, протяженность которой составляет почти 5 тысяч километров. Магистраль соединяет перспективные месторождения Западной и Восточной Сибири с портом на юге Приморья.
Цветные металлы вновь дешевеют, но алюминий и олово боятся дефицита
В понедельник, 28 июня, олово продемонстрировало наилучшие результаты среди цветных металлов на LME, тогда как остальная часть комплекса торговалась с неоднозначной динамикой. Цена олова с поставкой через 3 месяца увеличилась на 1,2%, до $31,152 тыс. за т. В ходе торгов котировки цены металла выросли до $31,220 тыс. за т – самого высокого значения с 17 мая – на новостях о том, что малазийская Malaysian Smelting Corp. не планирует возобновлять работу, как компания ранее планировала. Малайзия продлила локдаун в связи с пандемией коронавируса за пределы первоначальной конечной даты 28 июня и будет ждать, когда число ежедневно заболевающих не упадет ниже отметки 4000 человек.
Трехмесячный контракт на алюминий подорожал до $2490 за т с $2486 за т в пятницу, а в ходе сессии его цена выросла до $2507 за т. Рынок продолжает переваривать информацию о введении Россией временных пошлин с 1 августа по 31 декабря на экспорт ряда видов продукции черной и цветной металлургии (включая алюминий). Эксперты ожидают резкого роста европейских премий к цене алюминия в связи с обложением его поставок пошлинами.
Трехмесячный контракт на свинец подорожал на бирже на $13, до $2233 за т.
Стоимость контракта на медь с поставкой через 3 месяца снизилась до $9388 за т со значения закрытия пятницы $9413. За т. На момент окончания торгов было продано лишь 7220 лотов по сравнению со средним объемом продаж «красного металла» на минувшей неделе на уровне 13600 лотов. Форвардная цена на никель снизилась на 1,2%, до $18299 за т.
На утренних торгах вторника котировки цены алюминия продолжили рост на волне роста озабоченности инвесторов поставками алюминия из-за введения Россией экспортных пошлин на металлы на фоне сокращения объемов выпуска алюминия в Китае (в провинции Юньнань). Также на цену металла влияет, по словам одного из трейдеров, медленный ввод в строй новых алюминиевых мощностей. Вместе с тем трейдер подчеркнул, что пиковый сезонный спрос на алюминий подходит к концу, а следующий период более активного спроса на металл начнется уже в сентябре. Сырьевой брокер Marex Spectron Анна Стаблум отметила, что поддержку ценам «крылатого металла» также оказало решение властей США требовать предоставления лицензий на импорт алюминия начиная с 29 июня. Между тем сильный спрос на металл и его недостаточное предложение подтолкнули премии к его цене в США до $605,7 на стоимость тонны – самого высокого значения с октября 2013 г.
Трехмесячный контракт на алюминий на LME подорожал по состоянию на 10:32 мск на 1%, до $2515,50 за т. Августовский контракт на поставку алюминия в Шанхае тем временем подешевел на 0,6%, до 18820 юаней ($2914,67) за т.
Запасы алюминия на ShFE сократились до самого низкого показателя с 10 февраля – 288,741 тыс. т. На LME запасы металла обновили минимум 9 марта, составив 1,59 млн т.
Тем временем несколько укрепившийся доллар вызвал снижение котировок ряда металлов. Так, трехмесячный контракт на медь в Лондоне подешевел на 0,9%, до $9308 за т. Стоимость никеля снизилась на 0,4%, до $18225 за т. Свинец подорожал на 0,6%, до $2247 за т.
На ShFE никель подешевел на 1,6%, до 135,560 тыс. юаней за т. Медь на ShFE подешевела на 0,5%, до 68,150 тыс. юаней за т. Стоимость цинка выросла на 0,3%, до 21,905 тыс. юаней за т.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:27 моск.вр. 29.06.2021 г.:
на LME (cash): алюминий – $2497.5 за т, медь – $9271.5 за т, свинец – $2261 за т, никель – $18200 за т, олово – $33270 за т, цинк – $2895.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2515.5 за т, медь – $9298.5 за т, свинец – $2244 за т, никель – $18220 за т, олово – $31395 за т, цинк – $2910 за т;
на ShFE (поставка июль 2021 г.): алюминий – $2915 за т, медь – $10531.5 за т, свинец – $2386.5 за т, никель – $21001 за т, олово – $33018 за т, цинк – $3390 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка сентябрь 2021 г.): алюминий – $2915 за т, медь – $10578 за т, свинец – $2407.5 за т, никель – $20936 за т, олово – $32298 за т, цинк – $3392.5 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2021 г.): медь – $9431.5 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2021 г.): медь – $9327.5 за т.
Телеком жаждет энергии
Текст: Юлия Акиньшина, Елена Березина, Иван Черноусов
Беспрецедентный мировой спрос на цифровые коммуникации, разогретый массовым переходом на удаленную работу в связи с пандемией COVID-19, привел к тому, что отрасль информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) стала потреблять больше энергии, чем когда бы то ни было, а "углеродный след" от нее растет.
На долю ИКТ-сектора приходится от 3 до 4% мировых выбросов CO2, подсчитали аналитики Boston Consulting Group (BSG). Это примерно вдвое превышает выбросы, генерируемые авиацией, находящейся под куда более пристальным контролем.
Как отмечают авторы отчета, в этом году ожидается рост глобальных объемов потребления данных на 60%, а к 2040 году доля этой отрасли в мировых выбросах CO2 может составить до 14%, если только не будут предприняты шаги по снижению воздействия, оказываемого сектором на экологию.
Владислав Бутенко, глава практики технологии, медиа и телекоммуникации в BCG СНГ и руководитель глобального сектора BCG "Развитие городов", отметил, что в России этот тренд также не пройдет незамеченным. "В России объем трафика в 2020 году вырос почти на 40%. Пандемия не просто заставила людей работать удаленно, она запустила новую цифровую эру огромного потребления трафика, будь то для работы или отдыха. И это не предел, ожидается, что глобальное потребление данных будет расти на 60% ежегодно, а только дата-центры к 2030 году будут потреблять до 8% мировой электроэнергии. До пандемии отрасль не находилась под столь же пристальным вниманием со стороны общества и государства с точки зрения ее влияния на экологию, как авиационная. Сейчас же ей не удастся остаться незамеченной. В этой новой цифровой реальности, которая никуда не уйдет, телекоммуникационным компаниям придется переосмыслить свое влияние на экологию", - уверен он.
При этом на долю самих ИТ-компаний приходится 1,6% совокупных мировых выбросов CO2. До 90% выбросов, генерируемых сектором, приходится на потребление энергии их поставщиками.
Тем не менее в телекомах до сих пор отсутствуют единые стандарты и политика отслеживания этого экологического воздействия. Для борьбы с этим разрывом BCG разработала "индекс экологической устойчивости телекоммуникационного сектора", призванный оценивать четыре аспекта, имеющих наибольшее значение для экологической стратегии телекомов. Индекс отражает приверженность компании идеям экологической устойчивости, интенсивность выбросов самой компании, а также ее партнеров в предшествующих и последующих звеньях цепочки формирования ценности, принимаемые ею меры по ликвидации непроизводительных потерь и какое внимание она уделяет деятельному вовлечению своих потребителей в экологическую повестку.
Рост потребления энергии центрами обработки данных (ЦОД) явно свидетельствует о возрастающем экологическом воздействии сектора ИКТ. Еще в 2010 году на все дата-центры в мире ушло примерно 194 тераватт- часов (ТВтч) электроэнергии, то есть 1% мирового энергопотребления и 0,3% всех глобальных выбросов CO2. Ученые пугали, что энергопотребление ЦОД может вырасти в три или даже четыре раза, однако в последущие восемь лет вычислительные мощности ЦОД выросли в 6,5 раза, а энергопотребление осталось примерно на том же уровне (205 ТВт xч). Об этом говорится в статье ученых Северо-Западного университета, Национальной лаборатории им. Лоуренса Беркли и исследовательской компании Koomey Analytics (США), опубликованной в Science.
Как сообщал Wired еще в 2018 году, по оценкам Google, каждый поисковый запрос приводит к выбросу примерно 0,2 грамма CO2 в атмосферу из-за энергии, необходимой для питания, маршрутизаторов и серверов, которые помогают поисковику работать. Просмотр или загрузка видео на YouTube тратит 1 грамм углерода на каждые 10 минут просмотра.
Большинство крупных ИТ-компаний обязались снизить количество энергии на единицу трафика примерно на 70% к концу текущего десятилетия. По оценкам BCG, меры, принимаемые отраслью ИКТ, могут устранить до 15% совокупных мировых выбросов к 2030 году, а это больше трети общего сокращения выбросов, необходимого для достижения глобальных целей экологической устойчивости. Сокращение выбросов может составить до 12,1 гигатонны CO2, что позволило бы сэкономить 6,5 трлн долл.
Ранее экологи обратили внимание на сферу криптовалют, которая потребляет огромное количество энергии. По данным Digiconomist, для одной транзакции биткоин потребляется 240 кВч. За сутки осуществляется примерно 350 тысяч транзакций. Сейчас мировая добыча биткоина потребляет больше электричества, чем Аргентина, Малайзия или Швеция, по данным Кембриджского индекса потребления энергии.
По оценкам ученых Кембриджского университета, во время добычи биткоинов расходуется 97,9 ТВтч в год. Это больше, чем потребляют в год Филиппины (93,3 ТВтч) и Казахстан (91, 7 ТВтч). Еще в 2018 году потребление энергии для майнинга биткоинов составляло почти 0,5% от общемирового. По данным Digiconomist Bitcoin Energy Consumption Index, сфера криптовалют использует электроэнергии столько, сколько необходимо трем миллионам домохозяйств. Использование электроэнергии в таком количестве способно превысить индивидуальные затраты энергии свыше 150 государств.
На долю «Вьетсовпетро» приходится около 30% добычи нефти во Вьетнаме
Сегодня Вьетнам входит в четверку крупнейших стран-производителей нефти в Юго-Восточной Азии наряду с Индонезией, Малайзией и Брунеем.
40 лет назад советские и вьетнамские специалисты вместе взялись за изучение и освоение шельфа Южно-Китайского моря. Притаившийся в недрах «Белый тигр» – крупнейшее месторождение нефти – не сразу открыл свои секреты.
В начале 1980-х годов важным партнером советских нефтяников стал Вьетнам. Нефть в этой стране искали долго и безуспешно. Данные геологоразведки, собираемые американцами с 1960-х годов, свидетельствовали о том, что если запасы и найдутся, то весьма скудные. Однако СССР отправил в страну сотню лучших геологов и нефтяников. И в 1981 году на основе межправительственного соглашения на паритетных началах с корпорацией нефти и газа «Петровьетнам» было создано совместное предприятие «Вьетсовпетро».
Представление о будущем Вьетнама изменило сенсационное открытие специалистов «Зарубежнефти». В сентябре 1988 года при испытании морской скважины они получили мощный приток нефти из гранитных образований на месторождении «Белый тигр». Специалисты обнаружили, что на шельфе Южно-Китайского моря есть огромные запасы нефти. Это привлекло внимание к вьетнамскому шельфу и сформировало новое направление в поиске и разведке нефтяных и газовых месторождений.
С помощью советских специалистов Вьетнам создал собственную нефтяную промышленность и вошел в тройку крупнейших нефтедобывающих стран Юго-Восточной Азии. Сотрудничество «Зарубежнефти» с Вьетнамом успешно продолжается уже 40 лет.
Для поддержания текущей добычи на уровне 3 млн тонн нефти в год, «Вьетсовпетро» проводит оптимизацию работы скважин и развивает системы поддержания пластового давления. Так, например, за последние 5 лет темпы падения базовой добычи удалось снизить почти вдвое.
В сфере геологоразведки компания применяет новейшие подходы по проведению сейсмических исследований. Это позволяет открывать всё более сложные залежи и эффективно восполнять истощаемые запасы. Кроме этого, специалисты «Вьетсовпетро» повышают скорость ввода новых объектов в эксплуатацию: от открытия запасов до старта добычи проходит всего 2-3 года с учетом сложнейших условий морского шельфа.
В последние годы «Вьетсовпетро» получило долю участия в трех новых проектах - блоках 09-3/12, 16-1/15 и 09-2/09, а также выполняет функции оператора для «Зарубежнефти» на блоках 04-3 и 12/11. На долю совместного предприятия приходится около 30% национальной добычи нефти, что позволяет ему быть лидером отрасли.
«Запорожтрансформатор» поставит трансформаторы в Саудовскую Аравию
Получение каждого нового заказа для технических подразделений ЧАО «Запорожтрансформатор» - это проектирования практически нового оборудования.
Даже визуально схожие трансформаторы на деле могут оказаться конструктивно абсолютно разными в силу того, что изготовление электротехнического оборудования относится к высокотехнологичному производству. Имеет значение множество параметров: различные климатические условия, отличающиеся кардинально на разных континентах; высота над уровнем моря; сейсмическая ситуация в регионе; уровень влажности и ряд других факторов, которые определяют конструкцию трансформаторного оборудования.
Заказ для Саудовской Аравии не стал исключением.
В 2020 году Запорожтрансформатор получил заказ от компании National Grid S.A., подразделение Saudi Electricity Company, на поставку четырех трансформаторов типа ТДН-100000/132-Т1. Данный заказ предполагал замену устаревшего оборудования на двух подстанциях, изготовленного в свое время другим производителем, с сохранением габаритных размеров старого фундамента.
В результате жесткой конкурентной борьбы за получение контракта наравне с местным производителем, а также рядом компаний производителей из Турции и Южной Кореи, ЗТР совместно с местным партнером компанией CEPCO сумел полностью подтвердить соответствие техническим требованиям заказчика и получил данный заказ.
Специалисты конструкторского отдела выезжали на объект и собственноручно с минимальными допусками проводили измерения старого трансформатора. Работникам ЗТР не впервые приходится сталкиваться с такими требованиями, и уже разработан определенный алгоритм действий, выполнение которого гарантирует успех исполнения заказа.
На данный момент трансформаторы успешно испытаны и готовятся к отгрузке. Сразу по прибытии трансформаторов на объект запланирован монтаж и пуск оборудования в присутствии представителя сервисного центра ЧАО «ЗТР».
Выход на рынок Саудовской Аравии потребовал консолидированных мероприятий по изучению требований данного рынка представителями службы продаж ЗТР, а также специалистами технических служб и службы качества. В результате которых, ЗТР прошел предквалификацию в SEC и был включен в перечень утвержденных поставщиков, как в секторе «передача», так и в секторе «генерация».
В арсенале ЗТР - следующие поставки на рынок Саудовской Аравии:
- трансформаторы ТДТН-100000/132, ТДТН-73000/110, ТДТН-60000/132 и ТДТН-67000/110 для Saudi Electricity Company;
- трансформаторы ТРДН-63000/18-Т1 (2 шт.) для интегрированной солнечной электростанции комбинированного цикла Duba Green в Саудовской Аравии.
Продукция ЗТР представлена в 88 странах мира, в том числе поставки последних лет в такие страны дальнего зарубежья как Иордания, Малайзия, Аргентина, ОАЭ, ЮАР, Кения и многие другие.
Потребление стали в странах ASEAN вырастет на 6.1% в 2021 году
Как сообщает Argus Media, потребление стали в Таиланде, Вьетнаме, Филиппинах, Индонезии, Малайзии и Сингапуре, вероятно, вырастет на 6,1% по сравнению с прошлым годом до 74,9 млн т в 2021 году, заявил Институт железа и стали Юго-Восточной Азии (Seaisi) на виртуальной конференции.
Прогноз соответствует прогнозу Seaisi на ноябрь 2020 года в размере 73,3-75,3 млн тонн для шести стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Asean), или Asean-6. Ожидается, что в этом году Вьетнам и Индонезия достигнут или превысят уровень производства стали до пандемии.
Потребление стали странами АСЕАН-6 в 2020 году составило 70,6 млн тонн, что на 12,1% меньше, чем в 2019 году. И, несмотря на прогнозируемое восстановление, прогноз спроса в этом году на 6,7% ниже, чем 80,3 млн тонн в 2019 году.
О мучительной судьбе новой русской индустриализации
для силы и жизнеспособности стран важнее всего строить заводы
Максим Калашников
Нынешнее время крайне странно. Кажется, вроде не осталось открытых адептов существования РФ как сырьевого придатка Запада и КНР. О необходимости развития промышленности говорят с самых высоких трибун. Но при этом само слово «индустриализация» не звучит. Что угодно – нанотехнологии, цифровизация, искусственный интеллект – но только не это. Такое впечатление, что бомонд страны просто корчит от оного термина.
Но логика истории неумолима. На человечество накатывает мегакризис. Страшная ломка. Вопрос стоит так: либо мы проведём новую индустриализацию – либо умрем.
Размытость цели и «двугорбое» убожество
Более сорока лет назад покойный ныне футуролог Элвин Тоффлер доказывал: без своей промышленности – никуда. Если ты производишь мало конечных и сложных изделий, то лишаешься сперва сильной науки и образования. Ведь именно реальный сектор больше всего востребует новых разработок и технологий, а также отлично образованных людей. Толкая вперёд прикладную науку, промышленные отрасли (и, добавим, умный агропром) ещё и косвенно создают спрос на кадры, что куются в школах и университетах. Прикладные же исследования жадно требуют новых знаний и научных открытий, выступая триггером для развития фундаментальных изысканий в академических центрах. Так сказать, обеспечивают прямой коридор от астрофизики и огромных ускорителей элементарных частиц до заводских поточных линий. Та же микроэлектроника не развивается сама по себе: крохотные чипы востребуются, прежде всего, в выпуске конечных изделий, будь то тракторы и комбайны «высокоточного земледелия» или умная бытовая техника.
Элементарный здравый смысл подсказывает: реальный сектор, наука и образование представляют собой единую «экосистему». И если выбить из неё промышленность и высокотехнологичное сельское хозяйство, то чахнуть и гибнуть начнут школы, вузы и научные центры.
Однако Тоффлер шёл дальше, доказывая: тот, кто развил у себя архисовременное производство, в итоге превратится не только в очаг образования и науки мирового уровня, но и трансформируется в один из глобальных финансовых центров. Ибо банкиры направятся туда, где развиваются и футуристическая индустрия, и богатая научно-интеллектуальная жизнь, и возникает тьма обеспеченных людей.
Американский «будущевед» в 1980 году шёл резко против господствующего течения: тогда все сходили с ума по бредовой теории «постиндустриализма». Мол, производство – замшелое прошлое, драйверами роста отныне станут сфера услуг, финансы и «экономика впечатлений». Мы будем потреблять и придумывать новое, а всякие чумазые китайцы – производить. Минули годы, и нынешний упадок Запада, его судорожные попытки реиндустриализации на фоне роста могущества Поднебесной, превращение Китая в главного соперника Америки стали лучшим подтверждением правоты умершего провидца.
А что же РФ? Её элита колебалась вместе с генеральной линией западной партии. В разгромные 90-е, да и в значительной мере позже, остаток великой страны упорно делали нефтегазовой периферией развитого и развивающегося мира (США, ЕС и КНР, Японии и Южной Кореи, даже Турции), рождая химерические идеи вроде «энергетической сверхдержавы». Всё сводилось к банальщине: то, что нужно, купим за счёт доходов от вывоза сырья. И даже если что-то делаем, то комплектующие тоже приобретём на мировом рынке. Тем самым, мол, вписываясь в глобальные производственные цепочки. Что, как нам проповедовали, весьма современно, и не надо нам ретроградных концепций вроде максимального замещения импорта! Даже Мюнхенская речь В. Путина 2007 года, объявленная началом противостояния с Западом, мало что изменила. В РФ возникла порочная «двугорбая» экономика: мы производим оружие (за счёт нефтегазовых доходов) и гоним на внешний рынок сырьё. А если что-то и выпускаем помимо военной техники – то с огромной зависимостью от импортной составляющей.
Крах оного курса очевиден. РФ вот уже второе десятилетие пребывает в застое, реальные темпы роста и доковидной лихорадки составляли «на круг» 0,88% в год. Но разве элита сделала вывод? Нет. В числе приоритетов правительства индустриализация не стоит! Выдвинутые с 2018 года 13 нацпроектов проблем не решают: в них ничего не говорится ни о подъёме реального сектора, ни об активной промышленной политике, ни о покровительственной таможенно-тарифной системе (без коей немыслим промышленный подъём), ни о том, чтобы обязать Центробанк отвечать ещё и за рост в стране числа рабочих мест.
Вот список пресловутых национальных проектов. «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт». Где постановка Главной Задачи, вбирающей всё вышеуказанное, то есть – новой индустриализации? Всё лишь вокруг да около. Само слово как будто подвергнуто негласной анафеме.
Чем это грозит?
Нет пророка в своём отечестве – послушайте иностранного спекулянта!
Как пишет политэконом и финансовый спекулянт Ручир Шарма в своем недавнем труде "Взлёты и падения государств", для силы и жизнеспособности стран важнее всего строить промышленность. Заводы.
Вложение денег в индустрию намного важнее, чем потребительские траты граждан. Ибо тем самым создаются новые компании и рабочие места. Опыт говорит, что лишь те государства, доля накоплений в ВВП коих составляет 25% и более, могут рассчитывать на годовой рост в 5-6% ежегодно и более. Причём инвестиции должны идти именно в дело: в создание новых технологий, дорог и гаваней, в новые промышленные предприятия. «Даже сейчас, когда роботы угрожают вытеснить людей с конвейеров, никакой другой вид деятельности не показал той способности ускорять создание рабочих мест и экономический рост, какой в прошлом обладало производство», – пишет Р. Шарма.
Не хотите слушать русских мозговиков? Так внемлите иностранцу. Кто-то до сих пор не понял, что лишь реальный сектор обеспечивает не только жизнь и развитие науки и образования, но и финансовую мощь нации. В пример приводится Япония. Начав с выпуска одежды и простых потребительских товаров, они затем построили отличную сталелитейную индустрию, корабле- и автомобилестроение. А потом – и электронную промышленность мирового уровня.
По мере роста промышленности в городах возникают предприятия сферы обслуживания и фирмы для удовлетворения нужд среднего класса, растущего благодаря бурному развитию производства. Важно удержать высокую долю в ВВП, идущую на капиталовложения в реальный сектор. Ибо именно заводы и фабрики обеспечивают спрос на 80% научных исследований и разработок в частном секторе и отвечают за 40% роста общей производительности труда. А это даёт возможность поднимать реальные зарплаты, не взвинчивая цену конечных изделий. Нация богатеет и развивается.
Отсюда верно и обратное: угасание и угнетение реального сектора, падение инвестиций в заводы да инфраструктуру моментально ведут к упадку университетов, школ, науки. К обнищанию народа. К ослаблению финансовой системы. История РФ с 1991 года – тому ярчайшее подтверждение.
«В 2014 году из пяти ведущих стран по доле инвестиций в ВВП четыре страны – Китай, Южная Корея, Малайзия и Индонезия – входили и в ведущую пятёрку по доле промышленного производства в ВВП. Если исключить из рассмотрения маленькие страны, которым удалось вытащить счастливый билет, открыв у себя месторождения нефти или газа, то большинство государств не смогли даже начать выбираться из нищеты без создания промышленного сектора в качестве исходного шага», – чеканит Ручир Шарма.
Большие вложения в реальный сектор дают доходы и увеличивают потребность в строительстве отличных автострад, мостов, железнодорожных магистралей, электросетей и систем водоснабжения. Словом, той передовой инфраструктуры, что позволяет производить больше и лучше, а также отправлять изделия страны на мировой рынок.
Отсюда вытекает и вся провальность потуг сделать Российскую Федерацию придатком к Газпрому и нескольким нефтедобывающим компаниям, дополнив всё это производством оружия. Страна попала в нищету и опаснейший застой. Доля инвестиций в основные фонды в РФ в разные годы находится на уровне 20-21,5% ВВП (таблица 1).
Таблица 1. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП РФ.

Для сравнения: в Китае в 2003-2019 гг. удельный вес капиталовложений в основные фонды составлял 40,6-47,7% ВВП, в Индии показатель находится на уроне 39-40% ВВП, в быстрорастущих экономиках стран Юго-Восточной Азии – Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, Таиланде – в диапазоне 30-40%.
Р. Шарма с особенным презрением пишет о попытках оправдать уничтожение промышленности и объявить сферу услуг новым тягачом развития. Зато мощные промышленные кластеры выступают в роли отличных стабилизаторов экономики в периоды кризисов. Даже если национальная валюта обесценивается, растёт выгодность производства, оно замещает импорт и легче выходит на мировой рынок, побивая соперников более низкими ценами.
Не беда, если случится и кризис «переинвестирования» в промышленность и новую инфраструктуру. В любом случае страна оправится, ибо ей останутся не футбольные стадионы, не ледовые дворцы и трамплины, а новые железнодорожные и автомобильные трассы, оптоволоконные линии связи и водные каналы, предприятия микроэлектроники и цементные заводы. С таким наследием можно начинать новый цикл роста.
Нет заводов – нет и мозгов
Само собой, рост сильной промышленности вызывает и рост вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Причём не только государственные инвестиции, но и, прежде всего, частные – заказы от работающих заводов и фабрик, коим нужно решать тысячи возникающих проблем и бороться с конкурентами. Наша страна по доле вложений в НИОКР в ВВП находится лишь на 30-м месте, значительно (в несколько раз) уступая лидерам (таблица 2).
Таблица 2. Доля расходов на НИОКР в ВВП в ведущих странах и России в 2018 году, %.
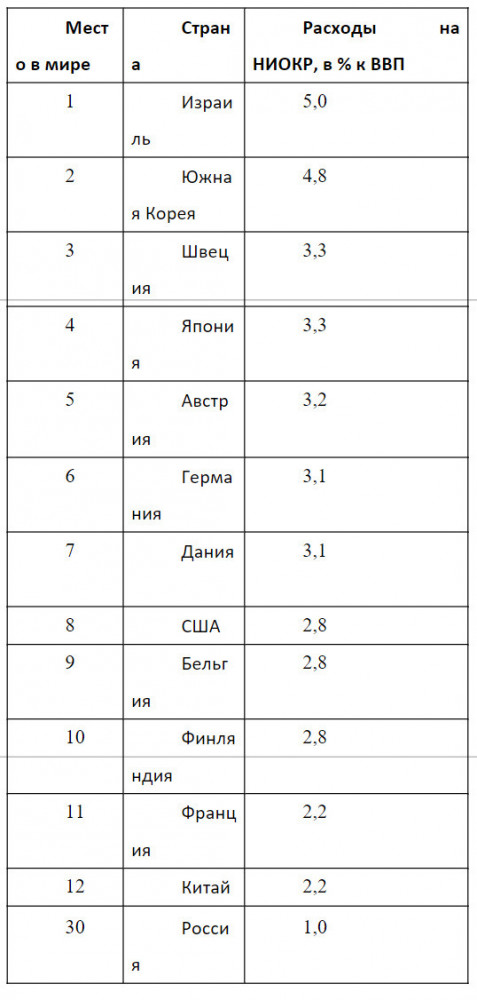
Вот самое наглядное подтверждение краха политики «Добываем сырье и производим оружие». ВПК не смог вытянуть русские НИОКРы, не хватило отечественного производства множества «неважных» вещей. От своих гражданских самолётов и судов – до массового выпуска лекарств, одежды, обуви, стиральных машин и т.д. Да и экспорт оружия из Российской Федерации в последние годы почти не растёт (около 2% в год) вопреки раздутой в СМИ легенде о невиданной рекламе отечественной «оборонки», якобы сделанной войной в Сирии. Судя по данным Рособоронэкспорта, оружейный экспорт страны топчется у планки в 14 миллиардов долларов.
Так что «частичная» индустриализация исключительно на танках и пушках не срабатывает. И вопрос стоит сегодня так: либо полноценное промышленное развитие Российской Федерации, либо гниение, вымирание, нарастающее отставание во всех областях, с последующим бесславным концом в ходе глобального кризиса. Казалось бы, мы излагаем то, что понятно на уровне даже элементарного здравого смысла. Увы, но не для российского бомонда. Лишь некоторые его представители пока прозревают.
Проигранная «пред-война»
Выступая на коллегии Министерства обороны РФ летом 2020-го, глава Курчатовского института Михаил Ковальчук заявил: «Вот мы с вами живём сегодня реально в условиях войны. Я называю этот этап «гибридной холодной пред-войной». Выбирается государство-цель. В данном случае – мы. Затем идёт максимальное ослабление этого государства. Атаке подвергаются все сферы: образование, культура, наука, экономика, оборона и безопасность. Такая пред-война сегодня идёт, и мы её сегодня не выигрываем…»
Выступал Михаил Ковальчук несколько комкано, но причины неудач РФ в его трактовке понятны. Итак, на смену прямому завоеванию и последующей колонизации страны пришло порабощение с помощью более развитых технологий. Именно это – следующий (после пред-войны) этап. Схема проста: все с радостью приходят в новый ГУЛАГ – в интернет. Образование разваливается и плодит дебилов, уверенных в том, что думать и набирать знания не надо: все есть в Сети и Википедии. Каждый неразрывно соединён со своим смартфоном. В один прекрасный день можно, перекинув рубильник, образно говоря, обезглавить миллионы людей.
Пафос понятен: по технологической части РФ настолько зависима от тех же США, что уже проиграла борьбу.
Можно только пожалеть о том, как на РФ с 2000 года накатили и отхлынули несколько волн нефтедолларов, которые так и не оставили после себя новейшей передовой индустрии. Одни футбольные и олимпийские стадионы, тьму «элитной недвижимости» и прочей непроизводительной ерунды. Процитирую один, уже исторический, документ.
«…Серьезной проблемой продолжает оставаться экономическая слабость России. Возрастающий разрыв между передовыми государствами и Россией толкает нас в страны третьего мира. Цифры текущего экономического роста не должны успокаивать: мы по-прежнему продолжаем жить в условиях прогрессирующего экономического отставания…
…Основными препятствиями экономического роста являются высокие налоги, произвол чиновников, разгул криминала. Решение этих проблем зависит от государства. Однако дорогостоящее и расточительное государство не может снизить налоги…
…Доходы бюджета во многом зависят от динамики мировых цен на энергоносители. Мы проигрываем в конкуренции на мировом рынке, всё более и более ориентирующемся на инновационные секторы, на новую экономику – экономику знаний и технологий…»
Это Послание президента Владимира Путина, июль 2000 года. Что изменилось? Реальный экономический рост с 2008-го – 0,88 процента в год, страна по-прежнему зависит от цен на сырьё, а налоги взвинчиваются. Нефтяные сверхдоходы промотаны или омертвлены.
Берём структуру экспорта из страны в 2019-м – 424,5 миллиарда долларов.
Доля углеводородов и прочего ископаемого сырья – 53,4%. Добавим сюда продукты растительного происхождения (сельхозсырье), древесину и низкотехнологичную продукцию первого передела (в химии и металлургии) – выйдет под 80%. Доля машин и оборудования – жалкие 3,6 процента. Поставки оружия на внешний рынок (в сём источнике) в 2019-м – 14,4 миллиарда долларов (13,6 млрд по иным источникам) – 3,42% процента от всего вывоза, мизер. Экспорт по линии информтехнологий из РФ – около 11 миллиардов долларов, 2,6%. Тоже, мягко говоря, негусто.
И если грянет жестокий глобокризис, вызывающий долгое падение мировых цен на сырьё, России несдобровать. Время для того, чтобы диверсифицировать экономику и слезть с нефтяной иглы, ниспосланное нам в 2000–2014 годах, оказалось бездарно упущенным.
Как быть дальше?
Очевидно, что нынешнее время коварно: за отсталость и застой не следует немедленного военного наказания, как в минувшие эпохи. Запад не имеет средств ни для моментального ядерного обезоруживания РФ, ни для того, чтобы построить непроницаемую для нашего ракетно-стратегического меча ПРО, способную надёжно прикрыть территории хотя бы одних Соединённых Штатов от атаки нескольких сотен баллистических ракет, не говоря уж о волнах ракет крылатых. Всё это порождает у российской элиты опаснейшую иллюзию: можно и дальше прозябать в сырьевой стагнации, не опасаясь аналога Крымской войны 1853-1856 годов. Но наказание лишь отложено: обострение внутренних противоречий в стране из-за её деиндустриализации и растущий отрыв Запада и КНР от нас по части научно-технических достижений – прямая дорога к тому, что РФ может впасть в новую смуту. А обломки и обрывки Федерации станут лёгкой добычей интервентов.
То есть нам необходимо ускорение развития – неоиндустриализация.
Она нужна ещё и потому, что без неё не решается одна из самых жгучих проблем: возвращение десятков триллионов рублей (в пересчёте, конечно) тех денег, что оказались выведенными из РФ с начала 90-х. Несмотря на призывы властей, невзирая на крылатые слова В. Путина об уязвимости российских капиталов, вывезенных за рубеж («замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства»), обратного прилива средств не наблюдается, во всяком случае, в желаемом объёме. Почему? Помимо отвратительного чиновного произвола и пародии на судебную власть (что грозит попросту охотой некоторых силовиков на «возвращенцев) есть ещё одна причина: миллиардам репатриантов попросту не находится применения. Куда их вкладывать, помимо добычи сырья? Там места переделены и заняты. Население в основном небогатое и бедное – внутренний спрос мал. Не хватает тех самых десятков миллионов современных высокооплачиваемых рабочих мест, каковые и могла бы обеспечить новая промышленная революция. Строить новые заводы и фабрики в РФ чаще всего невыгодно – всё забивает поток дешёвого импорта из Китая и Азии. Что производить-то, дабы вложенные деньги не пропали втуне?
Тут потребна действительно комплексная индустриализация, причём с необходимым дополнением – разумным протекционизмом. Да-да, с той самой покровительственной политикой, знакомой нам по «Толковому тарифу» Дмитрия Менделеева. Когда вывоз из страны сырья облагается большими пошлинами, а экспорт готовых изделий – самыми малыми. Одновременно импорт в страну готовых изделий – по высокому таможенному тарифу, а ввоз сюда сырья и нужных оборудования/комплектующих – по льготным ставкам. Если у отечества не хватает технологических возможностей, то иностранные корпорации понуждаются к тому, чтобы ставить в стране свои предприятия, но не сборочные, а с максимально полным циклом производства. Мы здесь не отрываем америк: таковую практику применяли в Российской империи ещё при Александре III.
Лишь при разумном протекционизме, де-факто нарушающем кабальные условия, навязанные нам при вступлении во Всемирную торговую организацию, в РФ возможна новая индустриализация. Причём с политикой повышения доходов народа – ибо это и отличный внутренний рынок сбыта для отечественного производства порождает, и предотвращает отлив средств из страны в страны-экспортёры готовых товаров. Естественно, всё это дополняется адекватной кредитно-финансовой политикой (длинные и недорогие ссуды для производителей и потребителей), налоговыми стимулами и суровой политикой государства по установлению (и соблюдению!) высоких стандартов качества.
Однако мы отлично помним, как российские власти регулярно мечут громы и молнии в протекционизм и ратуют на свободу торговли. Особенно в общении с вождями Китая, для коего РФ – прежде всего, рынок сбыта и источник сырья для китайского развития. И пока в нашем правительстве не откажутся от этого морока, не изменят своей психологии, страна так и останется извергательницей своих денег во внешний мир. За наш счёт продолжат расти и процветать иные державы, не пленённые химерой «свободы торговли» и шествующие по пути откровенной покровительственной политики.
Огромные опасения вызывает то, что деловая элита в России складывалась именно как совокупность тех, кому отечественный реальный сектор (кроме ВПК) не нужен на уровне классового интереса. Ведь истеблишмент состоит из тех, кто живёт от добычи сырья и поставки его на внешний рынок (или имеет от этого свою долю), из торговцев импортом и ростовщиков. Для них появление сильных отрядов отечественных капитанов сложной технологически промышленности (индустрии высоких переделов) и работников таковых отраслей означает необходимость больших политических перемен. Решится ли на это бомонд РФ?
Но допустим, что нужные классово-психологические перемены произошли, и возобладала воля: протекционистской индустриализации быть! Что придётся предпринимать дальше?
Очевидно, что силами одной государственной бюрократии тут не справиться. Слишком долго шёл «отбор наоборот» в прошедшее тридцатилетие. Не хватает в высших эшелонах руководства тех, кто смог реально поднять на мировой уровень своё несырьевое производство, при этом не будучи частью госкорпорации. А такие люди в стране есть, и они – золотой кадровый фонд. Тем более что многие из таких лидеров высокопередельной индустрии имеют дочерние предприятия в развитых странах, не понаслышке ведая о современной промышленной политике в США, странах Евросоюза или Канаде. Они могут сравнивать то, как действует государство здесь и там, причём очень квалифицированно.
Как можно организовать создание по сути Нового курса для Российской Федерации?
Под эгидой главы государства необходимо сформировать общественные группы по нескольким направлениям. По сути – некий «индустриальный парламент». При этом в этих группах представители экономического блока правительства должны присутствовать минимально, больше как наблюдатели и делегаты с совещательным голосом. Почему? С 1992 года экономический блок возглавляют исключительно люди с прозападно неолиберальной ориентацией, с презрением и ненавистью относящиеся к отечественному производству. Со времён Ельцина, конечно, изменились в патриотическую и великодержавную сторону многие аспекты внутренней и внешней политики, но основы порочного курса в народном хозяйстве остались незыблемыми. Никакого протекционизма, вписываемся в глобальные кооперационные цепочки, инфляция у нас – только монетарная, а русские по определению ничего хорошего произвести не могут по определению. У нас есть тридцатилетний печальный опыт хозяйничанья постсоветской «жреческо-экономической» бюрократии. Потому их лучше подержать на привязи. Тем более что у многих чиновников ныне – весьма сомнительный послужной список. Знаете, когда преобразования в гражданском авиастроении поручают бывшему мебельному торговцу и налоговику, а формирование инновационной системы – экс-рекламщику и бывшему околоспортивно-футбольному деятелю, сиё ни в какие ворота не лезет.
Какие общественные комиссии нашего промышленного Собора-парламента нужны?
– Активной индустриальной политики, поддержки несырьевого экспорта и протекционизма
– Реформы налоговой системы
– Реформы кредитно-финансовой сферы
– Преобразования ЖКХ
– Активной агропромышленной политики
– Топливно-энергетического комплекса
– Государственных мегапроектов развития и пространственного планирования
– Создания полноценной НИС – Национальной инновационной системы.
– Социальной политики и реальных доходов населения
Кто должен входить в состав таких комиссий, между собою тесно взаимодействующих? Те самые (со всей Федерации!) успешные промышленники-практики, представители передового агропрома, лидеры научно-технического предпринимательства, флагманы IT-сектора, транспорта, строительства, связи. Необходимы и представители реальных профсоюзов. И непременно те, кто ближе к земле и народу – избранные мэры городов и губернаторы. Ведь они находятся на переднем краю и на себе чувствуют все последствия принимаемых в Москве решений. Да и имеющиеся на местах возможности для производства, агропрома и высокотехнологичного предпринимательства им ведомы куда лучше, нежели обитателям столичных кабинетов.
По сути дела речь должна идти о подготовке преобразований, сравнимых по эпохальности с Великой реформой 1861 года (отменой крепостного права). Ведь предстоит сбросить иго прозападного антипромышленного монетаризма-глобализма, сформировав курс на реальный национальный патриотизм в экономике.
Конечно, приведённый список комиссий такого «промпарламента» условен и может дополняться-видоизменяться по мере работы. Тут сама жизнь и реальное действие подскажут. Не исключаю, что к делу следует подключать и белорусских коллег (у них есть немалый и полезный опыт несырьевого развития) – ибо по сути мы представляем из себя один хозяйственный организм.
Такая работа должна сопровождаться широкой общественной дискуссией. Одновременно общественные комиссии выступят и как кадровые резервуары. Ибо в них мы увидим подлинных технократов. То есть тех, кто реально возглавляет сложные производства, идущие на острие научно-технического прогресса. А никак не «технократов» в трактовке нынешнего официоза, называющего так серых канцеляристов без идей и принципов. Российская Федерация должна покончить с засильем «эффективной манагерщины», для чего и требуются отборные кадры умных профессионалов, делом доказавших свои управленческие и организационные способности.
Очевидно, что речь должна идти о создании передовой экономической модели с разными формами собственности. С индикативным планированием – и с частной инициативой, с широким развитием кооперативных предприятий – и адекватным госсектором. Именно так мы сможем творчески использовать тот богатый опыт многоукладных моделей, которые вывели на передовые рубежи Японию, Южную Корею и КНР. Мы сумеем добыть ценные находки из опыта и сталинской индустриализации и Нового курса Рузвельта 1930-х.
Дорогу осилит лишь идущий. Годами звучит хор отчаявшихся, говорящих о необратимой гибели многих высокотехнологичных отраслей и о том, что страна сама уже не вытянет новую индустриализацию. Но опыт тех, кто смог добиться успеха в подъёме своих заводов, агрохозяйств и научно-технических компаний, свидетельствует об обратном: ничего фантастического нет. Возможно и построение новых горизонтальных связей. О чём не устаёт повторять директор Петербургского тракторного завода (ПТЗ) Сергей Серебряков. Ведь если хорошо поискать… Впрочем, послушаем самого Сергея Александровича, когда он летом 2020-го рисовал возможную программу борьбы с белорусским кризисом. Привожу свои конспективные записи.
«Белоруссия и РФ перестают бесплодно и разрушительно конкурировать. Они объединяют усилия в создании линейки агромашин будущего, производя комбайны и тракторы под одной маркой-брендом. Допустим, "Робел" или "Белрос". Строится сеть сотрудничества. Скажем, в России ПТЗ наладил производство автоматических коробок передач для тяжёлой спецтехники и мостов, а "Ростсельмаш" хорошо мастерит ходовую часть и кабины. А в Белоруссии могут делать отменные программное обеспечение, управляющую электронику и отличную окраску. Чтобы каждому предприятию не тратить уйму денег на самостоятельное производство подобного и на импортозамещение, в рамках кооперации каждый поставляет для футуристических машин то, что он выпускает на высшем уровне. В итоге новые изделия мирового уровня заполняют рынок РФ и РБ, вышибая с него импорт, дальше начиная экспансию на внешние рынки. При этом все предприятия – участники схемы остаются самостоятельными. Никто никого не захватывает и не подчиняет, все определяют общее дело, взаимный интерес.
По такой же модели можно создавать производственную кооперацию в других отраслях. Скажем, можно прекратить войну с недопуском на рынок РФ белорусского молока высокого качества, а создать общий бренд по производству твёрдых сыров высочайшего качества. Он поглотит огромные объёмы молока, стимулируя его производство. И так же можно выпускать дорожно-строительные машины, станки и обрабатывающие центры, часы, одежду и обувь, обогащённую целебную пищу, бытовую технику. Или хотя бы те же дроны-БЛА. Можно вспомнить, какие прекрасные лазерные станки делают зеленоградская компания "Лазеры и аппаратура" или та же питерская "Промсвязьавтоматика". В правительстве иной раз и не представляют все имеющиеся возможности.
Если построить дело так, то промышленность перейдёт в стадию бурного роста. Экономический застой уйдёт в прошлое».
40-летие отмечает «Вьетсовпетро»
40-летие отмечает «Вьетсовпетро», совместное предприятие «Зарубежнефти» и вьетнамской нефтяной компании PetroVietnam. Основанное в 1981 году, СП буквально перевернуло представление о нефтяных перспективах Вьетнама и дало толчок к развитию экономики этой страны. В целом за 40 лет специалисты «Вьетсовпетро» пробурили 644 скважины и добыли 240 млн тонн нефти. Сегодня работу предприятия обеспечивают более 40 стационарных платформ, 3 плавучих нефтехранилища, 5 самоподъемных плавучих буровых установок и 20 судов флота, которые составляют одну из лучших береговых баз в Юго-Восточной Азии по строительству и монтажу в море технологических платформ для бурения скважин и добычи нефти и газа.
Основное месторождение СП — «Белый тигр» — находится на зрелой стадии жизненного цикла. Для поддержания добычи на уровне 3 млн тонн нефти в год СП проводит оптимизацию работы скважин, развивает системы поддержания пластового давления. За последние 5 лет темпы падения базовой добычи удалось снизить почти вдвое.
В сфере геологоразведки компания применяет новейшие подходы по проведению сейсмических исследований, что позволяет открывать все более сложные залежи и эффективно восполнять истощаемые запасы. Кроме того, специалисты «Вьетсовпетро» повышают скорость ввода новых объектов в эксплуатацию: от открытия запасов до старта добычи проходит всего 2-3 года с учетом сложнейших условий морского шельфа.
В последние годы, говорится в релизе «Зарубежнефти», «Вьетсовпетро» получило долю участия в трех новых проектах — блоках 09-3/12, 16-1/15 и 09-2/09, а также выполняет функции оператора для «Зарубежнефти» на блоках 04-3 и 12/11. На долю совместного предприятия приходится около 30% национальной добычи нефти, что позволяет ему быть лидером отрасли. Благодаря «Вьетсовпетро» Вьетнам входит в четверку крупнейших стран-производителей нефти в Юго-Восточной Азии наряду с Индонезией, Малайзией и Брунеем.
На предприятии работает 418 российских специалистов. Вместе с семьями они проживают в обустроенном жилом городке на территории города Вунгтау, площадью 108 тыс. кв. м. Это огороженная и охраняемая территория, на которой находятся жилые здания, школа, детский сад, торговый центр, спортивный комплекс, а также собственные дизельная электростанция и водонасосная станция.
«Россия и Вьетнам, — отметил гендиректор „Зарубежнефть“ Сергей Кудряшов, — дают высокие оценки экономической эффективности проекта „Вьетсовпетро“. Мы планируем расширить зону деятельности и войти в новые эффективные проекты на шельфе Вьетнама. Мы уже начали переговоры с вьетнамской стороной по продлению Межправительственного Соглашения минимум до 2045 года».
За 40 лет специалисты «Вьетсовпетро» пробурили 644 скважины и добыли 240 млн тонн нефти
«Зарубежнефть» и вьетнамская нефтяная компания PetroVietnam отмечают 40-летие совместного предприятия «Вьетсовпетро». Основанное в 1981 году, оно перевернуло представление о нефтяных перспективах Вьетнама и дало толчок к развитию экономики этой страны.
В целом, за 40 лет специалисты «Вьетсовпетро» пробурили 644 скважины и добыли 240 млн тонн нефти. Сегодня работу предприятия обеспечивают более 40 стационарных платформ, 3 плавучих нефтехранилища, 5 самоподъемных плавучих буровых установок и 20 судов флота, которые составляют одну из лучших береговых баз в Юго-Восточной Азии по строительству и монтажу в море технологических платформ для бурения скважин и добычи нефти и газа.
На предприятии работает 418 российских специалистов – это 7% от общего числа работников. Вместе с семьями они проживают в обустроенном жилом городке на территории города Вунгтау, площадью 108 тыс. кв. м. Это огороженная и охраняемая территория, на которой находятся жилые здания, школа, детский сад, торговый центр, спортивный комплекс, а также собственные дизельная электростанция и водонасосная станция.
Основное месторождение – «Белый тигр», которое находится на зрелой стадии жизненного цикла. Для поддержания текущей добычи на уровне 3 млн тонн нефти в год «Вьетсовпетро» проводит оптимизацию работы скважин и развивает системы поддержания пластового давления. Так, например, за последние 5 лет темпы падения базовой добычи удалось снизить почти вдвое.
В сфере геологоразведки компания применяет новейшие подходы по проведению сейсмических исследований. Это позволяет открывать всё более сложные залежи и эффективно восполнять истощаемые запасы. Кроме этого, специалисты «Вьетсовпетро» повышают скорость ввода новых объектов в эксплуатацию: от открытия запасов до старта добычи проходит всего 2-3 года с учетом сложнейших условий морского шельфа.
В последние годы «Вьетсовпетро» получило долю участия в трех новых проектах - блоках 09-3/12, 16-1/15 и 09-2/09, а также выполняет функции оператора для «Зарубежнефти» на блоках 04-3 и 12/11. На долю совместного предприятия приходится около 30% национальной добычи нефти, что позволяет ему быть лидером отрасли. Благодаря «Вьетсовпетро», Вьетнам входит в четверку крупнейших стран-производителей нефти в Юго-Восточной Азии наряду с Индонезией, Малайзией и Брунеем.
«Россия и Вьетнам дают высокие оценки экономической эффективности проекта «Вьетсовпетро», – комментирует генеральный директор АО «Зарубежнефть» Сергей Кудряшов. – Мы планируем расширить зону деятельности и войти в новые эффективные проекты на шельфе Вьетнама. Мы уже начали переговоры с вьетнамской стороной по продлению vежправительственного cоглашения минимум до 2045 года».
Справка:
АО «Зарубежнефть» — российская нефтегазовая компания стратегического значения, имеющая богатую историю и уникальный, более чем 50-летний опыт внешнеэкономической деятельности. Почти 40 лет из них компания успешно осваивает континентальный шельф юга Вьетнама в рамках совместного предприятия «Вьетсовпетро». В числе других проектов: разработка месторождений в Ненецком автономном округе в рамках СП «Русвьетпетро» и соглашение о разделе продукции (СРП) по Харьягинскому месторождению, применение передовых технологий добычи высоковязких сортов нефти на Кубе, повышение нефтеотдачи на зрелых месторождениях Узбекистана, а также реализация проектов на шельфе Египта и Индонезии. Помимо этого, компания работает в сегменте «Нефтепереработка и сбыт» на территории Республики Сербской (Босния и Герцеговина), имеет в структуре собственные проектные институты подземного и наземного обустройства нефтегазовых месторождений, а также сервисные компании.
Поставку нефти Пакистану в кредит возобновляет Саудовская Аравия
Эр-Рияд объявил о возобновлении финансовой помощи Пакистану, замороженной в 2020 году из-за конфликта между странами по поводу позиции Саудовской Аравии по Кашмиру. В августе 2020 года Саудовская Аравия потребовала от Исламабада вернуть кредит в размере $3 млрд, предоставленный на покупку нефти.
В рамках новой программы Пакистану будет предоставлен кредит в размере $1,5 млрд на покупку нефти. Политические эксперты при этом отмечают, что перезагрузка отношений с Пакистаном, долгие годы являвшимся близким союзником королевства, призвана помочь Эр-Рияду противостоять ирано-турецкой оси, пытающейся при поддержке Малайзии подорвать лидерство Саудовской Аравии в Организации исламского сотрудничества.
Китай пробивается в лидеры среди импортеров СПГ
В апреле 2021 года поставки СПГ в Китай выросли до 7,032 млн тонн — на 34% больше, чем годом ранее, сообщил «Интерфакс», уточнив, что это также максимальный показатель с начала года.
Также впервые с начала года поставки СПГ в Китай превысили поставки СПГ в Японию — на протяжении многих лет крупнейшего в мире импортера СПГ. В отдельные месяцы китайские закупки и раньше превышали японские (в 2020 году такое было в пять месяцев из двенадцати). Однако в апреле 2021 года превышение составило рекордные 41%.
По данным аналитиков Wood Mackenzie, китайский импорт не показывает признаков замедления и в мае он снова может превысить 7 млн тонн, посчитали они на основе данных систем отслеживания морских судов. В 2021 году Китай увеличит потребление СПГ на 11 млн тонн с 70 млн тонн в 2020 году, обеспечив более половины роста всего мирового рынка СПГ (18 млн тонн), прогнозируют в консалтинговой компании.
Экономика Китая увеличивает потребление электроэнергии, восстанавливаясь после пандемии. При этом увеличивается производство электроэнергии из газа — за первые 4 месяца 2021 года оно увеличилось на 14%. Одновременно сократилась выработка гидроэлектростанций из-за меньшего количества осадков, а также вклада солнечной энергетики, отмечают в WoodMac.
Пятипроцентный рост поставок СПГ в Китай в апреле по отношению к марту был обеспечен главным образом увеличением импорта СПГ из США (в 2,2 раза), а также Индонезии, Малайзии и Омана.
Россия в апреле 2021 года поставила в Китай 332 млн кубометров или 258 тыс. тонн СПГ, что совсем немного уступает результату марта (265 тыс. тонн).

Чуть выше плинтуса
Почему в России Героями Труда становятся люди с нищенской зарплатой
Александр Киденис
Россияне еще беднее, чем мы думали и нам говорили. Это выяснилось, когда Росстат опубликовал медианную, то есть реальную среднюю зарплату в стране за прошлый год. Она оказалась не 52 тысячи рублей в месяц, как статистики утверждали раньше, а лишь 32 422 рубля. Причем это «брутто», то есть до вычета 13% подоходного налога. А средняя зарплата «нетто», как ее принято считать в Европе, и вовсе составила 28 207 рублей в месяц.
Поясним, в чем здесь фокус. Раньше Росстат очень просто высчитывал нашу среднестатистическую зарплату: делил сумму доходов всех работников страны (металлургов и нефтяников, учителей и продавцов, банкиров и кондитеров, директоров и дворников) на их общее количество, без учета должностей и регалий, просто по головам. Получалась средняя температура по больнице.
Перейти на учет медианной зарплаты гораздо сложнее, потому что она именно «средняя», не по цифрам, а по людям: половина работников в этой среднероссийской «зарплатной ведомости» должны получать меньше, а половина — больше некой средней цифры. Без компьютерного учета всех зарплат страны эту медиану не вычислишь. Но теперь такая база создана (и постоянно уточняется), а потому появилась возможность подсчитать не только среднюю статистическую, но также реальную среднюю зарплату.
Увы, реальность оказалась очень обидной — почти вдвое ниже, чем нам рассказывали.
Для большей ясности сравним доходы россиян с общемировым уровнем. По старой методике, в пересчете на доллары в 2020 году наш среднестатистический работник получал 788 долларов — это 54-е место в мире: ниже Турции и Хорватии, но выше Малайзии, Болгарии и Македонии. А высчитанная по новой методике реальная средняя зарплата россиян «брутто» оказалась равна лишь 444 долларам — это 72-е место в мире: ниже Украины, Грузии, Эквадора, но выше Молдавии и Монголии в общем списке из 87 стран. То есть чуть выше плинтуса.
При этом по показателю ВВП — валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности) на душу населения — Россия считается гораздо более благополучной страной: в рейтинге МВФ нас ставят на 48-е, в рейтинге Всемирного банка — на 50-е, в рейтинге ОЭСР — опять на 48-е место. То есть, по подсчетам иностранных экономистов, производят россияне продукции гораздо больше и лучше, чем реально за это получают.
О том, что нам унизительно мало платят, говорилось неоднократно. Три года назад вице-премьер Ольга Голодец признала: «Та бедность, которая в стране есть и фиксируется, — это бедность работающего населения. Это уникальное явление в социальной сфере: работающие бедные». По ее словам, в стране «нет такой квалификации, которая достойна уровня заработной платы в 7500 рублей (таким был МРОТ в 2017 году)... Даже если человек закончил среднюю школу, то по выходе его труд должен оцениваться несколько на другом уровне».
А на прошлой неделе Владимир Путин был неприятно удивлен зарплатами в сельском хозяйстве. Ростовский тракторист Александр Бондаренко, получивший из рук президента звезду Героя Труда, признался, что средняя зарплата на передовом агропредприятии составляет 24 тысячи. «Это маловато, честно говоря», — осторожно отреагировал Путин. И добавил, что руководители агропромышленного сектора должны озаботиться вопросом повышения зарплат в отрасли.
Кстати, у самих руководителей и сектора, и других отраслей с размерами зарплат все в порядке — цифры примерно совпадают, но измеряются не тысячами, а миллионами. Тем более что агропром уже не первый год заслуженно считается одной из самых прибыльных отраслей отечественной экономики.
Но еще раньше глава ФНПР Михаил Шмаков на одном из профсоюзных форумов говорил, что «система распределения доходов и расходов в России откровенно несправедлива, на одном и том же предприятии разрыв зарплат между топ-менеджерами и работниками может достигать 100 и более раз...». И это главная причина серьезного расхождения между данными Росстата по среднестатистическим зарплатам россиян — и медианным, то есть реальным средним.
Диспропорция должна и могла стать заметно меньше после того, как в стране пять лет назад был принят закон о предельных соотношениях размера зарплат менеджмента и персонала российских предприятий и учреждений. На федеральном уровне правительство установило соотношение 8:1, а на региональном и местном уровнях, говорилось в постановлении Кабмина, «ограничение может быть более жестким».
Разумеется, никто не ожидал, что начальники сразу начнут урезать себе зарплаты и премии. Но была надежда, что в заботе о собственных доходах топ-менеджеры примут меры к росту зарплат подчиненных. Однако, как было сказано классиком М.Е. Салтыковым-Щедриным, в России «строгость принимаемых законов компенсируется необязательностью их исполнения». За прошедшие годы не было ни одного случая наказания нарушителя «закона о соотношении зарплат» — и как же при таком контроле этот закон будет исполняться?
Нарушаются в нашей стране и другие «зарплатные» установления, причем ежегодно. К примеру, по данным Росстата, в I квартале 2021 года рост реального размера заработной платы в России составил 1,6% в годовом выражении. А официальная инфляция за минувший год составила 4,91%. Между тем, согласно статье 134 Трудового кодекса России, зарплата по всей России на государственных предприятиях и учреждениях должна ежегодно индексироваться по уровню роста потребительских цен. Коммерческие предприятия могут установить процент индексации по своему выбору: по индексу роста потребительских цен за определенный период; по индексу роста потребительских цен в отдельно взятом регионе; по величине роста прожиточного минимума; по индексу инфляции. В законе лишь сказано, что коммерческая компания вправе выбрать любой из приведенных выше показателей — либо самый низкий, либо самый высокий.
Наш доблестный Роструд еще в декабре 2020 года предупредил: «Индексация зарплаты работников — это обязанность, а не право работодателя», процитировав определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 08.04.2019 № 89-КГ18-14. А к цитате добавил, что индексация относится к основным государственным гарантиям и «ни перерасчет зарплаты, ни повышение МРОТ, ни финансовые проблемы работодателя не снимают с него обязанности проиндексировать заработную плату».
И что же? В декабре появился на свет закон № 395-ФЗ, который приостановил индексацию для госслужащих — ввиду проблем с бюджетом и с учетом, что чиновники не самые бедные люди в России. Однако эта же волна заморозки индексации тут же покатилась от Москвы до самых до окраин — и по бедным предприятиям, и по небедным. Роструд молчит.
И это не впервой: закон об индексации зарплат в связи с ростом потребительских цен не исполняется в России в полной мере уже много лет! Результат: по подсчетам Росстата, с 2013 года реальные доходы россиян упали более чем на 10%. А Центральный банк прогнозирует, что годовая инфляция 2021 года, в мае превысившая 5% впервые за пять лет, вернется к целевым 4% только во втором полугодии 2022-го. «Она грозит благополучию людей», — заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Высокая инфляция грозит не только России. По всему миру расходы правительств на пандемию, выплаты компаниям и частным лицам дали толчок к росту потребительских цен. В США майская инфляция дошла до 5% в годовом исчислении — это максимум за последние 13 лет. В Германии к концу 2021 года ожидается рост цен выше 3% — это для немцев очень много. Но тревоги нет, хотя в стране нет специального закона об индексации зарплат в соответствии с инфляцией.
Зато есть другой закон, планирующий повышение дохода бюргеров. Есть график, по которому почасовая оплата труда в стране с 1 января 2021 года не может быть ниже 9,50 евро, с 1 июля 2021 года — не ниже 9,60 евро, с 1 января 2022 года — не ниже 9,82 евро, а с 1 июля 2022 года — не ниже 10,45 евро. То есть за полтора года минимальный заработок работающего немца обязан подняться примерно на 150 евро — это более 13 тысяч рублей. Такой рост не только перекроет инфляцию с лихвой, но и приподнимет жизненный уровень в целом по стране.
В России система иная: периодически власть увеличивает МРОТ до величины прожиточного минимума, то есть спасает работающего гражданина от полной нищеты и голодухи. А на вопрос, почему людям не платят нормальную зарплату, на которую можно не выживать, а достойно жить, следует ответ: в стране низкая производительность труда. И к этому бесплатный совет: чтобы лучше жить, нужно больше и лучше работать...
P.S. Что же происходит на самом деле? Если судить по показателю ВВП на душу населения, работают наши граждане вполне прилично — 48-50-е место в мире. Причем в год россиянин трудится на 221 час больше, чем средний работник в любой стране Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Но в России власть ждет, когда наши люди начнут работать производительнее, обещая побольше заплатить. А в Германии наоборот: строго по графику всем повышают зарплату. И объявляют об этом заранее, чтобы работодатели подготовились к новым расходам: повысили квалификацию работников, сменили технологию или оборудование. Примерно такой же порядок действует и в других странах Евросоюза.
Может быть, поэтому 15 лет назад Европа обгоняла Россию по производительности труда в 3-4 раза, а нынче уже в 5-6? А у нас еще в 2012 году пообещали создать в стране за восемь лет 25 млн высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест — и где же они?
Более чем на 55% увеличился экспорт нефтехимии Сингапура
На 55,7% в годовом выражении вырос в мае 2021 года экспорт нефтехимической продукции Сингапура — до 1,41 млрд сингапурских долларов (1,05 млрд долларов США), сообщает ICIS. Отгрузка нефтехимической продукции в Китай в мае выросла на 27,3% год к году, а в Малайзию — более чем вдвое. Рост нефтехимического экспорта страны длится уже шестой месяц подряд.
«Ожидаемые более высокие цены на нефть в 2021 году могут поддержать торговлю нефтью и, в свою очередь, общий объем торговли», — цитирует rupec.ru сообщение ICIS.
Данные о поставках российского газа в Китай по «Силе Сибири» раскрыты
Газ из России в 2020 году обходился Китаю дешевле, чем от других крупных поставщиков, однако цена поставок в Поднебесную выше, чем в среднем по европейским контрактам «Газпрома». По данным зампредседателя правления «Газпрома» Фамила Садыгова, в 2020 году выручка холдинга от продажи газа в КНР составила 44,3 млрд рублей. При объеме 4,1 млрд кубометров газа, по подсчетам «Коммерсанта», это дает среднюю цену около $150,2 за 1000 кубометров. Это дешевле, чем у других крупных поставщиков, но дороже средней цены газа по европейским контрактам.
В 2020 году средняя цена экспорта «Газпрома» в дальнее зарубежье составляла $143 за 1000 кубометров. Договор о поставках российского газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири», который заключался на 30 лет, предполагал ежегодную поставку 38 млрд кубометров, однако на эти объемы «Газпром» выйдет только к 2024 году. В 2021 году «Газпром» должен поставить 10 млрд кубометров газа, а китайская CNPC — оплачивать не менее 85% этих объемов. Цена на газ по контракту привязана к цене нефтепродуктов с девятимесячным лагом. Бывший зампред «Газпрома» Александр Медведев после подписания контракта с Китаем назвал неуместным интерес к цене поставок. Единственный намек дал глава «Газпрома» Алексей Миллер, оценив общий объем контракта за все время его действия в $400 млрд. При этом в монополии уверяли, что цена для Китая сопоставима с уровнем для европейского дальнего зарубежья.
Стоимость поставок российского газа раскрывала таможня КНР. В первом квартале 2020 года она составила $202 за 1000 кубометров, во втором — $182, в третьем — $144, а в четвертом — $126. По оценкам источников «Коммерсанта» в отрасли, данные китайской таможни не всегда точно отражают цены по контракту. Садыгов 16 июня заявил, что в 2021 году компания планирует поставить в КНР 8,5 млрд кубометров газа, удвоив выручку по отношению к предыдущему году. Этот прогноз нельзя рассматривать как точный, пишет газета. Объемы поставок оценены по уровню take-or-pay, то есть 85% от контрактных 10 млрд кубометров, а цена, по всей видимости, основана на прогнозной стоимости нефти, заложенной в бюджет «Газпрома» на этот год, — $50 за баррель. Исходя из данных за 2020 год, уровень кривой в контракте «Газпрома» с CNPC может составлять 10% от цены Brent. Из этого следует, что при текущей цене нефти в $74 за баррель газ для Китая может стоить $265 за 1000 кубометров.
По словам директора по исследованиям Vygon Consulting Марии Беловой, российский газ самый дешевый для Китая. Узбекистан в 2020 году поставлял газ по $180 за 1000 кубометров, Туркмения — по $210, Мьянма — по $340. Средняя цена импорта СПГ в 2020 году составила около $230 за 1000 кубометров, отметил аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. Самыми доступными источниками СПГ, уточнила Белова, были Нигерия и Малайзия ($200 за 1000 кубометров), а самым дорогим — Катар ($275 за 1000 кубометров).

Восточный прогресс
Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков - о туризме, транспорте и бизнесе на Дальнем Востоке и в Арктике
Текст: Елена Березина
Бесплатные гектары в Арктике будут выделяться рядом с городами и инфраструктурой. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. В интервью "РГ" он рассказал, что предложат получателям гектаров, а также о том, сколько аэродромов появится на Дальнем Востоке до конца года и что регион готов предложить туристам.
В августе стартует программа предоставления гектаров в Арктике. Кого, как ожидаете, привлечет Север?
Алексей Чекунков: Это нишевый продукт. По опыту реализации программы на Дальнем Востоке мы ожидаем, что земля на Крайнем Севере заинтересует активных людей, которые мечтают построить свой дом либо заняться предпринимательством - например, в сфере арктического туризма, который набирает обороты. Среди коренных малочисленных народов Севера есть инициаторы интересных этнографических проектов. Мы говорили с одним из представителей народа ханты, который проживает в Салехарде, но родился и вырос в небольшом поселке, мечтает вернуться в родные места и надеется, что земельная программа поможет возродить поселение. Предложим получателям гектаров комплекс услуг, релевантный цели получения земли. Например, в случае со строительством дома - домокомплекты, для предпринимателей - наиболее эффективные технологии ведения бизнеса.
Создана единая дальневосточная компания. Сколько у нее будет маршрутов?
Алексей Чекунков: Новые маршруты уже запланированы. В 2021 году запустим 20 новых межрегиональных маршрутов, а в 2022 году доведем их до 30.
Самое важное - сбалансировать требования к малым аэродромам и посадочным площадкам. В программе минтранса запланированы серьезные инвестиции в модернизацию 32 малых аэродромов до 2024 года. Кроме того, концепция развития аэродромной сети предусматривает реконструкцию и строительство еще 40 аэродромов до 2035 года. Это малые аэродромы, и если к ним сохранить неразумные требования - на каждом аэродроме должно два десятка человек работать круглосуточно, а туда прилетает два рейса в неделю, - не получится удешевить билет. Либо придется платить непомерные субсидии. Поэтому еще нужно докрутить, состыковать требования безопасности с экономическими соображениями.
В советское время грунтовых полос было в пять раз больше, чем сейчас. Малые аэродромы и грунтовые полосы - единственное возможное решение для географии, климата, сейсмики и той плотности населения, с которыми мы имеем дело на Дальнем Востоке и в Арктике. Для этого нам нужны легкие одномоторные российские самолеты. Будем до победного с минпромторгом бороться за наш "Байкал". Его характеристики впечатляют.
Где-то вертолетные перевозки заменим самолетными. Например, на Камчатке. Замена двухчасового вертолетного полета часовым перелетом на самолете снижает стоимость в три раза. Туристов на Камчатке возят на отдаленные гейзеры вертолетом, и билет стоит 45 тыс. руб. (35 тыс. для жителей Камчатки). Если 80% этого маршрута совершить на легкомоторном самолете, приземлиться в селе Меликово, где люди передохнут, зайдут в визит-центр, а уже оттуда последних 20% пути пролетят на вертолете, это позволит в два раза удешевить поездку. Людям это даже интереснее, потому что у них вместо одного два опыта получается.
Очень важен туристический аспект. Люди реально открывают Дальний Восток и Арктику. В туризме сейчас происходит замещение, эффект от которого мы будем чувствовать долгие годы. Те, кто хоть раз слетал на Камчатку, рассказывают об этом друзьям, постят в соцсетях. Кто-то об этом задумается, через год слетает, кто-то через два. Это все бизнес для дальневосточной авиакомпании. И правильно сотканная сеть из 535 маршрутов позволит бесшовно перевозить людей внутри региона.
На совещании с вице-премьером Дмитрием Чернышенко на Камчатке мы предложили субсидировать людям, прилетающим на Дальний Восток, билет в любую точку внутри региона и между регионами ДФО. Это успешная программа, ее уже реализовали в Индии, Японии, Новой Зеландии. Прилетаешь в Хабаровск, а оттуда можешь во Владивосток полететь, билет подарят бесплатно, если ты купил туристический продукт.
Не билет, а именно турпродукт: мы знаем, сколько человек заплатит за гостиницу, сколько потратит в ресторанах, в магазинах. Так мы увеличиваем валовый региональный продукт, развиваем туризм, создаем новые объекты. Надеюсь, такая программа будет реализована. Мы называем ее "Открой Дальний Восток". Таким образом мы покупаем туристов, только россиян, про иностранцев речи не идет.
На Дальнем Востоке много интересного, но нет транспорта и не умеют ничего показывать. Как сделать турпродукт более внятным?
Алексей Чекунков: Все быстро меняется. Туризмом уже заинтересовался крупный бизнес, "Роза Хутор" реализует с нашей поддержкой проект "Три вулкана", рассматривает проекты в Мурманской области. Как только приходят крупные операторы, за ними подтягивается планктон - малый, средний бизнес. Происходит переход от дикого туризма к цивилизованному. В этом смысле я верю в законы экономики - есть спрос, будет и предложение.
Минвостокразвития совместно с "Востокгоспланом" создает "цифрового двойника" северного завоза. Он объединит данные по 25 регионам, 300 судам и грузам объемом 3 млн тонн в год для выявления "узких" мест в логистике. Что будет с теми предпринимателями, которые уже им занимаются?
Алексей Чекунков: Мы не собираемся делать резких движений. Государство неизящно ушло из экономического планирования. Мне искренне не хватает Госплана. Что плохого в том, чтобы, например, на пять лет планировать свою деятельность? Любой крупный бизнес имеет бизнес-план. Странно, если государство его не имеет. Лететь по приборам, конечно, тоже можно, но лучше все-таки лететь с чистой видимостью. И современные технологии дают нам эту возможность.
На базе "Востокгосплана" мы пытаемся создать "цифровой госплан XXI века". Частью модели цифрового двойника Северного морского пути будет северный завоз. В этом блоке 800 параметров, которые между собой могут быть взаимосвязаны. Чтобы это Excel посчитал, нужно до миллиона часов. А российское программное обеспечение то же самое делает за 10 секунд. Раньше это было невозможно, а сейчас мы бесконечное количество сценариев можем просчитать.
Очень важно иметь интегральную картину. Любой инвестпроект в таком регионе тащит за собой социалку, инфраструктуру, энергетику, логистику, образование. Когда инвестпроект уже реализуется, вспоминают, что не на чем вывозить. Бегут заказывать суда, потом оказывается, что нужно привозить две тысячи человек. А где они будут жить? А какая у них будет энергия? В какие школы будут ходить их дети? И если это все не сложить в единую картинку, получаются дурацкие провалы. Поэтому сначала мы создаем прозрачную систему, которая сможет это все смоделировать и показать, где есть деформации.
Общий масштаб "бедствия" - 110 млрд руб. в год. Система хотя бы покажет, когда один и тот же товар в похожих регионах завозится с разницей в цене в два раза. И органы госрегулирования смогут аккуратно где-то что-то подправить.
Добросовестный бизнес от этого только выиграет. Если ты хорошо работаешь, у тебя поставлена логистика, цепочка поставок, ты не участвуешь в серых и коррупционных схемах, твой бизнес вырастет. Если же у тебя нежная дружба с каким-нибудь муниципалитетом и ты завозишь мазут по странным схемам, этому конец.
Вы дадите бизнесу время на то, чтобы выйти из тени?
Алексей Чекунков: Давайте мы сначала диагностику проведем. В малых поселениях некоторые просто этим живут. Но если это коррупция и неэффективность, то какой может быть выбор? Это же безумные деньги для бюджета. Наверное, это можно выдержать при цене на нефть в 70-80 долл. А вы верите, что на 20-летнем горизонте углеводороды не подешевеют? Я, например, нет.
Я бы хотел, чтобы мы, живя в самой большой стране мира, где на 70% территории сложные климатические условия, научились эффективно хозяйствовать. Если жизнь нас заставит, это прекратится резко и больно. Лучше мы сначала поэкспериментируем с открытой платформой. Мы уже провели похожую работу с аквакультурой на Дальнем Востоке, сейчас проводим в лесной отрасли, пока результаты прекрасные.
Бизнес должен понимать, что государство видит все. Электронные системы, анализ данных, прозрачность сделок - они тотальные. Рано или поздно - думаю, раньше, чем позже - какая-то страна первая откажется от наличных денег. Мы уже почти ими не пользуемся. Все станет цифровым, электронным. И транзакции, которые необъяснимы, невозможно будет совершить. Не останется такого места, где можно будет делать что-то в режиме междусобойчика. Просто привыкать к этому надо уже прямо сегодня.
Морепродукты с Дальнего Востока идут на экспорт в "сыром" виде. Что мешает перерабатывать их на месте и продавать дороже?
Алексей Чекунков: Мне кажется, что произошел перелом. В первую очередь, в психологии у крупных рыбопромышленников. Механизм квоты в обмен на инвестиции сработал. Мы пока всего 10% перерабатываем, но это самые главные и сложные 10%. Заводы, в которые переработчики проинвестировали, сейчас начинают работать.
Если раньше был стереотип, что рыбу только в Китае и во Вьетнаме могут чистить, потому что там дешевая рабочая сила, то сейчас это делают машины, и довольно большой бизнес обслуживают всего пара сотен сотрудников.
Мы имеем 11 береговых рыбоперерабатывающих заводов мощностью 360 тысяч тонн в год. Еще два завода будут построены до конца 2023 года. Мощности этого комплекса заводов позволят довести долю перерабатываемой рыбной продукции до 23-25%. Минсельхоз и Росрыболовство уже рассматривают вопросы второго этапа - программу квот, в рамках которой должны быть созданы холодильные мощности. Мы доведем долю продукции глубокой переработки до 50%.
Не было бы счастья, а несчастье помогло - закрытие КНР из-за пандемии. Рыбопромышленники осознали, что нельзя зависеть от китайского рынка, когда у тебя рыба мороженая на борту и всего месяц, чтобы ее разгрузить. А рынок закрыт, и ты не знаешь, когда он откроется. Никому не нравится терять миллионы долларов за пару недель.
В ДФО есть конфликт прибрежной любительской рыбной ловли с промышленным рыболовством. Вице-премьер Юрий Трутнев давал поручение разрешить жителям региона спокойно ловить рыбу для себя. Чем все закончилось?
Алексей Чекунков: Здесь нет универсального решения. Дальний Восток и Арктика занимают около 55% территории РФ, все субъекты очень самобытны. На Камчатке есть примеры, когда лицензию на любительскую рыбную ловлю продает частное ООО, и, чтобы купить условный билет, нужно, как в кино, в условленное время в условное место подъехать и найти мужика на джипе. Если промахнулся, у тебя уже билета нет. На Камчатке, где нерестовые реки, бизнес исторически был сопряжен и с криминалом, и с серьезными рисками для любителей, нужны более жесткие меры. Помогают технологии - если раньше правоохранители могли просто не доехать до какой-то речки, то сейчас можно со спутника можно видеть все, что происходит, с точностью до двух метров.
Добились ли мы сосуществования любительского рыболовства с промышленным? Пока нет, продолжаем диалог с Росрыболовством. В приоритете решение вопроса для коренных малочисленных народов, потому что это традиционный уклад их жизни. Главное, защищая людей, не защитить их так, чтобы воздуха не осталось. Чтобы они все-таки могли дышать. Думаю, что баланс найти можно, но его нужно искать в каждом регионе отдельно.
С начала года грузооборот морских портов Севморпути (СМП) падает, пересматривается ли прогноз по его загрузке?
Алексей Чекунков: Это сезонная история. Пока СМП покрыт льдом, грузооборот не может расти. Выводы можно делать только в конце года, когда мы поймем, какой был навигационный период.
Я уверен, что мы СМП раскатаем. Стратегический интерес иметь альтернативу Малаккскому проливу и Суэцкому каналу есть у Китая и стран Восточной Азии, которые зависят от южного маршрута. Они зависят от него всей экономикой - как экспортом, там и импортом, включая продовольствие. И если там что-то случится, как было в Суэцком канале, эта дорога жизни будет перекрыта.
Стратегия наращивания ледокольной группировки и создания инфраструктуры совершенно верна. Сейчас важная задача - запустить регулярную контейнерную линию в экспериментальном режиме. Научиться возить контейнеры, хотя бы каботаж, пока внутри России. Но когда мы этого добьемся, посчитаем, сколько субсидий нужно стивидорам и перевозчикам, мы начнем побеждать. Имея грузопоток по СМП 33 млн тонн по году (столько составил грузооборот в 2020 году. - Прим. ред.), мы уже побеждаем на Севере.
Есть ли уже потенциальные инвесторы в рамках механизма дальневосточной концессии?
Алексей Чекунков: У нас длинный список заявок от регионов - более 300 объектов, которые могут быть созданы в рамках дальневосточной концессии. В глубокой проработке 24 проекта. Первыми большими значимыми проектами станет создание инженерной инфраструктуры для проекта "Сибура" Амурского газохимического комплекса в Амурской области и создание транспортной инфраструктуры для разработки Баимского месторождения на Чукотке. Это будет дорога, но мы прорабатываем возможность добавить к этому город. Также на ПМЭФ мы подписали рамочное соглашение с Магаданской областью и ВТБ о создании социальной инфраструктуры - объектов образования и здравоохранения стоимостью 20 млрд руб.
В чем принцип дальневосточной концессии?
Алексей Чекунков: Каждому крупному инвестпроекту нужна как обеспечивающая инфраструктура, так и социальная. Люди должны где-то жить, лечиться, дети ходить в детсады, школы. На все бюджетных средств не хватает. Используя концессию, мы можем растянуть затраты на инфраструктуру на 20 лет и создать ее в 3-5 раз больше и значительно быстрее, чем если бы мы просто платили здесь и сейчас. Это некая инфраструктурная ипотека, поэтому заявок у нас много. Концессия позволит до 2024 года дополнительно привлечь до 500 млрд руб. в создание новой инфраструктуры.
Концессия прекрасна тем, что по ней можно создать практически любой объект. Некоторые инвесторы к нам приходят за прямыми государственными инвестициями. Говорят, давайте мы вложим, условно, 100 руб., а вы нам на 50 построите инфраструктуру. Мы с таким мультипликатором не решим инфраструктурные проблемы, потому что при объеме заявленных инвестиций во всех наших преференциальных режимах почти 5,5 трлн руб. не может государство половину денег потратить на инфраструктуру. А по концессии - пожалуйста.
Смысл прост - когда бизнес уже создает свой объект, мы создаем концессионный объект, потихоньку компенсируем его инвесторам, а бизнес уже что-то начинает платить. Получается соблюсти баланс интересов - и государство смогло поддержать максимум проектов, и бизнес участвует рублем в оплате той инфраструктуры, которая нужна для их реализации.
Какие решения приняты по поводу экспортных пошлин на масличные культуры с Дальнего Востока? Будет введен мораторий или компенсационный механизм?
Алексей Чекунков: По сое пошлины с 30% будут понижены до 20% с 1 июля. Участники рынка считают, что это им уже по плечу. Начинается диалог с крупными переработчиками даже в европейской части страны, которые предлагают приемлемые цены дальневосточным производителям. То есть госполитика к принуждению переработки внутри России все-таки работает. Ориентация на экспорт сырья в Китай любым способом, зачастую серым, подводит людей. Как только, что-то меняется, они остаются без рынка и без денег.
На производство масличных на 2021 год предусмотрено 1,4 млрд руб. субсидий Приморью, Забайкалью, Амурской и Еврейской автономной области. Также предусмотрена компенсация части затрат на создание или модернизацию объектов переработки - до 25% от фактической стоимости. Мотивация есть, и на дальневосточный рынок уже пришли сильные игроки. Работая в такой сложной аграрной провинции, с рискованным земледелием, им тоже важно идти в переработку.
Мы будем бороться со своей стороны за открытие рынков. Местный рынок небольшой, нужно продавать в Японию, Корею, Китай. Не все позиции Китай покупает, но вода камень точит. Везти сто километров это не то же самое, что везти тысячи.
Когда начнется подъем затонувших судов на Дальнем Востоке?
Алексей Чекунков: В акваториях Дальневосточного бассейна и Арктики 615 затонувших судов, по 412 судам не найден собственник. Минтранс подготовил и уже направил в правительство проекты федеральных законов. Они сейчас дорабатываются. Работа над ними должна быть закончена уже в июне 2021 года. Уже есть проект дорожной карты по подъему судов, но сама работа по расчистке акватории, конечно, растянется на десятилетия, исходя из масштаба проблемы.


Цветные металлы дешевеют, опасаясь китайских мер по борьбе с высокими ценами
В понедельник, 14 июня, котировки цен цветных металлов демонстрировали на LME cмешанную динамику. Контракт на никель с поставкой через 3 месяца подорожал на бирже на 1,39%, до $18480 за т. За прошедшую неделю (с 7 июня) стоимость никеля выросла на 3,29%. В ходе торгов котировки никеля обновили максимум 3 марта.
По словам источников, подорожание никеля связано с ростом цен на никелевую руду и никелевый чугун в Китае на фоне высокого спроса на нержавейку и осложнений с поставкой никелевого чугуна из Индонезии вследствие нестабильных погодных условий.
Алюминий с поставкой через 3 месяца подорожал на 1,20%, до $2494 за т, с $2464,50 за т по итогам пятницы.
Котировки олова обновили в понедельник максимум текущего года, выйдя на отметку $31850 за т, но к окончанию торгов снизились до $31651 за т (+0,26 к значению закрытия пятницы).
Тем временем до 28 июня в Малайзии введен локдаун из-за увеличения заболеваемости Covid-19, что может означать продление состояния форс-мажора у малазийского производителя олова Malaysian Smelting Corp. По словам клиентов компании, она обратилась к правительству страны с просьбой рассматривать ее деятельность как «жизненно необходимую», что позволило бы задействовать в работе предприятия 60% его трудового контингента, однако она пока не получила позитивного ответа от властей.
Трехмесячный контракт на медь подешевел на бирже на 0,32%, до $9971,50 за т, с $10003,50 за т по итогам пятницы. В ходе торгов понедельника было продано 6100 лотов металла, тогда как в прошедшую пятницу – 15800 лотов.
Инвесторы Comex между тем снизили объем чистых длинных позиций по меди на первой неделе июня, отметил аналитик Commerzbank Даниэль Бризман, ссылаясь на данные Комиссии по торгам сырьевыми фьючерсами США.
«Очевидно, что эта группа инвесторов не верит в способность цен на медь выйти на новые рекордные показатели в краткосрочной перспективе. По сути, объем коротких позиций наращивался в последние недели, что является признаком увеличивающегося скептицизма. Удивительно, что цена на медь все еще находится вблизи отметки $10000 за т на таком фоне», – подчеркнул г-н Бризман.
На утренних торгах вторника цена «красного металла» упала до самых низких значений с 26 апреля на фоне опасений инвесторов, что китайские власти могут применить меры по сдерживанию роста сырьевых цен. В Лондоне трехмесячный контракт на медь подешевел на 2,9%, до $9680 за т. На ShFE июльский контракт на медь подешевел до самого низкого показателя с 23 апреля – 69500 юаней ($10852,08) за т.
На прошедшей неделе правительство КНР подтвердило свои обещания усилить контроль за ценами на сырьевые материалы ввиду того, что инфляция в секторе производства достигла самого высокого показателя более чем за 12 лет. На рынке ожидают, что Китай откроет госрезервы меди, алюминия и цинка и также может начать противодействовать активности «быков» и пресекать спекулятивные операции.
В Шанхае цена алюминия снизилась на 0,2%, до 18790 юаней за т. Никель подешевел на 1,5%, до 131,570 тыс. юаней за т. Котировки цены олова упали на 2,2%, до 205,3 тыс. юаней за т.
Между тем профсоюз, представляющий бастующих работников канадского никелевого рудника Sudbury компании Vale, рекомендовал своим членам не принимать последнее предложение бразильского производителя.
Оперативная сводка сайта Metaltorg.ru по ценам металлов на ведущих мировых биржах в 11:31 моск.вр. 15.06.2021 г.:
на LME (cash): алюминий – $2483.5 за т, медь – $9686.5 за т, свинец – $2165.5 за т, никель – $17970 за т, олово – $32485 за т, цинк – $2985.5 за т;
на LME (3-мес. контракт): алюминий – $2467.5 за т, медь – $9719.5 за т, свинец – $2184 за т, никель – $18000 за т, олово – $31280 за т, цинк – $3002 за т;
на ShFE (поставка июнь 2021 г.): алюминий – $2981 за т, медь – $11275.5 за т, свинец – $2380 за т, никель – $22937.5 за т, олово – $32080 за т, цинк – $3519 за т (включая 17% НДС);
на ShFE (поставка август 2021 г.): алюминий – $2961 за т, медь – $11023.5 за т, свинец – $2402.5 за т, никель – $20668.5 за т, олово – $32141 за т, цинк – $3511 за т (включая 17% НДС);
на NYMEX (поставка июнь 2021 г.): медь – $9991.5 за т;
на NYMEX (поставка сентябрь 2021 г.): медь – $9685 за т.
Знания в приоритете
Россиян с высшим образованием сегодня в три раза больше, чем во времена СССР
Текст: Евгения Мамонова
Если в 1989 году высшее образование имели 11 процентов населения России, то сегодня общее количество граждан, окончивших высшее учебное заведение, составляет более 31 процента.
В разных возрастных группах доля людей, окончивших вуз отличается: каждое новое поколение россиян становится более образованным. К примеру, среди рожденных в период с 1981 по 1985 год высшее образование имеют 37 процентов граждан: 44 процента женщин и 31 процент мужчин, среди москвичей в этой возрастной категории доля людей, окончивших вуз, составляет 57 процентов.
Развитие высшего образования в цифрах
СССР в период индустриального общества удалось ликвидировать безграмотность. Так, к 1970-м годам в стране было обеспечено всеобщее среднее образование, была создана система высшего профессионального образования, соответствующая сложившейся тогда индустриальной модели, которая преимущественно обеспечивала решение оборонных задач и развитие фундаментальных отраслей науки, связанных с ВПК. В целом же общий уровень образования в СССР, как общего, так и профессионального, был выше, чем в других странах со сопоставимым среднедушевым ВВП.
После распада Союза в 1991 году в России было 514 государственных высших учебных заведений, в которых получали образование 2 824 500 студентов. Но спрос на высшее образование был куда большим: в большинстве престижных вузов столицы конкурс на одно место составлял от 20 до 60 человек, в крупнейших региональных вузах конкурс 10-30 человек на место был нормой.
В начале 1990-х годов мировая экономика стала переходить от индустриальной к постиндустриальной модели. Переход к новой модели экономического устройства требовал создания новых профессий и обучения им. Было совершенно очевидно, что повышение уровня образования станет важным фактором экономического роста, сокращения отставания от более развитых стран и обеспечения экономического развития страны. Ориентир на повышение уровня образования населения был продиктован не только экономическими, но и социальными причинами: люди с высшим образованием пользуются спросом на рынке труда, среди них нет высокой безработицы, кроме того, люди с высшим образованием, как правило, более работоспособны, дольше живут, в меньшей степени склонны совершать преступления.
В 1992 году была завершена подготовка реформы образования. Государственной Думой был принят Закон "Об образовании в РФ", который, в частности, делал высшее образование более доступным: новый закон позволял государственным вузам предоставлять платные образовательные услуги и создавать частные образовательные учреждения. Опыт более экономически развитых стран показывал, что частные вузы быстрее реагируют на вызовы времени, открытие новых факультетов или направлений обучения проходит гораздо быстрее. Кроме того, частные вузы не требуют государственного финансирования.
К 1996 году в стране были открыты первые 78 негосударственных вузов, обучение в которых проходили 69 900 студентов.
1990-е годы стали периодом бурного развития системы высшего образования: быстро росло число высших учебных заведений и их филиалов. К 2000 году в стране функционировали 302 частных и 578 государственных вузов, численность профессорско-преподавательского состава увеличилась на 25 процентов, а общее количество студентов вузов по сравнению с 1991 годом увеличилось на 68 процентов - до 4 741 400 человек, 470 600 из которых учились в частных вузах.
Росло и число филиалов вузов: к 2005 году на 660 государственных вузов приходилось 1376 филиалов, а на 430 негосударственных - 326 филиалов.
Пик студентов, получающих высшее образование, пришелся на 2005-2010 годы - в эти годы в вузах страны обучались более семи миллионов студентов. Рекордное число студентов было зафиксировано в 2005 году, когда общее количество учащихся вузов составило 7 064 600 человек, из которых 1 079 300 учились в частных вузах.
К 2010 году доля людей с высшим образованием в России увеличилась до 23 процентов. В 2010 году в стране работали 653 государственных и 462 частных вуза.
С 2011 года вследствие демографических причин началось сокращение количества студентов. Тогда же министерством образования и науки была начата реструктуризация вузовской сети. С 2013 года начало снижаться количество образовательных организаций негосударственного сектора высшего образования.
В марте 2014 года в рамках реформы высшего образования Министерством образования и науки РФ были выработаны требования к вузам в части качества образования, разработаны механизмы контроля и мониторинга эффективности работы высших учебных заведений.
Стандартизация отечественного образования, начатая в рамках образовательных реформ, ввела механизмы подтверждения прав на осуществление образовательной деятельности: аккредитация и лицензирование позволили осуществлять контроль качества образования и соответствия требованиям государственных образовательных стандартов.
Ужесточение системы контрольно-надзорной деятельности и неготовность некоторых вузов к новым требованиям к качеству образования привело к общему сокращению количества учреждений высшего образования до 724 в 2015 году (499 государственных и 225 частных вузов). Более 600 вузов прекратили свое существование. Государственных стало меньше за счет укрупнения и создания университетов, в состав которых вошли профильные институты. В секторе негосударственных вузов сокращение произошло за счет закрытия не соответствующих стандартам учреждений и присоединения лишившихся лицензий и аккредитаций вузов к более крупным организациям, показавшим в результате мониторинга соответствие стандартам и требованиям минобрнауки к качеству образования.
В 2015 году вследствие уже упомянутых демографических причин количество студентов вузов, по данным министерства образования и науки, снизилось до 4 766 479, включая 2 237 789 студентов, получающих образование в заочной форме. Демографическое положение определило и дальнейшее снижение общего количества учащихся вузов: к 2019 году общее количество студентов государственных и частных вузов снизилось почти на 700 тысяч - до 4 068 327 студентов, в том числе 1 500 272, проходящих обучение в заочной форме.
В результате реформы вузовской сети и ужесточения требований к качеству образования и соответствия образовательным стандартам по состоянию на 2020/2021 учебный год общее количество негосударственных вузов по сравнению с 2010 годом снизилось с 462 в 2010 году до 213, за тот же период количество государственных вузов сократилось с 653 до 497. При этом в 213 негосударственных вузах сегодня проходят обучение около 400 тысяч студентов, в государственных - 3,6 миллиона, из которых 1,8 миллиона человек учатся на платной основе.
За последние 30 лет уровень высшего образования в России вырос почти втрое: более 31 процента населения в возрасте от 25 до 65 лет окончили вуз, а среди граждан в возрасте 25-35 лет высшее образование имеют больше 41 процента граждан. Для сравнения, в Италии высшее образование имеют 19,5 процента населения в возрасте 25-65 лет, в возрасте 25-35 лет - 27,8 процента, в Германии 28,5 и 32,5 процента соответственно, во Франции - 22,5 и 46,6 процента в тех же возрастных группах. Сегодня по уровню образования населения Россия входит в число самых образованных стран Европы, несколько выше уровень высшего образования в Великобритании - 36,1 процента в целом по стране и 50,8 процента среди населения в возрасте 25-35 лет, и в Швеции - 33,5 и 47,5 процента соответственно.
Развитие негосударственного сектора образования достигло среднеевропейских и американских показателей: высшее образование в негосударственных вузах получают 10 процентов студентов, или 22 процента всех учащихся, проходящих обучение на платной основе. Частные высшие учебные заведения уверенно занимают свою долю рынка образования, которая, по прогнозам специалистов, будет расти вместе с развитием научной и исследовательской базы и увеличением профессорско-преподавательского состава.
Станут ли негосударственные вузы дополнительным драйвером в диверсификации и развитии российской экономики? Вполне вероятно, учитывая опыт зарубежных частных вузов и сегодняшнее положение ведущих российских негосударственных образовательных организаций в европейской и постсоветской системе образования.
Частные вузы России в международной системе образования
Негосударственный сектор высшего образования развивается во всем мире. Большинство всемирно известных частных университетов насчитывают историю в 150, 200 и даже более 300 лет. Первые строки Академического рейтинга университетов мира - 2020 (The Academic Ranking of World Universities) занимают частные университеты: Гарвардский, Стэнфордский, Кембриджский, Принстонский, Йельский, Массачусетский технологический институт. В этом наиболее престижном рейтинге представлены и крупнейшие российские вузы, правда, только государственные. При этом в рейтинг входят сравнительно недавно созданные частные вузы Южной Кореи, Китая, Японии, Сингапура.
В международном рейтинге университетов QS EECA University Rankings 2020/21, охватывающего вузы 29 стран Восточной Европы и Центральной Азии, представлены 117 российских вузов, из них 112 - крупнейшие государственные, и пять частных образовательных организаций высшего образования (в порядке расположения в рейтинге): Российская экономическая школа, Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Московский финансово-промышленный университет "Синергия", Российский новый университет, Воронежский институт высоких технологий.
Негосударственные вузы в России начали создаваться с 1992 года, когда был принят новый Закон "Об образовании в РФ". Как известно, в СССР не было частного образования. Менее чем за 30 лет в стране была создана система негосударственного высшего образования, в которой сегодня функционирует 213 частных вузов, и уже пять из них входят в европейский рейтинг QS EECA. Если же говорить о положении внутри страны, то частные вузы обучают более 22 процентов всех студентов, получающих образование на платной основе. Из четырех миллионов студентов, получающих высшее образование в 2020/2021 году, около 400 тысяч человек учатся в негосударственных вузах.
Если говорить о профессорско-преподавательском составе, то общая численность преподавателей государственных вузов составляет 265 тысяч человек, в негосударственных вузах работают более 42 тысяч преподавателей - 15,8 процента от всех занятых в государственном секторе.
Среди пятерки российских негосударственных вузов, входящих в рейтинг QS EECA, крупнейшим является Московский финансово-промышленный университет "Синергия", он же - самый крупный частный университет России по количеству студентов. По данным мониторинга Министерства науки и высшего образования за 2020 год в университете работают 153 доктора наук и 595 кандидатов наук, общая численность сотрудников университета составляет 2 324 человека, из них штатный профессорско-преподавательский состав - 983 человека, что составляет около 2,5 процента от общего количества преподавателей, работающих в частных вузах.
Как развивалось и что собой представляет частное образование сегодня, мы решили рассмотреть на примере МФПУ "Синергия".
От банковской школы до классического университета
История университета "Синергия" начинается с 1995 года, когда по инициативе доктора экономических наук, члена-корреспондента Российской академии образования Юрия Борисович Рубина была создана Московская высшая банковская школа, которая занималась подготовкой менеджмента и специалистов банковской сферы. В 1998 году школа была преобразована в Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права (ММИЭИФП), который в том же году получил государственную аккредитацию. К 2000 году, через два года после получения госаккредитации, общая численность студентов института выросла с пяти до восьми тысяч человек.
С 1998 по 2002 год ММИЭИФП наряду с несколькими другими учреждениями высшего образования принимал участие в эксперименте министерства образования по развитию образовательных программ для системы дистанционного образования. В 1998 году в рамках внедрения программ дистанционного обучения институт начал выпуск CD-дисков с учебными материалами. В этот период ректор института Юрий Рубин являлся членом совета директоров расположенного в Брюсселе Европейского фонда по обеспечению качества обучения в E-learning (обучение через интернет), что позволяло ему внедрять европейский опыт при разработке российских образовательных программ.
В 2001 году к Юрию Рубину присоединился в качестве партнера Вадим Георгиевич Лобов, который взял на себя вопросы формирования материально-технической базы, экономики и маркетинга учебного заведения.
К 2002 году институтом был запущен первый в стране портал полнообъемного онлайн-обучения E-Education.ru. В дальнейшем этот ресурс был преобразован в онлайн-платформу Megacampus.
С 2002 по 2005 год, когда вопросами привлечения абитуриентов, набора и создания бизнес-модели работы университета занялся новый исполнительный директор, общее количество студентов института выросло до 15 тысяч.
В 2005 году Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права в результате реорганизации получил статус академии и новое название - Московская финансово-промышленная академия. С 2005 года ежегодно студентами академии становились порядка 15 тысяч абитуриентов.
В 2009 году Московская финансово-промышленная академия стала первым российским вузом, получившим аккредитацию Европейского фонда по обеспечению качества обучения в E-learning. Для проверки соответствия стандартам и мониторинга работы вуза в академию приезжали эксперты из Бельгии, Германии, Испании.
К 2010-2011 годам ежегодный набор абитуриентов Московской финансово-промышленной академии составил более 20 тысяч человек. В 2011 году академия получила государственную аккредитацию по виду "университет" и была преобразована Московский финансово-промышленный университет "Синергия".
В 2015-2017 годах общее количество студентов МФПУ "Синергия" превысило 50 тысяч. С 2017 года в университете действует модель "Стартап как диплом", в рамках которой студенты факультета бизнеса представляют свои бизнес-проекты в качестве выпускной квалификационной работы.
В конце 2018 года один из основателей и бессменный ректор вуза с 1995 года Юрий Борисович Рубин был избран президентом МФПУ "Синергия", ректором вуза назначен кандидат экономических наук Артем Игоревич Васильев, до назначения работавший проректором и одним из заместителей Ю.Б. Рубина.
В 2019 году МФПУ "Синергия" стал одним из немногих частных российских вузов, которые вошли в список признанных в Китае иностранных вузов, рекомендованных для поступления китайским абитуриентам (в Китае признаются иностранные дипломы только тех вузов, которые официально рекомендованы государством).
По состоянию на 2021 год в МФПУ "Синергия" имеет четыре филиала: в Омске, Черкесске, Элисте и один международный филиал, расположенный в Дубае (ОАЭ). Дубайский кампус "Синергии" занимает весь 32-й этаж бизнес-центра Platinum Tower в бизнес-зоне DMCC. Сегодня там очно учатся 350 человек из 35 стран. Программы бакалавриата и магистратуры преподаются на английском языке. По окончании обучения выпускники получают двойные дипломы - российский и ОАЭ.
При университете также работает колледж, в котором обучаются студенты по 35 программам среднего профессионального образования. В России помимо филиалов работают 60 представительств университета, а в 2021 году открыто Сербское представительство в Восточной Европе.
В 2020/2021 учебном году в вузе получают образование 76 594 учащихся, из них по программам высшего и среднего профессионального образования (колледж) - 35 594 человека, по программам повышения квалификации - более 18 тысяч, по программам профессиональной переподготовки - девять тысяч человек, и более 14 тысяч человек - по программам профессионального обучения. Процесс обучения ведется на 24 факультетах по 198 программам бакалавриата, 91 программе магистратуры и более чем 500 программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
В МФПУ "Синергия" обучаются студенты 89 стран мира, из которых 14 - страны бывшего СССР, и 75 - страны дальнего зарубежья. Университет сотрудничает с 63 иностранными вузами (Китай, Индия, Великобритания, США, Турция, Сербия, Малайзия, и другие), заключены соглашения об академическом сотрудничестве, академическом обмене и программах двойного диплома.
Программы академического сотрудничества подразумевают совместную научную деятельность, проведение лекций профессорами партнерских вузов, совместную разработку новых образовательных программ. По программам двойного диплома выпускники проходят одну часть обучения в России, вторую - в иностранном партнерском вузе. По завершении обучения выпускники получают два диплома - российский и вуза-партнера.
Общих вех истории крупнейшего частного университета России и данных об МФПУ "Синергия" достаточно, чтобы продемонстрировать на одном примере общее "самочувствие" российской системы негосударственного высшего образования и динамики ее развития. Сегодня российские частные вузы осуществляют свою деятельность практически без государственной поддержки - на все частные вузы страны приходится порядка пяти-шести тысяч бюджетных мест, в то время как в ведущих иностранных вузах большая часть студентов учатся на государственные гранты. Придет ли эта тенденция в Россию - покажет время, сегодня же можно говорить о том, что российская система негосударственного образования достаточно конкурентоспособна и имеет хороший потенциал для дальнейшего развития.
Перспективы развития негосударственного образования в России
Пример МФПУ "Синергия" и всей пятерки частных вузов, вошедших в рейтинг QS EECA University Rankings, наглядно показывает, что в стране построена система негосударственного высшего образования, качественного образования за доступные деньги: если обращаться к тому же рейтингу, то пятерка наиболее эффективных частных вузов идет следующей после 112 (из 497) крупнейших государственных вузов. Российская экономическая школа - один из старейших частных вузов России, основанный в 1992 году, входит в топ-100 международного рейтинга.
Очевидно, что в ближайшие годы сектор российского негосударственного образования будет развиваться, вместе с развитием международных программ сотрудничества частных вузов с ведущими зарубежными университетами будет повышаться уровень российского образования на международном рынке. И возможно, что при должном внимании государства через несколько десятилетий наши негосударственные вузы будут занимать высшие строчки в самых престижных мировых рейтингах вузов.
Справка
Московский финансово-промышленный университет "Синергия" - крупнейшее негосударственное высшее учебное заведение России по количеству студентов. В мониторинге Министерства науки и образования РФ занимает 47-ю строку.
В рэнкинге UniRank Top Universities in Russia 2021 (включает в себя 375 из 724 российских вузов) МФПУ "Синергия" занимает 58-е место.
Во всемирном рейтинге UniRank World University Rankings 2021 (включает в себя 13 600 вузов из 200 стран мира) МФПУ "Синергия" занимает 2353-е место.
В 2021 году МФПУ "Синергия" занял первое место в рейтинге предпринимательских программ Национального рейтинга университетов "Интерфакса" с образовательными программами "Международное предпринимательство" и "Предпринимательство".
В 2020 году университет вошел в рейтинг QS EECA University Rankings 2020/21 в группу 351-400.
В 2020 году приказом минобрнауки МФПУ "Синергия" получил статус федеральной инновационной площадки по программам обучения предпринимательству.
В 2016 год МФПУ "Синергия" занял первое место в рейтинге программ управленческого образования АЦ "Эксперт" и вошел в топ-5 рейтинга программ повышения квалификации.
В 2015 году выпускники МФПУ "Синергия" заняли 5-е место в официальном рейтинге зарплат выпускников вузов РФ, получивших IT-специальности.
В 2012 году МФПУ "Синергия" получил премию Министерства науки и образования РФ "За вклад в развитие предпринимательского образования в РФ".
В 2008 году коллектив вуза стал лауреатом премии правительства РФ за образовательные и учебные пособия в области конкуренции и предпринимательства.
По уловам Малайзии ударил коронавирус
В Малайзии из-за карантинных мер рыбацкие компании испытывают кадровые проблемы – на судах не хватает иностранной рабочей силы. В результате уловы сократились на 10%.
Председатель Службы развития рыболовства страны Датук Сьед Абу Хуссин Хафиз Сьед Абдул Фасал рассказал, что глубоководный промысел требует привлечения иностранцев – малазийцы не хотят долго работать вдали от берега. Все же, по мнению чиновника, недоловы можно восполнить с помощью местных рыбаков. Кроме того, служба готова вывести на рынок запасы замороженной продукции в случае необходимости, пишет портал The Star.
По словам Датука Сьеда Абу Хуссина Хафиза Сьеда Абдула Фасала, проблемы с завозом зарубежных моряков возникли из-за так называемого режима MCO 3.0 (movement control order). Приказ о контроле над передвижением в Малайзии действовал с 12 мая по 7 июня. Как сообщает корреспондент Fishnews, меры ввели для борьбы с пандемией COVID-19.
Чиновник отметил, что Служба развития рыболовства получила одобрение от Иммиграционного департамента на привлечение членов экипажа из Таиланда и Вьетнама. Ведомство обещало помочь рыбацким компаниям в решении этого вопроса, но обратило внимание: чтобы иностранцы въехали в страну по суше, им необходимо получить специальный пропуск.
Fishnews
Заели пальмой
Почему растет импорт пальмового масла и чем это грозит
Текст: Ирина Алпатова, Татьяна Карабут
После небольшого снижения Россия вновь начала наращивать импорт пальмового масла - в апреле он увеличился более чем в 1,5 раза по сравнению с мартом. Эксперты связывают это с ростом экспорта кондитерских изделий, а также ростом спроса на более дешевую продукцию с пальмовым маслом внутри страны.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в апреле в Россию было импортировано 108,8 тыс. тонн пальмового масла, то есть на 57,1% больше, чем в марте. За четыре месяца 2021 года было ввезено в Россию 360,4 тыс. тонн пальмового масла - на 20,5% больше аналогичного периода прошлого года.
В Масложировом союзе "РГ" заверили: роста внутреннего потребления пальмового масла в России не наблюдается последние несколько лет. "Возможно, некоторые компании из-за роста мировых цен на пальмовое масло закупали в начале года небольшое количество впрок, но товар был доставлен только в апреле. Делать выводы, что Россия стала импортировать больше пальмового масла, преждевременно", - говорит исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. По данным союза, в мае ввезена 61 тыс. тонн пальмового масла - на 69% меньше, чем в мае 2020 года.
При этом экспорт кондитерских изделий из России в 2020 году вырос на 11%. И рост продолжается в этом году.
По данным центра "Агроэкспорт" при минсельхозе, в 2020 году на 6 июня Россия экспортировала 211 тыс. тонн кондитерских изделий, а в этом году на ту же дату экспорт составляет уже 249,3 тыс. тонн. Наибольший прирост наблюдается в поставках за рубеж шоколада (23,4%).
Основной объем потребления пальмового масла приходится как раз на кондитерские изделия (30%). Кроме того, используется оно в производстве хлебобулочных изделий (15%), продукции быстрого приготовления, чипсов, пищевых концентратов (25%), молокосодержащих товаров (13%), маргаринов и спредов (3%).
В российском хлебе не стало больше пальмового масла, утверждает президент Российского союза пекарей Алексей Лялин. По его мнению, рост импорта связан в том числе с ростом потребления сладостей внутри страны. "Население заедает стресс на фоне пандемии", - считает Лялин.
В молочной отрасли растительные жиры используются для производства молокосодержащих продуктов с заменителями молочных жиров - сыров, творога и т.п., рассказывает директор аналитического департамента Союзмолока Алексей Воронин. В 2021 году из-за падения доходов населения спрос на такую продукцию немного увеличился, и, значит, выросло производство - плюс 3,4 тыс. тонн за январь-апрель в сравнении с тем же периодом 2020 года. Но существенного прироста в спросе на пальмовое масло со стороны молочной отрасли это не дает, утверждает эксперт. Более того, в России уже несколько лет подряд растет производство товарного сырого молока (по 3% в год), которое идет на производство готовой молочной продукции. По прогнозам союза, в 2021 году в России будет произведено 24,2 млн тонн товарного молока против 23 млн тонн в 2020 году.
Более 84% всего производства пальмового масла в мире приходится на Индонезию и Малайзию. Эти страны являются основными поставщиками пальмового масла в Россию. Взамен мы экспортируем туда топливо, сталь, минудобрения, следует из данных портала International Trade Centre.
Пальмовое масло используется даже при производстве детского питания. Если оно производится с соблюдением технологий, к нему надо относиться "с уважением", считает министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко. Но при переработке появляются опасные для здоровья глицидиловые эфиры жирных кислот. Норматив их содержания будет включен в техрегламент ЕАЭС на масложировую продукцию. "Мы ждем позицию России, и тогда начнется финальное согласование изменений", - рассказал "РГ" Виктор Назаренко. По его оценке, новые требования можно будет полноценно внедрить в странах ЕАЭС в 2025 году.
Канада завершила расследование по импорту арматуры из 7 стран
Как сообщает Yieh.com, Канадский международный торговый суд (CITT) опубликовал отчет о расследовании, согласно которому импорт арматуры из 7 стран нанес ущерб внутренним производителям арматуры в Канаде.
В отчете утверждена антидемпинговая пошлина в размере около 3-23%, предварительно установленная Управлением пограничной службы Канады (CBSA) месяц назад.
В начале мая CBSA установило окончательную демпинговую маржу в размере 23,1% для арматуры производимой в Египте, Италии, Малайзии и Сингапуре. Окончательная демпинговая норма для Вьетнама составила 10,5%, а окончательные демпинговые ставки для Алжира и Индонезии составили 4,8% и 3,3%, соответственно.
Теперь ожидается решение CITT поарматуре из России и Омана. Предварительные пошлины на ее импорт составляют 45% и 8% соответственно.
Комары-диверсанты. Ученые нашли способ избавить людей от кусачих особей
Татьяна Пичугина. В американском штате Флорида в природу выпустили некусачих комаров с измененным геномом. Их задача — вытеснить диких сородичей, заражающих людей смертельно опасными инфекциями. Метод уже опробовали в нескольких регионах мира.
Кто разносит инфекцию
В 2009 году, впервые за 70 лет, в городе Ки-Уэст на архипелаге Флорида-Кис зафиксировали 94 случая лихорадки денге, вирусного гриппоподобного заболевания, в тяжелых случаях приводящего к кровотечениям и шоку. Двадцать процентов зараженных без лечения гибнут. Энтомологи полагают, что инфекцию занесли туристы, а распространили по островам желтолихорадочные комары Aedes aegypti.
Этих кровососущих всего четыре процента в комариной популяции Флориды-Кис, однако именно они переносят возбудителей лихорадки денге, чикунгунья, желтой лихорадки, вирус Зика.
Число незавозных случаев денге растет из года в год, и власти архипелага решились на эксперимент — выпустить генно-модифицированных комаров, которые уничтожат диких переносчиков инфекций. Насекомых предоставила британская компания Oxitec с опытом работы на Каймановых островах, в Малайзии, Панаме, Бразилии, десять лет добивавшаяся одобрения своего проекта в Америке.
У комаров редактируют геном
Комары питаются главным образом сладким цветочным нектаром. Но вот приходит пора размножаться, самка ищет самца и спаривается. Его сперма оплодотворяет зародыши в утробе. А чтобы личинки гарантированно развивались, перед кладкой им нужно хорошее питание — теплая кровь. Самка отправляется на охоту.
Человек для комара — легкая добыча. Самка ориентируется на свет, движения, по углекислому газу от дыхания, определенным запахам, а вблизи — по теплу тела. Нападает, как правило, утром и вечером. Прокалывает кожу "стилетом", чтобы снять пробу крови. При этом сначала впрыскивает секрет — а с ним и вирус.
По данным ВОЗ, порядка 700 тысяч человек в мире ежегодно погибают от инфекций, переносимых комарами. С кровососущими борются репеллентами, инсектицидами. Это создает риск возникновения резистентных видов. Ученые предлагают другой путь — создать мину замедленного действия, которая уничтожит природную популяцию комаров: вывести в лаборатории генно-модифицированных самцов и выпустить на волю. Они спарятся с дикими самками, и те произведут на свет потомство, неспособное к размножению.
Ген смерти в данном случае — это участок ДНК, где закодирована информация о механизме, приводящем личинки к гибели. Метод известен давно, в 1970-х его даже испытали в полевых условиях. Летальную мутацию вызывали гамма-облучением самцов.
В 2000-м профессор зоологии из Оксфорда Люк Алфи усовершенствовал технологию. Он вставил в ДНК комара искусственный ген tTAV — аналог гена резистентных к антибиотику тетрациклину бактерий и вирусов. Ген tTAV вырабатывает белок, в больших количествах смертельный для комара. Его можно "включить" и "выключить" с помощью тетрациклина.
Самцов с tTAV выращивают в воде, куда добавляют антибиотик. Ген, соответственно, не вырабатывает смертельный белок. Затем их выпускают на волю — без тетрациклина они погибают в течение двух дней. Но этого достаточно, чтобы спариться с дикими самками и передать потомству летальную мутацию. Получается очень устойчивая самоликвидируемая система. Через два года Алфи основал дочернюю Оксфордскому университету компанию Oxitec, которая занялась коммерциализацией ноу-хау и его усовершенствованием.
В частности, там вывели еще более эффективных комаров-самоубийц, фактически обманув природу. Проблема в том, что со временем летальный ген исчезает из популяции, поскольку он не обладает эволюционным преимуществом. Для эффективного контроля инфекции на волю приходится постоянно выпускать новые партии мутантных особей. Чтобы этого избежать, ученые сделали летальный ген доминантным, вставив вместе с ним в ДНК инструмент (CRISPR/Cas9), который самостоятельно редактирует вторую хромосому эмбриона — полученную от матери. Рождается организм с геном смерти в обеих хромосомах. Почти все его потомство также сохранит мутацию. Это очень мощный механизм продвижения гена в популяции по принципу цепной реакции.
Есть эффект
В 2010-м Oxitec выпустила в пригороде Жуазейру в Бразилии генно-модифицированных желтолихорадочных комаров OX513A. Мутантные самцы успешно конкурировали за самок. По данным мониторинга, через год дикая популяция сократилась на 88 процентов.
Самый масштабный эксперимент провели в бразильском городе Жакобина. С июня 2013-го по сентябрь 2015-го там выпускали по 450 тысяч самцов-мутантов в неделю. За геном летальности следили по флуоресцентной метке, но разброс данных оказался слишком большим: доля меченых — от десяти до 60 процентов в популяции. Результаты по эффективности контроля над комарами еще не опубликовали.
Британцы и раньше экспериментировали в США — с генетически модифицированной капустной молью в Нью-Йорке и хлопковой молью в Аризоне. Во Флориде компания встретила активное сопротивление местных жителей и экологов. Все же проект удалось протащить на референдуме.
Как сообщает Nature, в апреле ученые разместили ящики с личинками мутантных комаров в частных владениях во Флорида-Кис, не разглашая адресов, чтобы избежать вандализма. В течение трех месяцев из них будут вылупляться по 12 тысяч самцов в неделю. На следующем этапе за 16 недель ожидают появления 20 миллионов насекомых.
В ход пошла новейшая разработка — сорт OX5034. Они созданы таким образом, что уже на стадии взросления в лаборатории самки погибают, остаются только самцы. Это избавляет от ручной сортировки личинок. Комаров выпускают в природу, где они передают потомкам ген смерти. Но в новом поколении погибают лишь самки. Самцы же продолжают продвигать летальную мутацию. Через десять поколений эта линия вымирает сама собой.
Есть и другие методы самоуничтожения желтолихорадочных комаров. Один из них во Флорида-Кис в 2017 году испытала компания MosquitoMate. На волю выпустили самцов, инфицированных бактерией вольбахией. Этот паразит портит сперматозоиды, и оплодотворенные ими эмбрионы погибают. В отличие от генно-модифицированных комаров, эти не вызвали протестов местного населения.
Запрет эффективнее переработки
Российское правительство решило бороться с пластиковым мусором.
Первый шаг на пути к тотальному очищению будет сделан осенью: именно тогда кабинет министров собирается внести в Госдуму поправки в законодательство, касающиеся запрета использования некоторых видов неперерабатываемого пластика. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Стоит отметить, что это ожидаемый шаг правительства России, поскольку одноразовый пластик уже запрещен во многих странах и даже в одном российском регионе. В частности, в ЕС от него отказались с 1 января 2021 года, ранее от него решили избавиться в Австралии, Сингапуре, Индии, некоторых штатах США — всего в более 40 странах. Гражданам Шри-Ланки за пластиковый пакет грозит солидный штраф или несколько лет тюрьмы. В Кении за подобное злодеяние придется заплатить до $40 тысяч! Руанда отказалась от использования одноразовых пластиковых пакетов еще в 2008 году. Узбекистан пришел к запрету одноразовых пакетов только в 2019 году. В нашей стране первый шаг к чистоте сделала Ленинградская область, где комитет по культуре еще 2018 году запретил использовать одноразовые товары из пластика во время мероприятий массового характера.
Россия к отказу от одноразового пластика шла более 10 лет. Однако всякий раз желание правительства положить конец мусорному беспределу натыкалось на интересы малого и среднего бизнеса.
Тем не менее, слишком медленная реализация мусорной реформы не оставила одноразовой пластиковой посуде шанс на выживание. Как сообщила Абрамченко на заседании Невского международного экологического конгресса, под запрет в России могут попасть цветной пластик, пластиковые трубочки и одноразовая пластиковая посуда, ватные палочки. Кроме того, правительство собирается довести до 100% переработки большую часть оставшихся пластиковых отходов. Вице-премьер уточнила, что производители этой продукции получат господдержку для перепрофилирования своих производств. Результаты планируемой реформы станут заметны уже в 2024 году. В Госдуме обещали оперативно рассмотреть правительственные поправки.
Большинство опрошенных «НиК» отраслевых экспертов считает, что запрет на одноразовый пластик не повлияет на российскую нефтегазохимию, но отразится на малом и среднем бизнесе. Тем не менее, данный шаг правительства будет с пониманием воспринят в российском обществе.
Гендиректор «НААНС-МЕДИА», доцент кафедры международной коммерции РАНХиГС Тамара Сафонова рассказала, что основными производителями полиэтилена в России являются «Запсибнефтехим», «Казаньоргсинтез», «Ставролен», «Томскнефтехим», «Нижнекамскнефтехим»:
«Вероятно, предприятиям, обеспечивающим производство полимеров этилена, придется закрывать ряд технологических линий, созданных для выпуска привычной, но запрещенной для использования в будущем продукции»,
— отметила эксперт.
Она напомнила, что мир в течение двух прогрессивных столетий двигался по пути изобретения экологически вредной продукции, теперь происходит обратный «отсчет» допущенных ошибок: «Если раньше считалось, что функцией государства является поддержка бизнеса, то теперь тренды меняются, и инвестиции в бизнес дополняются новыми рисками, связанными с ужесточением экологических норм в мире. Баланс существующих и будущих энергетических потребностей и экологических запретов пока не найден. Но тернистый путь, который необходимо пройти миру к углеродной нейтральности, к сожалению, будет сопровождаться глобальными бизнес-потерями. При этом новые технологии позволят создавать более экологичную продукцию, разделят ли доходность существующие предприятия или они станут точкой прибыли для новых компаний — покажет конкурентоспособность и оперативность перестройки компаний в новых реалиях», — заявил Сафонова.
Председатель Комитета по экономике Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков, профессор, д. э. н. Тамара Канделаки отметила, что запрет на использование отдельных видов продукции из неперерабатываемого пластика вряд ли скажется на заводах, производящих полимеры:
«На выпуск данных изделий тратится не так много полимерного сырья, поэтому крупных нефтегазохимический бизнес не пострадает. А вот на малом бизнесе, который занимается непосредственным производством пакетов, ватных палочек, одноразовой посуды, этот запрет скажется сильно»,
— заявила эксперт.
Генеральный директор «Центра отраслевых исследований» Андрей Костин также напомнил, что на выпуск этих пластиковых изделий идет небольшая доля полимерной продукции: «Кажется, что этих товаров много, но на самом деле они мало весят. Поэтому в объеме производства это небольшие проценты. Несколько больше занимают пакеты в полиэтилене высокого давления. Они являются значимой долей на рынке, но не в России. Поэтому неизбежно от данной инициативы правительства могут пострадать те, кто непосредственно занимается выпуском этой продукции. Тем не менее, общество ментально и морально готово к этому шагу», — заявил эксперт.
Касаясь темы запрета на пластиковые пакеты, Костин отметил, что обычно под запрет попадают только тонкие пакеты: «С точки зрения нефтегазохимии это даже плюс, потому что в те ниши, где сейчас используются тонкие пакеты, после запрета придут более плотные пакеты. Стоимость пакетов вырастет, но это не большое подорожание. Яркий пример — Калифорния, когда там запретили тонкие мусорные пакеты, люди просто стали покупать пакеты из более толстого полиэтилена, при этом количество полимеров в этом сегменте выросло и в деньгах, и в массе», — рассказал эксперт.
В отношении ватных палочек действительно был прецедент, когда при выпуске их альтернативы — деревянных ватных палочек — стоимость данных изделий резко возрастала, просто потому что производить их стали очень мало, в этой связи надо вспомнить прошлогодний взлет стоимости масок, — пояснил эксперт:
«Но поскольку это очень дешевые в производстве товары, то в эти ниши быстро придут инвесторы и наладят выпуск данной продукции. Подорожание не будет иметь системного значения»,
— заметил Костин.
По его словам, запрет на отдельные виды пластиковых изделий, который был анонсирован правительством, не затронет российскую отрасль вторичной переработки полимеров: «Суть запрета на такую категорию товаров заключается в том, что это те изделия, которые очень плохо попадают в системы сбора мусора. В лучшем случае они оказываются на полигонах, а в худшем случае просто выброшены. Они дешевые и очень короткого жизненного цикла, в них настолько мала масса полимера, что собирать их бессмысленно. Поэтому мировая политика заключается в том, чтобы просто ограничить их потребление. Российская отрасль вторичной переработки полимеров работает в основном с промышленными, довольно чистыми отходами, а также с ПЭТ-бутылками, которые удобно собирать», — заметил эксперт.
Вместе с тем статистические данные о том, кто сколько пластикового мусора производит и как он утилизируется, весьма любопытны. В частности, согласно последним исследованиям, более половины отходов из одноразового пластика в мире производятся всего 20 крупными компаниями. В рейтинг Plastic Waste Makers, составленный австралийским экологическим фондом Minderoo Foundation, вошли 100 компаний, которые производят 90% всего объема пластиковых отходов. В мире, по оценкам авторов доклада, ежегодно сжигается, закапывается или оказывается в океанах, лесах и т. д. более 130 млн тонн пластиковых отходов.
Больше всего отходов из одноразового пластика производит компания ExxonMobil — 5,9 млн метрических тонн. В топ-10 компаний-загрязнителей вошли также Dow (5,6 млн тонн отходов из одноразового пластика), Sinopec (5,3 млн тонн), Indorama Ventures (4,6 млн тонн), Saudi Aramco (4,3 млн тонн), PetroChina (4 млн тонн), LyondellBasell (3,9 млн тонн), Reliance Industries (3,1 млн тонн), Braskem (3 млн тонн) и Alpek SA de CV (2,3 млн тонн). Большинство компаний, вошедших в рейтинг, находятся в Азии, а в топ-20 их больше половины. В рейтинге есть и российские компании: нефтегазохимическая компания СИБУР занимает 32 место (0,8 млн тонн пластиковых отходов), «Нижнекамскнефтехим» — 80 место (0,3 млн тонн), «Казаньоргсинтез» — 91 место (0,2 млн тонн).
Результаты исследования американских ученых свидетельствуют, что больше всего пластикового мусора в мире производится в Китае (примерно 30% мирового объема) и Индонезии.
Что же касается утилизации отходов, то в этом отношении статистика весьма печальна, поскольку она показывает, что раздельный сбор мусора не является залогом его успешной переработки.
Так, в Германии, по статистике Гринписа, вторичной переработке в 2019 году подлежало не более 15% пластиковых отходов. Хотя официальная квота на утилизацию составляла 36%. Большая часть того, что не перерабатывалось, сжигала химическая и цементная промышленность Германии. Все остальное экспортировалось в Азию.
Напомним, что Евросоюз еще в 2012 году отправлял в Китай 87% своих пластиковых отходов. Однако начиная с 2017 года Пекин резко сократил этот импорт, а с 1 января 2021 года запретил ввоз любых твердых отходов. В то же время другие страны не брезгуют принимать чужой мусор. Пластиковые отходы вывозят в Индию, Малайзию, Индонезию, Гану, Филиппины, Нигерию, Сомали, Бангладеш, Гвинею. Вряд ли такой подход к утилизации мусора развитыми странами можно назвать климатически нейтральным. В связи с этим запрет пакетов и одноразовой посуды кажется наиболее действенной мерой в борьбе за экологию.
Екатерина Вадимова
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























