Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Большая пресс-конференция Владимира Путина.
Ежегодная пресс-конференция Президента России транслировалась в эфире телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и «Первый канал», радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».
В прямом эфире телеканала «Общественное телевидение России» (ОТР), а также на сайте ОТР (http://www.otr-online.ru/online/) пресс-конференция транслировалась с сурдопереводом.
* * *
В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги, друзья! Давайте начнём.
Мы договорились с моим помощником, что мы не будем, я не буду, выступать с пространным монологом в начале – сразу перейдём к работе, к вашим вопросам. Пожалуйста.
Д.Песков: По традиции предлагаю предоставить вопрос одному из наших старейших работников кремлёвского пула, который, по-моему, с конца прошлого века работает в кремлёвском пуле. Это радио «Маяк», Валерий Санфиров. Пожалуйста.
В.Санфиров: Радиостанция «Маяк», «Вести FM», «Радио России».
Владимир Владимирович, заканчивается год, и хотелось бы понять, в каком состоянии находится российская экономика. В этом году на совещаниях по экономическим вопросам, на других совещаниях часто использовали такие термины, как «турбулентность», «достигли дна», «пробили очередное дно». И можно процитировать анекдот, который Вы рассказали на прошлой пресс-конференции, о том, что в 2015 году была белая полоса. К чему ближе по состоянию российская экономика на данный момент? Спасибо.
В.Путин: Вопрос традиционный, естественный. Конечно, мы смотрим на результаты нашей работы за уходящий год. Эти результаты познаются в сравнении, как обычно. Надо посмотреть на основные, прежде всего, макроэкономические показатели 2015 года и сравнить с тем, что у нас получается в 2016 году.
Я взял, нетрудно догадаться, самые последние данные, вчера мы с коллегами, с некоторыми экспертами сидели, рассматривали их.
По основному показателю – ВВП страны – в прошлом году у нас был спад 3,7 процента. В этом году будет тоже небольшое снижение, но это уже не 3,7, мы думали, что это будет около единицы, потом скорректировали, сказали, что где-то 0,7, потом 0,6. За ноябрь мы наблюдаем небольшой рост ВВП страны. И скорее всего, по году у нас и будет минус 0,5–0,6.
За счёт чего происходит этот рост? За счёт роста в некоторых отраслях реального сектора экономики. В машиностроении у нас плюсы по грузовикам, по тяжёлому машиностроению, по дорожной технике, по транспортному машиностроению, по химии, по лёгкой и перерабатывающей промышленности, по сельскому хозяйству, естественно. Там рост вообще серьёзный, в прошлом году был 2,6 процента, в этом году мы планировали 3,2, на данный момент времени – 4,1, по году будет не меньше четырёх. Вот по этому показателю, я считаю, что динамика очень хорошая, надо её сохранить.
Второе – инфляция. Как вы помните, в прошлом году она даже для нашей экономики была, имею в виду структуру этой экономики, достаточно высокой. Связано это было в том числе и с так называемым импортозамещением в сельском хозяйстве, возникли некоторые диспропорции на рынке. Мы не всё могли заместить собственным производством. Но видите, сельское хозяйство демонстрирует очень хорошую динамику, в этом году инфляция будет смотреться совершенно иначе. Напомню, что самый лучший показатель был у нас в 2011 году – было 6,1, в этом году у нас будет уверенно меньше шести. Мы думали, что будет где-то 5,7–5,8. Скорее всего, это будет где-то в районе 5,5. То есть это рекордно низкий уровень инфляции. Это даёт все основания полагать, что мы сможем достичь целевых показателей и в ближайшее время выйти на параметры пяти и далее четырёх процентов инфляции.
Дефицит бюджета у нас в прошлом году был, по-моему, 2,4, в этом году будет чуть-чуть повыше, я потом скажу почему. На данный момент времени за 10 месяцев, по-моему, это 2,4, но будет 3,7. Это, на мой взгляд, абсолютно приемлемая величина, в том числе и потому, что у нас сохраняется положительный баланс внешней торговли – более 70 миллиардов долларов. Мы сохранили наши резервы.
Да, Резервный фонд Правительства немножко сократился, но ФНБ остался практически неизменным. Резервы Правительства остаются на уровне 100 миллиардов долларов, при этом золотовалютные резервы Центрального банка даже немножко подросли. Если в начале года это было 368, по-моему, миллиардов, сегодня это уже под 400 – 385 с небольшим. То есть по этому показателю у нас всё в порядке, и это хорошая подушка безопасности.
Наконец, у нас растёт погрузка на транспорте, что свидетельствует об оживлении промышленности. Это очень хороший показатель.
Что ещё радует? Радует снижение оттока капитала. Давайте посмотрим в динамике: 2014 год – свыше 150 миллиардов долларов отток, в 2015 году – 57 миллиардов долларов. В этом году за первые, по моему, 9–10 месяцев было всего 9 миллиардов, будет по году где-то 16–17 миллиардов, это с учётом выплаты кредитов и так далее. В целом это тоже очень хорошая динамика.
В чём проблемы? Есть ли они? Конечно, есть. Нам нужно обеспечить, безусловно, дальнейший рост экономики и промышленного производства, у нас припали реальные располагаемые доходы населения, что само по себе не очень хорошо, это ведёт к снижению потребительского спроса, отражается и на инвестициях в конечном итоге. Да, но здесь есть определённый всё-таки положительный тренд: за последние месяцы мы наблюдаем очень скромный, но всё-таки рост реальной заработной платы в реальном секторе экономики, и это в целом настраивает на позитивный лад, который вселяет определённую уверенность в том, что движение будет положительное и в ближайшей перспективе.
Если говорить о социальной сфере, у нас сохраняется положительная динамика в демографии. Естественный прирост населения сохраняется. Чуть-чуть поменьше стала рождаемость, но у нас улучшились показатели по смертности, смертность уменьшилась. И в целом положительная динамика в естественном приросте населения. Вот примерно так.
В этой связи можно сказать, что в целом мы двигаемся в рамках плана, который был предъявлен обществу. Он реализуется и реализуется со знаком плюс в целом.
М.Севостьянова: Здравствуйте!
Аграрный медиахолдинг «Светич». Меня зовут Севостьянова Марина. Вопрос у меня про субсидии для российского сельхозмашиностроения.
На самом деле эти субсидии поддерживают обе отрасли: и само машиностроение, промышленность, и сельское хозяйство. Вопрос заключается в том, насколько актуальной считаете такую поддержку, есть ли планы увеличить её объёмы и сделать из антикризисной меры постоянной.
В.Путин: Антикризисная мера не может быть постоянной. Она потому и антикризисная, чтобы помочь отдельным отраслям, в данном случае той отрасли, о которой Вы сказали, сельхозмашиностроению, справиться с текущими проблемами и выйти на тропу устойчивого развития. Связано это со спросом, и мы, конечно, должны обеспечить этот спрос.
Кстати говоря, сельхозмашиностроение – я уже упоминал, по-моему, об этом, если не сказал, то сейчас скажу – сельхозмашиностроение демонстрирует очень хорошие темпы роста. Это одна из тех отраслей, которые вытягивают и промышленные показатели, и в конечном итоге показатели ВВП. Но мы должны ориентироваться на то, что и сельхозмашиностроение, и другие отрасли промышленного производства будут жить не на субсидии государства, а на естественном спросе.
Как можно обеспечить этот естественный спрос? Поднимая развитие самого сельского хозяйства, и если будет у сельхозпредприятия больше доходов, то тогда будет и больше возможностей инвестировать в закупки новой техники. Значит, поддерживать сельхозмашиностроение.
Я уже сказал, что здесь у нас тренд весьма положительный, четыре с лишним процента роста самого сельского хозяйства, и, уверен, в связи с ростом доходов сельхозпредприятий будет расти и спрос. Таким образом, будет поддерживаться и сельхозмашиностроение.
Но тем не менее, имея в виду, что пока эти тенденции слабы, их нужно поддерживать, Правительство планирует в следующем году продолжить по отдельным отраслям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства, это субсидирование. В целом на промышленность предусмотрено 107,5 миллиарда рублей, на сельское хозяйство – 216 миллиардов рублей. Так что это всё в совокупности, надеюсь, даст положительный результат.
Кстати говоря, если мы начали говорить о сельском хозяйстве, наверное, будут ещё какие-то вопросы по сельскому хозяйству. Мы в последнее время радовались за селян, радовались результатам сбора урожая и говорили, что это рекордные за последние годы 117 миллионов тонн. У нас будет свыше 119 миллионов тонн, это просто отличный показатель. Я хочу поблагодарить селян за эту работу, за этот результат.
И хочу отметить, что ничего подобного в новейшей истории России, конечно, не было. В советское время – на той территории, которая называлась РСФСР, – были похожие показатели в 70-х годах, чуть даже побольше было в 1973, 1976 годах. Но мы знаем, что тогда, к сожалению, даже при тех урожаях продовольствия и кормов всё-таки не хватало.
Сегодняшняя настройка и сегодняшние структурные изменения в самой сельскохозяйственной отрасли показывают, что тот результат, который мы имеем, является уникальным, создаёт очень хорошие возможности для дальнейшего развития сельского хозяйства.
А.Колесниченко: Александр Колесниченко, «АиФ».
Хорошая возможность уточнить как раз про экономический рост, о котором Вы говорите. Все говорят о том, что мир стоит на пороге каких-то серьёзных технологических изменений и даже революций. Без новых технологий экономический рост в принципе будет невозможен; место стран в мире, исходя из этого, очень сильно поменяется.
У нас о новом технологическом укладе говорят давно. Вы этому в Послании прошлом тоже очень много времени уделили. И при этом остаётся ощущение, что в каких-то секторах наше отставание от других стран лишь усугубляется. Например, в информационных технологиях, в организации производства, в организации социальных отношений с помощью этих самых информационных технологий.
Мы здесь в чём-то отстали сильно, может быть, навсегда? Интересна была бы Ваша точка зрения, Ваше мнение, уточнение, может быть, даже: где самые большие проблемы сейчас и что с этим делать? Спасибо.
В.Путин: Есть проблема, которая заключается в том, что наша экономика, как считают некоторые эксперты, невосприимчива к достижениям науки и к современным высокотехнологичным тенденциям в экономике. Мне представляется, что это не совсем так, потому что проблема заключалась для таких экономик, как наша, в том, что можно было получать сверхприбыль в тех секторах производства, которые связаны с энергетикой, и трудно заставить бизнес вкладывать в другие отрасли, если есть такая, где можно получить быстрые и весьма большие доходы.
Для того чтобы изменить структуру экономики, настроить её на новый лад, создать перспективы для развития, Правительством в течение многих лет предпринимаются шаги, связанные с льготированием определённых направлений экономического развития, и прежде всего это касается, конечно, высокотехнологичных отраслей. Да, мы пока в целом по экономике вкладываем в высокотехнологичные сферы меньше, чем страны ОЭСР, допустим, причём эта разница большая. В странах ОЭСР вкладывается примерно 2,4 процента от совокупного ВВП, у нас 1,2 процента.
Но вот эта настройка, о которой я говорил, она всё-таки даёт о себе знать. Во-первых, у нас принята вместе с бизнесом так называемая [Национальная] технологическая инициатива, вы знаете. У нас готовится комплексный план развития экономики до 2025 года. К маю Правительство должно его сверстать и предъявить уже обществу. Создаются на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири территории опережающего развития – высокотехнологичные зоны с особым льготным режимом. А в целом по некоторым отраслям, например в IT-технологиях, уже достаточно давно, в течение нескольких лет действует льготный режим, и это даёт о себе знать.
В чём? Например, у нас экспорт IT-технологий был совсем недавно, несколько лет назад, практически нулевой. Сейчас (я уже приводил эти цифры) мы оружия экспортируем на 14,5 миллиарда долларов, а продуктов IT-технологий – на 7 миллиардов уже экспорт. Многие высокотехнологичные отрасли являются абсолютно конкурентоспособными. Пока они, правда, выглядят, как такие точки роста, точечные успехи, но во многих из этих направлений мы, безусловно, являемся лидерами. В том числе и традиционно, скажем, в ядерных мирных технологиях, в ракетно-космической сфере, по некоторым отраслям авиации и так далее, в оборонных предприятиях (кстати говоря, там рост производительности труда просто взрывной).
Это будет так или иначе отражаться и на гражданских сферах производства. Вы знаете, что перед Правительством поставлена задача – трансформировать те положительные тенденции в «оборонке», которые мы имеем сегодня, в гражданские секторы. В общем и целом, я считаю, что не только руки опускать нельзя, наоборот, у нас есть все основания полагать, что мы не только будем лидерами по многим ключевым направлениям, но и сохраним это лидерство на многие десятилетия. И конечно, мы исходим из того, что должны вписаться в общемировой тренд перехода к новой технологической революции и быть лидерами. У нас есть для этого все шансы, имея в виду высокий уровень развития науки и образования.
Здесь [написано] «татары», там – «куда без татар…». Куда мы без татар, в чём проблема?
Е.Колебакина: Владимир Владимирович, меня зовут Елена Колебакина, деловая газета «Бизнес online».
Вопрос такой: как Вы знаете, наверное, в нашей стране растёт число проблемных банков. Центробанк постоянно отзывает…
В.Путин: При чём здесь татары? Хитрая какая.
Е.Колебакина: Подождите, продолжение будет.
Центробанк постоянно отзывает лицензии и вводит мораторий на проведение расчётов, и этот процесс затронул в том числе и Татарстан. Понятно, что вкладчики – физические лица, им средства вернутся в рамках закона, в рамках этой суммы – 1400 тысяч, а вот малые предприятия, малый бизнес, о котором Вы так ратуете, они же банкротятся, они в третьей очереди, до них очередь, как правило, вообще никогда не доходит.
Вопрос такой: может быть, стоит сделать по аналогии с АСВ какой-то фонд страхования для юридических лиц? Может быть, у Вас есть какие-то свои идеи, как решить эту проблему? Всё-таки, может быть, ситуация идёт к тому, что у нас останется четыре-пять федеральных госбанков? Как Вы думаете, нужны ли нам небольшие региональные банки?
Спасибо.
В.Путин: Во-первых, ту линию, которую проводит Центральный банк на оздоровление финансовой системы, поддерживают практически все на экспертном уровне и у нас в России, и на экспертном международном уровне. Нет никого, кто считал бы, что Центральный банк Российской Федерации, оздоравливая финансовую систему России, действует ошибочно. Таких просто нет. Это работа, направленная на обеспечение интересов вкладчиков прежде всего. Если на нашем финансовом рынке будут оставаться учреждения, которые, как совсем ещё недавно говорили, финансовыми учреждениями не являются, а являются «прачечными» по «отмывке» каких-то денег, то ничего хорошего из этого не получится, вкладчики будут страдать. Для того чтобы обеспечить интересы физических лиц, действительно введена система гарантирования.
Кстати говоря, насколько мне известно, Центральный банк активно работает и с руководством Татарстана. Президент Татарстана, Правительство Татарстана – а эта республика у нас с точки зрения развития экономики и по многим другим вопросам, по «социалке» является, безусловно, одним из лидеров среди субъектов Российской Федерации, – совместно с Банком России работают и ищут способы поддержки всех вкладчиков, в том числе и юридических лиц. Законом предусмотрен соответствующий порядок работы, и он такой, какой сегодня есть. Но, безусловно, мы должны будем внимательно посмотреть на то, как поддержать и промышленные предприятия, малый и средний бизнес.
Что касается малого и среднего бизнеса и что касается региональных банков, причём не только крупных – банк Татарстана, о котором Вы сказали, немаленький, это серьёзное финансовое учреждение, – что касается небольших предприятий, небольших банков, то я говорил об этом в Послании, если Вы обратили внимание. Я же тогда сказал, что нам нужна сеть и региональных, небольших банков. При этом можно бы снизить требования регулирования, которые предъявляет Центральный банк к финансовым учреждениям. Не ставить всех в один ряд, а по крупным, по системообразующим банкам, в том числе даже региональным, можно оставить и жёсткие требования, которые близки к Базелю III, а по небольшим региональным, которые работают с малым и средним бизнесом, с гражданами работают, можно эти требования смягчить, имея в виду, что это даст им возможность более гибко работать со своими клиентами. Но качество самих учреждений от этого не должно страдать, и контроль со стороны финансовых властей должен сохраняться.
В отношении того финансового учреждения, о котором Вы сказали, ещё раз хочу повторить: работа Центрального банка и руководства Татарстана продолжается и продолжается достаточно гармонично.
Д.Песков: «Эхо Москвы».
А.Соломин: Здравствуйте, господин Президент!
Вопрос у меня, кстати говоря, отчасти по следам Вашего Послания. Вы помните, в тексте упомянули о шоу, в которое не нужно превращать большие коррупционные дела. Мы этих шоу видим очень много. Например, Андрей Бельянинов. Человека уничтожили фактически, опозорили, и дело его оказалось пшиком. Или другой пример – господин Улюкаев, человек Вам близкий и доверенный, и Вы в одночасье, разозлившись, его доверия лишили. Вы имели с ним разговор? Вы знаете его версию? Слышали ли Вы её? Не кажется ли Вам, что эти большие коррупционные дела превращаются в имитацию для общественного ли мнения или для Вас, что это не борьба с коррупцией, а борьба за место за Вашим столом?
Ещё позвольте, на прошлой пресс-конференции я задавал вопрос, и очень интересно узнать спустя год, дело касается убийства Бориса Немцова: Вы следите за ходом этого дела? Как юрист считаете ли Вы, то, что происходит, убедительным? И как Верховный Главнокомандующий считаете ли Вы необходимым, чтобы вызванный в суд на допрос Руслан Геремеев, офицер России, на этот суд, на это заседание пришёл?
Спасибо.
В.Путин: Начнём с самой последней части Вашего вопроса. Конечно, я внимательно слежу за всеми так называемыми громкими резонансными делами, тем более за таким серьёзным преступлением, как убийство, в данном случае убийство Немцова. Разумеется, я поддерживаю всё, что делает следствие в направлении выявления всех обстоятельств, выявления всех причастных и виновных.
Кстати говоря, в том, что люди официальные, занимавшие какие-то официальные позиции, в том числе в правоохранительных органах, могут совершать правонарушения и тяжёлые преступления, ничего удивительного нет. И в нашей стране, и за рубежом это происходит, к сожалению, сплошь и рядом. Взять хотя бы страшную трагедию с убийством нашего посла в Турции. Кто его убил?
Так что никакой новизны здесь нет, и мы будем дальше последовательно работать над выявлением всех обстоятельств и изобличением всех преступников. Но по большинству, если не сказать по всем резонансным делам, как бы долго они ни велись, всё-таки следствие, как правило, приходит к полному выяснению всех обстоятельств, в том числе, допустим, по Старовойтовой это было и по другим делам. К сожалению, до сих пор не ясны обстоятельства все убийства Михаила Маневича, с которым меня связывали очень хорошие, добрые личные отношения. Но вот не удаётся до конца этого сделать.
Теперь по поводу других резонансных дел, по поводу Бельянинова. Вы сказали «дело» – в отношении него не было никакого дела. То, что всякие доследственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были выброшены в средства массовой информации, я считаю недопустимым и с Вами полностью согласен. Они наносят ущерб деловой и просто личной репутации любого человека.
По поводу Улюкаева: я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал, считаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточны для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. А во что это выльется в завершение, мы посмотрим по результатам рассмотрения дела в суде. До этого какие-то предварительные выводы делать нецелесообразно и вредно.
Д.Песков: Терехов Вячеслав – тоже один из самых уважаемых членов кремлёвского пула.
В.Терехов: Спасибо большое.
В.Путин: Всё подыгрывает кремлёвскому пулу. «Как не порадеть родному человечку».
В.Терехов: Мы просто очень давно вместе работаем, знакомы, поэтому так.
Владимир Владимирович, мы пять лет выполняем 11 указов и 270 положений – так называемые майские [указы]. Выполняем-выполняем… Вероятно, нет денег для этого.
В.Путин: Почему же?
В.Терехов: Бюджет показывает, что действительно везде идёт сокращение.
Скажите, правильно ли я понимаю, что продажа такого большого пакета «Роснефти», в том числе за рубеж, пойдёт как раз на выполнение майских указов и на экономику? А смогут ли иностранцы отдать нам деньги, потому что банки-то под санкциями? Если так, то готовы ли Вы, готова ли страна для того, чтобы и другие пакеты больших, крупных государственных фирм тоже продавать именно для поддержания нынешнего положения?
Спасибо.
В.Путин: На Ваш вопрос можно отвечать до утра, потому что он связан и с бюджетом, и с выполнением майских указов, и с приватизацией. Здесь, собственно говоря, три важнейшие темы.
Что касается бюджета, то да, мы исходим из очень консервативных установок, а именно из 40 долларов за баррель на следующий год. Расходная часть бюджета в процентах действительно будет сокращаться с 18 с лишним [триллионов] до 16 с небольшим. Но в абсолютных величинах это будет константа и в 2017–м, и 2018–м, и 2019 годах, это будет 15,8 триллиона рублей. Если сюда добавить пятитысячные выплаты для пенсионеров в следующем году и так называемые связанные расходы и доходы, то это будет 16 с небольшим – 16,1 триллиона рублей. Но у нас полностью заложены все средства, все деньги для исполнения социальных обязательств, в том числе и майских указов Президента 2012 года.
Кроме того, мы целиком и полностью сохраним поддержку промышленности. Это будет 2,6 процента ВВП – даже чуть больше, чем в этом году: в этом году, по-моему, 2,2–2,3 было.
Основная статья экономии бюджетных средств придётся на раздел «Национальная оборона». Если в 2011 году мы тратили 2,7 процента ВВП на раздел «Национальная оборона», то в этом году и за последние пять лет мы сильно увеличили эти расходы: за последний, уходящий год это будет уже 4,7. В следующем году будет 3,3 и в 2019–м – 2,8. Мы входим в нишу 2,8 и на протяжении нескольких лет будем её держать. Это не отразится на наших планах по укреплению обороноспособности, потому что, повторяю, мы в предыдущие пять лет достаточно много средств направили. И что очень важно, мы в этом году погасили долги перед оборонными предприятиями, что дало нам возможность сохранить те параметры, о которых я сказал.
Мы продаём части пакетов госпредприятий не потому, что не хватает денег на конкретные какие-то направления бюджетных расходов, нет. Мы это делаем по нескольким соображениям.
Первое: всё-таки это улучшает структуру экономики – приход новых собственников. Это швейцарская трейдерская компания Glencore и Государственный фонд Катара. Мы исходим из того, что приход в органы управления их представителей будет повышать качество управления самой компании, хотя в целом она и так считается одной из наиболее эффективных в мире. И это предусмотрено изначально в доходной части бюджета, так бюджет планировался изначально. Не для того, чтобы какие-то конкретно отрасли отфинансировать, а всё вместе.
Что касается денег, перечислят ли деньги иностранцы за приобретенные 19,5 процента пакета «Роснефти». Деньги перечислены в бюджет Российской Федерации в полном объёме, уже перечислены.
За «Башнефть» «Роснефть» сама заплатила 300 с лишним миллиардов, а иностранцы уже перечислили свою часть – 700 с лишним миллиардов. В общем и целом бюджет получил от продажи «Башнефти» и 19,5 процента «Роснефти» триллион сто миллиардов примерно.
Н.Ходж: Господин Президент!
Меня зовут Нэйтан Ходж, я шеф бюро газеты «Уолл-стрит джорнэл». Возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы Президента?
В.Путин: Какой страны?
(Аплодисменты. Смех в зале.)
Н.Ходж: Российской Федерации.
В.Путин: Сразу скажу: возможно, но нецелесообразно.
Н.Ходж: Спасибо.
Вы вчера говорили об укреплении боевого потенциала стратегических ядерных сил. Вы не могли бы сегодня более подробно про эти планы рассказать?
В.Путин: А Вы не могли бы более точно сформулировать Ваш вопрос? Что Вас заинтересовало в моих высказываниях на встрече в Министерстве обороны, конкретно?
Н.Ходж: Конкретно меня интересует, скажем, производство новых видов ядерного оружия. Мы, конечно, знаем, что это очень тяжёлый труд, без ядерного испытания, которое запрещено. Может быть, Вы не смогли просто не отреагировать на вчерашнее заявление господина Трампа по поводу его позиции о ядерном оружии?
В.Путин: Что касается вновь избранного Президента Соединённых Штатов господина Трампа, то здесь нет никакой новизны, он и в ходе своей предвыборной кампании говорил о необходимости укрепления ядерной составляющей Соединённых Штатов, об укреплении вооружённых сил. Здесь нет ничего необычного.
Честно говоря, меня немножко удивило высказывание других официальных представителей действующей Администрации, которые почему-то начали доказывать, что вооружённые силы Соединённых Штатов являются самыми мощными в мире. А с этим-то никто и не спорил.
Если Вы внимательно слушали, что я вчера говорил, я говорил об укреплении ядерной триады и в заключение сказал о том, что Российская Федерация сегодня сильнее любого потенциального – внимание! – агрессора. Это очень важно. Не случайно я об этом сказал.
Что такое агрессор? Это тот, кто потенциально может напасть на Российскую Федерацию. Вот мы сильнее любого потенциального агрессора, я могу и сейчас повторить это.
И я сказал, почему. И в силу модернизации Вооружённых Сил, в силу нашей истории и географии, и в силу сегодняшнего внутреннего состояния российского общества. Есть комплекс причин. Не последнюю роль играет, конечно, и модернизация Вооружённых Сил, как обычной её составляющей, так и ядерной триады.
Должен сказать, это не секрет, мы этого не скрываем, действительно, мы проделали очень большую работу по модернизации ракетно-ядерного потенциала Российской Федерации, наших Вооружённых Сил. Это касается и РВСН, Ракетных войск стратегического назначения, которые расположены на суше, это касается морской составляющей, известно, мы же ничего не скрываем. Вводятся в строй новые атомные подводные лодки стратегического назначения с новыми типами ракет на борту. Это касается и авиационной составляющей. И по носителям, то есть по самолётам, и по ударным системам, которые у них под крылом. Мы действуем в строгом соответствии – я хочу это подчеркнуть, – в строгом соответствии со всеми нашими договорённостями, в том числе и в рамках СНВ-3.
Я ещё раз вернусь к тому, что считаю чрезвычайно важным. В 2001 году Соединённые Штаты в одностороннем порядке вышли из Договора по противоракетной обороне. Этот договор, безусловно, являлся краеугольным камнем всей системы международной безопасности. И нам тогда было сказано: «Мы делаем это не против вас, а вы…» На что я сказал: «Мы должны будем как-то реагировать и должны будем совершенствовать наши ударные системы, с преодолением систем противоракетной обороны». Так вот, нам было сказано: «А вы делайте что хотите, мы исходим из того, что это не против нас». Мы и делаем это. Просто многие предпочитают это не замечать, но происходит именно то, о чём мы как бы договорились, по умолчанию, без всяких бумаг. Ничего нового здесь не происходит.
Почему официальные лица действующей администрации вдруг начали заявлять о том, что они самые сильные, они самые мощные? Да, действительно, там и ракет, и подводных лодок, и авианосцев, конечно, больше. А мы с этим и не спорим. Мы говорим, что мы просто сильнее любого агрессора. И это так.
Д.Песков: «Крым. Притяжение». Представьтесь, пожалуйста.
М.Николаенко: Максим Николаенко, «Крыминформ». Мы всего на неделю старше российского Крыма. Собственно, три года – это уже достаточный срок.
Мы – крымчане и севастопольцы – по-разному оцениваем успехи и недостатки этого периода. Я думаю, очень субъективная точка зрения связана с тем, что мы не располагаем всей полнотой информации. Вы избавлены от этого недостатка, у Вас наверняка есть вся информация, не только по докладам и отчётам, но и из других источников.
Как, на Ваш взгляд, развивается Крым? Какова динамика интеграции Крыма в российскую экономику? Это не праздный вопрос, возможно, Вам часто приходится на него отвечать, но сейчас в Крыму и Севастополе реализация федеральной целевой программы развития до 2020 года не то чтобы буксует, но, прямо скажем, не блещет. В Севастополе недавно называли цифры – менее 5 процентов, в Крыму – пока ещё считают. На этом фоне очень трудно увидеть отрасли, которые в Крыму стоит развивать государству. Связано это ещё и с тем, что у нас объективная причина для паузы в развитии – это нехватка энергоресурсов. Спасибо за энергомост, он помог обеспечить население. Газа нам хватало своего, но для развития остро не хватает дополнительных энергоресурсов. Мы ждём газ, мы ждём новые станции.
И, простите, не могу не задать вопрос ещё о стройке века – о крымском мосте. Объект очень открытый, мы о нём знаем практически всё. Не хватает одной детали. Мы называем его крымским мостом, но москвичи, например, ассоциируют это название с совершенно другим объектом. «Керченский мост» к нему не прижилось, другие идеи не очень обсуждаются. Как бы Вы назвали этот мост?
Спасибо.
В.Путин: Вы же сами только что сказали – керченский. Это же не я придумал. Я придумал его строить, а вы придумали, как его назвать. (Аплодисменты.)
Кстати говоря, эти проекты были ещё в царские времена, потом в советское время. Потом оккупанты его фактически построили, но построили не должным образом, его ледоходом снесло. В целом это востребовано вообще. Я надеюсь и уверен, что рано или поздно у нас произойдёт нормализация отношений с Украиной, это будет очень полезно и для развития российско-украинских и коммерческих, и гуманитарных связей на будущее, потому что это востребованный инфраструктурный элемент. Кстати говоря, он будет отражаться и на экономике, без всяких сомнений, а не только на туристических потоках.
Теперь по поводу начала Вашего вопроса, что касается интеграции и как она идёт. Вы знаете, что в программе по развитию Крыма ему предоставлены в целом очень льготные с точки зрения российского законодательства режимы, свободные экономические зоны. Но оказалось, что и юридически это сложно, такая быстрая интеграция, и экономически. И далеко не всё лежит на стороне Федерации. Федерация эти деньги предоставляет, нужно ещё грамотно ими распорядиться: вовремя, эффективно, рачительно, рационально. Но и здесь даже для местных властей есть проблема, потому что людям сложно понять, как эти процессы должны вписываться в законодательство Российской Федерации, как вписываться в административные процедуры. Требуется время, для того чтобы всё это срослось. Этот процесс происходит, кстати, происходит хорошими темпами.
Я говорил о росте промышленного производства в России, мы по некоторым отраслям производства сейчас фиксируем серьёзный рост – до 20 с лишним процентов. А в целом будет небольшой [рост], до единицы – 0,7, 0,8, 0,9 процента промышленного производства, а в Крыму – 6, в Севастополе – 25 рост промышленного производства. За счёт чего? За счёт размещения федеральных заказов наших российских компаний.
И уровень безработицы меньше, чем в целом по России. Он в целом у нас держится на хорошем уровне. Если, кстати говоря, вернуться к первому вопросу, это один из показателей (не Вы, по-моему, задавали), у нас было 5,6–5,7, в этом году она даже фиксируется 5,5, в Крыму зарегистрированная ещё ниже. И это очень хорошо.
Какие отрасли могли бы быть перспективными для Крыма? Разумеется, судоремонт, судостроение, отдельные направления химической промышленности. Они уже есть и в принципе работают неплохо, их нужно только поддержать. Разумеется, сельское хозяйство. Кстати говоря, на поддержку сельского хозяйства в этом году направлено, по-моему, 3 миллиарда рублей. Это в пять раз больше, чем в прошлом году, и в 10 раз больше, чем в 2014-м. Нужно только эти деньги осваивать эффективно и добиться максимальной отдачи.
Разумеется, туризм. Я просто нисколько не сомневаюсь, что с введением этого Керченского моста и объём туристических поездок резко возрастёт. Мне бы очень хотелось, чтобы высокотехнологичные сферы развивались в Крыму, чтобы они не нарушали окружающую среду, не наносили ей какого-то ущерба, но создавали бы высокотехнологичные и хорошо оплачиваемые рабочие места. Здесь есть вопрос. Какой? Уровень заработной платы и доходов в Крыму ниже, чем в среднем по Российской Федерации. По Российской Федерации у нас где-то 35 тысяч в среднем, в Крыму – 24 с небольшим (24,5), в Севастополе чуть побольше – 25 с небольшим. Но я уверен, и это выровняется обязательно.
Нам нужно предпринять необходимые шаги для того, чтобы, во всяком случае, в федеральных органах власти, так сказать, «регионального разлива» уровень заработной платы был такой же, как и в среднем по стране.
Я нисколько не сомневаюсь, что пройдёт небольшое количество времени и это выровняется.
Кстати говоря, есть субъекты Российской Федерации, где уровень доходов граждан ниже, чем в Крыму. Но с учётом потенциала Крыма и по этому важнейшему социальному направлению, уверен, рост будет. Нам нужно там решить те вопросы, которые не решались десятилетиями. Я имею в виду прежде всего, конечно, вопросы здравоохранения. Нужно больницу сделать хорошую, клинику в Симферополе. Вот сейчас на ЮБК будет закончена, в районе Ялты, небольшая очень современная клиника. Есть проблема с подготовкой персонала, потому что люди не работали ещё никогда на таком оборудовании. Но и это решается. Будем вместе с вами ритмично работать.
Е.Примаков: Евгений Примаков, «Международное обозрение», «Россия-24», ВГТРК.
Владимир Владимирович, мир проходит через глобальную трансформацию. Мы видим волеизъявление народов, которые голосуют против старых политических концепций, против старых элит. Британия проголосовала за выход из Евросоюза, правда, неизвестно, чем брекзит ещё закончится. Многие говорят, что Трамп победил, потому что люди голосовали против старых элит, против лиц, которые надоели, в том числе и по этой причине.
Обсуждали ли Вы с коллегами эти перемены? Каков будет новый глобальный мир? Помните, на Генассамблее, когда было 70 лет, Вы говорили: «Понимаете, что вы натворили?» К чему мы все движемся? Пока что мы по-прежнему находимся в контексте конфронтации. Перепалка по поводу того, чья армия сильнее, которую Вы сегодня упоминали. На своей прощальной пресс-конференции пока что Ваш коллега Барак Обама сказал, что 37 процентов республиканцев Вам симпатизируют и Рональд Рейган вообще в гробу бы перевернулся.
В.Путин: Что?
Е.Примаков: Что 37 процентов республиканских избирателей Вам симпатизируют.
В.Путин: Да?
Е.Примаков: Да. И что если бы Рональд Рейган узнал, он бы в гробу перевернулся.
Кстати, нам как избирателям очень приятно Ваше такое могущество, что Вы даже до Рональда Рейгана бы дотянулись, потому что мы очень часто от наших западных коллег узнаём, что Вы, например, можете настолько манипулировать миром, рассаживать своих президентов, вмешиваться в выборы там и сям. Как Вы себя ощущаете в кресле самого влиятельного человека мира? Спасибо.
В.Путин: Я неоднократно уже высказывался на эту тему. Если Вы считаете, что это нужно ещё раз, – пожалуйста, я ещё раз скажу. Все свои неудачи действующая администрация и руководство Демократической партии Соединённых Штатов пытаются свалить на внешние факторы. В этой связи у меня возникают вопросы и некоторые соображения.
Мы знаем, что Демократическая партия проиграла не только президентские выборы, но и выборы в Сенат, где у республиканцев большинство, в Конгресс, где у республиканцев большинство. Это что, тоже наша, тоже моя работа? А потом мы устроили пир горой на «развалинах часовни XVII века»? Часовню тоже мы развалили? Всё это не так. Всё это говорит о том, что есть системные проблемы у действующей администрации. Я говорил об этом на Валдайском клубе.
Есть определённый, на мой взгляд, разрыв между представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо у элит и у широких народных масс, как у нас было принято говорить в прежние времена. То, что значительная часть, скажем, республиканских избирателей поддерживает Президента России, я отношу даже не на свой личный счёт. Вы знаете, о чём я думаю в данном случае? Я думаю о том, что это значит, что у значительной части американского народа совпадают представления о том, как должен быть устроен мир, чем мы должны заниматься, где наши общие опасности и проблемы. Это хорошо, что есть люди, которые нам симпатизируют в этих наших представлениях о традиционных ценностях, потому что это хорошая предпосылка выстраивать отношения между двумя такими мощными странами, как Россия и Соединённые Штаты, на этой базе – на базе взаимной симпатии народов друг к другу.
Лучше бы они, конечно, не трогали, всуе не упоминали прежних своих деятелей. Не знаю, кто бы там перевернулся в гробу. Рейган, мне кажется, порадовался бы, что представители его партии побеждают везде, и за вновь избранного президента, который тонко почувствовал настроение общества и работал именно в этой парадигме, до конца шёл, хотя никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит. (Аплодисменты.)
А выдающиеся деятели американской истории из числа демократов – вот они бы перевернулись, наверное, в гробу. Рузвельт бы точно, потому что это был выдающийся деятель мировой и американской истории, когда в самые тяжёлые годы Великой депрессии, конца 30-х годов, во время Великой Отечественной войны он сплотил нацию. Сегодняшняя администрация разделяет её, это совершенно очевидно. Призыв к выборщикам не голосовать за того или другого кандидата, в данном случае за избранного президента, – это просто шаг в направлении разделения нации. И, кстати говоря, за Трампа не проголосовали два выборщика, а за госпожу Клинтон – четыре, и здесь они опять проиграли. Они по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне. Это, на мой взгляд, как бы это сказать, унижает их собственное достоинство. Нужно уметь проигрывать достойно.
Но мне бы очень хотелось, чтобы у нас и с вновь избранным президентом, и будущими лидерами демократической партии выстраивались деловые, конструктивные отношения, чтобы это шло на пользу и Соединённым Штатам, и Российской Федерации, и народам обоих государств.
Извините, Дмитрий Сергеевич. Вон там смотрю: «Дайте слово вологодским оптимистам». Вологодские оптимисты, пожалуйста. Дмитрий Сергеевич, извините, я нарушаю Ваши планы. Но нужно обратиться, в конце концов, к коренной России.
Вопрос: Владимир Владимирович, вопрос об импортозамещении. То, о чём сегодня так много говорили, и то, на чём сейчас стоит наша экономика. Сможем быть самостоятельными – победим, если не сможем, то проблемы.
Вопрос: не считаете ли Вы возможным создать в России в ближайшее время клуб производителей, наиболее ярких представителей бизнеса, которые в этом направлении добились максимального успеха? Я почему об этом задаю вопрос? Потому что буквально в небольшом муниципальном образовании есть предприятие, которое за короткий срок создаёт феноменальное производство, производит продукт мирового качества, получая прибыль. Как оно тратит эту прибыль? Оно тратит её по двум направлениям. Первое – это развитие производства, то есть постоянное развитие, увеличение объёмов. И второе – это реставрация православных храмов. В связи с этим вопрос. Такие люди должны быть отмечены, потому что вкладываются миллионы, сотни миллионов рублей, а по меркам провинции, Вы сами понимаете, что это очень большая сумма. Мотивация таких людей на уровне России, федерального Правительства и Вас лично была бы очень актуальна. Как Вы к этому относитесь?
В.Путин: Хочу поблагодарить только тех людей, которые занимаются такими проектами, помогают восстанавливать наши исторические и духовные ценности. Это касается не только православных храмов, это касается и синагог, это касается и других культовых зданий по всем нашим традиционным конфессиям, включая ислам, включая буддистов. У нас в Москве, кстати говоря, есть некоторые проблемы и с буддийскими храмами, я знаю об этом, будем помогать обязательно это делать.
Что касается импортозамещения, Вы сказали: либо мы победим, либо у нас будут проблемы. Проблемы всегда есть, и они всегда будут. Но мы точно победим, и сомнений быть не должно. И вот почему. Потому что вот это так называемое импортозамещение приносит свои плоды. Скажем, по линии промышленности у нас закупки по импорту сократились на 10 процентных пунктов. Если это было 49 с чем-то, то сейчас – 39. Это очень серьёзные вещи. У нас очень серьёзные шаги сделаны в сфере импортозамещения по целому ряду отраслей: фармацевтическая промышленность, химическая промышленность, лёгкая промышленность, тяжёлое машиностроение, железнодорожная техника (она почти на 100 процентов уже чисто российская). Реально серьёзные изменения пошли в этом отношении. Я уже не говорю про «оборонку» – серьёзные внутренние структурные изменения. Особенно в этой сфере это чрезвычайно важно, чтобы достичь технологической независимости.
В сельском хозяйстве. Мы говорили о росте инфляции в прошлом году. В этом году с ростом сельхозпроизводства инфляция (и в силу ряда других обстоятельств, тем не менее и в силу этого обстоятельства) стала значительно ниже. Поэтому у меня сомнений нет, что мы добьёмся нужного нам результата. Мы не собираемся изолироваться. Российская экономика, безусловно, если хочет развиваться, а она хочет и будет развиваться на высокотехнологичном направлении, должна быть частью мировой. Так и будет. Но там, где у нас возможно восстановление, либо воссоздание, либо новые совершенно шаги в нашей компетенции, особенно высокотехнологичной, мы обязательно будем по этому пути идти и, уверен, добьёмся хорошего, нужного нам результата.
Д.Песков: «Советский спорт».
Н.Ярёменко: Николай Ярёменко, «Советский спорт».
Мы старейшее спортивное издание в стране, 92 года. Многое видели на своём веку. Но ведь мы не только про очки, медали, секунды пишем – переживаем за спортивные судьбы страны. Иногда складывается такое впечатление, что побольше, чем иные чиновники, к сожалению. Мы были свидетелями того, как после двух докладов господина Макларена ряд чиновников пережил, пусть и не сразу, увольнение или, скажем так, перемещение. Можно ли говорить, что сейчас ситуация с допингом в стране после принятых кадровых решений – на пути к очищению? Ситуация исправится или этого пока недостаточно?
И второй подвопрос: мегамонстр ВАДА, на Ваш взгляд, может быть реформирован, или кто-то придёт ему на смену? Это вопрос не чисто спортивный, многие усматривают в нём всё-таки политическую составляющую, и есть ли она, эта составляющая, на Ваш взгляд?
Спасибо.
В.Путин: Прежде всего допинг как таковой и проблема допинга. Во-первых, в России никогда не создавалось, это просто невозможно – и мы будем делать всё, чтобы этого никогда и не было, – никакой государственной системы допинга и поддержки допинга. Это первое, я хочу ещё раз это сказать.
Второе. У нас, так же как и в любой другой стране, проблема с этим есть. Мы должны это признать и, признавая это, делать всё, чтобы не допустить никакого допинга. В этой связи мы должны тесно сотрудничать с Международным олимпийским комитетом, с ВАДА и другими международными организациями. И мы будем это делать. Надеюсь, что те изменения, которые происходят, и дело не только в кадрах, а в системных, структурных изменениях, они помогут нам решить все эти задачи. И, кроме всего прочего, Следственный комитет Российской Федерации, прокуратура расследуют всё, что связано с применением, использованием допинга, и, безусловно, доведут это всё до логического завершения.
Если говорить о так называемых информаторах, которые убежали за границу и сдают всё подряд или чего-то придумывают, может быть, уже, хотел бы что сказать. Я уже не помню фамилию этого гражданина, который удрал, он возглавлял у нас Российское антидопинговое агентство. Он же до этого где работал? В Канаде. А потом что он делал? Приезжал в Россию и, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость. Я с трудом себе могу представить, что он, перемещая через государственную границу Канады или США запрещённые препараты, никогда никем не был замечен. Вы знаете, что это такое. Многие из вас пересекают границу США и Канады – очень строгий контроль. Он постоянно сюда эту дрянь таскал, превратил это в свой личный бизнес, заставлял людей его брать и применять, а против тех, кто отказывался, скажем, как пловцы, ещё придумывал какие-то санкции. Когда ему хвост прижали, не смогли его посадить просто, он удрал и начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем, всё сливать, имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни. Ну, на каком-то этапе создадут. Потом, как любого негодяя, бросят просто – и всё, никому такие не нужны. Чего же он здесь не боролся? Поэтому меня это наводит на определённые мысли, что его там кто-то и вёл. Дождались определённого момента и сделали вброс этот. Но это не значит, что у нас этого нет. У нас это есть, и мы должны с этим бороться. Надо это признать, и делать это, прежде всего думая о здоровье спортсменов.
По поводу ВАДА. Я не считаю себя вправе давать оценок деятельности ВАДА, это должен сделать Международный олимпийский комитет, но совершенно точно, я уже говорил об этом, я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства, в том числе и ВАДА, должна быть прозрачной, понятной, проверяемой, и мы должны знать о результатах работы. То есть что это значит? Это значит, что международная спортивная общественность должна знать, кого проверяют, когда и какими средствами, какие получены результаты и какие приняты меры для того, чтобы наказать виновных, что сделано для того, чтобы предотвратить подобные проявления в будущем. Это что такое? Это что, какая-то оборонная сфера, что ли? Нет. А почему это всё в закрытом режиме делается? Непонятно. Это должно быть открыто. Нас же всегда все призывают к транспарентности. В этой сфере транспарентность совершенно необходима.
Мне трудно не согласиться с теми выдающимися спортсменами, которые в отношении, скажем, последних решений, связанных с переносом крупных соревнований, говорят о том, что не было известно, а если известно, то почему сейчас это вбрасывается. Вы знаете, безусловно, есть определённая политическая составляющая во всех этих делах. Надо очистить спорт, так же как и культуру, от всякой политики, потому что спорт и культура – это то, что должно объединять людей, а не разъединять их.
К.Ливер: Кристина Ливер, краевая газета «Алтайская правда», Алтайский край.
Владимир Владимирович, я хочу Вас спросить о том, как решается проблема задолженности регионов по кредитам. Не секрет, что сейчас это очень актуальная тема.
И второй мой вопрос заключается в том, планируется ли дать больше самостоятельности регионам в финансовых возможностях.
В развитие темы хочу дополнить: в Алтайском крае государственный долг составляет 6 процентов по отношению к собственным доходам краевого бюджета. Это наименьший показатель в Сибири и шестой по России. Владимир Владимирович, планирует ли государство поддерживать именно такие регионы, которые не живут в долг, не берут кредиты в коммерческих банках, а живут по своим средствам и ведут взвешенную финансовую политику?
Спасибо.
В.Путин: Правительство поддерживает все регионы. Регионам-донорам мы стараемся создать условия для того, чтобы они не утратили этого качества, помогаем в развитии инфраструктуры, допустим, так же как в Московской области либо в Москве. Мы многое делаем для развития инфраструктуры Московского региона, достаточно посмотреть на последние решения, связанные с транспортом в Москве и в Московской области.
И по другим регионам то же самое. Скажем, по Петербургу: только что Западный скоростной диаметр ввели в действие – уникальное транспортное сооружение, которое будет работать на весь северо-запад страны. И по другим регионам есть тоже хорошие примеры.
Что касается задолженности регионов: да, это вопрос серьёзный. В соответствии с правилами Правительства, Министерства финансов задолженность региона не должна быть больше 50 процентов собственных доходов. В этой связи Алтайский край действительно в выигрышном положении находится. Это значит, что алтайское руководство проводит взвешенную, высокопрофессиональную бюджетную политику.
Кстати говоря, только пять регионов нарушили этот принцип, и им нужна, конечно, особая поддержка, они требуют особого внимания. Но в целом всё-таки это проблема серьёзная: в целом задолженность регионов – свыше 2 триллионов рублей, хотя Правительство предпринимает необходимые шаги, чтобы расшить эту проблему. В текущем году, по-моему, 380 миллиардов рублей с небольшим было направлено на то, чтобы перекредитовать эти регионы, забрать их долги из коммерческих банков и перекредитовать на правительственные кредиты, кредиты Минфина, которые выдаются на длительный срок под один процент, под символический процент годовых. Эта работа будет продолжена и дальше. В следующем году мы тоже предусматриваем на эти цели необходимые ресурсы.
С.Розенберг (как переведено): Я хотел бы задать вопрос на английском языке. Стивен Розенберг, BBC News.
Господин Президент, Вашу страну обвиняют в том, что она спонсировала хакерские атаки и вмешивалась в предвыборную кампанию в США. Президент Обама намекнул, он думает, что за этим стоит Российская Федерация и, наверное, Вы тоже, потому что в России мало что происходит без Вашего ведома. Он сказал Вам лично прекратить всё это. Что Вы ответили ему на это, господин Президент? Можете ли Вы подтвердить, что Вашингтон предупреждал Вас не вмешиваться в американскую предвыборную кампанию, что было послание по так называемому красному телефону – «горячей линии», которая существует между двумя странами?
Ещё хотел бы поговорить по Дональду Трампу. У него вчера был пост в «Твиттере» насчёт усиления ядерного потенциала. Вас не беспокоит, что может быть новая гонка вооружений в связи с этим?
В.Путин: Новая гонка вооружений, вернее, предпосылки к новой гонке вооружений были созданы после выхода Соединённых Штатов из Договора по противоракетной обороне. Это очевидные вещи. Когда одна из сторон в одностороннем порядке вышла из этого договора и сказала, что будет создавать для себя антиядерный «зонтик», то вторая сторона должна либо создавать такой же «зонтик», в чём мы не уверены, нужно ли это делать, имея в виду пока сомнительную эффективность этой программы, либо создавать эффективные средства преодоления этой системы противоракетной обороны и совершенствования ударных комплексов, что мы и делаем, и делаем успешно. Не мы это придумали. Мы вынуждены отвечать на этот вызов.
То, что мы продвинулись достаточно далеко по этому направлению, – да, мы делаем это, делаем это эффективно, но в рамках наших договорённостей. Я хочу это подчеркнуть. Мы ничего не нарушаем, в том числе СНВ–3. Все договорённости по количеству носителей и боезарядов полностью соблюдаются.
Совсем недавно американские наблюдатели сидели на наших ядерных заводах и смотрели, как производятся у нас ракеты и ядерные заряды. Никто об этом не подзабыл, нет? И вместо того, чтобы в таком режиме сохранять наши отношения, Соединённые Штаты вышли из Договора по ПРО. Не мы же это сделали.
Да, мы продвинулись в совершенствовании наших систем ядерной триады, в том числе в плане преодоления ПРО. Она, эта система, гораздо эффективнее, чем сама противоракетная оборона на сегодняшний день, это правда. Это, может быть, и вызывает желание в Соединённых Штатах совершенствовать свои ядерные арсеналы. Ну да, мы знаем. Так они это и делают.
Скажем, замена тактического ядерного оружия, расположенного в других странах, в том числе в Европе, в том числе у вас, в Великобритании, она же происходит, это же делают. Я надеюсь, что слушатели и зрители ваших программ и пользователи интернета знают об этом. В Турции, в Великобритании, в Нидерландах происходит замена тактического американского ядерного оружия. Поэтому если уж кто-то и разгоняет гонку вооружений, то не мы.
Но хочу подчеркнуть, это тоже очень важно уже для внутреннего нашего потребления, внутриполитического: мы никогда не пойдём на то, чтобы, втянувшись в гонку вооружений, тратить такие ресурсы, которые нам не по карману. Я, отвечая вначале на ряд вопросов, которые здесь прозвучали, уже сказал: у нас в 2011 году расходы на оборону были 2,7 процента, в этом году – 4,7, но уже в следующем будет 3,3, а к 2019–му – 2,8. И так мы будем эту планку сохранять, потому что мы уже сделали необходимые вещи, для того чтобы выйти на тренд модернизации, которая должна привести к тому, что у нас к 2021 году будет 70 процентов новейших и новых вооружений. Сейчас где-то уже под 50, в отдельных сегментах под 60, в ядерной составляющей – 90 уже. Поэтому нас всё устраивает, мы полностью реализуем все свои планы.
Что касается вмешательства и того, о чём мы говорили с Президентом Обамой: если вы обратили внимание, я никогда не говорю о том, что мы с глазу на глаз говорили со своими коллегами.
Первое, о вмешательстве. Я уже говорил, одному из Ваших коллег из Соединённых Штатов отвечал: проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне. Лучше бы искали в самих себе эти проблемы.
И всё время забывают о главном. А что является главным, на мой взгляд? Какие-то хакеры вскрыли, допустим, почту руководства Демократической партии США. Какие-то хакеры это сделали. Но, как совершенно правильно сказал избранный Президент, кто знает, что это за хакеры? Может, они в другой стране находились, а не в России. Может быть, кто-то просто лежа на диване или в кровати это сделал. А сейчас ведь очень легко показать страну происхождения атаки, будучи совсем в другом месте.
Но разве это главное? Главное, на мой взгляд, – это суть информации, которую хакеры предоставили общественному мнению. Они что, разве что-то там скомпилировали, подтасовали? Да ведь нет. Лучшим доказательством того, что хакеры вскрыли правдивую информацию, является что? Что после того, как хакеры показали манипуляцию общественным мнением внутри Демократической партии, одного кандидата против другого, против господина Сандерса, руководитель национального комитета Демократической партии подала в отставку. Это значит, что она признала, что хакеры показали правду. Вместо того чтобы извиниться перед избирателями и сказать: простите, черт попутал, больше не будем, исправимся, – вместо этого начали кричать по поводу того, кто произвёл эти хакерские атаки. Разве это важно?
Ну а что мы говорили между собой с Президентом Обамой – повторяю ещё раз: я никогда об этом публично не говорю, это моё правило. Мне известно, что о том, что мы якобы обсуждали с господином Обамой, сказал публично его помощник совсем недавно. Спросите моего помощника, он Вам ответит. Господин Песков здесь находится.
«Экология». Это важно.
С.Лисовский: Уважаемый Владимир Владимирович, спасибо за возможность задать вопрос.
Хочу поздравить с наступающим Новым годом лично Вас, пожелать здоровья и всем коллегам в зале, и вообще всей стране.
У меня вопрос стратегически важный, он касается экологического развития России. 2017 год объявлен Вами Годом экологии. Знаю и напечатал в газете Ваш указ, что 27 декабря будет проведён Государственный совет по стратегически важной теме: экологическое развитие России для будущих поколений. Это впервые звучит так в идеологии на официальном уровне, что экология – для будущих поколений.
Хотел задать Вам вопрос – не провалят ли чиновники предстоящий Год экологии? Потому что, как я помню, а я 17 лет издаю газету… Я представлюсь: Сергей Лисовский, газета «Общество и Экология», главный редактор, 17 лет издаю её уже в Петербурге. И я на своём опыте вижу, что 2013 год, который Вы также объявляли Годом экологии, был фактически провален чиновниками в тот период. Я на G-20 тогда вопрос Вам задавал, Вы признали это, сказали: мы исправимся; стенограмма есть на kremlin.ru.
В.Путин: Поймали.
С.Лисовский: У меня есть конкретное предложение, у меня большой опыт в этом плане – хотелось бы, если можно, попасть на Государственный совет, если есть такая возможность, 27 декабря.
У меня конкретное предложение и вопрос: можно ли так сделать, чтобы при посольствах Российской Федерации открылись экологические отделы и они формулировали внутреннюю политику России на внешний уровень? Потому что Запад сейчас, на мой взгляд, отошёл от экологии, он занимается всем чем угодно – манипуляциями, разведением войн, революций по всему миру, – но тот вопрос, который звучал тогда с Запада, в 90-х годах, об устойчивом развитии, он у них ушёл на какие-то 105-е позиции. А Россия, наоборот, сейчас выводит экологию на первые позиции. Это первое: открыть отделы.
И второй момент, самый главный, наверное, для внутренней политики России – о том, чтобы информационно-экологическую политику на телеканалах изменить в сторону экологического и патриотического измерения. Потому что там можно увидеть что угодно – шоу, гламур, он и так разрушает сознание молодёжи. А если бы были экологические передачи, патриотические передачи, они бы изначально формулировали такое целостное мировоззрение у человека, что нам бы не пришлось бороться с разными последствиями – коррупцией, ещё какими-то нехорошими делами, то есть люди были бы более здоровы, по сути дела. Поэтому такой вопрос у меня. Спасибо большое.
В.Путин: Вы, с одной стороны, сказали, что в 2013 году всё провалили, с другой стороны – тут же, только что, сказали, что мы многое делаем для того, чтобы сохранить природу, и немножко напали на наших западных партнёров в связи с тем, что они мало делают.
Я не соглашусь с Вами в том, что в западных странах, в США, в Европе, меньше, чем раньше, заботятся о сохранении природы. И лучшее доказательство тому – это усилия Президента Франции по поводу принятия парижских соглашений по сокращениям выбросов в атмосферу. Франция проделала колоссальную работу по этому направлению, и проделала её не без успеха. Мы договорились – это был сложный процесс, – договорились по ограничению выбросов. Россия, как известно, взяла на себя достаточно жёсткие обязательства, и не сомневаюсь, что мы их выполним. Насколько будут выполнять другие страны, мне пока сложно сказать. Мы должны ещё заняться вопросами имплементирования этих договорённостей. В практическом плане мы к этому готовы. Мы должны посмотреть, как технологически будут складываться договорённости по осуществлению парижских соглашений, но мы будем это делать.
В рамках нашей внутренней политики экология была и, безусловно, останется одной из важнейших составляющих всей нашей работы. Мы должны будущим поколениям оставить процветающую в смысле экологии страну. Меня очень беспокоит и загрязнение, очень беспокоят огромные свалки. Мы совсем недавно на форуме Общероссийского народного фронта достаточно подробно об этом говорили. Я сейчас не буду занимать время у всех собравшихся – и других вопросов много, – но Вы знаете, что здесь есть определённый план у Правительства, мы будем всё это осуществлять.
Другое направление – сохранение лесов. Здесь точно не обойтись без изменений в действующей нормативной базе. Нам нужно, конечно, и лесотехнический комплекс обеспечить сырьём, и работой людей, которые трудятся в этой сфере. Но не меньшую заботу мы должны проявить по направлению сохранения лесов. Потому что, если мы этого не будем делать, если мы не будем заботиться о лесах и парковых зонах в населённых пунктах, вокруг крупных городов, у нас скоро вообще ничего не останется, потому что вытаскивать лес из этих мест легче всего, дешевле всего – там дороги, инфраструктура.
Это требует очень серьёзного, вдумчивого подхода, анализа, в том числе и с такими организациями, как Ваша, со средствами массовой информации. Я вам очень благодарен – и Вам, и Вашим коллегам, которые занимаются этой работой: в лес лазают, топоров не боятся. Это такая боевая, на самом деле, работа. Очень надеюсь, что мы будем с вами вместе её продолжать. И я Вас приглашаю на заседание Госсовета. Дмитрий Сергеевич, пометьте, пожалуйста.
Д.Песков: Есть. Хорошо.
В.Путин: Вон там написано «Пенсии». Вопрос чрезвычайно важный. Пожалуйста.
Ю.Измайлова: Добрый день!
Юлия Измайлова, редактор газеты «Молодой ленинец», Пенза.
Вопрос такой. У нас ряд категорий граждан выходят на пенсию досрочно. Но сейчас участились случаи, когда тем же педагогическим и медицинским работникам приходится в суде отстаивать своё право на досрочную пенсию. В связи с этим вопрос: не возникла ли необходимость реформировать институт досрочных пенсий? И, если позволите, скажите, что ждёт пенсионеров в следующем году?
Спасибо.
В.Путин: Вы знаете сами, если занимаетесь этим вопросом, что ещё совсем недавно, в 90–е годы, в начале 2000–х, у нас уровень пенсионного обеспечения, уровень пенсий был оторван от стажа и уровня заработной платы. Произошла такая уравниловка в этой сфере, и многие люди указывали нам на это, говорили о том, что это несправедливо.
Были произведены серьёзные изменения. В чём они заключаются и на чём сегодня основана пенсионная система? На трёх элементах. Первое – на стаже, второе – на уровне заработной платы до выхода на пенсию, и третье – на возрасте, с которого человек решил оформить себе пенсию и обратился за оформлением своих пенсионных прав. Вот эти три элемента лежат в основе пенсионной системы. Они будут неизменными, и мы будем руководствоваться этими фундаментальными базовыми основаниями, для того чтобы совершенствовать пенсионную систему.
Что касается досрочного выхода – да, действительно, это один из вопросов, которые требуют дополнительного внимания, это требует тщательного анализа. У нас очень много категорий, выходящих на пенсию досрочно. Я сейчас не буду забегать вперёд и говорить о том, что там и как планируется, но одно хочу отметить: любые нововведения в этой сфере должны быть публично обсуждены и приниматься только после тщательного анализа. Мы будем действовать очень аккуратно.
Что касается ближайшего будущего, то могу сказать, что, как мы и планировали, мы в начале года выплатим 5 тысяч всем пенсионерам вне зависимости от уровня их пенсионных доходов, всем категориям, включая военных пенсионеров и приравненных к ним. Кстати говоря, для многих категорий пенсионеров выплата 5 тысяч будет даже больше, чем возможная была бы индексация в течение года. Ну и в следующем году у нас заложены в бюджет все необходимые средства, для того чтобы с 1 февраля проиндексировать пенсию для пенсионеров по старости на инфляцию 2016 года, то есть мы вернёмся к исполнению действующего закона. И, по-моему, с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии.
Д.Песков: Давайте ТАСС, а то у нас как-то информационные гранды чуть-чуть остались за бортом.
В.Романенкова: Агентство ТАСС, Вероника Романенкова.
Вопрос про Украину. Украинский кризис приобрёл замороженный характер, такое ощущение, что стороны давно перестали слышать друг друга. Где выход из тупика? Есть «нормандский формат». Насколько он эффективен? Не было ли желания что-то изменить? Решают ли что-то Ваши встречи с лидерами Германии, Франции, Украины что-либо? Кстати, как Вы относитесь к перспективе введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом?
В.Путин: Спасибо.
Ещё коллега поднимал плакат «Украина». Пожалуйста, и Вы сразу задайте вопрос по Украине, я попробую это всё вместе объединить.
Д.Песков: Кстати, это журналист с Украины, который уже много лет работает в Москве.
Реплика: Спасибо.
В.Путин: Пожалуйста.
Вопрос: Не уверен, что получится объединить.
Владимир Владимирович, за последние годы ваша страна, под Вашим руководством, отловила там много граждан Украины, что режиссёры с мировым именем просят Вас освободить украинского режиссёра. Я, как украинский корреспондент, хочу Вас попросить проявить милосердие, отпустить корреспондента «Укринформ» Романа Сущенко, потому что дела против граждан Украины выглядят политически мотивированными. Если пытать людей, как крымских диверсантов Захтея и Панова, то в шпионаже в пользу Украины признаюсь и я и даже Вы.
Всё-таки хотел бы конкретизировать вопрос: Вы часто говорите, что были вынуждены защищать русскоязычных в Крыму и на Донбассе. Вы в прошлом году говорили, что никогда не скрывали, что отправляли на Донбасс людей решать военные вопросы. Уточните, где это написано в Минских соглашениях, и понимаете ли Вы, что, если когда-то уйдёте на пенсию, русские останутся для украинцев оккупантами.
Спасибо.
В.Путин: Хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами в своей собственной стране. Вот о чём нужно думать. Это первое.
Второе, что касается освобождения. Мы делаем всё для того, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. И чем более полным будет этот обмен, тем лучше.
В своё время Президент Порошенко высказал идею обмена «всех на всех». И я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой «всех на всех» стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса. В чём заключаются эти детали? Они заключаются в том, что все лица, удерживаемые на Донбассе, украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно. Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которых украинские власти считают законно осуждёнными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблема. Если уж «всех на всех», то тогда нужно принять решение об их помиловании и всех выпустить, иначе договориться будет очень сложно.
Теперь по поводу режиссёров и журналистов. Режиссёры и журналисты должны заниматься: одни – журналистикой, а другие – производством спектаклей и фильмов.
По поводу задержанных военнослужащих и сотрудников военной разведки Украины. Никто их не пытал и не бил. А то, что они дают признательные показания, легко проверить, в том числе и представителям средств массовой информации; являются ли они кадровыми сотрудниками военной разведки или нет. Они дают полный расклад, не только фамилию, имя, отчество, установочные данные, но и названия своих частей, имена и фамилии командиров, подразделений, в которых они служат, задания, которые они получили, адреса и явки на территории Российской Федерации, в том числе и в Крыму, они всё выдают. Это целый комплекс данных, и одно подтверждает другое. Надо это всё прекратить. Если такая политическая воля будет, то легче будет решать и другие вопросы.
Теперь по поводу журналистов и кинорежиссёров. Конечно, ни у кого нет желания держать журналистов, если они занимаются журналистской деятельностью. Но скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссёр, а это доказано в суде, готовился к совершению террористических актов? Отпустить его только за то, что он режиссёр? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал делать то же самое? Мы отпустим сегодня режиссёра, а завтра что, должны отпустить кадровых сотрудников разведки, которые готовились к террористическим актам? Чем они отличаются в данном случае друг от друга? Мы сегодня отпустим одних, а завтра придут другие? Надо договориться, чтобы это было прекращено, и тогда можно будет подумать и об актах амнистии. Я против этого ничего не имею.
Да. Я же не ответил на вопрос ТАСС.
Вы действительно были правы: трудно объединить.
(Обращаясь к В.Романенковой.) Что там было? Минские соглашения, «нормандский формат» и что ещё?
В.Романенкова: Ваше мнение о возможности введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.
В.Путин: «Нормандский формат» действительно не демонстрирует сверхэффективности. Остаётся только сожалеть о том, что он работает так вяло. Но другого нет. И я лично считаю, что работа в этом формате должна быть продолжена. Если мы утратим этот механизм, этот инструмент, то ситуация будет деградировать и довольно быстро, чего бы не хотелось.
Что касается безвизового режима для граждан Украины со странами Европы, я полностью это поддерживаю. Более того, я считаю, что визовый режим в Европе – вообще анахронизм «холодной войны», и нужно от него избавляться как можно быстрее. И если Украина, украинские граждане получат право безвизовых поездок в Европу, мне кажется, это будет правильным шагом в правильном направлении. Но, насколько мне известно, речь идёт о возможности предоставления виз без права на работу. Возникает вопрос: увеличится ли поток тем не менее рабочей силы с Украины в Европу? Конечно, увеличится. В России, только по предварительным данным, работают 3 миллиона украинцев. Если в Европе будет открыт безвизовый режим и там зарабатывают чуть больше, конечно, люди, даже из России, попробуют переместиться туда, я уже не говорю о желающих переехать с Украины работать в Европу. Это будет серьёзная нагрузка на рынок труда в Европе.
Что здесь, мне кажется, может быть отрицательным для самой Украины? Если не будет дано право на работу, то тогда люди с Украины, приезжающие работать в Европу, будут поставлены изначально в очень унизительное положение. Это значит, что они должны будут работать нелегально, то есть они будут приезжать, скажем, на три месяца в рамках безвизового разрешения, потом выезжать назад, на Украину, отмечаться и тут же ехать назад. Это значит, что они будут нелегально работать. Это значит, что они не будут социально защищены и вообще никак не будут защищены. Это будет просто жёсткая эксплуатация. И это плохо. Поэтому если уж разрешать безвизовый въезд, то нужно разрешать и право на работу.
Ф.Сафаров: Фуад Сафаров, агентство SPUTNIK, турецкая редакция.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Впервые Россия и Турция смогли решить глобальный, важный вопрос с Сирией без участия Запада. Речь идёт об Алеппо. Значит, у России и Турции есть такой потенциал. Но в дальнейшем смогут ли Анкара и Москва воспользоваться этим потенциалом? Удастся ли Ирану, России, Турции выстоять против коварных игр на Ближнем Востоке? Этот новый «треугольник», альянс способен ли сыграть ключевую роль в сирийском урегулировании?
Позвольте второй вопрос. Вы с Эрдоганом в октябре 2015 года договорились по Сирии, это был неофициальный договор. Затем сбили российский самолёт. В июне начался процесс нормализации отношений. Вслед за этим была попытка переворота. Сегодня, когда Россия и Турция начали взаимодействие по урегулированию в Алеппо, произошло убийство посла России в Анкаре. Не кажется ли Вам это совпадением?
Спасибо.
В.Путин: Давайте начнём с завершающей части Вашего вопроса, с трагедии, которая недавно случилась, имею в виду убийство нашего посла. Думаю, что это, конечно, прежде всего было покушение на Россию, на российско-турецкие отношения. Безусловно.
Знаете, откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и наш самолёт был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые хотели навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять своё мнение. Мне уже кажется, что всё возможно. И проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию Турции, конечно, носит глубокий характер. Я сейчас не считаю себя вправе переводить на кого-то стрелки, кого-то в чём-то обвинять, но мы видим, что это факт, это происходит.
Помешает ли это развитию российско-турецких отношений? Нет, не помешает. Потому что мы понимаем важность и значение российско-турецких отношений и будем всячески стремиться к тому, чтобы их развивать, имея в виду, конечно, турецкие интересы, но и не в последнюю очередь российские. Нам удавалось в последний год, точнее, после нормализации отношений, находить эти компромиссы. Рассчитываю, что эти компромиссы мы также успешно будем находить и в будущем.
Теперь что касается Алеппо. Действительно, огромную роль в урегулировании ситуации вокруг Алеппо – это было связано ещё и с разменом и с деблокированием нескольких населённых пунктов, в которых большинство граждан составляют представители шиитского направления в исламе, – очень большую роль в этом сыграли Президент Турции и Президент и вообще руководство Ирана. Не знаю, не прозвучит ли это нескромно, но без нашего участия, без участия России, это было бы просто невозможно.
Поэтому всё это сотрудничество в трёхстороннем формате, безусловно, сыграло очень важную роль в решении проблем вокруг Алеппо. Причём, что чрезвычайно важно, особенно на завершающем этапе – сейчас только Министр обороны мне докладывал о том, как происходила работа на завершающем этапе, – без боевых действий. Просто мы организовали и тысячами, десятками тысяч выводили людей, и не только радикально настроенные вооружённые группировки и их представителей, но и женщин, и детей. Речь идёт о более чем 100 тысячах человек, которые были выведены из Алеппо. Тысячи – из других населённых пунктов в обмен на вывод из Алеппо.
Это крупнейшая – я хочу это подчеркнуть, чтобы все это слышали, – это крупнейшая в современном мире на сегодняшний день международная гуманитарная акция. Она не могла быть достигнута без активной работы турецкого руководства, Президента Турции, Президента Ирана и всего иранского руководства, ну и при нашем самом активном участии. Разумеется, это не могло быть достигнуто и без доброй воли и работы, которая была проведена Президентом Сирийской Арабской Республики господином Асадом и его сотрудниками. Поэтому практика, жизнь показала, что такой формат востребован, и мы, конечно, его будем дальше развивать.
Я бы не забывал интересы и участие других стран региона. Это Иордания, Саудовская Аравия, это, конечно, Египет. Безусловно, без такого глобального игрока, как Соединённые Штаты, тоже было бы неправильно решать вопросы подобного рода, поэтому мы готовы работать со всеми.
Следующим этапом – сразу хочу сказать, чтобы уже не возвращаться к этой теме, – считаю, должно быть, заключение соглашения о прекращении огня на всей территории Сирии и после этого сразу же начало практических переговоров по политическому примирению. Мы предложили в качестве нейтральной площадки столицу Казахстана Астану, Президент Турции с этим согласен, Президент Ирана согласен, сам Президент Асад согласен. Президент Назарбаев любезно согласился предоставить эту площадку, создать площадку для такой работы. Очень надеюсь на то, что нам это удастся поставить на практический рельс.
«Первый канал», пожалуйста.
А.Верницкий: Это входит в традицию: я и на прошлой пресс-конференции три раза пытался.
Владимир Владимирович, Антон Верницкий, «Первый канал». По внутрироссийской ситуации: вопрос про налоги и сборы.
Существуют налоги – подоходный налог, налог на недвижимость, которые постепенно в течение пяти лет увеличиваются и достигнут своего максимума: там по 20 процентов прибавляется.
Но помимо налогов, которые мы все исправно платим, существуют и сборы, которые очень похожи на налоги, но которые налогами не являются. Например, сбор на капитальный ремонт зданий. Медицина вроде как бесплатная, но часть услуг – платные. Образование – ребёнок ходит в школу, но часть дополнительного образования за денежки. Те самые парковки в Москве – понятно, в центре парковаться за деньги уже народ, наверное, привык, но сейчас парковки подбираются уже к спальным районам.
Вы в курсе того, что происходит на этом фронте? И ждать ли нам каких-нибудь неожиданностей на этом направлении? Спасибо.
В.Путин: Знаете, нужно разделить налоги и неналоговые сборы. Налоги на граждан складываются из трёх составляющих: НДФЛ (налог на доходы физических лиц), налог на транспортные средства и налог на имущество – вот три составляющие. Они остаются у нас наиболее низкими в мире.
Начнём с налога на доходы физических лиц: 13 процентов. Конечно, Вы знаете, когда мы в 2001 году вводили эту плоскую шкалу – 13 процентов – было очень много сомнений. И у меня тоже было много сомнений, я боялся, как бы бюджет не потерял доходы, потому что те, кто зарабатывает больше, должны будут платить меньше, будет ли обеспечена социальная справедливость и так далее.
Я уже говорил несколько раз, но есть необходимость, вижу, ещё раз сказать, каков был результат после введения плоской 13-процентной шкалы на доходы физических лиц: сборы налога на доходы физических лиц увеличились – внимание – в семь раз. И эти средства, которые поступают в казну, потом распределяются для решения социальных задач, – в этом и есть социальная справедливость.
Можно ли перейти к дифференцированному налогу на доходы физических лиц? Можно. Может быть, это и будет когда-то сделано, но сейчас, считаю, нецелесообразно. Потому что как только мы начнём это делать, после первого шага будет второй, третий, пятый, мы там запутаемся в этой дифференциации, и в конце концов всё это приведёт к уклонению от уплаты налогов, и доходы в бюджет сократятся.
Что касается социальной справедливости, то она может быть достигнута и другими средствами, не меняя эту плоскую шкалу. Как? Такие решения уже приняты. Имеется в виду, допустим, увеличение налога на дорогие транспортные средства – это уже сделано, и можно настраивать эту систему; увеличение налога на дорогую недвижимость – это тоже сделано, можно тоже её здесь настраивать, и так далее.
Теперь вторая составляющая – это неналоговые сборы. Знаю ли я, что происходит, – конечно, знаю. Знаю ли я в деталях – конечно, нет. Но разве можно? Ведь понимаете, это не налоговая система, это тарифы и сборы, которые устанавливаются либо на уровне муниципалитетов, которых тысячи, или на уровне субъектов Федерации, – там всё отследить очень сложно. Это проблема – я сейчас скажу, как мы предлагаем её решать, – потому что нагрузка, действительно, растёт.
Как предлагается решать эту проблему? Надо, во всяком случае, видеть, что происходит в этой сфере. Для этого Правительству поручено – и в следующем году, по-моему, к июню должен быть создан так называемый реестр неналоговых платежей, с тем чтобы нам точно и ясно понимать, что происходит в стране, в регионах и муниципалитетах с точки зрения этой нагрузки и потом соответствующим образом регулировать.
Что касается регулирования с федерального уровня, то напомню, что мы заморозили рост тарифов. Мы исходим из того, что, скажем, производная от тарифов на электроэнергию, на тепло будет соответствующим образом отражаться на ЖКХ, что чрезвычайно важно.
Но самый главный способ в этой сфере сдерживать рост тарифов – это понижать инфляцию, и я уже в начале нашего разговора сегодня говорил: в прошлом году – 12,9, в этом году она будет рекордно низкой вообще за всю новейшую историю России. Если мы дальше будем работать по её подавлению и, скажем, выйдем на уровень четырёх процентов, то это существенным образом стабилизирует ситуацию с тарифами.
Дмитрий Сергеевич, посмотрите, Вам виднее, Вы выше сидите. «Кто выше сидит, тот дальше смотрит» – так китайцы говорят, и правильно.
Д.Песков: Шахтёры Кузбасса, может быть?
А.Желтухин: Добрый день, Владимир Владимирович. Меня зовут Желтухин Андрей Анатольевич, я представляю информационный сайт «142», входящий в холдинговую компанию «Кузнецкий альянс». У меня два вопроса, которые сегодня беспокоят жителей нашего региона.
Первый. Федеральная трасса М-53 «Байкал» проходит через центр города Кемерово, что создаёт большие проблемы: ДТП, пробки, износ дорожного полотна, выхлопные газы. И город Кемерово, наверное, единственный за Уралом город, который не имеет объездного пути. У меня есть один вопрос. Наш учредитель и бессменный руководитель компании Шкуропатский Михаил Александрович готов выступить даже инициатором сбора средств для строительства этой дороги, но их явно не хватит. Можно ли на федеральном уровне решить эту проблему?
И второй вопрос. Конечно же, меня беспокоит развитие угольной отрасли Кузбасса. Сегодня бытует мнение, что уголь – это грязное топливо, его использование негативно влияет на экологическую обстановку и от него необходимо отказаться. Но никто не хочет слышать о новых технологиях. А ведь современные угольные станции полностью улавливают вредные выбросы. Каково Ваше мнение о дальнейшей судьбе кузбасского и российского угля? Спасибо.
В.Путин: Первое, что касается развития инфраструктуры. Это комплексная проблема в данном случае. Это и развитие инфраструктуры, и решение экологических вопросов. Мы всегда «за» и всегда поддерживаем проекты подобного рода. Если есть кто-то, кто готов софинансировать эти проекты, я Вас уверяю, мы со своей стороны сделаем всё для того, чтобы поддержать – и с федерального, и с регионального уровня. Мы обязательно посмотрим на предложения, которые из региона поступают, и будем стремиться к тому, чтобы эти проекты были реализованы. Тем более для такого региона, как Кузбасс, с известной серьёзной нагрузкой на природную среду. Первое.
Второе, что касается угля и будущего этого первичного источника энергии. Все говорят о необходимости перехода на альтернативные виды топлива. Кстати говоря, и Россия работает по этим направлениям, в том числе и по водородному топливу, по ветрякам, по солнечной энергетике, мы всеми этими вопросами занимаемся. Я недавно был на одном из предприятий «Роснано», там активно внедряют эти современные технологии, рассчитанные на будущее.
Вместе с тем, обращаю Ваше внимание, что Еврокомиссия, допустим, приняла решение снизить субсидии по этим направлениям. Почему? Потому что это очень дорого. Безусловно, нужно совершенствовать эти технологии. Но на сегодняшний день это довольно дорогое удовольствие, и они совершенно точно проигрывают традиционным видам топлива. Не только для шахтёров, но и для других коллег могу сказать, что в мире на сегодняшний день угля используется больше, чем нефти и газа вместе взятых. Вместе взятых – не знаю, но совершенно точно больше, чем газа. По-моему, даже больше, чем нефти и газа. То есть уголь продолжает быть важнейшей составляющий мировой энергетики.
Вы правы, вопрос в том, чтобы делать эту составляющую более экологичной, использовать те же самые новейшие технологии. Я знаю, что Кузбасс идёт по этому пути. Многие промышленные предприятия и в мире, и у нас приходят к высокотехнологичной переработке, создавая новые продукты, в том числе и угольную пыль, которая используется непосредственно в большой энергетике. Я уверен, что если мы будем двигаться по этому пути, то и Кузбасс, и других наших шахтёров ждёт хорошее перспективное будущее и хорошая загрузка. Это, разумеется, связано и с развитием всей нашей российской экономики, и мировой, в том числе металлургической промышленности.
Металлургия, к сожалению, немножко подсела в целом, и у нас немножко подсела, есть некоторые вопросы, текущие вопросы. Но я уверен, что будущее будет обеспечено.
Спасибо.
Д.Песков: РИА Новости, про нефть.
Е.Глушакова: В продолжение вопроса коллеги. Елена Глушакова, РИА Новости.
Вопрос про нефть. Что с ней будет? Что будет с ценами на нефть, на Ваш взгляд? Сейчас котировки достигают 40–50 долларов за баррель. Достаточно это для российской экономики? И готов ли российский бюджет к сокращению [добычи] нефти, на которую мы согласились пойти в рамках договорённостей с ОПЕК? Какая цена на нефть, на Ваш взгляд, является оптимальной для российской экономики?
В.Путин: Сейчас, насколько мне известно, Brent не 45, а 55, сегодня только я смотрел, с утра. Но я уже сказал, что мы рассчитываем бюджет из консервативных прогнозов – 40 долларов за баррель. Если вернуться к первым вопросам нашей сегодняшней, как говорят бюрократы, повестки дня, то могу сказать, что те результаты, которые мы получили, – мы их получили исходя из того, что реальная ситуация по сравнению с нашими прогнозами была сложнее, хуже для нас. Потому что мы считали бюджет 2016 года изначально из расчёта 50 долларов за баррель, а он оказался 40. Несмотря на это, и в ВВП тенденции изменились, и инфляция, и мы сохранили резервы. Так что это, кстати говоря, очень существенный фактор в общем анализе происходящих в экономике событий. Ситуация хуже в мировой экономике, а результат у нас лучше получился. Это значит, что экономика приспособилась и на этой базе будет развиваться, безусловно.
Теперь по поводу того, какие цены будут, как это отразится на нас. Наверняка сказать никто не может, это сложный вопрос, который зависит от очень многих факторов неопределённости, и предсказать их практически невозможно. Наше Министерство энергетики уже высказывало своё предположение. Мы считаем, что во второй половине 2017 года излишки нефти с рынка уйдут, цены на нефть стабилизируются. Рассчитываем, что они стабилизируются на сегодняшнем уровне.
Теперь по поводу того, как будет реагировать на сокращение добычи нефти наша экономика. Что могу сказать? Мы пошли на этот шаг сознательно, у нас достаточно высокая «полка добычи» на конец текущего года. Сокращение, которое мы взяли на себя, составляет 300 тысяч баррелей в день за период с января по июнь. Это будет плавное сокращение, которое на общий объём добычи почти не повлияет, для нас это абсолютно приемлемо. Но мы рассчитываем на то, что это приведёт к повышению цен на нефть, а это уже произошло.
Если такое состояние дел удержится, какой будет эффект для страны, для бюджета и для наших компаний? Разница в ценах на нефть в 10 долларов будет означать дополнительный доход бюджета в 1 триллион 750 миллиардов рублей, а для нефтяных компаний, несмотря на снижение добычи, разница в цене на нефть в 10 долларов даст дополнительный доход в размере 750 миллиардов рублей. То есть в конечном итоге все оказываются в выигрыше. Это первое такое решение в рамках ОПЕК, по-моему, за последние восемь лет.
Безусловно, без нашей доброй воли на совместную работу с ОПЕК этого результата не было бы. Мы и дальше будем сотрудничать с ОПЕК. Имея в виду, конечно, что будем соблюдать взятые на себя обязательства. Но мы не члены картеля, и, будучи с ними в контакте, конечно, выполняя взятые на себя обязательства, мы чувствуем себя свободными. Но до тех пор, пока не добьёмся общих результатов. Пока эти результаты налицо, мы их добиваемся. Считаем, что такое сотрудничество полезно и для стран, не входящих в картель, и для самого ОПЕК.
М.Сагадатов: Здравствуйте, Владимир Владимирович!
Газета «За суверенитет России», город Уфа, Сагадатов Марат, главный редактор.
Прежде всего я хотел передать от наших читателей большую благодарность Вам за всё, что Вы делаете в укреплении нашей обороноспособности, за ту борьбу, которую ведёте за восстановление и укрепление суверенитета нашей страны. Мы прекрасно слышим, что Вы говорите, и когда Вы говорите: если кто-то хочет жить в условиях полуоккупации, то мы точно этого делать не будем, и Правительство внешнеуправляемое и слабое нам не нужно, – мы в этом с Вами абсолютно согласны.
Мы считаем, что есть внутренние проблемы нашей страны, которые можно обозначить такими словами: в последнее время средства массовой информации в основном часто стали употреблять словосочетание, прилагательными в котором выступают слова «холодная», «гибридная», «информационная», но существительным остается слово «война». В условиях войны наш народ, имея хорошую генетическую память, всегда вспоминает нашу историю, в которой эти войны были, в которых мы всегда становились победителями, но в которых были какие-то потери и неудачи. И память отсылает нас в ближайшее время – к Великой Отечественной войне.
Проводя аналогии с сегодняшней ситуацией, напрашивается такой вопрос. Наша экономика, промышленность, министерства, ведомства часто руководствуются постановлениями международных организаций, управляются консалтинговыми компаниями, даже на оборонных предприятиях аудиторские проверки проводят иностранные консалтинговые компании. Вы в своё время поднимали вопрос об НКО, этот вопрос нашел своё продолжение: мы узнали и об иностранных влияниях, и об иностранных агентах. Тем не менее вопрос, связанный с консалтингом, остаётся.
И наши читатели спрашивают: не пора ли и в этой области произвести «импортозамещение» и нам самим решать, в каком направлении развиваться, что нам делать? Ведь вопросы касаются не только экономики, они, к сожалению, переходят и в идеологическую сферу – там тоже очень много возникает вопросов. То есть тот поток импорта, который в своё время хлынул в нашу страну, к сожалению, принёс с собой многочисленные проблемы, о которых сегодня здесь уже тоже говорили, и о наших традиционных ценностях, которые стали попираться. Мы считаем, что необходимо какое-то «импортозамещение» в этой области.
Хотелось бы узнать, поскольку эти вопросы в последнее время приобретают наибольшую остроту, в этом направлении какие шаги планируется предпринять?
Спасибо.
В.Путин: Вы говорите сейчас об экономическом суверенитете – чрезвычайно важная вещь.
Что касается патриотических настроений – Вы из Уфы, да? – то нам хорошо известны настроения в Башкирии. Это традиционно было в Башкирии всегда, в Башкортостане, ещё в стародавние времена. Напомню, что в Отечественную войну 1812 года Башкирия посадила на коня и вооружила всё мужское население, начиная с 16 лет, и отправила на фронт. Так было и в Великую Отечественную войну. Это то, чем мы, безусловно, должны гордиться и должны поддерживать.
Что касается экономической независимости, то – я уже об этом много раз говорил – это касается не только импортозамещения, это касается независимости нашей финансовой системы, это касается «пластика» и так далее, межбанковских расчётов. Много составляющих, которые мы считали незыблемыми и которые считали выведенными за рамки возможных политических разногласий. Оказалось, что это не так, и нас попросту надули: когда возникла необходимость оказать какое-то политическое давление, начали сразу использовать экономические рычаги. Поэтому мы должны это иметь в виду, особенно в оборонной сфере.
Что касается консалтинга и всяких рейтинговых агентств, что не менее важно, то и здесь мы, конечно, должны подумать. Это непростой вопрос. Мы точно совершенно должны создавать своё национальное рейтинговое агентство, развивать свой консалтинг. Мы это делаем, вопрос только в том, что эти структуры должны быть абсолютно прозрачными и должны пользоваться абсолютным признанием делового сообщества, иначе их деятельность будет бессмысленна.
Если мы устраним всех наших партнёров с рынка, а своих аналогичных – пользующихся уважением и признанием бизнеса, не нашего только, но и международного бизнеса, – структур не создадим, то сам бизнес понесёт определённый ущерб. Потому что всё, что будут выдавать на–гора, как говорят шахтёры, вся информация наших отечественных компаний, если они не будут признанными, не будет учитываться возможными инвесторами. Это уже плохая история, это может ограничить приток инвестиций, причём не только иностранных, но и наших собственных. Но двигаться в этом направлении, повышать суверенитет в этой сфере, безусловно, нужно. Будем работать обязательно.
Давайте полякам дадим слово. Речь, наверное, пойдёт о сложностях и трагедиях прошлого, имеется в виду самолёт. Что Вас интересует?
А.Зауха: Добрый день!
Анджей Зауха, телекомпания TVN, Польша. Действительно, я два года тому назад спрашивал Вас здесь, в этом зале, про обломки самолёта. Вы сказали, что поговорите со Следственным комитетом. Хотел бы спросить, что они ответили? Мы знаем, что они отвечают, что следствие продолжается. Но уже почти, к сожалению, семь лет прошло от трагедии. Возможно, все исследования, экспертизы проведены, значит, остаётся только политическое решение, чтобы отдать обломки. Может быть, стоит об этом задуматься? Это, конечно, только в Ваших руках.
И второй момент. В последнее время часто говорят, что Польша отдаляется от Евросоюза. Похожие тенденции и в других странах Европы. С точки зрения России, с Вашей точки зрения, слабая Европа удобнее для России, выгоднее для России? Россия использует все эти распри, которые появляются, конфликты, проблемы внутри Евросоюза в свою пользу или это не так?
В.Путин: Начну с первого вопроса. Действительно, Следственный комитет проводит расследование, и до тех пор, пока оно не закончено, остатки самолёта им нужны. Это первое.
Второе, что касается сути. Слушайте, надо прекратить всякие спекуляции на этот счёт. Трагедия произошла страшная. Я лично читал переговоры пилота и человека из охраны погибшего Президента, который зашёл в кабину. Я лично читал расшифровку. Вошедший в кабину пилотов человек (забыл, как его фамилия, фамилия есть конкретная) требует посадки. Пилот отвечает: «Не могу, садиться нельзя». На что вошедший в кабину человек из окружения Президента говорит: «Я не могу это доложить начальнику. Делай что хочешь, садись».
Послушайте, всё же ясно. Чего спекулировать? Трагедия страшная. Мы сделали всё, чтобы расследовать это. Не надо использовать это для какого-то нагнетания в межгосударственных отношениях, вот и всё. Там и так всё понятно. Если что-то ещё непонятно, пускай следственные органы доразбираются.
Теперь что касается слабости и силы Европы, в чём она должна заключаться и как мы к этому относимся. Безусловно, мы хотим, чтобы у нас был надёжный, сильный и, что немаловажно, самостоятельный партнёр. Если нам в решении вопросов, связанных со строительством наших отношений между Европой и Россией, нужно обращаться в третьи страны или в третью страну, то тогда с самой Европой неинтересно разговаривать.
Кто-то из недавних европейских политических деятелей сказал, что все европейские страны – это малые государства, но только не все ещё это поняли. Кстати, я не согласен с этим, потому что в Европе есть великие государства. Сейчас не буду перечислять, чтобы кто-то не оказался в этом списке. Мы к ним так и относимся. Как должна Европа строить отношения внутри себя – это не наше дело.
Существуют две позиции, вы это знаете лучше, чем я: Европа суверенитетов, Европа независимых государств с какой-то небольшой общей надстройкой или квазифедеративное государство. На сегодняшний день, я уже об этом говорил, количество обязательных для исполнения в странах Евросоюза решений Европарламентом принимается больше, чем обязательных для исполнения решений Верховным Советом СССР в отношении союзных республик. Централизация довольно большая. Идёт это на пользу Европе или не идёт, я не знаю, это не нам, это вам решать.
То, что существуют разногласия, связанные с миграционными потоками, с какими-то другими вещами, – это тоже европейцы сами должны определить. Конечно, тем странам Европы, которые возражают против сегодняшней миграционной политики, небезразлична степень своего участия в принятии решений, им не нравится, что кто-то сверху навязывает решения, которые они считают для себя неприемлемыми. Такие страны, как Польша, Венгрия, должны решать эти вопросы в дискуссии не с нами, конечно, они с нами и не дискутируют, они с Брюсселем дискутируют, со столицами европейских стран.
Но как бы ни строились отношения внутри Европы, мы заинтересованы в развитии отношений с Европой, мы будем к этому стремиться. И, конечно, хотелось бы, чтобы Европа говорила одним голосом, чтобы был партнёр, с которым можно говорить, – вот для нас что важно. Но если это будет не так, мы будем искать возможности говорить на межнациональном уровне, то есть в государственном измерении, с каждым из партнёров в Европе. Хотя сегодня на практике так и строится, часть вопросов мы решаем с Еврокомиссией, часть вопросов решаем на национальном уровне с европейскими странами. В принципе, нас это устраивает. Внутреннее строительство Европы – это не наш вопрос.
И.Линарт: Добрый день! Илона Линарт, МТРК «Мир». Спасибо Вам большое за слово.
Так как мы – канал всех стран СНГ, то для нас очень актуальна тема Евразийского экономического союза. И здесь наметился один парадокс. Для одних стран-участниц это выгодно, для других – невыгодно.
Например, Армения сумела нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции. А в Кыргызстане ситуация ровно противоположная, там большинство фермеров – банкроты. Как Вы прокомментируете данный феномен?
И ещё один к Вам вопрос у нас дополнительный, возвращаемся уже в Россию. Вы наверняка помните ситуацию с хабаровскими живодёрками, которая произошла осенью и шокировала всю страну. У нас в России есть уполномоченный по правам человека, уполномоченный по правам ребёнка, уполномоченный по защите прав бизнесменов. Может быть, действительно, стоит подумать о создании должности уполномоченного по правам животных и как-то определиться с законодательной базой? Спасибо большое.
В.Путин: По правам животных – это, конечно, звучит красиво, но всё-таки у владельцев собак, у владельцев животных – у них есть права. А гуманитарные вопросы, связанные с человеческим, а не скотским отношением к животным, – это несколько другая область регулирования, хотя она должна быть, безусловно.
И вы знаете, сейчас есть предложения по поводу ужесточения некоторых законодательных норм и вообще нормативного регулирования. Я бы их поддержал, всё, конечно, должно быть в рамках разумного, но регулирование, конечно, должно быть, безусловно.
Теперь первая часть вопроса. На мой взгляд, всем странам Евразийского экономического союза выгодно то, что мы делаем в плане интеграции на пространстве этих государств. Кстати говоря, и Кыргызстан: там есть свои сложности, связанные прежде всего с взаимоотношениями с Казахстаном, с Россией в области фитосанитарных норм, вот в чём дело, но в целом объёмы продаж киргизских товаров на российском рынке увеличиваются. Так же, как увеличиваются подчас очень сильно, я сейчас не буду приводить конкретные отрасли, но там в разы даже, проценты очень большие увеличения, – скажем, продажи белорусских товаров на российском рынке. Поэтому в целом это чрезвычайно важный, нужный и полезный процесс для всех стран – участниц этого союза.
По сельскому хозяйству действительно есть проблема, связанная с необходимостью соблюдения фитосанитарных норм. И есть пока нерешённые вопросы с организацией этой работы в Кыргызстане. Мы со своей стороны оказываем помощь нашим друзьям в Кыргызстане для того, чтобы они создали современную систему фитосанитарного надзора.
Мы рассчитываем на то, что и наши казахстанские партнёры, друзья тоже окажут Кыргызстану необходимую помощь, поддержку, в том числе и финансовую, административную, профессиональную, для того чтобы и в Кыргызстане была создана такая же система санитарного надзора, с тем чтобы на наши рынки не поступало непроверенной продукции или опасной для употребления. Там есть дискуссии по этому вопросу, но есть и способы решения, причём сделать это можно достаточно быстро.
Д.Песков: Может быть, телеканал RT, который во всех смертных грехах обвиняют на Западе? Russia Today.
И.Петренко: Спасибо большое.
Владимир Владимирович, здравствуйте!
Мне бы хотелось в целом поговорить о демократии в контексте прошедших выборов в Америке. Американские политики, пожалуй, больше всех в мире любят говорить о демократии, демократия делает американский народ исключительным. Иногда они говорят, что демократии им не хватает в других странах в некоторых случаях, тогда им приходится делиться демократией. И после этих выборов те самые люди, которые гордо несли это знамя со словосочетанием «американская демократия», в том числе простые американские люди, вдруг стали говорить, что их предали из-за результатов этих демократических выборов в своей же стране.
Что происходит, что не так с демократией? Вообще, демократия в целом – это хорошо?
И если позволите, ещё один короткий вопрос, который меня лично по-человечески волнует. Недавно осудили, насколько Вы знаете, Оксану Севастиди, она была приговорена к семилетнему сроку за госизмену. Не считаете ли Вы, что всё-таки это слишком суровое наказание за ту самую эсэмэс, которую женщина написала, когда увидела поезд с военной техникой, движущийся в сторону Абхазии. Спасибо.
В.Путин: Что касается судебного решения, то мне сложно его комментировать, потому что судебная власть – независимая ветвь власти в России, так же как и во всех других цивилизованных странах. Но, на мой взгляд, действительно, это достаточно жёсткий подход. Я, честно говоря, не знаю деталей. Если она что-то написала в своих СМС-сообщениях, то она же написала то, что видела. Это все видели, значит, это не представляло из себя никакой большой тайны.
Честно говоря, я не очень понимаю, я постараюсь в этом разобраться, посмотреть на суть претензий, которые были к ней предъявлены в конечном итоге судебной инстанцией. Первое.
Второе – по поводу демократии. Да, есть проблемы, мы давно об этом говорим, но наши американские партнёры отмахивались от этого. Проблема прежде всего в архаичности избирательной системы Соединённых Штатов. Двухступенчатые выборы (не прямым тайным голосованием) – сначала выборщиков, а потом выборщики выбирают главу государства. Причём настроено таким образом, что за частью штатов сохраняются преференции.
Почему так сделано – это нужно спросить американских законодателей. Может быть, сделано, кстати говоря, специально для того, чтобы жителям отдельных штатов эти преференции были предоставлены и сохранены. Это дело американского народа, а не наше дело.
То, что правящая на сегодняшний день и ещё до 20 января, по-моему, партия, которая называется Демократической, явно позабыла первоначальный смысл этого названия, – это очевидная вещь. Особенно если учесть использование административного ресурса абсолютно беззастенчивое, да и призывы не подчиняться решению избирателей, призывы к выборщикам. Это плохо, я уже об этом сказал. Но рассчитываю, что, после того как все предвыборные страсти улягутся, американское общество – а это великая страна – сделает необходимые выводы и будет иметь это в виду при следующих избирательных кампаниях.
Дмитрий Сергеевич, давайте «Шахматы», что там про шахматы? Надо немножко разрядить обстановку.
Д.Поляков: Спасибо за возможность задать вопрос. Денис Поляков, Пермский край, город Кунгур, газета «Искра».
В ноябре все россияне переживали за Сергея Карякина, который в матче за мировую шахматную корону очень достойно сражался с норвежцем Магнусом Карлсеном, действующим чемпионом мира. И в одном из интервью после матча Сергей выразил надежду, что такое внимание к шахматам и поддержка будет не только во время крупных спортивных событий, но и в повседневной жизни, что будут детско-юношеские шахматы поддерживаться, турнир «Белая ладья» получит новый импульс.
Хотелось бы задать вопрос. Допустим, у нас в Прикамье этой поддержки шахмат не видно, и в Кунгуре. У нас есть очень хороший шахматный тренер Александр Летов, но, когда он предлагает в школах ввести кружок шахмат, ему говорят, что по внеурочной деятельности есть другие приоритеты: ИЗО, танцы и так далее. И, наверное, такие же Летовы есть и на других территориях.
Вопрос следующий: Владимир Владимирович, как будут шахматы развиваться у нас в стране в обозримой перспективе? И будет ли как-то во внеурочной деятельности в сторону шахмат зелёный свет дан? Спасибо большое.
В.Путин: Прежде всего, я не считаю себя вправе вмешиваться в решения муниципальных и даже региональных властей по таким вопросам – что нужно добавить в школьную программу, а что нужно оттуда изъять. Это очень тонкая сфера: нужны ли там шахматы или нет в обязательное или даже в дополнительное время. Это должны всё-таки определять на месте, и здесь компетенция даже часто школ, а не муниципалитетов.
Но, безусловно, мы можем гордиться своей шахматной школой. Мы хорошо знаем выдающихся шахматистов России – Алёхина и так далее, современных наших выдающихся шахматистов. Мы гордимся нашими шахматистами и нашей шахматной школой. Вы знаете, что мы специально создали направление в центре для одарённых детей «Сириус» в Сочи, где эти занятия организованы на соответствующем уровне. Но, конечно, этого недостаточно. Нужно, чтобы шахматы развивались по всей стране. Очень рассчитываю, что и у вас в Перми тоже на это будут обращать внимание и поддержат и тренера, которого Вы сейчас назвали, и всех, кто любит шахматы.
А Карякин действительно играл здорово, просто молодец. Магнус очень хороший, выдающийся гроссмейстер нашего времени. Наш шахматист достойно очень представлял Россию, нашу шахматную школу, он боец. И я уверен, его победы ещё впереди.
Н.Долгачёв: Николай Долгачёв, телекомпания «Калининград», подразделение ВГТРК.
Я ещё участник общественного совета по строительству моста в Крыму, перекликаясь с товарищем, с коллегой, который задавал вопрос и называл мост керченским. Дело в том, что официального названия-то всё равно ещё нет, его называют «крымский», у нас информационный центр «Крымский мост», называют «керченский», говорят «русский мост», говорят мост «Крым наш» – много разных названий. Поэтому первый вопрос: всё-таки какое из этих названий Вам ближе и какое бы Вы, например, предложили?
И важный момент. Мост простроят в исторической перспективе очень быстро. Что будет следующим таким суперпроектом? Не Калининград ли, что-нибудь такое мощное?
Спасибо.
В.Путин: Название моста – я уже сказал: как люди назовут, пускай так и будет, можно даже провести какой-то опрос, референдум. Важно, чтобы он был, а как его назвать, это дело важное, но всё-таки второе. Прижилось уже какое-то название, прижилось название «Керченский мост», пусть так и будет.
В Калининграде свои вопросы, которые подлежат решению в первую очередь. Это вопрос энергетической независимости, самодостаточности. Это очень важный вопрос, связанный со строительством наших отношений, в том числе с Европейским союзом. В Европейском союзе принято решение о том, что страны Прибалтики должны войти в их энергетическое кольцо. Это создаёт для нас проблемы с энергоснабжением Калининграда, требует от нас дополнительных финансовых ресурсов, для того чтобы выстроить новое кольцо и включить Калининград в это кольцо.
Я, честно говоря, не понимаю, зачем это делается, имея в виду, что и так никаких проблем ведь нет в энергоснабжении стран Прибалтики. Всё работает, работает хорошо. Нам всё время наши европейские партнёры говорят о том, что нужно сближаться, нужно искать области для сближения, а здесь, наоборот, без всяких видимых причин разрывают отношения, в данном случае в очень чувствительной и важной энергетической сфере.
Но мы решим проблему устойчивого и независимого энергоснабжения Калининграда. Вы знаете, что планируются поставки сжиженного природного газа, строительство соответствующих электростанций. Не исключено использование малых ядерных электростанций, которые производятся в России. Это один из ключевых вопросов развития Калининграда для создания и энергетического задела с точки зрения роста экономики.
Второй вопрос – это дорожное строительство и вообще инфраструктура. Там много текущих проблем, которые подлежат решению.
Две из них я назвал. Есть и другие. Самое главное, что мы должны обеспечить, – это безусловное использование возможностей Калининграда, выдвинутого максимально близко к нашим европейским партнёрам, невыпадение его из общего экономического контекста в плане тех преференций, которые Калининград имеет в сфере экономики, имея в виду в недавнем прошлом льготы режима свободной зоны и то, что сейчас пришло на замену этим льготам, имея в виду поддержку из федерального бюджета. Нужно всё это синхронизировать, с тем чтобы Калининград развивался на естественной базе, не подрывая промышленного производства и решения социальных вопросов.
Кстати говоря, по Крыму. Одна из проблем Крыма – это энергоснабжение. Хочу вас проинформировать, что «Черноморнефтегаз» закончил работу по присоединению крымской газотранспортной системы к магистральным газопроводам Российской Федерации. В ближайшие два-три дня мы объявим о том, что работы завершены и началась подача российского газа в Крым.
Это означает, что уже сегодня, кстати, на пике нагрузок, особенно зимой, Крым потребляет 1200–1300 мегаватт. 800 мегаватт из них раньше обеспечивалось подачей электроэнергии из Украины. Сегодня мощность составляет где-то 1000–1100, плюс мы добавили туда переносные, передвижные электростанции. Получилось где-то как раз под 1300. После того как газ придёт, а он придёт туда, повторяю, уже в течение ближайших двух-трёх дней, российский газ большой, после этого начнётся строительство двух электростанций в Крыму, обе мощностью по 470 мегаватт. Это будет означать, что общая генерация составит около 2 тысяч мегаватт – где 1900–1950. Если пиковое потребление 1100–1200, то, как мы видим, дополнительный задел для развития экономики Крыма составит примерно 800 мегаватт. Это очень серьёзный задел для развития экономики, производства, сельского хозяйства, рекреационной сферы, туризма, то есть строительства новых гостиниц, отелей, развития инфраструктуры и так далее. Это большое событие для Крыма. Надеюсь, мы крымчан порадуем в самое ближайшее время.
Д.Песков: «Кавказ сегодня», пожалуйста.
А.Айрапетян: Здравствуйте Владимир Владимирович!
Меня зовут Армине Айрапетян, «Кавказ сегодня», Северо-Кавказский федеральный округ, Пятигорск.
Вопрос следующий. Сейчас всё мировое сообщество борется с террором, в первую очередь с международной террористической организацией, которая называет себя «Исламским государством». К сожалению, многие в России, повторяя их самоназвание, так же называют их, в первую очередь в средствах массовой информации. Но мы все понимаем, что террор не имеет никакого отношения ни к исламу, ни тем более к государственности. Как Вы считаете, не было бы логичным и правильным запретить хотя бы в средствах массовой информации употреблять словосочетание «Исламское государство»?
Спасибо.
В.Путин: А Вы работаете в каком издании?
А.Айрапетян: «Кавказ сегодня».
В.Путин: «Кавказ сегодня». Вам можно что-нибудь запретить? Мне кажется, что это просто абсолютно бесперспективно. Хотя я бы предпочитал, чтобы действительно всуе не употребляли ислам рядом с террором. Здесь Вы правы.
А.Айрапетян: Спасибо.
В.Путин: «Ямал» – давайте всё-таки северян не будем обижать.
Л.Горохова: Здравствуйте!
Лилия Горохова, «Север-пресс», Салехард, Ямал.
Владимир Владимирович, Вы неоднократно бывали у нас на Ямале, Вы открывали в том числе и многие проекты. Давайте будем честными: Ямал ещё очень долго будет одним из основных драйверов российской экономики. У нас очень много проектов, но, к сожалению, у нас катастрофически не хватает дорог. Давно готов проект по строительству Северного широтного хода, подписано соглашение с РЖД. Вопрос к Вам как к самому осведомлённому человеку: когда строить начнём?
И если позволите, ещё один вопрос. Сейчас происходит изъятие налогов регионов-доноров в пользу менее успешных соседей. Конечно, помощь – это хорошо, мы всё это понимаем, иждивенчество – плохо. Вот как Вы считаете, такая помощь должна быть постоянной или всё-таки временной?
В.Путин: Вот Вы только что сказали о необходимости осуществления проекта «Северный широтный ход». Как Вы думаете, вы в состоянии всё это сделать сами? Нет. Значит, вам тоже нужна помощь, правда? Поэтому практика Минфина, которая называется «выравнивание доходов различных регионов», является правильной. И если какой-то из регионов получает сверхдоходы, исходя из наличия в этом регионе природных ресурсов, то мы должны помнить, что это общенациональные природные ресурсы. И все граждане Российской Федерации, где бы они ни проживали, должны пользоваться одинаковыми правами, а это можно обеспечить, только добиваясь соответствующих доходов региональных бюджетов. И на сегодняшний день перераспределение, для того чтобы подтолкнуть развитие, необходимо.
Но Вы правы, безусловно, в том, что это не должно вести к иждивенчеству. Нужно подталкивать, поощрять регионы к увеличению собственных доходных источников. Я сейчас не буду углубляться, здесь можно много на этот счёт говорить, но это нужно делать. И повторяю, не вдаваясь в детали, мы стараемся и будем продолжать это делать.
Что касается конкретного проекта, о котором Вы сказали, и вопроса, который Вы задали, – когда это будет осуществлено. Это будет осуществлено сразу же, как только будет признано экономически целесообразным, когда станет понятно, что этот проект будет генерировать прибыль. В целом мы очень близки к тому, чтобы его осуществить. Это хороший, очень нужный для экономики страны проект, потому что он будет диверсифицировать нашу транспортную систему, он будет разгружать Транссиб, будет давать возможность грузить на ямальский порт, который сейчас строится, Сабетта. Много возникает возможностей.
Порт в принципе уже функционирует, сейчас там будет одно из крупнейших предприятий создано. Этот проект эффективно развивается. Я имею в виду «Ямал СПГ». Это вообще, наверное, один из самых крупных инвестиционных проектов в мире сейчас. Удивительно, что НОВАТЭК с его европейскими и китайскими партнёрами – уже и другие представлены партнёры, японцы есть – удаётся в таких условиях и в такие сжатые сроки двигаться по реализации этого крупномасштабного плана. Я хочу только за них порадоваться и пожелать, чтобы они всё довели до конца, несмотря на все проблемы, которые им пытаются создать. Зачем? Непонятно. Надеюсь, что здравый смысл восторжествует, и этих проблем не будет. Но для меня уже ясно, что проект будет реализован.
По мере реализации крупных проектов по производственной части будет расти и необходимость инфраструктурного обеспечения. Мы, уверен, доберёмся и до этого. И чем раньше, честно говоря, тем лучше.
Давайте Ближний Восток. Так красиво молодой человек одет, невозможно пройти мимо.
Вопрос: Добрый день, уважаемый господин Президент, Владимир Владимирович!
Хошави Мухаммад, телеканал «Курдистан 24».
У меня вопрос к Вам. Как известно, курды играли большую роль в борьбе с международным терроризмом, и Россия сегодня играет важную и большую роль в мире и именно на Ближнем Востоке. Какова позиция России относительно того, что курды Иракского Курдистана уже стали на путь независимости?
Спасибо.
В.Путин: У нас в России всегда были добрые, особые отношения с курдским народом. У курдского народа своя очень сложная судьба. Мы видим, что происходит сейчас в регионе Ближнего Востока. Могу подтвердить и констатировать, что курдские боевые подразделения ведут себя в борьбе с международным терроризмом очень мужественно и воюют эффективно.
Что касается вопросов, связанных с суверенитетом, независимостью тех или иных частей, того или иного государства, исхожу из того, что мы все будем действовать в рамках международного права, и в конечном итоге законные права курдского народа будут обеспечены. Но в каких формах и как это будет сделано – это зависит от Ирака и от самого курдского народа.
Мы до сих пор были в контакте, остаёмся в контакте и будем в контакте и с Багдадом, и Эрбилем. Но вмешиваться во внутренние иракские процессы мы не собираемся.
Т.Меликян: Здравствуйте!
Татьяна Меликян, Lenta.ru.
Спасибо большое за эту возможность.
Сегодня уже промелькнуло один раз слово «патриотизм», которое в этом году очень час употребляется и, в общем-то, уже начинает терять своё значение. Хотелось бы узнать, на Ваш взгляд, не перегибает ли государство палку, поддерживая патриотические движения? Потому что этой осенью развернулась целая общественная дискуссия в связи с вынужденным закрытием фотовыставки в Москве, с вынужденным отказом от постановки рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» в Омске. Опасна подмена понятий, когда хулиганство может называться патриотическим поступком или борьбой за духовность. Хотелось бы узнать Ваше мнение: стоит ли делить хулиганов на «своих», потому что они патриоты, и «не своих»?
И ещё один момент, Владимир Владимирович. Говорили про хабаровских живодёров. Ведь вопрос в том, что это лишь маленький эпизод огромной, большой и страшной картины, которая происходит в России. Вы сказали про права владельцев животных, но есть животные, у которых нет владельцев, и, собственно, на них распространяется это живодёрство и садизм. Может быть, в следующем году как-то в этой сфере будет наведён порядок? Как изымать этих животных из городской среды, как устраивать им приюты? Ведь это же самый главный вопрос.
И большая просьба: ужесточите наказание за живодёрство, потому что это единственный стоп-кран.
В.Путин: Я же этим и закончил. Когда я говорил о правах владельцев животных, я сказал, что в целом мы должны исходить из принципа гуманизма в отношении с животными, в том числе и бездомными животными. Конечно, мы должны решать это цивилизованным образом, потому что знаем, допустим, о нападениях диких собак, в том числе на детей. Местные власти не могут делать вид, что это их не касается. Но решать эти проблемы нужно цивилизованными способами. Их много, я сейчас не буду об этом говорить, но они существуют.
Теперь что касается патриотизма. Будет ли государство поддерживать? Конечно, будет. У нас нет никакого другого и не может быть никакого другого объединяющего начала.
Стоит ли делить хулиганов на «своих» и «чужих»? Не стоит. Хулиганы, они и есть хулиганы. И нужно отличать здравый смысл от всякой «пены», которая возникает на этой волне. Но не нужно всё-таки нам питаться и какими-то информационными фобиями. Выставка эта, конечно, если бы её кто-то не уничтожал, – наверное, на неё внимание не обратили бы. Хотя, с другой стороны, автора этой выставки – все знают об этом или не все, может быть, знают – пытались привлекать к уголовной ответственности в Соединённых Штатах, но он решил, что у нас можно делать то, что в Соединённых Штатах непозволительно. То, что реакция была такая, мягко говоря, далеко не цивилизованная, наверное, это плохо. Здесь органы власти должны какие-то принимать решения, но и в самом сообществе тоже должны быть внутренние самоограничения, мы об этом совсем недавно в Петербурге говорили на Совете по культуре.
Люди культурные мне тоже вопрос задавали по поводу запрета оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Не надо фобиями питаться, не надо питаться ложной информацией. В Омске, по-моему, не состоялся этот спектакль? Год до этого – состоялся в Омске, было много народу. А сейчас, когда начали продавать билеты, два месяца продавали, продали 46 билетов, поэтому устроители этого спектакля отказались сами добровольно от того, чтобы его проводить. Вот и всё, никто ничего не запрещал.
Вообще, в современном мире запретить ничего невозможно. Мы не пойдём по этому пути. А то, что эта сфера очень тонкая и здесь нам нужен постоянный диалог с обществом, это совершенно точно, здесь я Вами согласен.
О.Паутова: Ольга Паутова, «Первый канал».
Владимир Владимирович, в нашей стране сейчас работает всего три детских хосписа. Первый московский хоспис строится уже несколько лет. Благодаря этому месту смертельно больные дети не будут лежать в реанимации один на один с болезнью, не будут мучиться от боли дома, они смогут быть там, где от этой боли их избавят, где рядом всегда будет мама, где они смогут играть, смогут гулять, где они смогут не доживать, а жить. Но стройка идёт со скрипом. Мы часто её показываем на нашем канале. Она идёт только на деньги благотворителей. Их постоянно не хватает, они заканчиваются. Но у семей с паллиативными детьми нет времени ждать. Может быть, государству уже пора вмешаться в это и помочь довести эту стройку до конца? Ведь речь идёт о детях.
В.Путин: Может быть. Но она, как Вы сказали, начата была благотворителями. Очень чувствительная, такая тонкая сфера, и Вы знаете, мы всегда поддерживаем эти начинания. Совсем недавно я вручал государственную награду одному из священников, который сделал это целью своей жизни и работает по этому направлению активно. И государство тоже работает. Но если благотворители берутся за что-то, они должны знать, чем они закончат. И это очень важно. В любой сфере так. Если ты за что-то взялся, «взялся за гуж, не говори, что не дюж». Так у нас в России говорят, правда? И потом не оборачивайся и не апеллируй к тем, кто напрямую не связан с данным конкретным случаем.
По большому счёту, конечно, нужно обратить на это больше внимания. Я очень рассчитываю, что, после того как мы с Вами поговорим, и Ваши коллеги, и Вы, собственно говоря, «Первый канал», дадите это в эфир, городские власти обратят на это внимание, так же как и в других субъектах Российской Федерации.
В.Путин: Вот там табличка «Остановите ювенальную юстицию», что Вы имеете в виду? Пожалуйста.
Э.Жгутова: Добрый день! РИА «Иван Чай».
Уважаемые коллеги! Уважаемый Владимир Владимирович! 9 февраля 2013 года Вы посетили собрание родительской общественности в Колонном зале. Сделали заявление, в котором сказали, что без широкого обсуждения так называемая ювенальная юстиция западного образца не будет установлена у нас в России. На сегодняшний день могу Вам сказать, я являюсь ещё и руководителем правозащитного центра, что ювенальная юстиция у нас в стране существует почти такая же, как и в Скандинавии.
В июле месяце была принята поправка, Вы просили декриминализировать 116-ю статью, и Ваше указание было выполнено достаточно странным образом. Была введена дискриминационная с точки зрения Конституции норма – «близкие лица», и в отношении них побои квалифицируются теперь по-другому, то есть если отец шлёпнул ребёнка за дело, как воспитательная мера, достаточно традиционная, русская, то он может получить на сегодняшний день два года тюрьмы, а если это сделает сосед, то он может отделаться просто административным штрафом.
Тогда, когда Вы пришли к нам на собрание, мы собрали 180 тысяч подписей против ювенальной юстиции. На сегодняшний день нам собрано 213 тысяч подписей с просьбой остановить ювенальные технологии в нашей стране, то есть изъятие детей из семьи за бедность, неправомерное вмешательство в семью. И каждое это письмо содержит просьбу о встрече с этим же родительским сообществом. Сейчас за моей спиной стоят эти родители, это родительская общественность, и просят Вас о встрече.
В.Путин: Смотрите, детей-то лучше не шлёпать и не ссылаться при этом на какие-то традиции. Ни родителям, ни тем более соседям, хотя такое, конечно, в практике иногда бывает. От этих шлепков до избиений… Дети зависят от взрослых полностью, это самая зависимая часть общества в любой стране. Существует много других способов воспитания, без всяких шлепков.
Но, конечно, здесь тоже сходить с ума нельзя, невозможно, это вредно, в конце концов, это семью разрушает. И поэтому я, так же как и Вы, на самом деле против совершенно перекошенных стандартов ювенальной юстиции и, откровенно говоря, полагал, что моё поручение исполнено. Совсем недавно мне об этом докладывал Председатель Государственной Думы, о том, что приняты соответствующие поправки. Давайте вернёмся к этому ещё раз, я Вам обещаю внимательно это всё посмотреть, проанализировать. Бесцеремонное вмешательство в семью недопустимо. А что там внутри, давайте к этому ещё раз вернёмся. (Аплодисменты.)
Д.Песков: Александр Гамов, «Комсомольская правда», просит задать вопрос.
А.Гамов: Радио «Комсомольская правда», сайт kp.ru и собственно газета «Комсомольская правда».
У меня вопрос довольно острый, поэтому я надеюсь на очень откровенный, как всегда, ответ. Вы, Владимир Владимирович, расставляете на постах глав регионов людей из своего ближайшего окружения. Я специально с некоторыми из них познакомился, в «Комсомолке» были интервью с Алексеем Дюминым, Герой России, генерал-лейтенант, с Дмитрием Юрьевичем Мироновым, исполняющим обязанности. Алексей Дюмин – это Тульская область, уже губернатор. Дмитрий Юрьевич Миронов – это Ярославская область, исполняющий обязанности губернатора.
И мне показалось, что это продолжение той традиции, которую Вы начали, по-моему, где-то лет восемь назад, когда назначили человека со стороны главой Ингушетии, Юнус-Бека Евкурова, который тоже генерал-майор, Герой России, и, как я понял, он оправдывает доверие Президента. Познакомился я и с самым молодым губернатором, исполняющим обязанности губернатора Калининградской области, – это Антон Андреевич Алиханов, которому 30 лет. И вот я думаю: Вы специально это делаете, так расставляете кадры? И сохранится ли такая практика и тактика Президента при формировании губернаторского корпуса в дальнейшем? Вообще, чем это вызвано? Вы не доверяете местному губернаторскому корпусу в связи с известными «посадками», скажем так?
И наконец, коллеги не дадут соврать, обсуждается и в СМИ, и у нас в «Комсомолке», что якобы Владимир Владимирович Путин их «обкатывает», и Алексея Геннадьевича, и Дмитрия Юрьевича. Так ли это? Для чего Вы их «обкатываете», Владимир Владимирович? Для каких-то далеко идущих целей? И каковы Ваши цели?
Спасибо большое.
В.Путин: Цели – благо России. А как этого достичь? Экономикой надо заниматься, социальной сферой, обеспечением обороноспособности и безопасности. И для этого нужны, конечно, подходящие люди.
У нас сколько субъектов Российской Федерации? 85. А сколько человек Вы назвали сейчас? Троих. И что, они такую существенную роль сыграли или играют во всём губернаторском корпусе? Кто был избран с подачи Президента в тех или иных субъектах Федерации – давайте посмотрим, что там происходит. И вот ответ на вопрос: доверяем мы местным, так называемым, кадрам или нет. Конечно, доверяем. В подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации работают люди – выходцы из этих регионов. Просто в абсолютном большинстве. Но есть и случаи, когда, что называется, элиту нужно обновлять, обновлять нужно кровь. Это совершенно очевидная вещь. И это, кстати говоря, востребовано гражданами региона, чтобы произошло определённое обновление региональных элит.
Вы назвали двух или трёх человек, но даже в последних изменениях их больше. А как же Гапликов, который был направлен в Коми? А как же назначение в Кировскую область? Все они достаточно молодые, эффективные. А новый руководитель Севастополя? Все они достаточно энергичные, молодые и, на мой взгляд, перспективные руководители, кстати говоря, хорошо себя зарекомендовавшие. Поэтому критерии отбора – личные и деловые качества, которые и дают основания полагать, что эти люди будут эффективно справляться с возложенными на них обязанностями. Я очень на это и рассчитываю.
По поводу того, какие есть виды на них. Это будет зависеть от них самих, от того, как будут граждане оценивать их работу. Дюмин проработал полгода, по-моему, в Тульской области, за него проголосовало 85 процентов граждан региона. Это хороший показатель, но этого недостаточно. Теперь нужно показать результаты в практической работе. То же самое касается и других моих коллег, начиная от Севастополя, Кировской области или Ярославля.
Я недавно разговаривал с легендарным человеком, с Терешковой, которая мне сказала: «Ой, как хорошо, большое Вам спасибо, что Вы нашли такого человека к нам в Ярославль». Значит, уже первые признаки того, что человек вписывается в те задачи, которые ему предстоит решить, есть. Слава богу, дай им бог успехов в работе на благо людей, проживающих в этих регионах.
С.Раубалль (как переведено): Задам вопрос на немецком языке.
Большое спасибо за возможность задать вопрос. Как Вы видите 2017 год в плане отношений с Западом, если мы подумаем о том, что будет новый старт в отношениях России и США? Сейчас, после теракта в Берлине, может быть, стоит подумать об улучшении отношений?
И второй вопрос. Вчера умер Евгений Джугашвили, внук Сталина, который боролся за его реабилитацию. В одном из интервью режиссёр Кирилл Серебренников говорил, что он боится реабилитации Сталина. Как Вы это рассматриваете? Можно ли как-то реабилитировать Иосифа Сталина за счёт его потомков?
В.Путин: Что касается строительства отношений между Россией и Европой, я уже отвечал Вашему польскому коллеге на это. Мы не были инициаторами ухудшения российско-европейских, в том числе российско-немецких отношений. Мы не вводили в отношении европейских стран, в том числе Германии, никаких санкций. Единственное, что мы сделали, – это ответили на рестрикции, введённые в отношении российской экономики. Но мы с удовольствием пойдём на все отмены, хотя российские сельхозпроизводители нас призывают этого не делать, в том случае, если наши партнёры, в том числе европейские партнёры, отменят антироссийские санкции.
Ведь что произошло? Давайте объективно посмотрим на то, что произошло, что привело нас к такому состоянию. Сначала наши американские и европейские друзья выступили гарантами соглашения между Президентом Януковичем и оппозицией, а на следующий день всё было нарушено, была захвачена власть. Вместо того чтобы осудить антиконституционный переворот и призвать к исполнению договора, под которым стоят подписи министров иностранных дел трёх европейских государств, Франции, Германии и Польши, поддержали этот антиконституционный переворот.
Это привело к тому, что граждане, проживавшие на территории Крыма, захотели воссоединиться с Россией, к утрате Крыма для Украины, привело к известным печальным, трагическим, кровавым событиям на Донбассе.
А что было положено в основу вот такого развития событий? Удивительно! В основе этой всей трагедии лежит невозможность согласования позиций по присоединению Украины к чему? К договору об ассоциации с Евросоюзом. Разве можно такие вопросы чисто экономического характера переводить в такую плоскость и доводить до таких трагедий?
Мы, что ли, были инициаторами этого развития событий? Да нет, конечно. Мы годами просили с нами согласовать определённые параметры этого соглашения. И господин Янукович в конечном итоге сказал: «Я хочу присоединиться к этому соглашению, но мне нужно только подумать над условиями присоединения, согласовать это дополнительно внутри своего правительства и поговорить с Россией, поскольку нас связывают очень близкие экономические отношения. Нам нужен российский рынок. У нас большой уровень кооперации». Ответ наших европейских партнёров: нет. Результат известен. Но разве так можно? Поэтому мы не считаем себя виноватыми в том, что всё это произошло. Не мы были инициаторами.
Кстати говоря, что дальше происходило и что происходит? После того как госпереворот совершили под предлогом присоединения к этому Договору об ассоциации, тут же отложили это присоединение. Прямо тут же. Сделали именно то, что Янукович предлагал сделать. Тянули там целый год или больше, потом написали, что приняли решение о ратификации, и, по сути, опять отложили. А что сейчас происходит? Прошёл референдум в Голландии, теперь Европа не хочет это имплементировать. Но, вообще, просто даже не знаю, как это квалифицировать.
Теперь мы говорим о безвизовом режиме для граждан Украины. Но и то под большим вопросом, а если будет, то в усечённом виде и поставит трудовых эмигрантов с Украины в Европе, совершенно очевидно, в совершенно неподобаемое положение. А не лучше ли было вот это всё делать вместе, спокойно, без рывков, договариваться о совместной работе?
На какое строительство отношений мы настроены между Россией и Европой? На совместное решение задач, которые перед нами стоят. Одна из них – это, безусловно, задача борьбы с террором.
Мы соболезнуем семьям погибших в Берлине людей и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Но я много раз об этом говорил, ещё на 70–летии Организации Объединённых Наций с трибуны выступал, сказал, что эффективно работать можно против этой угрозы, только объединяя усилия. Но как же мы можем объединять усилия, если в отношении нас ввели санкции, а мы ответные меры? Если по тому или другому направлению сотрудничества всё сворачивается? Если, допустим, британские коллеги совершенно свернули отношения с ФСБ? Ну как можно говорить об эффективной работе на антитеррористическом треке? Да никак! Результат – пропускаем удары, тяжёлые и чувствительные.
Очень надеюсь на то, что всё это будет восстановлено.
Д.Песков: Владимир Владимирович, а можно мы дадим слово Андрею Колесникову из «Коммерсанта»? Он тоже хочет задать вопрос.
В.Путин: Да. Он тоже из пула.
А.Колесников: Андрей Колесников, газета «Коммерсант».
Владимир Владимирович, как бы Вы ответили на вопрос: почему Вы обязательно должны в 2018 году снова стать Президентом России? И как бы Вы ответили на вопрос: почему Вы не должны стать Президентом России ни в коем случае?
Спасибо.
В.Путин: Он провокатор какой-то.
А.Колесников: Как обычно.
В.Путин: Всё время этим занимается.
Это покушение с негодными средствами. Ответ будет стандартным. Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире. И исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моём или неучастии в будущих выборах Президента Российской Федерации.
В.Килина: Добрый день!
Килина Вероника, «Накануне.ру».
Владимир Владимирович, Вам наверняка известно о той резонансной ситуации, которая происходит вокруг «Ельцин-центра» в Екатеринбурге. Собственно, как Вы относитесь к дискуссии, которую завязал известный режиссер Никита Михалков? Я напомню, он раскритиковал «Ельцин-центр» за реабилитацию власовцев и искажение истории. Собственно, Вы согласны с позицией, что этого нельзя допускать? И как бы Вы ответили тем людям, которые негодуют по поводу того, что всё это делается на бюджетные деньги?
Спасибо.
В.Путин: Вы знаете, я встречался и с Никитой Сергеевичем Михалковым, я встречался с Валентином Юмашевым и с Татьяной Дьяченко, мы говорили на эту тему. Наверное, есть вопросы, которые требуют серьёзного дополнительного, скажем, внимательного подхода к ним. Связаны они прежде всего с подачей информации об истории России не только за новейшее время, начало перестройки и до сегодняшнего дня, но имеется в виду история в целом, по большому счёту. И со мной коллеги согласились, что, наверное, есть необходимость какие-то вещи более точно подать.
Но в целом вы знаете я против чего? Против того, чтобы бесконечно обострять эти вопросы. В том, что дискуссия разворачивается, ничего особенного нет, это нормальное явление. Кому-то нравится, кто-то у нас придерживается более либеральных взглядов на происходящие события и на перспективы развития, кто-то более консервативных, традиционных. У нас всегда же были почвенники и западники. Кто-то считает себя почвенником. Но в условиях, когда мы сейчас вспоминаем события 1917 года, когда мы в следующем году будем отмечать столетие революционных событий, в 2017 году, мы должны вести дело к примирению, к сближению, а не к разрыву, не к нагнетанию страстей. Вот так бы я и ответил на Ваш вопрос.
М.Румянцев: Максим Румянцев, Центр свободной журналистики, Екатеринбург.
Владимир Владимирович, тему экологии поддержу.
«Росатом» ведёт строительство объектов стратегической направленности, включённых в федеральную целевую программу. Сегодня по России действуют такие экологические ячейки сродни ИГИЛ, только они устраивают промышленный террор на фоне борьбы с экологией. Люди к экологии не имеют вообще никакого отношения, ряд организаций признаны иностранными агентами.
Хотелось бы узнать, как Вы фильтруете обращения, которые идут постоянно в Администрацию Президента?
Идёт промышленный шантаж и мешает развиваться и «Росатому», и другим промышленным предприятиям. У нас в Уральском федеральном округе эта система манипуляций стала общественным, политическим мнением – это по Томинскому ГОКу. То есть одно из передовых предприятий, которое должно быть построено в Челябинской области, – туда сегодня направлены и иностранные агенты, и эти НКО, и в том числе экологические организации.
И последнее: просто попрошу за село Серебрянка в Свердловской области, которое было блокировано в прошлом году от внешнего мира полностью. При мне старики получали продукты в долг: деньги – в Тагиле, село от Тагила в 70 километрах, доехать туда было невозможно. Пообещали дорогу построить в 2018 году, а всё это время людям как жить? Особенно в распутицу, осенне-весенний период.
Спасибо.
В.Путин: Что касается последнего Вашего замечания, то, конечно, обращу на это внимание губернатора, а он, надеюсь, отреагирует – совместно с местными властями.
Конечно, это абсолютно недопустимо. Такие вещи, к сожалению, бывают, и не так уж редко, по стране. Очень жаль, что местное руководство, в том числе и региональное руководство, самоустраняется от решения подобных вопросов. Люди, где бы они ни жили, не должны чувствовать себя в отрыве от общей жизни страны и уж точно совершенно должны пользоваться хотя бы элементарными благами современной цивилизации.
Что касается экологических организаций и как мы селектируем тех, кто искренне заботится о сохранении природы, от тех, кто хочет на этом заработать.
Вы знаете, дело даже не в иностранных агентах, хотя экологические организации иногда используются нашими конкурентами для того, чтобы «притопить» растущий сегмент, так скажем, инфраструктуры российской либо генерации, как в вашем случае, и так далее.
Очень хорошо помню, как иностранные правительства «заряжали» некоторые экологические организации при строительстве некоторых объектов морской и портовой инфраструктуры. Мы достоверно знали, сколько денег направлено на срыв тех или иных проектов. Они сегодня работают, слава богу. Но это не значит, что мы не должны обращать внимание на проблемы экологии. И применительно к «Росатому», конечно, может быть, в первую очередь.
Но «Росатом» – одна из ведущих мировых компаний, её современные технологии постфукусимского периода признаны и МАГАТЭ, и международными экспертами как самые безопасные в мире. Это абсолютно очевидная вещь. У нас учтено всё, что происходило и в Советском Союзе, все катастрофы, и в мире в этой сфере. Созданы реально безопасные технологии, но от злоупотреблений вопросами экологии никто не гарантирован.
Очень хорошо помню разговор с одним из своих иностранных друзей, к которому явился его многолетний приятель, работающий в международной экологической организации, и сказал: «С вас 30 миллионов долларов, евро. Лучше отдайте добровольно – и всё будет хорошо. Лучше согласитесь». Они провели совет директоров и приняли решение заплатить, заплатили. Такое бывает, мы знаем это, имеем в виду. Ответом может быть только что? Не отмахивание: к сожалению, и от них отмахиваться нельзя. Ответом может быть только глубокое профессиональное изучение вопроса с точки зрения экономической целесообразности и экологической безопасности.
Е.Винокурова: Владимир Владимирович, я понимаю, что немножко смешно выглядела, но у меня кроме вопроса к Вам будет просьба, где речь пойдёт о жизни и смерти людей реально. И надеюсь, это меня извиняет.
Меня зовут Екатерина Винокурова, я из издания Znak.com.
Сперва вопрос. Владимир Владимирович, я постоянно смотрю Ваши выступления, внимательно слушала Послание. Вы говорите очень добрые, хорошие вещи, с которыми невозможно не согласиться. Но ровно на следующий же день всё начинает идти ровно в противоположную сторону.
В.Путин: Всё? Так не может быть. Всё идёт, всё не идёт – это очень радикально.
Е.Винокурова: А я Вам примеры приведу.
В.Путин: Давайте.
Е.Винокурова: Например, прекрасные товарищи Вам кивали, когда Вы сказали в своём Послании о том, что недопустим агрессивный ответ и что хулиганов надо наказывать. У нас в Санкт-Петербурге моего коллегу, фотографа «Коммерсанта» Давида Френкеля избил человек из НОДа.
В.Путин: Откуда?
Е.Винокурова: НОД – «Национально-освободительное движение» Евгения Фёдорова, которое выступает вообще с открытыми агрессивными лозунгами, [призывами] к чисткам во власти и так далее.
Или, например, движение «Сорок сороков», которые говорят, что они православные, хотя на самом деле по взглядам они проповедуют то, после чего люди просто отворачиваются от православной церкви нашей. Они начали очень агрессивно защищать стройку храма, против которой в данном конкретном месте выступали местные жители, кстати, верующие. И они добились, оскорбляя жителей, только того, жители начали им отвечать, и они написали заявление об оскорблении чувств верующих. Хотя Вы неоднократно говорили о консолидации общества, о том, что наши скрепы – это не агрессия, а, как Вы сами только что сказали, примирение.
Или вот, например, Вы говорите в Послании, что мы чувствительны к несправедливости, к неправде, к эгоизму и очень остро это воспринимаем. Но, например, мы видим, что тот же самый великий Игорь Иванович Сечин… «Ведомости» узнали, что он начинает строить дом в Барвихе, а Игорь Иванович Сечин, вместо того чтобы строить дом поскромнее, потому что он всё-таки сотрудник госкорпорации в очень небогатой стране, подаёт в суд на газету «Ведомости», требует уничтожать тираж.
И ещё один пример, последний (я уже заканчиваю). Вы на одной из пресс-конференций несколько лет назад сказали, что Вы за выборность мэров. Владимир Владимирович, Вы знаете, что по истечении полутора лет выборы мэра в крупных городах были отменены? Вопрос простой: Владимир Владимирович, Ваша элита открыто фактически бросает Вам вызов. Они Вам покивают, скажут, какой Вы великий, замечательный, чудесный, послушали – и все с ним…
В.Путин: Остановитесь, остановитесь. (Смех.)
Е.Винокурова: Так вот вопрос простой. Владимир Владимирович, почему Вы говорите одно, а на практике мы слишком часто видим другое? Это какой-то ползучий госпереворот?
И второе, просьба теперь. Владимир Владимирович, журналист РБК Александр Соколов, его больше полутора лет маринуют в СИЗО. Обвинение, то, что мы слышим сейчас на суде, это просто какой-то бред, оно совершенно непонятно. И мы не видим объективности ни силовиков, ни судей, ни надежды на правосудие.
Также есть случай. Евгения Чудновец, женщина, которая опубликовала «ВКонтакте» видео с издевательствами над мальчиком с призывом: правоохранительные органы, обратите внимание, пресеките. Её за это посадили и приговорили к реальному сроку лишения свободы. Владимир Владимирович, я Вас очень прошу, нам надо что-то делать с садистским уклоном нашего правосудия. Пожалуйста, мы должны спасти людей. Спасибо большое.
В.Путин: Насчёт обвинительного уклона в правосудии. Вы знаете, мы за последнее время приняли очень много решений, связанных с гуманизацией нашего законодательства. И это касается уголовного закона, это касается и административных правонарушений, и сейчас принимаются дополнительные меры. Это фундаментальные вещи, которые делаются нами сознательно, и мы эту работу продолжим.
В отношении того, что кто-то высказывает крайние взгляды либо действует радикально. У нас большая, сложная страна, Вы понимаете, одни радикально защищают либеральные ценности и выставки провокационные устраивают, и при этом говорят, что мы делаем их сознательно, чтобы побудить интерес к нашим действиям, к нашим произведениям. Здесь тоже мера должна быть, правда? Должна быть мера во всём. То же самое можно сказать и о так называемых ура-патриотах. Я сказал, что мы патриотические движения будем поддерживать, но извращать ничего нельзя. Вот эта мера должна быть выработана внутри самого общества.
В отношении конкретных лиц, о которых Вы сказали, я, честно говоря, ничего даже не слышал и фамилий этих не слышал. Я обещаю, я посмотрю, я просто не знаю, насколько там справедливые были решения.
Теперь в отношении строительства нашими представителями бизнеса, в том числе предприятий с госучастием, строительства вызывающих по внешнему виду объектов недвижимости. Я согласен с Вами, поскромнее надо быть, Вы правы. Я много раз об этом им говорил и надеюсь, что они услышат. Это касается и премий, это касается доходов. Даже если это в рамках закона возможно, нужно понимать, в какой стране мы живём, и не раздражать людей.
Теперь в отношении различных исков. Суд, в конце концов, определяет, справедливый иск или несправедливый. Если конкретное физическое лицо обратилось в суд за защитой своей деловой репутации, чести и достоинства, то суд определяет степень вины либо вообще отсутствие таковой. Насколько мне известен этот процесс, Сечин потребовал несколько миллиардов, что ли, от РБК. Суд согласился с тем, что он прав, но сумма, по-моему, там 360 тысяч, ничтожная на самом деле. На самом деле ничего страшного не произошло. Но дело в том, что ко мне часто приходят, скажем, деятели культуры, причём люди самых разных взглядов, и говорят о журналистском терроре в их отношении. Да, преследуют, хватают, детей терроризируют.
Я хочу обратиться к Вам и к Вашим коллегам, прошу вас тоже вести себя аккуратно, не вторгаться в личную, частную жизнь людей публичных, деятелей искусства, спортсменов, ещё кого-то. Нам всем нужно вырабатывать определённые правила, вырабатывать и придерживаться их на основе общего достаточно высокого культурного уровня в нашей стране.
Секундочку, вот там CCTV.
Вопрос: Здравствуйте, Владимир Владимирович!
Я хотела бы продолжить тему, выдвинутую коллегой из «Россия-24». Сейчас в мире складывается более сложная обстановка: в Европе – беженцы, террористические атаки, на Ближнем Востоке по-прежнему нестабильно, и сейчас в США новый президент. И на этом фоне какие новые подходы для решения глобальных и региональных проблем должны найти такие большие державы, как Россия и Китай, и как это повлияет на наши отношения? Спасибо.
В.Путин: Хорошо известно, что уровень отношений России и Китая очень высокий. Мы привыкли к такому словосочетанию, как «стратегическое партнёрство», но это больше, чем просто стратегическое партнёрство, – то, что сложилось между Россией и Китаем за последние годы. В экономическом плане Китай – самый крупный наш торгово-экономический партнёр в страновом измерении. Да, у нас есть небольшое снижение, связанное с объективными обстоятельствами (прежде всего со снижением цен на энергоносители), но мы диверсифицируем наши отношения, и, что меня особенно радует, объём товарооборота в высокотехнологичных областях, в сфере производства существенно растёт за последнее время.
У нас крупные проекты в сфере авиации, в сфере космоса хорошие перспективы, в энергетике, в том числе атомной энергетике. У нас очень хорошие начинания – и я надеюсь, что они будут осуществлены – в инфраструктурных проектах. Мы развиваем [взаимодействие] и дальше будем это делать, несмотря на сложности, которые здесь есть, сейчас не буду вдаваться, в переходе на обслуживание наших экономических связей в национальных валютах, тем более что юань будет теперь использоваться, уже используется Международным валютным фондом в качестве резервной валюты, с чем я наших китайских друзей и поздравляю. У нас общие позиции на международной арене по многим вопросам. И это, безусловно, уверен, будет являться очень серьёзным стабилизирующим элементом во всех международных делах. Мы дорожим нашими отношениями с Китаем и рассчитываем на их дальнейшее развитие.
Д.Песков: Было упомянуто РБК, может быть, мы РБК дадим возможность задать вопрос? Дайте, пожалуйста, микрофон.
Н.Галимова: Владимир Владимирович, Наталья Галимова, РБК.
Я, наверное, начну с того вопроса, который я думала задать последним, но поскольку коллега подняла вопрос об арестованном журналисте РБК… Вы говорите, что впервые слышите фамилию Александра Соколова.
В.Путин: Что он сделал? За что его арестовали?
Н.Галимова: Год назад в этом зале Вы обещали разобраться в его судьбе, он обвиняется в экстремизме, но ничего не произошло за это время, и сейчас его уже судят. Возможно, у Вас было много дел и не хватило времени, но всё-таки просьба, если можно, разобраться.
В.Путин: Вы знаете, извините, пожалуйста, что перебиваю. Наверняка после таких публичных вещей Администрация этим занималась, если дело дошло до суда, то значит, там не всё так просто. Но я посмотрю ещё раз.
Н.Галимова: Спасибо.
И ещё вопрос. Вы говорили сейчас об ответственности СМИ в связи с исками. С одной стороны, да, но есть другая сторона вопроса. Игорь Сечин очень активно судится со СМИ: «Новая газета», «Ведомости», РБК, журнал «Форбс». И всегда исход процессов был одинаков. Игорь Сечин процессы выигрывает, а суды, за редкими какими-то исключениями, в последнее время требуют, чтобы статьи, которые стали предметом его недовольства, были уничтожены с сайтов, или, что касается ситуации с «Ведомостями», например, чтобы был уничтожен тираж. Вы не считаете, что такие решения создают опасный прецедент, когда узаконивается уничтожение невыгодной для кого-то информации?
В.Путин: Вы сердитесь на Сечина, на суды или на недостоверность собственной информации? Знаете, нужно внимательно на всё это смотреть. Сечин, так же как и другие, которые в суды обращаются, они что должны делать для защиты своей чести, достоинства и деловой репутации? Должны приходить к вам с дубиной и драться, что ли? Они идут в суд, как в любом цивилизованном обществе. Насколько объективны эти решения, я, честно говоря, не знаю. Он обратился в суд к РБК и «завернул» 3 миллиарда, а суд принял решение выплатить ему 300 тысяч, для РБК – ничтожные 300 тысяч, я не думаю, что это серьёзно повлияет на финансово-хозяйственную деятельность самого холдинга. Но то, что, совсем неожиданно с другой стороны зайду, пресса пощипывает и чиновников, и представителей крупного бизнеса, в том числе с госучастием, в принципе это хорошо. Но только тоже в рамках…
Н.Галимова: А решение уничтожить публикации?
В.Путин: Честно говоря, не могу дать оценок. Если это правовое решение, в рамках закона, я не знаю, надо исполнять тогда.
Н.Галимова: Можно про налоги задать важный вопрос?
В.Путин: Пожалуйста, про налоги.
Н.Галимова: Вы в Послании давали поручение Правительству подготовить предложения по настройке налоговой системы на период после 2018 года. Как Вы сами видите налоговую систему после 2018 года? И как Вы отнесётесь к тому, если будут приняты решения или возникнут предложения повысить налоги на бизнес или на граждан?
Спасибо.
В.Путин: Знаете, мы в 2014 году приняли решение не повышать налогов на бизнес. Это и происходит. Несмотря на различные предложения самых разных ведомств сделать исключение, всё-таки в конечном итоге мы удержались от повышения налоговой нагрузки на бизнес. Более того, не только удержались от повышения налоговой нагрузки, но и ввели целый набор льготных режимов, скажем, для малого и среднего бизнеса.
Теперь мы говорим о том, чтобы самозанятых освободить от всяких уплат на определённый период времени, с тем чтобы они легализовались, вошли в нормальный рабочий ритм и чувствовали себя уверенно. Это большие, существенные шаги.
О тех же ТОРах мы говорим, о других налоговых режимах. Мы говорим об особом порядке налогообложения в сельском хозяйстве, где существуют две возможности сократить налоговые платежи, причём легально. Мы говорим о сокращении отчислений в социальные фонды для высокотехнологичного бизнеса, в том числе малого, что в конечном итоге явилось основанием для роста этого сектора российской экономики – IT-технологии. Этим мы всем занимались, занимались, я считаю, эффективно.
Действительно, в 2018 году это всё заканчивается. И мы должны сейчас спокойно, в рабочем режиме, на уровне Правительства, экспертов и бизнес-сообщества, в том числе, надеюсь, и с участием РБК, поскольку РБК специализируется именно на анализе того, что происходит в бизнес-среде (я иногда вижу ваши передачи, у вас очень хорошие эксперты работают), все вместе выработать план нашей работы в этой сфере на следующую четырёхлетку. И после обсуждения и окончательного принятия решения создадим устойчивую работу для бизнеса на следующие как минимум четыре года.
Д.Песков: Владимир Владимирович, ближе всего к камерам на галёрке я видел «Иркутск. Спирт». Это, наверное, про все трагедии, которые сейчас происходят.
Пожалуйста.
Д.Люстрицкий: Добрый день!
«Областная» газета, Иркутская область.
Действительно, на протяжении последней недели Иркутск так неожиданно и печально попал в топ новостей. В связи с этим два вопроса.
Сейчас Иркутская область оказалась в авангарде борьбы с незаконным оборотом алкоголя, вернее, алкогольсодержащих жидкостей непищевого назначения. Вчера Заместитель Председателя Правительства Хлопонин озвучил программу мероприятий, которые Правительство планирует осуществить в борьбе с этим оборотом. Причём приятно, что есть осознание, что это не Иркутская область такая одна плохая, а проблема как минимум на территории Сибири и Дальнего Востока общая, серьёзная. Предложено ввести акцизы на технический спирт.
Вопрос вот в чём. Причина не только в том, что есть нелегальный оборот, нет акцизов на технический спирт и нет технического контроля. Есть ещё гигантская проблема уровня алкоголизации населения в целом, потому что среди пострадавших граждан – не только социальное дно. Есть очень много малоимущих, которые не могут себе позволить покупать водку в магазине, поэтому они идут к бутлегерам, к нелегалам.
В связи с этим хочется спросить, во-первых, что Вы думаете о мерах, которые предлагает Правительство по обороту технического спирта и профилактике таких случаев? И планируются ли какие-то мероприятия по снижению алкоголизации населения, борьбе с алкоголизмом как социальным злом в целом?
Спасибо.
В.Путин: Во-первых, нужно сказать: то, что происходит в Иркутске, – это ужасная трагедия, просто нет слов, и страшное безобразие, поскольку контролирующие и прочие органы, которые должны были за этим следить, не предотвратили этой трагедии.
Теперь по поводу того, что там реально произошло. Ряд граждан, причём иностранного государства, организовали работу по производству препаратов для очистки ванн и использовали спирт, который не является ядом. Но один из деятелей этой группы решил отдельно заработать, и, я думаю, не понимая реально, что он делает, добыл (не буду здесь использовать моветон), раздобыл где-то технический спирт и использовал его.
Вопросы, связанные с повышением акцизов, и другие меры, которые Правительством предложены, считаю правильными, но запоздалыми, к сожалению. Надо было раньше это сделать.
Ссылки так называемого – в данном случае так называемого – мелкого бизнеса на то, что парфюмерные изделия подорожают, всякие моющие средства подражают, – мы должны признать после таких трагедий, что эти ссылки не являются достаточным основанием для того, чтобы этого не делать. Вы, наверное, знаете, что пару дней назад я дополнительные поручения Правительству дал – сейчас мы видим реакцию. Надеюсь, что всё это в комплексе даст нам необходимый результат по сохранению жизни и здоровья наших граждан.
Теперь по поводу алкоголизации. Да, действительно, это проблема. Кстати говоря, она, может быть, даже не больше, как это ни странно, чем в некоторых других странах, особенно в Северной Европе.
Здесь нужен комплекс мер, который должен осуществляться, – он осуществляется. Это не могут быть меры запретительного характера, хотя некоторые вопросы должны лежать и в этой сфере. Здесь плакатик есть: «А возле Кремля есть пивнушки?» Так вот, не знаю, как возле Кремля, но рядом со школами точно не должно быть, рядом с детскими учреждениями точно не должно быть и так далее. Такие решения в целом приняты, нельзя только, чтобы они размывались.
Нужно дальше продолжать напряжённую, многоплановую работу с алкоголизацией населения. Это и воспитательная [работа], это и работа средств массовой информации, о чём я вас очень прошу – поддержать нас в этой работе.
Это чрезвычайно важное направление нашей работы, от этого зависит и демография в значительной степени в нашей стране. В общем, это одно из ключевых направлений нашей с вами совместной работы.
Реплика: А про любовь можно вопрос?
В.Путин: Про любовь? Нам заканчивать надо уже.
Д.Песков: Уже более трёх с половиной часов.
В.Путин: А то любовь быстро в ненависть переходит, если мы с вами пересидим.
Грузия. Девушка поднимала плакат.
Не менее интересный вопрос, конечно, про квас – там поднимали плакат. (Смех.)
Д.Песков: Это прошлогодняя история.
В.Путин: Сейчас мы к этому вернёмся.
Пожалуйста.
Т.Гоциридзе: Тамара Гоциридзе, телекомпания «Маэстро».
В последнее время возобновились культурные и экономические отношения, и в принципе движение вперёд остановилось. Причины мы все знаем, Вы тоже знаете: это всё-таки те территориальные проблемы, которые существуют. Как Вы считаете, насколько есть перспектива политического диалога, или надолго сохранится статус-кво, который сейчас есть?
Если можно, вдобавок. Вы оценивали безвизовый въезд для граждан Украины в Евросоюз. Такой же режим будет действовать и для Грузии. Можно ли сказать, что Ваша оценка по поводу Украины также относится и к Грузии, потому что этот безвизовый въезд для граждан Грузии в Европу будет быстрее, чем для граждан Грузии в Россию? Спасибо.
В.Путин: Мудрёно Вы, конечно, завернули в конце. Я вообще сказал, что визовый режим в Европе – это анахронизм. И вне зависимости от того, речь идёт об Украине либо о Грузии, я считаю, что в отношении всех граждан безвизовый режим должен быть обеспечен.
Что касается России и Грузии, то он возник не просто так, не на голом месте, после конфликта. Хочу отметить – как бы это ни показалось тривиальным, – не мы в этом виноваты, не мы начали боевые действия в Южной Осетии. Но в конечном итоге всё-таки нужно думать о нормализации, и я не исключаю возвращения к безвизовому режиму для граждан Грузии в России. Мне кажется, что для этого есть все основания, тем более что мы видим определённые сигналы со стороны отдельных правящих структур в Грузии.
Очень важно наладить нормальные взаимоотношения по линии спецслужб и правоохранительных органов с точки зрения совместной борьбы с терроризмом, чтобы этот безвизовый режим ни в коем случае не наносил ущерба нашей безопасности именно на антитеррористическом треке. Думается, что это вполне возможно.
Давайте всё-таки про квас. Что там у вас с квасом? Мы в прошлый раз или в позапрошлый уже квасом занимались. Давайте продолжим. Водке – нет, квасу – да.
В.Маматов: Спасибо большое, Владимир Владимирович.
Маматов Владимир, Киров, он же Вятка.
За квас отдельное спасибо, потому что экспортируют в Китай, экспортируют в Штаты.
В.Путин: Рынок неограниченный.
В.Маматов: Без Вашей поддержки ничего бы не вышло. В любой момент приезжайте на завод, я гарантирую, там будет стоять толпа.
Вопрос в другом. Новый губернатор (Гамов рассказал про губернаторов, которые Ваши люди) Игорь Владимирович Васильев хочет сделать площадку для кировских товаров. Потому что если я к Вам буду с каждым вятским брендом ездить, в ближайшие 300 лет у нас будут пресс-конференции. Брендов много, нам есть чем гордиться.
В.Путин: Вы думаете, что мы такие долгожители с Вами?
В.Маматов: Я оптимист, я всегда оптимист.
В.Путин: Хорошо.
В.Маматов: Владимир Владимирович, нам много чем можно гордиться. Он хочет сделать площадку, на которой бы кировские бренды существовали. Отсюда, от Москвы, до Кирова – час самолётом, ночь на поезде, как до Питера.
В.Путин: От меня-то чего хотите?
В.Маматов: Сейчас объясню. (Смех в зале.) Я прошу прощения, отнимаю время у людей.
Мы хотим фактически возродить ВДНХ. Сделать Кировскую область пилотной площадкой, там сделать площадку, на которой будут местные производители, местные товары, а потом скромно предложить, а может ли Президент поддержать это. И можем ли мы это сделать в рамках всей страны? Потому что «Сделано в России», есть такая контора, она делает виртуальную фактически ВДНХ в интернете.
В.Путин: Вы имеете в виду ВДНХ в Москве?
В.Маматов: Конечно.
В.Путин: Да, так это и происходит сейчас. Если Вы съездите туда, посмотрите, совсем недавно там были просто какие-то замшелые рынки, непонятно откуда взявшиеся. ВДНХ возрождается, слава богу. И в том числе если у Вас есть идея, связанная с презентацией, с представлением своего товара, я думаю, что и это можно решить. Нас услышит точно Сергей Семёнович Собянин, мы готовы ему подсказать, чтобы он в диалоге со своим коллегой обсудил этот вопрос представления Ваших товаров.
Одно из направлений развития экономики – это работа на рынках, на новых рынках, возрождение старых рынков.
В.Маматов: Можно сослаться на Вас, что Вы поддерживаете?
В.Путин: Да, конечно.
В.Маматов: Замечательно! У нас когда будете в гостях?
В.Путин: Спасибо большое, я постараюсь.
В.Маматов: Спасибо огромное.
В.Путин: Нам надо заканчивать, иначе мы никогда не закончим. Давайте ещё пару вопросов.
А.Ерёменко: Спасибо. Буду коротко, без преамбулы.
Когда Вы рассчитываете встретиться с Дональдом Трампом? Какие стратегические вопросы у вас будут на повестке в первую встречу и в последующие? Как Вы ожидаете? Спасибо.
В.Путин: Мне сейчас трудно сказать. Нужно сначала, чтобы у избранного Президента Соединённых Штатов была возможность спокойно сформировать всю свою команду. Без этого, наверное, просто так, неподготовленные встречи нецелесообразны.
А что за вопросы будут? Вопросы нормализации наших отношений. Ведь господин Трамп в ходе избирательной кампании говорил о том, что он считает правильным нормализовать российско-американские связи, и сказал, что хуже уже точно не будет, потому что хуже некуда. Я с ним согласен. Вот вместе подумаем, как сделать так, чтобы было лучше.
Плакат выразительный: «Дайте мне». Чего Вам нужно? Что Вам дать?
В.Гусев: Добрый день!
В.Путин: Здравствуйте!
В.Гусев: Меня зовут Владимир Гусев, я представляю федеральное информагентство «Блокнот».
Владимир Владимирович, какую свою допущенную ошибку Вы считаете самой большой в этом году и какую ошибку Вы считаете самой большой за свои президентские сроки? Спасибо.
В.Путин: Вы знаете, мне уже многократно вопросы подобного рода и прямо такой вопрос задавали Ваши коллеги.
У каждого человека есть ошибки. Без ошибок ни один человек не живёт и не работает. Я воздержусь сейчас, чтобы воспроизводить то, о чём я уже говорил неоднократно, но постараюсь сделать выводы из всех своих ошибок, недоработок, с тем чтобы их было меньше на будущее, с тем чтобы мы работали все вместе, и я в том числе, эффективно.
А.Ходорыч: Владимир Владимирович, Алексей Ходорыч, Главный редактор «Классного журнала».
В своём Послании Федеральному Собранию Вы говорили о необходимости воспитания нравственного человека, а это невозможно без чтения. Современные дети в интернете смотрят видео, играют в игры, а между тем именно детские журналы приучают и создают привычку к регулярному чтению. Однако из библиотек они исчезают. Мы общались с библиотекарями, они говорят, что им урезают финансирование и они вынуждены не подписываться на те издания, на которые на которые они хотели бы подписываться.
Первый вопрос. Может быть, государство как-то поможет вернуть детские журналы в том объёме, в котором они всегда были в библиотеках?
Второй вопрос нам прислал наш читатель, который занимается роботами. Это Саша Аксёненко, 8 лет, из Москвы. Какого именно робота Вам не хватает в Кремле? Спасибо.
В.Путин: Вы знаете, роботы нужны в производстве, в промышленности. Когда мы занимаемся такими чувствительными вопросами, от решения которых зависят судьбы миллионов людей, то здесь нужно быть людьми прежде всего, и на роботов здесь трудно ссылаться и трудно рассчитывать.
Что касается библиотек вообще, тем более детской литературы, здесь с Вами согласен. Мы пытаемся возродить библиотеки в целом, но на новой базе, Потому что просто так прийти и перелистывать книжки – это очень интересно, очень важно, чтобы почувствовать, подержать книгу, посмотреть иллюстрации даже, чтобы текст был перед глазами. Современные носители информации, конечно, вытесняют книгу, это очевидно. Но нам нужно добиться, чтобы и на современных носителях был нужный контент, который был бы востребован особенно при воспитании молодого поколения, при воздействии на душу детей, при формировании их взглядов, отношения к жизни. Нужно библиотеки превращать в новые мультимедийные центры и с книгой, и с интернетом.
Разумеется, так же, как и по многим другим чувствительным вопросам, мы должны уделять этому больше внимания. Не только на федеральном [уровне], но прежде всего, это же прежде всего уровень ответственности регионов и муниципалитетов, – там. Если нужна будет дополнительная помощь федерального уровня, тоже можно подумать, нужно только решить, какая. Просто так перечислять деньги – это далеко не всегда самый эффективный способ поддержки. Но делать это точно нужно.
М.Папченкова: «Ведомости» – нас обвиняют, Сечин считает, что мы его не любим. На самом деле мы его любим и есть за что его похвалить. Но есть конкретные просто вещи, которые мы видим в деятельности Правительства, в его деятельности, которые вызывают у нас вопросы. Вот у нас большие проблемы с бюджетом. Его удалось свести, для этого приняты решения по сокращению инвестпрограмм, каких-то инвестиций, по повышению дивидендов для госкомпаний.
Но при этом у нас есть такая организация – «Роснефтегаз». Крупнейшие плательщики дивидендов – «Газпром» и «Роснефть», – от них дивиденды идут не полностью в бюджет. Сначала они попадают в «Роснефтегаз», а потом уже «Роснефтегаз» какую-то часть отправляет в бюджет. То есть все эти деньги оседают на счетах «Роснефтегаза». У «Роснефтегаза» есть своя инвестпрограмма, но она полностью обеспечена той ликвидностью, которая у «Роснефтегаза» уже есть. Зачем ему эти деньги – непонятно.
Почему эти деньги, которые, по сути, наши деньги, не попадают в бюджет? Они могли бы пойти на социальные цели, можно было бы их как-то лучше использовать. Например, докапитализировать РФПИ, который показал свою эффективность, который использует эти деньги в экономике. Вот почему они там лежат? Может, изъять их уже?
В.Путин: Вам бы всё только изъять. Вы же «Ведомости» представляете, либеральную экономическую газету, а вам только «изъять, хватать и не пущать».
Да, есть такой резерв, как деньги «Роснефтегаза». Но они абсолютно прозрачны, там нет ничего непрозрачного. Они все находятся под контролем Правительства. И некоторые вещи мы финансируем оттуда тогда, когда Правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание.
Например, в прошлом и в этом году дополнительно из «Роснефтегаза» будут финансироваться проекты в сфере науки и образования, прежде всего в сфере науки. Это касается так называемых мегагрантов. Оттуда же будут направлены средства на решение проблем, связанных с малой авиацией, для того чтобы возобновить производство самолётов для региональных линий. Оттуда же мы направим деньги на проекты, связанные с большой авиацией, и на производство авиационного двигателя с большой тягой. Вот мы сейчас сделали двигатель, который не производили 29 лет, начиная со времён Советского Союза, нам нужно сделать другой двигатель с большой тягой – 30–35 тонн, и это нам позволит вместе с нашими китайскими друзьями создать широкофюзеляжный дальнемагистральный самолёт.
Вот на такие вещи, на которые в конечном итоге, после всех споров и драк, в Правительстве денег не оказывается, но которые нужно обеспечить финансированием, мы будем тратить средства из «Роснефтегаза».
Всё! Вам спасибо большое. С наступающим вас Новым годом! Большое вам спасибо за терпение. Удачи!

Российский миллиардер взялся за очистку наиболее загрязненного города страны
По оценкам 2013 года, выплавка никеля и других металлов, добываемых в шахтах, ежегодно производит в Норильске около двух миллионов метрических тонн отходов. Это в восемь раз больше чем во втором по счету, наиболее загрязненном городе России.
Но если владельцу компании, Владимиру Потанину, удастся воплотить свои планы и потратить миллиарды долларов на крупнейшую, с советских времен, модернизацию ГМК Норильск никель, то у него может получиться существенно сократить выбросы диоксида серы, которые сейчас по объему равны выбросам этого токсичного газа пятью крупнейшими европейскими экономиками вместе.
«Неприятно, когда все указывают на тебя пальцами из-за того, что ты делаешь что-то плохое», - сказал миллиардер, во время интервью в одном из принадлежащих ему ресторанов, входящих в Лужки Клуб, неподалеку от Москвы. «А главное, для меня важно, что я сам о себе думаю.»
До недавнего времени Потанин был только держателем акций Норникеля и стал генеральным директором только в конце 2012 года. Теперь перед ним стоит задача разобраться в запутанном и весьма грязном хозяйстве компании. Некоторые производства Норникеля уходят корнями к второй мировой войне и советскому лидеру Иосифу Сталину, с его рабочими лагерями, входившими в архипелаг ГУЛаг.
Труд заключенных
Некоторые из старейших объектов, принадлежащих компании были построены в промерзлой заполярной тундре при помощи труда заключенных. Никелевые производства вырабатывают диоксид серы в качестве побочного продукта при выплавке металлосодержащих сернистых руд. Средняя годовая температура в окрестностях Норильска составляет минус 10 градусов Цельсия, а до самого города, даже сейчас, добраться возможно только на самолете либо по реке. Почти 180000 его жителей привыкли называть остальную часть России «большой землей».
«В 1942, когда фронт требовал никель, он его получил», - говорит Потанин. В советские времена «человеческая жизнь не рассматривалась, как огромная ценность», добавляет он. «Главным было произвести определенное количество металла, не важно каким образом.»
Сложно было представить, что миллиардер, сколотивший свое состояние во время противоречивой приватизации 1990х, станет в своих решениях ориентироваться на веления сердца, а не только холодного разума и запустит программу по снижению вредных выбросов.
Программа модернизации Норникеля началась в 2013 году, и в ее задачи изначально, наравне со снижением загрязнения, входило и снижение себестоимости, путем переноса производства на новые более эффективные предприятия. Согласно данным компании, к 2015 году, цена за единицу произведенной продукции снизилась на 39 процентов. В то время как ее акции, на московской бирже, практически удвоились в цене за последние три года.
Сталинская эпоха
Большинство активов Потанина расположены вокруг Норильска и на Кольском полуострове, возле Норвегии. Сегодня, для того, чтобы не отставать от конкурентов им всем нужно улучшить эффективность производства. Бразильская компания Vale SA, соперничающая с Норникилем за звание крупнейшего в мире производителя никеля, модернизирует свои производства еще с 1970х. Им удалось снизить выбросы диоксида серы с отметки в 2 миллиона тонн в год до всего лишь 100000 тонн.
Российский миллиардер начал трансформацию своей компании с того что закрыл агломерацию предприятий, которые добывали руду на Кольском полуострове. В августе Норникель закрыл никелевый завод сталинской эпохи в Норильске и перенес производство на современные мощности, тем самым сократив выбросы серы на 370000 тонн в год.
Следующим шагом должен проект по сокращению выбросов серы, которые производит завод Надежда, находящийся в городской черте. Общая стоимость этого проекта оценивается в 1,7 миллиарда долларов. По оценкам группы по мониторингу окружающей среды Green Patrol, его реализация может помочь сократить ежегодные выбросы вредных веществ на 900000 тонн.
«Подобные действия могут привлечь инвесторов, заботящихся об окружающей среде, что должно благоприятно сказаться на стоимости акций Норникеля», заявляет Кирилл Чуйко, главный стратег в московской BCS Global Markets.
Крупнейший фонд
Крупнейший в мире, Государственный пенсионный фонд Норвегии, в 2009 году хотел инвестировать в Норникель, но получил запрет от норвежского правительства. Десятилетиями скандинавские страны жаловались на загрязнение и кислотные дожди, приносимые на их территорию со стороны российской границы.
Даже российское правительство, под влиянием изменяющихся взглядов общественности, потребовало принять меры для защиты окружающей среды. Президент Владимир Путин объявил 2017й Годом Экологии.
Тем не менее многие все еще сохраняют скептичный настрой. Двадцатитрехлетняя жительница Норильска Екатерина Басалыга одна из них. Недавно ее фотографии местной реки, покрасневшей от утечки оксида железа с одного из предприятий Норникеля, стали вирусными в Instagram. В комментарии к этому событию компания заявила, что выброс не представлял опасности.
«Воздух в городе насыщен вредными веществами, как и было всегда», сказала в своем интервью Екатерина. «Я не вижу никаких изменений.»
Другие, вроде группы по защите окружающей среды из Осло, смотрят на ситуацию более оптимистично. Они считают, что планы Норникеля могут стать «существенным шагом вперед», если только компания будет их придерживаться.
Потанин утверждает, что со временем он сумеет завоевать доверие скептиков.
«Мы более не можем себе позволить бездействовать в вопросе выбросов серы», - утверждает миллиардер, который и сам может оценить степень загрязнения воздуха во время визитов в Норильск. «Результат нашей работы станет заметен только через пять-семь лет. Но для меня важно чтобы эта работа была доведена до конца.»
Автор: Федоринова Юлия @Bloomberg

«Разговор с Дмитрием Медведевым». Интервью пяти телеканалам.
Председатель Правительства ответил на вопросы телеведущих Валерия Фадеева («Первый канал»), Сергея Брилёва («Россия»), Эльмара Муртазаева (РБК), Ирады Зейналовой (НТВ) и Михаила Фишмана («Дождь»).
Из стенограммы:
С.Брилёв: Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире ежегодный итоговый формат разговора с Дмитрием Медведевым. Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич!
Д.Медведев: Здравствуйте!
С.Брилёв: За эти годы в программе сложилось два постоянных элемента: постоянными вещателями являются каналы ВГТРК («Россия 1», «Россия 24»), а в центре внимания – Вы.
Люди вокруг стола всё-таки меняются, я представлю своих коллег. С дамы начнём: Ирада Зейналова, которая теперь представляет телеканал НТВ, по левую руку от меня – Эльмар Муртазаев (РБК), Валерий Фадеев (Первый канал) и Михаил Фишман (телеканал «Дождь»).
Дмитрий Анатольевич, давайте традиции не будем нарушать, всё-таки первый вопрос должен быть каким-то общефилософским, хотя конкретики много за этот год.
Год завершается. Каким он Вам запомнится? Каким он стал как минимум с социально-экономической колокольни, скажем так?
Д.Медведев: Знаете, год, конечно, как и всякий год, был в чём-то светлым и в чём-то печальным. Были и хорошие события, и, наверное, не очень хорошие.
Если говорить о социально-экономической проблематике, то, мне кажется, главное, что мы развиваемся, что, несмотря на внешние ограничители и внутренние проблемы, мы сохранили макроэкономическую стабильность, выполняем все социальные обязательства, которые принимали на себя, платим зарплаты, пенсии, идём по пути развития образования и здравоохранения. Наверное, это главный результат социально-экономического развития в весьма непростых экономических условиях.
Если говорить о макроэкономических показателях, то они, конечно, могли бы быть и лучше, потому что в этом году у нас, по всей вероятности, будет небольшое снижение валового внутреннего продукта – чуть меньше процента, может быть, полпроцента, нужно ещё окончательно подвести итоги. В следующем году уже по всем индикаторам, которыми мы располагаем, наша экономика перейдёт к росту. Причины всего этого известны, я неоднократно об этом говорил, но, наверное, мы и сегодня об этом с вами поговорим.
В.Фадеев: Дмитрий Анатольевич, Вы сейчас сказали, что в этом году будет небольшой спад, в следующем году экономика перейдёт к росту. Президент Путин поставил в Послании Федеральному Собранию задачу добиться роста в обозримой перспективе, через несколько лет, выше среднего роста мировой экономики. Это порядка 4%, и это сегодня, как я понимаю, непростая задача. Как её решить?
Д.Медведев: Задача непростая, но вполне осуществимая. Собственно, все наши действия последних лет были направлены именно на то, чтобы вырваться из этих темпов роста, которые сформировались в последние годы, перейти от падения экономики к росту, причём росту, который действительно должен быть опережающим по отношению к росту мировой экономики.
Скажем прямо: нас не устраивают темпы роста в полпроцента, в процент и даже в полтора процента, хотя, конечно, это лучше, чем то, что экономика продемонстрировала в этом году. Почему не устраивает? Потому что нам нужно, чтобы произошли качественные изменения в экономике нашей страны, а этого можно достичь, и об этом было сказано в Послании Президента, только если мы будем прирастать быстрее, чем весь мир.
За последнее время мы старались принимать решения, направленные на изменение структуры нашей экономики. Причём если раньше эти решения были основаны просто на экономических расчётах, то два года назад нам пришлось на них пойти в силу и внешней ситуации, и внутренних проблем. Иными словами, то давление, которое было оказано на нашу экономику, внешнее давление и в части санкций, и в части закрытия рынков кредитования, и целый ряд других проблем, который сложился, включая, конечно, и обвал цен на энергоносители, на нефть и впоследствии на газ, побудили нас к тому, чтобы активнее заниматься изменением структуры экономики.
Так вот для того, чтобы выполнить то поручение, которое содержится в Послании Президента, нам нужно дальше двигаться, меняя структуру экономики. И в этом смысле мы такое движение видим.
В чём оно проявляется? Я приведу несколько примеров, их можно на самом деле умножать, что называется.
Первое – это ситуация в сельском хозяйстве. Посмотрите, ещё совсем недавно сельское хозяйство у нас либо не росло, либо находилось в такой нулевой зоне. А в 1990-е годы сельское хозяйство вообще было принято характеризовать как чёрную дыру. Мол, в сельском хозяйстве нечего ждать каких-то изменений, все продукты будем покупать за границей, страна и так может развиваться в ближайшие десятилетия. Но это же неправильно. Россия исторически была поставщиком продуктов и на внутренний рынок, и на рынок Европы и других стран. За последнее время, буквально за последние несколько лет, с учётом, правда, решений, которые мы принимали 10 лет назад, нам удалось выйти на прирост сельского хозяйства 3% в год – и это в условиях в целом нисходящего тренда в экономике. Мы в этом году вырастили огромный урожай – 118 млн т. Это самый высокий урожай за всю историю современной России, что создаёт для нас возможность и внутренние задачи решать, развивать животноводство, развивать кормовую базу, и в то же время нарастить экспортный потенциал, закрепиться на иностранных рынках. Это тоже очень важно, имея в виду и необходимость притока иностранной валюты, и просто наши позиции по экспорту.
Если говорить о промышленности, за последнее время мы также двинулись в этом смысле вперёд. Только за последние два года в общей сложности мы вложили в импортозамещение в промышленности порядка 250 млрд рублей: приблизительно 120 млрд рублей по линии Фонда промышленности, то есть это государственные средства, ещё практически столько же было вложено инвесторами и за счёт институтов развития. В результате был обеспечен рост целого ряда важнейших отраслей промышленности – я упомяну, например, такие, как химическая промышленность, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. В этом году они растут, причём растут капитально, на 10–15%.
Очень важными являются изменения в фармацевтической промышленности. Ещё совсем недавно наша страна в полной мере сидела на игле иностранных препаратов. Сейчас мы уже на 65–70% удовлетворяем внутренний спрос за счёт наших препаратов, причём, подчёркиваю, это препараты высокого уровня. Естественно, для населения, для наших граждан это дешевле, потому что они не приобретаются за валюту. Если говорить о так называемых важнейших и жизненно необходимых препаратах, то уже на 77% мы удовлетворяем внутренний спрос. Почему это произошло? Потому, что стала развиваться наша фармацевтическая промышленность.
Есть благоприятные изменения и в металлургии, и в промышленности строительных материалов, и в целом ряде других отраслей, я уж не говорю про автомобилестроение, сельхозмашиностроение и транспортное машиностроение, где есть и проблемы, но в то же время совершенно очевидно, что мы в полной мере сориентировались на внутренний рынок.
По транспортному машиностроению я приведу одну цифру. Потребности нашей страны в транспортном машиностроении удовлетворяются за счёт внутреннего производства приблизительно на 98%, то есть мы ничего за границей не закупаем. В то же время у нас количество и вагонов, и локомотивов становится всё больше и больше. Вот это те результаты, на которые мы выходим. И если в этом направлении мы будем двигаться, мы сможем увеличить темпы роста нашей экономики до четырёх процентов в год или близких, сопоставимых величин, то есть выше, чем темпы развития мировой экономики.
Э.Муртазаев: Дмитрий Анатольевич, но если по тем цифрам, которые Вы привели, экономика сейчас находится в низкой стадии делового цикла, возникает логичный вопрос, который задают многие экономисты. Почему в этой ситуации не снизить налоги, не увеличить госрасходы, стимулируя таким образом экономический рост? Почему Правительство выбрало «бюджет замирания», так называют его депутаты в Госдуме, а не «бюджет развития»?
Д.Медведев: Наверное, не все депутаты так называют бюджет. Конечно, всегда есть выбор между теми решениями, которые нужно принимать. Есть такая русская пословица: «По одёжке протягивай ножки». Иными словами, невозможно планировать какое-то бурное развитие, если для этого нет макроэкономических условий. Именно поэтому, несмотря на все те меры, которые мы принимали (а они действительно сыграли в плюс, в том числе планы антикризисного развития и прошлого года, и этого года), у нас экономика сначала падала на 4%, а в этом году совсем немножко. В следующем году начнётся переход к росту.
Но когда мы принимали такие решения – и в прошлом году, и в этом году – и когда обсуждали бюджет, только что принятый Государственной Думой, мы исходили из реально существующих возможностей экономики, из реально существующих возможностей нашего государства.
Потому что, конечно, можно накачать экономику деньгами, можно увеличить дефицит бюджета, можно увеличить объём государственного долга, но мы с вами понимаем, к каким последствиям это приведёт. Да, в экономике будет больше денег для развития, в результате увеличится инфляция. У нас сейчас инфляция низкая, а если говорить применительно к истории российской государственности последних лет, она у нас гипернизкая. Она у нас была когда-то гипервысокая, а сейчас она у нас гипернизкая.
Так вот, если бы мы пошли по пути накачивания экономики деньгами, у нас бы выросла инфляция, у нас бы в очередной раз обесценились заработки людей, пенсии обесценились бы, у нас было бы невозможно вообще планировать ипотеку, то есть мы вернулись бы к ситуации 1990-х годов.
Поэтому мы принимали исключительно ответственные решения. Не всегда они были простыми, но я считаю, что они были выверенными.
И.Зейналова: Дмитрий Анатольевич, Вы говорите о цифрах, о росте, но средний россиянин, который так глобально не мыслит, видит рост цен. Соответственно, растут цены и на лекарства, и на услуги, и это всё становится менее доступным.
Посмотрим бюджет здравоохранения – ведь на следующий год он практически не вырос. Получается, что государство решило сменить социальную политику?
Д.Медведев: Нет, социальная политика остаётся прежней.
Что касается бюджета здравоохранения, то он у нас не падает, а растёт. Если в этом году он составляет приблизительно 2,6 трлн рублей, то в следующем году бюджет здравоохранения будет уже около 3 трлн рублей. В 2018 году он будет составлять приблизительно 3 трлн 150 млрд рублей, а в 2019 году – 3 трлн 250 млрд рублей, то есть этот бюджет растёт. Конечно, этот бюджет включает все те расходы, которые государство планирует на систему здравоохранения. Это не только федеральные расходы, это региональные расходы и те расходы, которые планируются за счёт федерального Фонда обязательного медицинского страхования, но природа этих денег очевидна – это государственные средства, это бюджетные деньги. Поэтому всё, что запланировано в сфере здравоохранения, мы будем делать.
Но раз уж мы говорим о здравоохранении, очень важно вспомнить, что происходило. Давайте оттолкнёмся от ситуации, которая была относительно недавно. Ещё восемь-десять лет назад у нас в стране практически не было ни одного перинатального центра, у нас высокотехнологичная помощь в этой сфере женщинам практически не оказывалась. Сейчас (у меня свежие впечатления, я вернулся из Оренбурга, там открылся очередной перинатальный центр) практически в каждом регионе они уже заработали.
Если говорить о высокотехнологичной помощи, мы начинали программу по поддержке высокотехнологичной медицинской помощи тоже приблизительно девять лет назад, в 2006–2007 годах. Мы тогда по стране – я прошу вдуматься в эти цифры – делали всего 60 тыс. высокотехнологичных операций. Имеется в виду всё, включая стентирование, включая сложные онкологические операции, в общем всё, что требует сложного хирургического вмешательства с использованием сложной медицинской техники. Сейчас количество таких операций приблизилось к миллиону в год. Нужно просто в сопоставлении посмотреть, как это выглядит.
Для того чтобы сделать такую операцию, значительная часть наших людей вынуждена была ездить за границу (причём я не имею в виду каких-то сверхбогатых людей, а людей со средними доходами) просто потому, что невозможно было дома сделать. Сейчас можно сделать, причём не только в Москве или в Питере, а в центрах, которые мы создали по всей стране, – центрах оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Это важнейшее изменение.
В отношении роста цен. Конечно, рост цен происходит, это неизбежная ситуация, особенно в условиях инфляции. Но обращаю внимание на то, что в этом году рост цен существенным образом замедлился и это результат как раз той работы, которую мы проводили.
В прошлом году инфляция была очень высокой, она приближалась к 14%. В этом году инфляция, которая запланирована, составляет 5,8%. Но на самом деле, я думаю (и мы вчера говорили с Министром экономики на эту тему), она будет где-то в районе 5,5%. Это самый низкий результат за всю историю нашей страны.
А что такое инфляция 5,5%? Это усреднённый рост цен. Да, где-то цены чуть больше подрастают, где-то чуть меньше, но это, собственно, та цифра, на которую меняется потребительская корзина. Это касается и лекарств. И в этом контексте я ещё раз хотел бы вернуться к тому, что мы смогли добиться очень существенной доли импортозамещения и теперь значительная часть лекарств производится и продаётся за рубли. Это, на мой взгляд, всё-таки хорошие изменения.
М.Фишман: Дмитрий Анатольевич, Вы говорите, что у нас будет рост расходов на здравоохранение в перспективе. Если посмотреть на бюджет этого года, то мы видим рост военных расходов, причём рост огромный, судя по всему, беспрецедентный для современной России. Это 4% роста в общей структуре расходов в этом году, это цифра, приближающаяся к 24% в структуре расходов бюджета, военные расходы. Если мы ещё посмотрим на расходы на правоохранительную деятельность, то мы в целом получаем бюджет, которому, видимо, нет просто аналогов в мире, силовой бюджет. Это и есть, получается, приоритеты государственной политики?
Д.Медведев: Михаил, я несколько моментов отмечу при ответе на Ваш вопрос.
Во-первых, если брать относительные цифры, которые Вы упомянули… Ведь как выглядят расходы на оборону и безопасность? За них регионы не платят, это всегда федеральные расходы. Если говорить об образовании и здравоохранении, это расходы и федеральные, и региональные. Так вот, если посчитать, то в так называемом консолидированном бюджете (а это бюджет Российской Федерации, регионов Российской Федерации и муниципалитетов) совокупные доли образования, здравоохранения и вот этой силовой составляющей, прежде всего Министерства обороны, приблизительно одинаковые, 23–24% по каждой из составляющих. Поэтому даже в таких цифрах это сопоставимые вещи. Это первая часть ответа.
А вторая часть ответа вот к чему сводится. Когда мы говорим о росте расходов государства на оборону, мы с вами понимаем, что это же не только ради Министерства обороны и не только ради военнослужащих, правильно? Это ради развития всей страны, обеспечения её безопасности и обороноспособности. Мы понимаем, в каком мире живём, и я уверен, что наши люди ценят, что у нас в стране в настоящий момент ситуация стабильная, что её рубежи надёжно защищены, что у нас не происходит событий, подобных тем, которые, к сожалению, в настоящий момент происходят на Ближнем Востоке или периодически даже случаются в Европе. Всё это связано с расходами на обеспечение обороноспособности и безопасности.
Наконец, третья составляющая, также очень важная. Эти расходы в значительной своей части идут на формирование гособоронзаказа. Что такое гособоронзаказ? Это работа сотен и сотен российских предприятий, на которых работают миллионы наших людей, это создание новой высокотехнологичной продукции. Как известно, когда мы создаём какие-либо объекты в рамках гособоронзаказа, то есть виды вооружений, так или иначе это даёт толчок развитию гражданских отраслей. Так всегда было, так происходит у нас, так происходит и в других странах. Но, конечно, с другой стороны, и гражданский сектор тоже влияет на технологии в сфере обороноспособности и безопасности, то есть, иными словами, это даёт работу огромному количеству людей и создаёт значительную часть валового внутреннего продукта (вот эти расходы на обеспечение обороноспособности), и этот сектор демонстрирует уверенный рост.
Я уж не говорю о том, что то, что делает оборонный сектор, то, что происходит в рамках гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества, формирует и наш внешний потенциал. Всем известна цифра, которую неоднократно называли, но я её ещё раз назову: у нас сейчас поставляется на экспорт вооружений приблизительно на 17 млрд долларов. В перспективе эта цифра может выйти на 20 млрд долларов. Что означает эта цифра? Она означает, что мы остаёмся крупнейшим поставщиком вооружений в мире. Впереди только Соединённые Штаты Америки. Несмотря на то что все мы заинтересованы в том, чтобы напряжение в мире спадало, чтобы было как можно меньше локальных конфликтов, рынок есть рынок, и мы должны на нём присутствовать. Тем более нам есть что предъявить. Поэтому расходы на обеспечение обороноспособности конвертируются в развитие экономики.
И.Зейналова: И тут я, как всегда, спрашиваю про денежки...
Д.Медведев: Это хорошо.
И.Зейналова: На что мы жить будем?
На все эти прекрасные расходы, на то, чтобы все были здоровы, все были в безопасности, – на всё это нужны денежки. Самое простое наполнение бюджета – за счёт налогов.
Ровно год назад во время такой же беседы Вы сказали, что сейчас нужно оставить плоскую шкалу налогов, нецелесообразно делать прогрессивную. Это была Ваша позиция. А сейчас как? Или сформулирую, как это формулируется в соцсетях: после 2018 года налоги вырастут?
Д.Медведев: Во-первых, я год назад никого не обманул. Мы сохранили плоскую шкалу налогообложения. Более того, мы не только сохранили плоскую шкалу налогообложения, мы вообще сохранили без изменений всю налоговую систему. Ведь как было сказано Президентом страны? Мы берём мораторий на изменение налоговой системы. В условиях, когда рынки лихорадит, в условиях, когда экономика находится в стрессовом состоянии, нельзя трогать налоговую систему, потому что это в ещё больший стресс её загонит. И поэтому, несмотря на то что было трудно и мы, не скрою, много раз собирались, обсуждали это и с Владимиром Владимировичем, и с коллегами по Правительству, мы не пошли на увеличение ни одного налога. Обсуждались вопросы возможности увеличения налога на добавленную стоимость и некоторых других налогов – мы ничего этого не сделали. Мы кое-что перераспределили внутри налоговой системы, но это скорее косметические перераспределения. Действительно, есть поручение проработать контуры налоговой системы начиная с 2019 года. Сейчас этим Правительство занимается, этим занимаются Минфин, Минэкономразвития.
Вопрос ведь в отношении налога на доходы граждан, то есть налога на доходы физических лиц? Так называемая плоская шкала у нас существует уже давно, и я считаю, что она сыграла огромную роль в так называемом обелении доходов. Напомню, что в 1990-е годы у нас была прогрессивная шкала налогообложения. Значительная часть вознаграждений и в крупных компаниях, и в мелких компаниях, и в государственных структурах, и в частных структурах выплачивалась в конвертах, просто для того, чтобы не платить государству налогов. В настоящий момент каждый год происходит увеличение налоговой базы НДФЛ, то есть налога на доходы физических лиц. То есть этот налог не падает, а растёт, просто потому, что люди считают: такой налог надо платить, он умеренный, он нормальный.
Да, я знаю про позицию наших коллег из левых фракций, которые говорят: это несправедливо. Но давайте по-честному признаемся: гораздо более справедливо, чтобы все платили налоги, а не прятались от налогообложения. Я, конечно, не могу исключить, что когда-то государство может вернуться к обсуждению и этого вопроса, но в настоящий момент вопрос изменения налога на доходы физических лиц, то есть подоходного налога, в повестке дня не стоит.
И.Зейналова: А вот эти контуры?
Д.Медведев: А эти контуры мы сейчас прорабатываем, и, как и договорились, доложим их Президенту, для того чтобы понять, как может выглядеть наша налоговая система начиная с 2019 года.
Почему это нужно сделать? Потому что мы должны бизнесу и нашим гражданам давать чёткие сигналы: вот это всё сохранится, вот такой-то налог останется, здесь мы планируем какие-то изменения, чтобы бизнес, который планирует развитие экономики, чтобы обычные граждане, которые планируют свои бюджеты, могли к этому подготовиться. Именно поэтому мы сейчас и занимаемся созданием вот этих контуров налоговой системы.
Но прямо хочу сказать, мы заранее, естественно, всё обсудим и с экспертами, и с общественностью, чтобы не было никаких неожиданностей, чтобы экономика в широком смысле этого слова и каждый гражданин могли к этому подготовиться.
С.Брилёв: Маленькое уточнение. Плоская шкала неприкосновенна, это, понятно, принцип. Но она останется 13% или станет, например, 15?
И.Зейналова: Скажем так, она останется плоской или…
С.Брилёв: Плоской повыше или плоской, как сейчас?
Д.Медведев: Я же сказал, что мы сейчас готовим наши предложения, и привёл (во всяком случае, мне так кажется) достаточно серьёзные аргументы в пользу сохранения в ближайший период плоской шкалы налогообложения.
Что же касается конкретных цифр, дайте возможность Правительству поработать. Очевидно, что эти изменения не должны быть существенными, если они вообще будут.
С.Брилёв: Тогда я спрошу о том, в отношении чего Правительство уже поработало, и произнесу слово, от которого у многих сразу ушки на макушке, потому что оно как объединяет людей, так и разъединяет. Слово это «приватизация». Со времён 1990-х годов для многих это слово ругательное. Но, опять же, мы сейчас говорили о заполнении бюджета, и мы понимаем, как сейчас та дырка, которая в бюджете была, была покрыта за счёт приватизации «Роснефти» и какая это была приватизация. Иностранные инвесторы, причём с политической точки зрения очень изящная история: Катар – нейтралы, швейцарцы… В общем, из всего западного сообщества наиболее спокойные, скажем так. Сигналы во внешний мир отправлены, многочисленные и понятные.
Что касается сигналов внутри страны. Приватизация «Роснефти» – это прецедент? Я к чему? Мы в последние месяцы видели приватизацию, скажем, «Башнефти», «АЛРОСА», и каждый раз приватизировали государственные структуры, такое перекладывание денег из кармана в карман. Впереди же у нас, наверное, «Совкомфлот», наверное, «Аэрофлот», ВТБ, Сбербанк – много кандидатов на приватизацию. Вы будете использовать ту схему, которая сейчас отработана с «Роснефтью», или мы вернёмся к тому, что было, когда, в общем, появляется некий государственный игрок и приватизируют?
Д.Медведев: Помните известное изречение «Неважно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей»? Применительно к приватизации в значительной мере неважно, кто приобретает, лишь бы это приобреталось за нормальные деньги. Это касается любой приватизации. Но история приватизации в нашей стране действительно довольно сложная, и если вспомнить 1990-е годы… Вот Вы сказали, что некоторых начинает сразу, так сказать, трясти или напряжение возникает, потому что трудно не согласиться, что целый ряд приватизационных сделок 1990-х годов не был вполне справедливым, подчёркиваю, но это не означает, что они были незаконными. С точки зрения экономической справедливости там есть вопросы. Но мы неоднократно свою позицию формулировали, и я ещё раз хочу её высказать. Эта страница перевёрнута, все сделки исполнены, и обратного хода быть не может, потому что в противном случае это может взорвать ситуацию, как это происходило в целом ряде стран.
Если же говорить о крупнейших сделках последнего периода, то, действительно, они долго готовились и были сложносоставными. Вы упомянули сделку, касающуюся «Роснефти» и «Башнефти». Действительно, мы долго примерялись к тому, как это всё может выглядеть. Когда продавалась «Башнефть», изучали рынок. Потом возникла идея, чтобы «Башнефть» была приобретена «Роснефтью», тем самым увеличив свою капитализацию, что должно было отразиться на последующей продаже «Роснефти».
С.Брилёв: То есть многоходовкой и было задумано?
Д.Медведев: Конечно. В определённый период мы посчитали, что это лучше для экономики, для достижения тех целей, которые были поставлены в плане приватизации. Естественно, это бы не состоялось, если бы «Роснефть» не предложила лучшую цену на тот период за «Башнефть». Таким образом, мы получили довольно значительные средства в бюджет от продажи «Башнефти». Но одновременно, естественно, проговаривалась необходимость исполнения и большой сделки, то есть продажи 19,5% «Роснефти», что должно было решить очень существенные бюджетные проблемы.
Мы в бюджете в этом году пошли на ускоренное погашение кредитов, которые государство, по сути, брало у предприятий оборонно-промышленного комплекса, когда они поставляли продукцию нашей армии и в рамках государственного оборонного заказа. Была так называемая кредитная схема. Сейчас от неё решили отказаться, поэтому эту историю нужно было закрывать. Для этого было необходимо консолидировать дополнительные ресурсы в бюджет, что позволяло исключить целый ряд ненужных платежей в будущий период, в том числе связанных с расходами на оборону. Мы приняли такое решение.
После этого начали искать партнёров, для того чтобы продать 19,5% «Роснефти». Этим занималась сама компания «Роснефть». Я уже говорил о том, что это была большая работа, надо признать, что они с этой работой справились и в целом добились хорошего экономического результата.
О каждом шаге, о проектах возможных, о возможных партнёрах менеджмент докладывал в Правительство, председатель правления компании Игорь Сечин рассказывал о том, какие есть варианты. В конечном счёте сложилась та модель, которая и была предъявлена. Хотя до этого обсуждались и возможности продажи этого пакета японцам, некоторым другим ближневосточным фондам, некоторые европейцы изъявляли интерес, корейцы... Но вы же понимаете, что хороша ложка к обеду. Если кто-то готов заплатить, но потом, да ещё при каких-то условиях, это для нас неприемлемо. Сила предложения, которое сделали Glencore и катарский фонд, заключалась в том, что они готовы быстро исполнить сделку, быстро обеспечить необходимый объём ликвидности, как говорят финансисты, то есть быстро заплатить, причём в бюджет Российской Федерации. И это было сделано. Поэтому я считаю, что эффективность этих решений высока.
Вы спрашиваете про другие сделки. Вы упомянули «Алросу». Но «Алроса» не продавалась государству, «Алроса» продавалась негосударственным пенсионным фондам, это совсем другое. Негосударственные пенсионные фонды – это часть частной экономики, то есть это в чистом виде приватизация, поэтому это, в общем, классический пример того, как продаются компании. У них в портфеле, в портфеле этих негосударственных пенсионных фондов, появился хороший актив, который позволяет им решать их задачи. Это совершенно нормальная международная практика, когда пенсионные фонды участвуют в приватизации, покупают акции компаний не только в плане приватизации, но и просто на рынке.
Вы упомянули и «Совкомфлот», и ВТБ, и Сбербанк. Все эти решения будут приниматься в строгом соответствии с законом, если на то будут побудительные причины. Просто так, для того чтобы исполнить какие-либо планы, никто никаких решений принимать не будет. Действительно, ряд названных Вами активов, а именно «Совкомфлот» и ВТБ, стоял и стоит в плане приватизации. Сбербанк не стоит. И по ним какие-либо решения должны последовать, но мы будем ориентироваться и на международную конъюнктуру, и, конечно, на выполнение бюджетных задач.
Естественно, сделка, о которой мы говорим сегодня, очень крупная. Понятно, что, если бы мы продавали «Роснефть» пять лет назад, когда цена на нефть была другой, деньги, которые мы получили бы, тоже были бы другими. Но нам нужно было исполнять бюджетные задачи в этой ситуации. И конечно, в этих условиях параметры сделки оказались несколько иными, хотя и очень высокими. Мы в итоге собрали больше, чем планировали от этих двух сделок, и обеспечили поступление в бюджет более чем триллиона рублей, что закрывает все наши проблемы текущего бюджетирования и позволяет решать целый ряд других задач.
Э.Муртазаев: Дмитрий Анатольевич, Вы говорите, что Правительство смогло собрать больше денег, чем планировало, но известно, что в рамках этой сделки Правительство снизило минимальную цену продажи акций. Фактически сумма денег, поступившая на счета государства, будет на 18 млрд меньше изначально планируемой. Первый вопрос: почему это произошло?
И второе. «Роснефтегаз», который выступает формально продавцом этих акций по схеме, получается, доплачивает эти 18 млрд в бюджет из своих средств. Это доплата за покупателей?
Д.Медведев: Сделка происходит в конкретный момент. Мы не можем сказать: ребята, продайте 31 декабря по такой-то цене. Это же публичный актив. Он находится в публичном размещении. У него есть свободно обращающиеся акции, как принято говорить, так называемые free float. Поэтому мы не можем продиктовать цену на конкретный день. Когда мы принимали первое постановление Правительства, были одни параметры рынка. Когда мы выпускали уже второе распоряжение Правительства, рынок немножко изменился. Плюс был применён дисконт по предложению оценщика в 5%, который является абсолютно нормальным при таких сделках, потому что это огромный объём денег. Я ещё раз хочу подчеркнуть, это крупнейшая мировая сделка в нефтегазовом секторе 2016 года, это действительно колоссальные деньги. Поэтому мы выпустили новое распоряжение, в котором была оценка по состоянию на 6 декабря текущего года, она несколько отличалась. Там действительно образовалась разница в 18 млрд рублей, но с учётом того, что было специальное бюджетное задание, было принято решение (я подписал специальную директиву) увеличить объём дивидендов «Роснефтегаза», которые направить в государственный бюджет, за счёт этого эта разница, 18 млрд, будет покрыта. Бюджет ничего не потерял.
И.Зейналова: А замораживание добычи ОПЕК и рост цен на нефть не повлияли бы? Скажем, на недельку позже – глядишь, и 18 млрд не потеряли бы?
Д.Медведев: Исходя из таких предположений, можно было бы всё дальше и дальше откладывать продажу, но нам нужно решать наши задачи в текущем году. Применительно к ОПЕК – хорошо, что договорились, но ведь могли не договориться. Спасибо всем, кто принимал участие в переговорах, значительную роль сыграл Владимир Владимирович Путин, когда общался с коллегами, для того чтобы договориться. Мы же не члены ОПЕК, но мы всё-таки старались помогать этому процессу – договориться по нефтяным ценам. Удалось договориться.
Но вы помните, несколько раз мы это всё обсуждали – и не договаривались, и цена начинала проседать. Она могла снова просесть, и тогда условия продажи, например на 6-е число или какое-либо другое, были бы хуже. Поэтому нужно действовать здесь и сейчас, исходя из сложившейся конъюнктуры.
Э.Муртазаев: Дмитрий Анатольевич, тем не менее, если возник разговор о «Роснефтегазе»: не секрет, что у Правительства периодически возникают споры с «Роснефтегазом» о размере дивидендов, которые выплачивает эта компания в бюджет. Во-первых, есть ли уверенность, что деньги, которые поступят (формально они поступят, насколько я понимаю, «Роснефтегазу»), будут перечислены все в полном объёме в бюджет? Это первый вопрос.
И второй. Какова необходимость существования этой прослойки между Правительством и крупными государственными активами?
Д.Медведев: У меня нет неких разногласий и никакой полемики с «Роснефтегазом». Всё, что я им говорю, они делают, на 100%. И куда они могут деться, если это стопроцентно российская компания, принадлежащая российскому государству? Это первое.
Второе. Наверное, в ходе обсуждения с моими коллегами из министерств могут высказываться разные позиции. Есть разные приоритеты: есть приоритеты развития отрасли, а есть бюджетные приоритеты. Ведь «Роснефтегаз» и был создан для того, чтобы решать обе задачи – не только накапливать дивиденды, но и решать задачи, связанные с развитием нефтегазовой отрасли. Она ведь не в идеальном состоянии, мы прекрасно это понимаем, и целый ряд месторождений истощается. Кстати, ещё одно решение, которое я принял в связи с приватизацией, касалось поддержки тех месторождений, у которых уровень обводнённости, как принято говорить, выше, чем у других. У «Роснефти» такие месторождения есть, и ей нужно помочь, чтобы она эти задачи решила. Вот для этих целей в том числе и создавался «Роснефтегаз».
Что же касается перечислений в бюджет, здесь уже издана директива, которая, естественно, на все 100% будет исполнена. Никаких сомнений нет: всё до копейки поступит в бюджет, здесь даже и обсуждать нечего.
В.Фадеев: Дмитрий Анатольевич, позвольте от больших сотен миллиардов рублей и большой приватизации – к малой приватизации, немножко приземлить тему разговора. Жилищно-коммунальное хозяйство. Там долги внутри хозяйства достигли триллиона рублей, и общая идея Правительства – это ставка на частный капитал. Проблема заключается в том, что частный капитал с трудом туда входит. Есть, например, очень много так называемых муниципальных унитарных предприятий, которые становятся воронкой для втягивания денег. Деньги у населения берутся, потом муниципальные унитарные предприятия банкротятся, денег нет, и это важнейший источник этого долга огромного. Начинают говорить: давайте тарифы поднимем, давайте мы фактическое воровство оплатим деньгами населения. Мне кажется, здесь есть очень глубокая, серьёзная проблема, почему частный капитал не может войти в сферу ЖКХ и начать настоящую модернизацию.
Это вопрос, который касается всех.
Д.Медведев: Вы правы, этот вопрос волнует абсолютно всё население страны. Это сверхважный вопрос. Действительно, ситуация в ЖКХ сложная, хотя, на мой взгляд, она тоже начинает меняться.
Первое из того, о чём Вы сказали: нужно убрать неэффективные муниципальные предприятия, эти МУПы и ГУПы. Если они плохо работают или деньги воруют, их нужно убрать, вытащить из этой цепочки, а руководителей наказать. И, кстати, эти процессы сейчас довольно активно происходят.
Если говорить об управляющих компаниях (хотя Вы не спросили об этом, но тем не менее это всё равно связанные вещи), мы эту ситуацию зачистили. Ситуация с управляющими компаниями стала существенно лучше, чем была, скажем, несколько лет назад, притом что пришлось пойти на не очень популярную меру – просто ввести лицензирование. Тем не менее это помогло.
Действительно, бизнес не очень охотно идёт в ЖКХ. Для этого нужно создавать привлекательные условия. Жилищно-коммунальная сфера недофинансирована. Общий объём инвестиций, который необходим жилищно-коммунальной сфере, составляет где-то приблизительно 2–2,5 трлн рублей.
Необходимо вкладывать каждый год приблизительно по 500 млрд. Где взять эти деньги? Что-то мы берём из фонда содействия реконструкции жилищно-коммунального хозяйства, и эти деньги сыграли очень значительную роль в восстановлении жилищного фонда, в ремонте подъездов, домов. Это очень хорошие программы, которые многие люди оценили, и губернаторы просят о том, чтобы эти программы сохранялись. Но что-то необходимо брать с рынка. Я неоднократно встречался с руководителями крупных компаний, они говорят: мы хотим участвовать, но создайте нам понятные и прозрачные условия, чтобы нас никто не грабил, чтобы не выставлял неприемлемых экономических требований. Для этого существует концессионная сделка, существует концессионное законодательство. И в рамках концессии уже всё-таки ряд крупных компаний пришёл в регионы, занимается решением крупных ресурсных задач. Я думаю, что это магистральный путь развития.
Если говорить об энергопоставляющих, то есть ресурсопоставляющих организациях, то, конечно, за ними тоже нужно очень внимательно следить. Им, с одной стороны, нужно давать источник развития, потому что в противном случае они просто не смогут никакие ремонты проводить, но, с другой стороны, всё это должно быть в параметрах, которые позволяют не увеличивать инфляцию и не создавать напряжение на рынке, то есть в параметрах, которые помещаются в прогнозируемый рост инфляции.
Хочу ещё раз подчеркнуть: у нас принято решение на уровне Правительства о том, что рост тарифов в следующем году будет не больше инфляции. Инфляция в следующем году (мы прогнозируем) будет самая низкая опять же за всю историю нашей страны (порядка 4%, ниже у нас никогда не было, это действительно инфляция, уже приближающаяся к европейской), и рост тарифов должен поместиться в эти 4%.
Более того, для того чтобы эту цифру не менять, мы даже специально внесли туда корректировки, в порядок расчёта, чтобы крупные центры, которые оказывают влияние на формирование этих тарифов, исключить из подсчётов, чтобы цифра была именно ниже, а не выше, чем цифра инфляции по стране. Поэтому ситуация в ЖКХ остаётся не самой простой, но мы видим, каким образом её поменять.
В.Фадеев: Дмитрий Анатольевич, капитальный ремонт – это тема уходящего года. Теперь люди сами платят за будущий капитальный ремонт, и платят немало. В Москве, например, уже объявлено о повышении этого платежа до 17 рублей за квадратный метр.
Но возникает вопрос. Вот мы много говорим об экономии ресурсов, об энергосбережении, но капитальный ремонт не предусматривает модернизацию инженерных систем домов. Как же так? Вот дом ремонтируется. Он, как был в 1930-х годах с трубами чугунными, так и будет отремонтирован с чугунными трубами? А где же энергосбережение, где же экономия тепла, где экономия воды, которая выгодна гражданам, которые там живут?
Д.Медведев: Да, это тоже абсолютно справедливо и является продолжением вашего предыдущего вопроса. Очевидно, что невозможно ремонтировать дом и не ремонтировать сети, причём не только внутридомовые сети, но и те сети, которые идут по теплоцентралям, где огромные потери, и которые просто очень большие по своим размерам. Это задача именно ресурсопоставляющих организаций. Я здесь возвращаюсь к тому, о чём уже говорил. Мы должны создать им такие условия, которые всё-таки позволят ремонты проводить. Мы не можем сейчас на все такие ремонты находить деньги непосредственно из бюджета, да это и не наша задача. Все сети принадлежат организациям, которые их эксплуатируют. У них должны быть такие условия, которые позволяют им часть прибыли направлять на реконструкцию сети. Где эта часть прибыли? Эта часть прибыли, естественно, в тарифе. Каким может быть этот тариф? Он должен быть необходимым для такого уровня расходов и достаточным, но не выше, чем проценты, которые мы утверждаем в качестве процентов инфляции. Иными словами, применительно к ресурсопоставляющим организациям мы применяем схему «не выше инфляции» либо – и это, кстати, основной подход – «инфляция минус». Я совсем недавно собирал крупных поставщиков энергии – и тепловой, и газовой – крупнейшие компании в этой сфере, и мы договорились (естественно, это будет оформлено решением нашего антимонопольного органа), что будет применена в следующем году такая же схема, как и в этом году, – «инфляция минус». То есть, если инфляция 4%, значит, будет минус – минус процент, например, – три процента. Вот в этих параметрах и нужно будет решать задачи по капремонтам.
И.Зейналова: И тут я снова с вопросом: где деньги, Дмитрий Анатольевич? Весь этот рост тарифов и тому подобное идёт на фоне заморозки всевозможных индексаций. Недоиндексация пенсий в 2016 году была. Понятно, что будет единовременная выплата 5 тыс. рублей пенсионерам. А дальше на что рассчитывать?
Д.Медведев: Ирада, никаких заморозок нет, всё разморожено. Всё в этом смысле понятно, предсказуемо.
И.Зейналова: То есть деньги есть?
Д.Медведев: Деньги на эти цели запланированы, деньги есть. Действительно, у нас сложилась непростая финансовая ситуация в начале текущего года, и мы вынуждены были принять решение о том, чтобы индексацию пенсий разделить на две части: в начале заплатить часть и во второй половине года. С учётом текущей ситуации мы заплатили первую часть индексации в виде процентов, а вторую часть индексации, как вы знаете и как знают наши пенсионеры, мы приняли решение заплатить в виде единовременной выплаты, для того чтобы не создавать макроэкономических проблем.
Что это дало? В результате у нас с учётом первой части индексации в начале этого года и 5-тысячной выплаты произойдёт рост реального размера пенсии – не номинального, подчёркиваю, а реального размера пенсии. Иными словами, вот эта 5-тысячная выплата, по сути, означает вторую часть индексации. А для части пенсионеров (давайте не будем о них забывать, это, может быть, наиболее уязвимая часть пенсионеров, у которых небольшая пенсия) эти 5 тыс. больше, чем они получили бы от индексации.
Таким образом, мы задачи текущего года по индексированию выполнили, хотя это было непросто. Были дискуссии, было напряжение, тем не менее мы нашли 220 млрд рублей, для того чтобы вот эту 5-тысячную выплату осуществить.
В следующем году в бюджете на выплату пенсий запланирована огромная сумма (я имею в виду бюджет Пенсионного фонда) – в общей сложности это 7 трлн рублей. У нас 40 млн, даже больше – 43 млн пенсионеров. Это очень большая часть нашей страны, наших граждан, поэтому это огромные деньги, которые мы предусматриваем. Все разговоры о том, что пенсии перестанут индексировать или что-то недоплатят, – всё это ерунда. Всё заплатим, всё, что причитается.
По следующему году принято решение о том, чтобы вернуться к обычной системе индексирования и индексировать пенсии по реально сложившейся инфляции предыдущего года. То есть индексация пенсий в следующем году, которая должна происходить уже в I квартале следующего года, будет произведена, она будет составлять 5,8%, то есть процент инфляции за текущий год, хотя инфляция, кстати, будет несколько меньше даже.
Поэтому все решения в области индексирования приняты. Это касается и социальных пособий, и социальной пенсии, и целого ряда других выплат. Мы и дальше будем столь же ответственно себя вести в отношении наших граждан при осуществлении социальной политики. Ещё раз хочу сказать: все социальные расходы – абсолютный приоритет, они в полной мере забронированы от каких-либо секвестров, уменьшений, всё это в бюджете. Это огромные деньги, и мы, естественно, всё это сделаем. Именно так.
С.Брилёв: Дмитрий Анатольевич, я хотел Вас спросить про те огромные деньги, которые оказываются маркированы, или номера купюр потом записывают следователи. Вопрос про коррупцию. Понятно, что не первый год идёт борьба, но совершенно очевидно, что громких и очень громких дел за последние месяцы здорово прибавилось. Через решётки в залах суда мы наблюдали уже минимум пару губернаторов, было дело господина Захарченко, но, строго говоря, это не Ваши подчинённые. Но недавно в этом списке появился подотчётный Вам бывший министр экономического развития Алексей Валентинович Улюкаев.
Что это было? Как Вы это пережили? Вы традиционно подчеркиваете, что Вы юрист, предлагаете всегда дождаться решения суда, но в данном случае уже назначен его сменщик. То есть улики всё-таки оказались настолько серьёзными?
Д.Медведев: При ответе на этот вопрос я всё-таки начну с того, о чём говорю всегда и считаю это абсолютно справедливым и как юрист, и как Председатель Правительства, и как гражданин Российской Федерации. До момента постановления, решения суда – обвинительного или оправдательного приговора (приговор может быть и оправдательным по любому делу) – мы не можем говорить о виновности того или иного лица. Это первое.
Теперь второе, по поводу борьбы с коррупцией. Действительно, за последние годы в этом важнейшем для нашей страны деле произошли очень существенные изменения. Первое. Были приняты решения… Я когда-то начинал это ещё в 2009 году, когда мы запустили первый антикоррупционный пакет и приняли целый ряд фундаментальнейших, важнейших законодательных решений – и об ответственности госслужащих, и о декларациях, и о конфликте интересов. Впоследствии эти решения были развиты в 2012, 2013 и 2014 годах, и сейчас мы имеем неплохую базу антикоррупционного законодательства, в полной мере соответствующую международной практике.
Но это мало. Законы могут быть мёртвыми, если их не применять. В последнее время эти законы стали гораздо активнее применяться на практике. Только с 2012 года следственные органы направили в суд 50 тыс. уголовных дел о коррупции. Из них приблизительно 3,5 тыс. – с так называемым спецсубъектом, то есть в отношении лиц, занимающих различные должности на государственной службе. Больше тысячи из них – это граждане, которые замещали должности мэров, руководителей муниципальных образований.
Ещё 1300 – это депутаты различных уровней власти. Кроме этого, следствие и судебные процедуры ведутся в отношении лиц, которые замещали должности мэров крупных городов и даже руководителей субъектов Федерации. Это касается высших должностных лиц Республики Коми, Сахалинской и Кировской областей. Все эти дела должны быть доведены до конца. Это очевидно. Я считаю, что это абсолютно правильно.
Теперь ко второй части вашего вопроса. Я уже охарактеризовал, что, на мой взгляд, представляет собой случай бывшего министра Улюкаева. Это очень печальное событие, исключительно печальное. Это событие находится за гранью моего понимания, того, что вообще может произойти с министром. Это высшее должностное лицо в иерархии исполнительной власти. В самом начале я на ваш вопрос сказал, что необходимо дождаться решения суда. Но исполнительная власть не может допускать никаких вакуумов, именно поэтому в связи с тем, что Президентом было принято решение об освобождении бывшего министра от должности в связи с утратой доверия (подчёркиваю, это не приговор суда, это лишь утрата доверия высшего должностного лица в стране, и я тоже такие решения когда-то принимал, они не означают обвинения), – необходимо было этот вакуум заполнить. Поэтому был назначен новый министр, чтобы Правительство работало в полном составе. Сейчас у министерства есть руководитель, который входит в курс дела, решает те огромные задачи, которые возложены на Министерство экономического развития.
С.Брилёв: Дмитрий Анатольевич, улики всё-таки настолько серьёзны?
Д.Медведев: По уликам, я считаю, комментарии могут давать только следственные структуры. Именно они оценивают эти улики, я здесь воздержусь от комментариев.
М.Фишман: Можно я продолжу эту же тему, она действительно представляется важной в связи с громкими делами этого года, за которыми мы наблюдаем. Вы говорите, утрата доверия – это не приговор, но это часто читается и воспринимается как приговор. «Маркированная валюта» тут прозвучала, мой коллега Сергей сказал. Мы видим не просто аресты, а шоу. Картина этого года: нам показывают чиновника на фоне пачек с долларами. И ощущение такое же, как с утратой доверия, что суд уже не нужен. Вспомню показательный пример – скандальная история с главой таможни Бельяниновым. Человек унижен, уволен по факту того, что произошло. При этом мы даже не знаем, было ли нарушение закона. Мы даже не знаем, состоится ли суд. И это показательная история. У нас в целом есть вопросы к тому, что такое борьба с коррупцией. Вы говорите, очень много случаев – 50 тыс. должностных лиц по всей стране. Мы понимаем, что коррупция в России носит масштабный, может быть, даже тотальный характер, то есть это не взятки, а способ жизни. Когда мы видим то, что видим, то мы с большой долей уверенности предполагаем, что силовые органы и пресса это инструменты для сведения счёта с конкретными чиновниками, начиная от мэров и кончая, может быть, министром федерального правительства. Что в этом проблема, что силовые органы используются избирательно и по разным причинам, а борьба с коррупцией – это повод, смысл не в ней.
Д.Медведев: Сначала про борьбу с коррупцией, потом про позицию журналистов, прессы и так далее. Я всё-таки хочу подчеркнуть ещё раз, что борьба с коррупцией в нашей стране за последние годы приобрела системный характер. Это не кампанейщина, это не желание понравиться, это не какие-то предвыборные лозунги. Ровно поэтому, какой бы политический сезон ни был, когда идут выборы или когда они заканчиваются, всё равно антикоррупционные расследования продолжаются, чиновников, должностных лиц привлекают к ответственности. Эта линия будет продолжена, о чём было сказано и Президентом, и у Правительства в этом смысле абсолютно совпадающая позиция. Кстати, эти расследования, о которых я сказал, касаются и должностных лиц следственных органов. За этот период, о котором я говорил, отвечая на Ваш вопрос, в суды было передано 500 дел в отношении следователей и прокуроров. Это очень существенная цифра. То есть они являются предметом антикоррупционного расследования.
Теперь в отношении того, как всё это показывать. Не мне вам объяснять, потому что вы все как раз представляете средства массовой информации, что очень часто плохие новости гораздо интереснее, чем хорошие, и СМИ стараются найти что-то такое, что вызовет прямой, непосредственный интерес. Этим нельзя злоупотреблять. Ничего нельзя лакировать, но и злоупотреблять нельзя. Именно поэтому Президент в послании сказал, что такого рода расследование не может превращаться в шоу. Вы вспомнили одного нашего коллегу, который руководил таможенной службой, – Бельянинова. Я могу вам прямо, абсолютно откровенно сказать: он год просился, что называется, на выход. Он говорил, что устал, что у него есть другие желания в жизни, что он хотел бы поработать уже в других сферах. Он оставался просто потому, что ему искали замену. Так случилось, что это наложилось на такие мероприятия. И это действительно не очень хорошо. Поэтому это взаимная ответственность и журналистов, и всех, кто причастен к такого рода расследованиям. Президент сказал, что такого рода расследования не могут быть шоу. Это абсолютно справедливые слова. Продолжая то, что сказано Президентом, я хочу сказать, что такие шоу просто не должны продолжаться. Show must not go on!
М.Фишман: Просто я чуть-чуть уточню. Проблема главная, мне кажется, не в журналистах, а в том, чтобы мы понимали, что это не избирательная история.
Д.Медведев: Я когда-то учился на юридическом факультете и учил не только гражданское, экономическое право, коммерческое право, которым там в большей степени занимался, или государственное право, но и уголовное право, уголовный процесс. Коррупция есть в любом государстве, и проблема коррупции является проблемой государственного аппарата далеко не только у нас – мы это отчётливо знаем даже по европейским странам, которые, мы считаем, в этом смысле на более высокой, более продвинутой стадии развития находятся. В любом случае расследование всегда будет носить индивидуальный характер. Будут говорить: «Слушайте, вот рядом такие же находятся, а почему этого привлекли к ответственности?» Всё очень просто. В отношении конкретного гражданина набрали достаточное количество доказательств, и именно поэтому возбуждено уголовное дело. Невозможно же от следственных органов потребовать, чтобы они расследовали сплошняком против всех. У нас такой период был, мы с вами об этом знаем. Он очень плохо закончился. Невозможно говорить ни о коллективной ответственности, ни о том, чтобы возбуждать уголовные дела просто по признаку принадлежности к тому или иному государственному органу.
И.Зейналова: Вопрос про ещё одну замену в Вашем кабинете. Павел Колобков – Министр спорта. Занял эту должность, наверное, в самый страшный и самый тяжёлый для российского спорта период. Допинговый скандал. На прошлой неделе вышла вторая часть доклада Макларена. Они говорят, что у нас государственная система поддержки допинга, несмотря на заявления Президента, чтобы жёстко наказать всех причастных. Макларена это не интересует. Понятно, что сейчас посыпятся имена, WADA начнёт называть тех, кого они считают виноватыми. В Сочи уже отменён чемпионат по бобслею и скелетону. Спортом занимаются Ваши подчинённые. Что они Вам докладывают? Как идёт расследование? Мы сможем доказать нашу чистоту и вернуться в большой спорт?
Д.Медведев: Павел Колобков храбрый человек, раз занял должность министра в столь сложный период, о котором вы говорите. На самом деле он не только нынешний министр, напомню, что он ещё и олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира. Поэтому он на самом деле знает и профессиональный спорт, и спорт любительский.
Ответ на ваш вопрос я бы разделил на две части. Первая касается нашего отношения к допингу. Наше отношение к допингу абсолютно такое же, как и у всех других стран мира. Мы считаем допинг недопустимым в спорте. На использовании допинга должно быть табу. При этом (я и сам об этом говорил, и мои коллеги говорили) надо всё-таки разобраться с тем, что такое допинг. Эти бесконечные манипуляции: мы считаем это допингом, а это не считаем допингом… Да, есть критерии отнесения, но даже в рамках этих критериев, которые были выработаны WADA или какими-то экспертами при WADA, часть препаратов относится к допингу, а часть не относится. История с мельдонием всем хорошо известна. Такого рода сердечные препараты под другим названием, с близкой химической формулой, которые выпускаются в англосаксонских странах, почему-то в этот список не попали. А тот препарат, который когда-то был разработан в Советском Союзе, в этот список попал. Это как минимум внушает сомнения. Поэтому нужно дать абсолютно чёткое, юридически безупречное определение допинга. Более того, каждый спортсмен (мы об этом говорили с нашими спортивными руководителями) должен в любой момент иметь информацию о том, что является допингом, а что допингом не является, чтобы потом не было отговорок, что мы не знали. Но, с другой стороны, чтобы спортсмен, а ещё более важно, его тренер, его врач были проинформированы, что принимает спортсмен. Потому что спортсмен не может достигать спортивных результатов без использования витаминов, различных разрешённых стимуляторов. Это очень тонкая и сложная история. Поэтому здесь наша позиция совпадает: мы принимали и будем принимать решения по очищению нашего спорта от допинга. Действительно, эти проблемы в нашем спорте есть, как и в спорте других стран. Это наша общая задача.
А вторая часть ответа на Ваш вопрос связана уже с другим. Антидопинговая кампания превратилась в антироссийскую кампанию, это абсолютно точно. Нам на это намекали, говорили на разных уровнях, что это будет использовано против нас с учётом общей политической ситуации, сложившейся вокруг России.
Есть поводы нас в чём-то упрекать? Конечно, есть. Есть поводы упрекать другие страны? Тоже есть. Но кампания развёрнута только против наших спортсменов, против нашего государства. Сначала отстранили значительную часть наших спортсменов, которые должны были выступать на летних Олимпийских играх в Рио. Несмотря на это, мы выступили блестяще.
Потом было принято совершенно недопустимое, аморальное, на мой взгляд, решение о недопуске паралимпийцев. Это просто за гранью добра и зла. Мы с вами прекрасно понимаем, кто такие паралимпийцы – это люди с ограничениями по здоровью, иногда существеннейшими. Они же всю жизнь на лекарствах живут! И нам говорят, что эти люди принимали какие-то недозволенные препараты. Мы прекрасно понимаем, кстати сказать, что это и борьба с конкурентами, потому что наша паралимпийская сборная объективно была самой лучшей, потому что сила характера такая! Я считаю, что это просто абсолютно аморальное было решение.
Дальше – больше. Всякие доклады, то одна часть, то вторая. Я вижу в этом часть большой антироссийской кампании. Естественно, никакой государственной системы поддержки допинга не было, нет и быть не может. Это не значит, что отдельные тренеры или спортсмены допинг не используют, но пытаться дело представлять таким образом, что в этом замешана государственная власть, – это абсолютная чушь. Уж я-то знаю, о чём говорю.
Таким образом, борьбу с допингом мы продолжим, но в то же время я хочу, чтобы все наши граждане прекрасно отдавали себе отчёт в том, что решения по спортивным состязаниям, которые в отношении Российской Федерации принимаются, по нашим спортсменам, далеко не всегда продиктованы соображениями борьбы с допингом.
Последнее, свежее решение об отмене проведения у нас, в Сочи, чемпионата по бобслею и скелетону приняла международная федерация. Она действительно вправе такие решения принимать. Но возникает вопрос, во-первых, почему это сейчас было сделано, сразу после какого-то доклада. А раньше атмосфера была другой? Они на какую-то атмосферу ссылаются. И во-вторых, послушайте, что за детский лепет, какая атмосфера? Причём тут атмосфера? Есть договор, который связывает Международную федерацию бобслея и скелетона и нашу федерацию. В этом договоре установлены взаимные обязанности. В этих договорах должна быть установлена ответственность. Я, кстати, проверил, там ответственности серьёзной нет. Я считаю, что нам нужно ревизовать все наши соглашения со всеми структурами, которые занимаются проведением соревнований, для того чтобы в этих договорах содержались чёткие обязательства сторон. Чтобы, прежде чем такие договоры расторгать, другая сторона думала о том, что мы понесли затраты, что и для неё это может обернуться убытками. Это же не шутки. Поэтому этой работой должны заниматься все, в том числе и упомянутый Вами министр Колобков, и те, кто отвечают в Правительстве за спорт.
М.Фишман: А можно я уточню на эту же тему? Действительно, скандал огромный был летом с Олимпиадой, и всё-таки сборную отстраняли не из-за мельдония, насколько мы понимаем.
Д.Медведев: Ну в том числе и из-за мельдония.
М.Фишман: Но далеко не в первую очередь.
Д.Медведев: Там разные препараты упоминались.
М.Фишман: И Вы тоже признаёте, проблемы есть, мы их решаем, хотя отрицаете государственную составляющую, как Вы только что сказали. Тем не менее скандал большой. Сборная не едет. Министр, который олицетворяет этот скандал во всём мире, для всех, и в том числе здесь, в стране, идёт на повышение, становится вице-премьером – Виталий Мутко. Это потому что, как Вы говорите, история политическая и в политическом конфликте своих нельзя сдавать? Или почему?
Д.Медведев: Применительно к Виталию Мутко, он действительно сейчас работает заместителем Председателя Правительства, но он не является министром спорта. Все вопросы, которые ему адресовали различные лица с не очень понятным для меня правовым статусом (типа господина Макларена, я так до сих пор и не могу понять, кто он), эти вопросы и ответы на них никакого развития не получили. Вот посмотрите на последний доклад, который был опубликован. Что говорит этот господин? Он говорит: у меня есть полная уверенность в том, что Мутко причастен к этому скандалу с использованием допинга. И через несколько минут он оговаривается: но у меня нет на эту тему доказательств. Ну что это такое? Поэтому, как Вы сказали, кто-то олицетворяет допинговый скандал… У нас нет доказательств того, что, допустим, министр Мутко к этому скандалу причастен. Если бы такие доказательства были, он бы в Правительстве не работал. Но в то же время люди, которые отвечают за допинговую тему, свою сопричастность всем проблемам чувствуют, поэтому часть людей была освобождена от должности, в том числе заместители министров. Это очень серьёзные должностные лица.
Наконец, в настоящий момент Следственный комитет проводит расследование на тему того, что использовалось, кем использовалось. Давайте дождёмся его результатов. Это уже будут юридически корректные результаты, а не измышления тех или иных лиц с неопределённым правовым статусом, которые обвиняют должностных лиц из других государств бездоказательно.
В.Фадеев: Дмитрий Анатольевич, допинг в спорте, несомненно, имеет отрицательную коннотацию. Можно я вернусь к теме экономической? Мы перешли на тему фактически наших внешних отношений, внешних связей. Вы сказали, что продовольственный рынок у нас очень сильно растёт. Это так, безусловно, – на 3% рост. В частности, он растёт потому, что продовольственный рынок нашей страны был прикрыт от импорта. Он был прикрыт, потому что это контрмеры, наши меры в ответ на антироссийские санкции. Мы видим позитивное влияние таких контрмер.
Но ведь я так понимаю, что не везде влияние позитивное. А технологии? А доступ на рынки капиталов? А процентные ставки у нас в стране высокие, в частности потому, что ограничен доступ на рынки капитала?
Как, по-Вашему, будет развиваться эта тема санкций? Потому что, как бы мы ни боролись и ни старались, всё равно ведь они нам вредят.
Д.Медведев: Валерий, конечно, вредят. Санкции всем вредят, я неоднократно об этом говорил. Тот, кто вводит санкции, в конечном счёте создаёт проблемы. Не мы эту волну породили. В какой-то момент наши партнёры почему-то решили, что при помощи санкций в очередной раз можно склонить Россию к какой-то позиции.
Я неоднократно говорил: эти решения по отношению к Советскому Союзу или к России принимались многократно, они ни к чему не приводили для западных стран. В то же время для нас это создало новую ситуацию, которой мы, как я уже сегодня говорил, решили воспользоваться – и в части сельхозпродукции, и в части импортозамещения. Но, конечно, в целом санкции – это не нормальное явление. Они всё равно бьют и по интересам наших компаний, и по интересам западных компаний, причём по интересам целого ряда стран бьют очень существенно.
Вы сказали про продовольственные вопросы. Действительно, мы хорошо нарастили наш рынок. У нас сейчас продовольственная безопасность обеспечена по очень большому количеству товарных позиций. Мы уверены в том, что в ближайшие годы на 100% закроем все наши потребности на рынке. А наши соседи из-за этого весьма сильно просели. Если говорить о прибалтийских странах, то у них процент уменьшения валового внутреннего продукта в связи с нашими контрсанкциями очень значительный – до 1–1,5% ВВП в некоторых прибалтийских странах. Я только что был в Финляндии, у них тоже из-за этого потери. Поэтому это всё плохая история. Её, конечно, надо заканчивать. Притом что многие наши производители – и промышленники, и аграрии – просят Президента и Правительство не отменять контрсанкции, то есть ответные меры. Подчёркиваю: ответные меры, которые мы ввели не ради того, чтобы насолить нашим западным партнёрам, а для того, чтобы наша экономика начала развиваться. Тем не менее они просят их не отменять, потому что почувствовали возможности для развития. Мы пока эти ответные меры сохранили. Но все должны быть готовы к тому, что рано или поздно эта полоса закончится и возникнет снова чистое конкурентное поле. К этому времени надо развить сельское хозяйство и промышленность до такого уровня, когда они будут сопоставимы по силе с западной промышленностью и сельским хозяйством.
В.Фадеев: В этом году поддержка автомобильной промышленности в России составила 54 млрд рублей. В некотором смысле это несколько сбивает чистое конкурентное поле. Вы планируете продолжать поддерживать эту огромную российскую отрасль?
Д.Медведев: Планируем. Нам Детройт не нужен, нам нужны наши современные автомобильные заводы, которые производят хорошую продукцию теперь. И в прошлом году, и в этом году мы запланировали деньги, и в следующем году – 62 млрд рублей. Это самый большой объём помощи промышленности – 62 млрд рублей. Это касается различных видов автотехники – и легковой, и грузовой, то есть это всё вместе. При этом мы хотим эту программу немного изменить и сделать её более адресной, более приспособленной к интересам конкретных людей. Появятся конкретные пользователи льгот. Малый и средний бизнес, большие семьи, фермеры смогут получить льготы. Чтобы они могли купить новый автомобиль с использованием льготы – той, на которую идут меры поддержки.
С.Брилёв: Наверное, наивно говорить, что у нас будет какая-то совсем позитивная повестка при Трампе, но некие ощущения, что здравомыслия прибавится в российско-американских отношениях, есть. Мы помним, когда в своё время был исчерпан потенциал отношений с Джорджем Бушем, возлагались большие надежды на то, что сейчас Обама придёт и жизнь поменяется. Вы с Обамой тогда объявили о перезагрузке. Или, скажем так, уполномоченные вами главы дипломатических ведомств нажимали на соответствующую кнопку. Чем дело закончилось, мы тоже знаем. Кнопка в музее МИДа лежит, можно посмотреть. Где, Вам кажется, мы с американцами не дорабатывали?
Каким бы могло быть нормальное экономическое сотрудничество со Штатами, тем более что его всегда остро не хватает в наших двусторонних отношениях?
Д.Медведев: Сначала про сотрудничество. В том, что у нас так деградировали отношения... Понятно, что руководитель любого правительства будет исходить из национальных интересов, но мы всё-таки считаем, что в этой деградации, к сожалению, виноваты наши американские партнёры. Мы к этому не стремились. Действительно, предпосылки были весьма неплохие, что-то останется даже на будущее, но в значительной мере фундамент, который был создан, разрушен.
Наше сотрудничество с Соединёнными Штатами Америки всегда будет делиться на два сектора. Первый сектор, где мы друг от друга зависим, где мы являемся обязательными партнёрами, и нам от этого партнёрства никуда не деться. Это вопросы международной безопасности. Две страны, крупнейшие ядерные державы, постоянные члены Совета Безопасности, на нас лежит фундаментальная ответственность за поддержание мира на планете. И мы способны и готовы к этому. Здесь в любом случае всегда консультации велись и будут вестись. Это абсолютно нормально. Это касается всех вопросов – и стратегического паритета, и ядерного сдерживания, и вопросов крупных локальных конфликтов типа Сирии. Это касается вопросов обсуждения важнейших тем для планеты на площадке Организации Объединённых Наций и так далее. Здесь мы в любом случае остаёмся на контакте.
Что касается второй части, или второго сегмента, здесь мы не обязательные партнёры и можем прожить друг без друга. Вопрос в том, надо ли.
С.Брилёв: Экономику имеете в виду?
Д.Медведев: Конечно, это экономика. У нас никогда не было сверхвысокого оборота с Соединёнными Штатами Америки. Посмотрите, крупнейшая экономика мира, а у нас всегда оборот был в районе 25–30 млрд долларов, не более того. В то время как, например, с Германией он был в несколько раз больше. Я уж не говорю про торговый оборот сейчас с Китаем и так далее. Иными словами, там никогда не было чего-то сверхъестественного.
Но сейчас произошла ещё бо?льшая деградация – ещё раз употреблю этот термин – и торговых отношений. Наш торговый оборот за этот год, может быть, будет 17–18 млрд. Это для наших экономик вообще ничего. Да, проекты сохраняются. Многие представители бизнеса с удовольствием говорят об участии в различных наших совместных компаниях, в решении новых задач. Но это вопрос, который в значительной мере будет зависеть от администрации.
А теперь в отношении того, какой курс будет проводить новая администрация: я не знаю. Многие вещи, которые были озвучены избранным Президентом Дональдом Трампом, мне кажутся разумными, прежде всего потому, что это прагматические вещи. Он ведь не говорит о том, что Россия – это друг, что мы хотим какой-то особой дружбы. Он говорит: мы хотим, чтобы были обеспечены прагматические интересы Соединённых Штатов Америки, мы никого не хотим делать врагами, мы хотим со всеми развивать отношения. Это правильные слова для любого национального лидера. И мы то же самое говорим. Ведь мы все решения принимаем не ради американцев, китайцев и ещё кого-то. Мы принимаем их в наших национальных интересах. В наших национальных интересах выстроить с ними нормальные отношения. Проблема заключается в том, что любой избранный президент приходит не в чистое поле, а уже на готовую ситуацию. Есть традиции, есть Государственный департамент, есть решения, ранее принятые Конгрессом, Сенатом. Иными словами, всё это будет сказываться на будущей политике, которую будет проводить новая американская администрация. Но мы, конечно, хотели бы стабильных, нормальных, современных отношений с Соединёнными Штатами Америки, о чём неоднократно говорил Президент Путин.
И.Зейналова: Мы добрались до Трампа, а Трамп добрался до отдела кадров. Он назначил товарища, награждённого российским орденом Дружбы за сотрудничество с Россией. Это Рекс Тиллерсон, госсекретарь. Это как раз и есть та самая современная внешняя политика, на которую мы надеемся и уповаем. Илон Маск сегодня назначен советником. Это такие крепкие хозяйственники от капитализма. Явно не от политики. Вы с ними встречались на полях международных саммитов? Поскольку Вы – по хозяйству и они – по хозяйству. А теперь будут политикой заниматься. Можете предсказать, чего ждать от них?
Д.Медведев: Если говорить о людях из бизнеса, а господин Тиллерсон действительно относится к этой когорте, это люди с очень прагматическим мышлением. Мне кажется, это очень хорошо. Посмотрите, что в Америке произошло? Я не знаю, что в конечном счёте там сложится, но у них такая ситуация, когда во главе страны встал человек, который практически ни дня не был на государственной службе, всю жизнь занимался вопросами развития экономики и бизнеса. Он предлагает свою команду таких же людей. У этих людей – мне кажется, это самое главное – нет врождённых антироссийских или вообще каких-то «анти»-стереотипов. У меня было много контактов с американскими должностными лицами. Я не буду никого конкретно называть, чтобы не обидеть. Но многим из них я говорил: «Твоя беда в том, что ты всю жизнь занимался советологией, у тебя уже есть набор стереотипов, которые тебе дали в Стэнфорде, ещё где-то. И, даже несмотря на природный ум и всё остальное, это довлеет». Эти люди всё начинают с чистого листа. Мне кажется, это неплохо. А господин Тиллерсон всем нам известен как крупный бизнесмен, человек, который много работал на совместных проектах, в том числе на Сахалине, по целому ряду других сделок. В этом смысле с ним хорошие отношения у российских крупных компаний. Ровно поэтому он был когда-то награждён нашим орденом Дружбы. Ну уж не знаю, что это, так сказать, будет значить в процедуре его назначения на должность. Посмотрим.
С.Брилёв: Интересно Вы сейчас и про Кондолизу Райс рассказали, Дмитрий Анатольевич.
Д.Медведев: Я никого не называл. Это Вы сами домыслили.
С.Брилёв: Дмитрий Анатольевич, давайте вернёмся к нашей повестке. Почти все здесь присутствующие встречались с Вами в течение последнего года тет-а-тет (хотя, наверное, миллионы телезрителей это видели) в канун предвыборной кампании.
Д.Медведев: Да.
С.Брилёв: Мне лично удалось записать с Вами интервью за неделю, по-моему, до выборов.
Д.Медведев: Да, так и было.
С.Брилёв: Вы тогда были нацелены на результат, который, у меня такое ощущение, даже где-то превзошёл Ваши ожидания, – такое конституционное довлеющее большинство. Я неслучайно слово «довлеющее» немножко выделил. Есть даже мнение, что в известной степени можно применить выражение «потерпеть победу», – вот что произошло в сентябре. К чему я это? Конечно, если посмотреть на нынешнюю Думу, после долгого перерыва вновь конституционное большинство. Собственно говоря, дебаты по бюджету сейчас показали, что, да, у оппозиции есть право что-то сказать, но, в общем, сказали и разошлись. Не пугает ли Вас такое большинство, хватает ли Вам качества оппозиции?
Д.Медведев: Ничего не пугает. Всего хватает. И оппозиции тоже. Всё нормально абсолютно.
С.Брилёв: То есть Вам комфортно?
Д.Медведев: Всё по заслугам, что называется. Мы прошли сложную избирательную кампанию. Я лично очень много регионов посещал и как Председатель Правительства, и проводя предвыборные мероприятия. И тот результат, который мы получили, действительно для нашей партии, для «Единой России», очень хороший, я спорить не буду. Но считать, что в Государственной Думе что-то фундаментальным образом изменилось, я не могу по одной простой причине, даже не только с точки зрения большинства, а с точки зрения распределения ролей. Вот посмотрите, все комитеты, которые раньше были закреплены за другими партиями, которые проходили в Государственную Думу, остались за ними. Все высшие должностные лица, которые там замещали должности в руководстве Государственной Думы по пропорциональному, так сказать, принципу, остались на местах. В этом смысле наши коллеги из других оппозиционных партий (кто прошёл, естественно, а прошли те же) своё представительство сохранили. И нам, нашей партии, вполне хватает и критики с их стороны, и жёстких позиций. Это в полной мере проецируется на деятельность Правительства. Они нас как критиковали, так и критикуют, иногда очень жёстко критикуют. Но это полезно, это важно, тем более что и в словах, которые использует оппозиция, и в их аргументах, доводах всегда есть какое-то рациональное зерно. Мы обязаны это изучать.
С.Брилёв: Но и парламент, я так понимаю, сейчас, даже будучи единороссовским, начал с вас строже спрашивать, министров вызывает, я знаю.
Д.Медведев: Министров и раньше всегда вызывали, но мы договорились с новым руководством парламента, я специально обсуждал это с председателем Государственной Думы. Министры должны быть дисциплинированны. Я подписываю, например, распоряжение о том, что представляет закон конкретный заместитель министра. Заместитель министра – это всё-таки серьёзная фигура, это человек, который обладает большими полномочиями. Что делает этот человек? Он не идёт в Государственную Думу, а присылает кого-то менее высокого.
С.Брилёв: Директора департамента.
Д.Медведев: Директора департамента, заместителя директора департамента. Депутаты справедливо обижаются. Поэтому я сказал: знаете, ребята, если я подписал распоряжение про конкретного человека, заместителя министра, пусть он везде и ходит.
Э.Муртазаев: Возвращаясь к парламентским выборам. Ведь не секрет, что на этих выборах явка оказалась рекордно низкой за всю историю выборов в России, при этом особенно низкой она оказалась среди избирателей в больших городах. Вы не считаете, что это такой ответ городского среднего класса, такая форма недовольства существующей технологией выборов, существующей процедурой?
Д.Медведев: Я не считаю, конечно, так. Не потому, что я представляю сейчас ведущую политическую силу, а по вполне понятным статистическим соображениям. В развитых демократиях (мы пока ещё, подчёркиваю, не развитая демократия, мы на пути развития своей правовой системы, наших демократических основ) явка никогда не бывает сверхвысокой, кроме каких-то экстремальных ситуаций.
В среднем по Европе явка 52, 47, 45, в некоторых странах европейских 33, 35 на выборах в парламенты. У нас явка была 48%. Это средняя явка по современным странам. При этом у нас все процедуры используются, которые предусмотрены. У нас сейчас нет такого обильного голосования досрочно, как в некоторых других странах, у нас не голосуют по почте. У нас Президента (хотя сейчас не президентские были выборы) избирают большинством голосов, в отличие от некоторых других стран, где Президента могут избрать меньшинством.
С.Брилёв: Но Вы опять не назовёте их?
Д.Медведев: Опять называть не буду. Но мне когда-то просто коллеги мои американские называли это в качестве преимущества их избирательной системы. Сейчас оставлю это без комментариев.
Поэтому явка, на мой взгляд, нормальная, средняя. Что касается больших городов, Вы правы. Действительно, большие города в чём-то меньшую активность проявляют. Я не знаю, результат ли это разочарований (это всё подлежит отдельному исследованию) или наличия другой повестки дня, большего количества ярких лидеров в провинции, каких-то иных соображений. Но, мне кажется, из того, как проходили выборы в крупных городах, нужно извлечь определённые уроки, в том числе и для «Единой России», конечно. Притом что, надо сказать прямо, наша партия в отличие от многих других реально ходила по дворам, предъявляла свои партийные проекты, включая проекты благоустройства дворов. Мы этот проект тогда засветили, что называется, предложили его осуществлять. Впоследствии он прошёл проработку в Правительстве, был поддержан только что в Послании Президентом, и сейчас по всей стране развернётся программа благоустройства дворов. Я просто к тому, что это и вопрос к конкретным людям, которые занимались избирательной кампанией.
М.Фишман: Я спрошу про гуманитарную сферу. Она мне представляется очень важной, уверен, что не мне одному. Это вопрос по Вашей части, потому что это вопрос про работу правительственных структур, а именно Министерства культуры. Наблюдая за тем, что происходило в течение этого года, мы видели, как Министр культуры видел своё ведомство идеологической инстанцией, а свою работу видел в том, чтобы насаждать единственно верные трактовки, с его точки зрения. Я могу очень много примеров приводить, но возьму последний, а именно обвинение в адрес центра Бориса Ельцина в Екатеринбурге в том, что там неправильно показывают историю, что её надо показывать не так, а этак. Но это просто пример, это происходит постоянно. У меня вопрос очень простой: это вообще входит в должностные обязанности Министра культуры объяснять нам, что правильно, а что нет?
Д.Медведев: Сегодня мы затрагиваем наших коллег, которым трудно работать. Не хотел бы я работать министром культуры с учётом тех вопросов, которые вы задаёте, как и министром спорта. Это сложная работа, нервная.
На мой взгляд, любой министр должен осуществлять координацию, как принято говорить, государственной политики в этой сфере. Относятся ли к вопросам координации государственной политики и издания соответствующих нормативных актов комментарии по конкретным ситуациям? Здесь, мне кажется, нужно исходить из максимально аккуратной, сбалансированной позиции. Вы упомянули Ельцин-центр, говорите, что есть и другие примеры комментариев со стороны Министра культуры или какого-либо другого министра. Но Министр культуры – это идеологическая сфера, это всегда более выпукло выглядит. Когда речь идёт об оценках того или иного предмета искусства, выставки, постановки, на мой взгляд, кто должен это комментировать? Эксперты, соратники по цеху, обычные люди, которые говорят: «мне нравится, мне не нравится», «это годится, это не годится», «это соответствует нашим представлениям, не соответствует нашим представлениям». Когда комментарий осуществляется чиновником в любой сфере, это, к сожалению, в какой-то момент может быть воспринято как окрик. А вот этого допускать нельзя. Даже если должностное лицо и не собиралось заниматься цензурой и что-либо пресекать, просто сразу же формируется тренд: если это позиция министра, значит, нас поставили на место. В этом плане министры – и Министр культуры, и другие министры – должны быть максимально сдержаны в высказывании своих позиций, даже если они абсолютно уверены в справедливости своих суждений.
И.Зейналова: Дмитрий Анатольевич, самым современным из искусств у нас является интернет. Вы активный пользователь. Вы фотографируете, выкладываете. Сейчас, говорят, даже в социальных сетях новый тренд: если раньше все фотографировались на фоне машин, красивых видов и с загаром, то теперь исключительно: офис пустой, а я всё ещё работаю, начальник ушёл, а я всё ещё вкалываю… Вероятно, в ожидании лайков от этого начальства. Самые большие дискуссии в интернете и об интернете: давайте закроем один сайт, давайте закроем другой… Если была бы Ваша воля, что бы Вы закрыли и как бы Вы регулировали этот виртуальный мир? Потому что он уже совсем близко к реальности подошёл.
Д.Медведев: Ирада, я, кстати, не видел в социальных сетях фотографии пустых офисов.
И.Зейналова: Просто у Вас никто не работает. Вы сами говорите, чиновники не хотят!
Д.Медведев: Это навело меня на хорошую мысль, надо мне сделать такого рода публикацию, чтобы было видно, что Председатель Правительства в позднее время на месте!
И.Зейналова: Окно горит…
Д.Медведев: Окно горит, не спит, пульт работает, телефоны все работают, а остальные коллеги где? Поэтому я обязательно возьму это на вооружение.
По поводу интернета и социальных сетей. Мне кажется, что интернет, социальные медиа, социальные сети – это сегодня и не добро и не зло, это просто факт нашей реальности. Вот смотрите: раньше наши предки владели блестящим образом (особенно образованные люди, конечно) эпистолярным жанром, то есть писали прекрасные письма друг другу. Потом, в ХХ веке, появился телефон, они часами висели на телефоне. Звонили, обсуждали какие-то проблемы. Сейчас средством общения стал интернет. Это возможность посмотреть мир, показать себя в этом мире, отреагировать на какое-то событие или получить очень жёсткую, зачастую неадекватную реакцию, причём анонимно. Ещё раз говорю, поэтому это и не зло и не добро, это факт нашего времени. Точно так же нам всем понятно, что в настоящий момент интернет – это неисчерпаемый источник знаний, причём тоже самых разных: и полезных, и бесполезных, и иногда очень вредных. Поэтому в целом моё отношение к социальным сетям такое: это то, что нас окружает, и этим можно пользоваться, если тебе этого хочется, в соответствии с законом и с учётом тех решений, запретов, которые в любой стране существуют. Что здесь очень важно? Я об этом неоднократно говорил и ещё раз вам скажу. Очень важно, чтобы мировое сообщество, как когда-то в середине XIX века, в середине XX века, применительно к авторским правам выработало конвенцию, именно международную конвенцию. Не какие-то решения юрисдикционных органов Соединённых Штатов Америки, где когда-то было принято решение присваивать доменные имена (сейчас, правда, они кое-что изменили, но тем не менее всё осталось в значительной мере как прежде), а именно международную конвенцию, в рамках которой и можно будет отрегулировать все вопросы развития интернета, включая и вопросы развития социальных сетей.
С.Брилёв: В таком случае вопрос от меня на правах подписчика в «Фейсбуке» – на Дмитрия Анатольевича я подписан. Вы там всё-таки часто и фотографии выкладываете... Мы отработали примерно полтора часа, договаривались, что так примерно и будет.
Д.Медведев: Даже больше.
С.Брилёв: Поэтому давайте в качестве завершения. Если языком фотографических вспышек, Дмитрий Анатольевич, чем у Вас 2016 год остаётся в памяти?
Д.Медведев: Если фотографическими вспышками пойти, то, конечно, год, как я уже сказал, был сложный. С другой стороны, год включал в себя и радостные моменты, и позитивные какие-то ситуации. Конечно, я не могу не вспомнить из крупных событий года выборы в Государственную Думу. Что скрывать, это для страны важнейшее было событие.
Я не могу не вспомнить выступление наших спортсменов в Рио, где, несмотря на все ограничения, несмотря на недружественную позицию в отношении нашей страны, нашего спорта, они выступили блестяще. Я хочу их ещё раз за это поблагодарить от всех нас, от всех, кто болел за них.
У нас были примеры совершенно фантастических явлений, связанных с культурой и искусством, несмотря на критику определённую, которая раздавалась в этом направлении. У нас люди стали активно посещать экспозиции крупных художников, туда многотысячные очереди, если вспомнить выставки Серова или Айвазовского. Или же, например, такое фантастическое событие, как выступление оркестра под управлением Гергиева в Пальмире. Всё это создаёт образ 2016 года. А впереди 2017 год. Я желаю, конечно, всем в наступающем году счастья, мира, здоровья и процветания.
С.Брилёв: Спасибо, Дмитрий Анатольевич, за Ваше время. Спасибо коллегам. На этом наш ежегодный разговор с Дмитрием Медведевым подошёл к концу. Всего доброго и до встречи.

Гендиректор РУСАЛа: следующий год будет сложнее, чем 2016-й
В то же время, как отметил Владислав Соловьев в интервью Business FM, по итогам III квартала компания имеет уже неплохие показатели за счет операционной эффективности
Что сейчас происходит на российском и мировом рынке алюминия, и что ему мешает развиваться? На эти вопросы генеральный директор, председатель правления, член совета директоров компании РУСАЛ Владислав Соловьев ответил в интервью обозревателю Business FM Ивану Медведеву. По его мнению, для стимулирования рынка алюминия надо принимать протекционистские меры, а для увеличения потребления необходима помощь государства.
По масштабам производства и потребления алюминий занимает первое место в цветной металлургии, а среди отраслей и металлургии по объему уступает лишь производству стали. Если говорить о рынке на конец 2016 года, какая картина сложилась, что сейчас происходит на рынке алюминия?
Владислав Соловьев: Если говорить о том, как выглядит потребление в нашей стране, то мы обычно сравниваем среднедушевое потребление. Оно сейчас в России составляет 5,6 килограмма на человека, при том что на среднемировом уровне — более 8 килограммов, но есть страны и с 20-25-килограммовым потреблением. А если посмотреть по доле России на мировом рынке, то это всего, к сожалению, 1,5%. Если посмотреть на то, как росло мировое потребление и, соответственно, внутри него российское, за последние 25 лет, мировое потребление алюминиевой промышленности выросло в 2,6 раза, в то время как у нас, если даже брать Россию и СНГ, то оно не только выросло, но и еще сократилось практически на треть.
Почему?
Владислав Соловьев: Тут довольно много факторов. Они разнонаправлены, но все влияют отрицательно. Во-первых, основное — это, конечно же, существенные проблемы отраслей, которые не могут обеспечить необходимый выпуск продукции. Вторая проблема заключается в том, что эти отрасли, которые выпускают изделия из алюминия, не обеспечены в достаточной мере современным оборудованием, оно находится в аварийном состоянии, и по объему, и качеству производить необходимый алюминий не могут. В-третьих, это высокая себестоимость. Наши потребители имеют довольно серьезную конкуренцию со стороны китайских производителей импорта.
В целом, конечно же, после распада Советского Союза вообще был массовый спад объемов потребления. Мы знаем, что, к сожалению, объемы производства в авиационной технике уже не те. Автомобильная промышленность сейчас подтягивается, но был большой провал. Сейчас есть потребность в производстве бытовой техники — это могут быть батареи, бытовые радиаторы. К сожалению, спрос у нас серьезным образом уменьшился.
Если брать последние два-три года, динамика тоже отрицательная?
Владислав Соловьев: В последние годы мы видим улучшение. Перелом происходит, но, чтобы перейти в устойчивый рост, нужно принять ряд существенных мер: нужно по ряду отраслей, например, по автомобильной отрасли, запретить использование бывшего в употреблении оборудования, автоприцепов. Нужно более активно прорабатывать механизмы офсетных сделок, в мире это везде существует, и никто особо не стесняется их применять. Нам нужно возродить этот принцип. Я считаю, что не надо стесняться защитных мер.
А в ВТО нам наши обязательства в этом плане не мешают?
Владислав Соловьев: Я считаю, что у нас достаточно механизмов в рамках ВТО регулировать импорт некачественных или не соответствующих мировым стандартам изделий, тем самым все-таки защищать наш рынок. Мы не призываем к тому, чтобы это делалось повсеместно, но точечно, там, где мы имеем очевидно «серый» или некондиционный импорт, это делать можно, особенно если это влияет на безопасность. Если взять к примеру автомобильный диск, надо очень внимательно посмотреть на его качество, потому что если на большой скорости он разорвется или отлетит, то это может влиять в том числе на безопасность и привести к летальным последствиям.
Если вернуться к внутреннему рынку алюминия, что еще мешает ему развиваться и что нужно делать для того, чтобы эти барьеры устранять?
Владислав Соловьев: Я считаю, что нужно более внимательно смотреть по отраслям. Например, мосты. В Европе большинство пешеходных мостов делается из легких материалов, в частности, из алюминия. В России в настоящий момент сейчас нет ни одного такого моста. Первый, я надеюсь, появится в Нижнем Новгороде. Нужно максимально стимулировать это потребление и там, где это действительно целесообразно, применять мировой опыт и заменять на легкий металл, в данном случае на алюминий. Он и коррозионностойкий, и долговечный, и, что самое главное, легкий.
Дальше — вагоны. В Европе и США алюминиевые вагоны составляют 70% всего парка, в России пока два опытных образца. Если сравнивать с остальными, то срок алюминиевого хоппера больше на шесть лет — они служат до 32 лет, грузоподъемность больше на 8 тонн, и они легче.
Окна. Алюминиевый оконный профиль точно более долговечен, чем пластиковый и тем более чем деревянный. И дальше мы можем идти в очень разные переделы. Бурильные трубы, нефтепогружные кабели, велосипеды, проводка в автомобилях, проводка в жилых домах.
Мосты, вагоны, окна, проводка — для стимулирования потребления в вышеперечисленных историях решения должны приниматься на уровне государственном, федеральном, региональном, или это все можно решать на уровне бизнеса? Грубо говоря, чтобы строить вагоны из алюминия, нужно распоряжение правительства? Чтобы разрешить алюминиевую проводку, нужно принимать изменения на законодательном уровне, или бизнес способен сам справиться?
Владислав Соловьев: Один из тормозящих элементов, который я забыл упомянуть, когда мы говорили о том, что мешает, это правила, ГОСТы, СНиПы и технические требования. Здесь без государства нам не обойтись. Что касается вагонов, то такой вагон, конечно же, дороже, и государством могла бы быть применена какая-нибудь инновационная скидка. Поэтому без государства, к сожалению, не обойтись.
Если говорить о цифрах РУСАЛа, какие показатели компания имеет на конец 2016 года, и, может быть, вы готовы озвучить какие-то плановые показатели на следующий год?
Владислав Соловьев: Этот год был непростой. Цены по-прежнему крайне низкие. За девять в этом году месяцев наша выручка снизилась почти на 867 млн долларов, почти на 1 млрд долларов относительно прошлого года, или на 12,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Как это коррелирует с показателями по рынку в целом?
Владислав Соловьев: Примерно такая же динамика у всех наших мировых конкурентов. Это связано просто с падением цены. В то же время мы по итогам III квартала имеем уже неплохие показатели, благодаря, конечно, операционной эффективности. Надо сказать, что в III квартале цена несколько выправилась. Мы считаем, что наша динамика будет — собственно, это уже факт — лучше, чем динамика конкурентов. Наш показатель EBITDA, которым все оперируют, в III квартале вырос аж на целых 22,5% по сравнению с предыдущим кварталом до 421 млн долларов. Нам удалось удержать себестоимость за III квартал на исторически низком уровне 1330 долларов за тонну. Но повторю, по-прежнему ситуация на рынке сложная, очень волатильная, то есть колебания цены крайне высокие.
Самое главное, со стороны издержек уже идет инфляция, тарифы на перевозки растут, а у нас самый главный конкурентный недостаток заключается в том, что мы находимся в центре страны и везем из порта в центр страны две тонны, а потом еще одну тонну обратно. Я уже не говорю про прочее сырье, я говорю про основное сырье глинозем. Поэтому, конечно, мы очень чувствительны к транспортным тарифам, а они будут, естественно, проиндексированы, здесь нет сомнений. На сколько, диалог еще идет, но инфляция-то все равно будет. Также подтягиваются и прочие виды сырья, электроэнергия растет. Ситуация сложная, при этом цена пока не перекрывает рост инфляционных издержек, поэтому следующий год в цифрах называть пока не буду, но он точно будет сложным, сложнее, чем этот.
Иван Медведев

«Возможности создания аддитивных деталей из алюминия ограничены лишь оборудованием»
Интервью с техническим директором «Русала» Виктором Манном
Ирина Быстрицкая
Аддитивные технологии набирают все большую популярность среди производителей. О том, что скрывается за термином «аддитивная технология», как она меняет процесс производства и может ли в ближайшее время совершить революцию в алюминиевой промышленности в интервью «Газете.Ru» рассказал технический директор «Русала» Виктор Манн.
— Начнем с основного вопроса. Что такое аддитивные технологии?
— Самым ярким примером аддитивных технологий является 3D-печать, которая становится все более массовой. Долгое время при обработке детали или изделия лишний металл снимали станками, то есть шла речь об «удалении» материала. Аддитивные технологии работают по противоположному принципу - они позволяют деталь «наращивать». Для этого требуются только 3D-принтер, 3D-модель изделия и металлический порошок. Благодаря такой технологии сложные по своей геометрии детали и сборки можно создавать как единое целое, в рамках одной технологической операции. Кроме того, значительно снижается время изготовления конечного изделия.
— Как это «наращивание» может изменить металлургическую отрасль? Как аддитивные технологии влияют на точность, время изготовления, стоимость производства?
— Сейчас технология только завоевывает рынок, поэтому издержки для производителей достаточно высоки: это касается как оборудования, так и сырья.
Тем не менее, рынок растет, параллельно с этим падают цены на оборудование, порошки становятся доступнее, и сейчас для любой компании очень важно занять свою долю на этом рынке как раз на этапе его становления, чтобы не только стать ведущим производителем, но и определять вектор развития сегмента.
Что касается алюминия, то в ближайшей перспективе аддитивные технологии не сделают революции в производстве: и первичный металл, и сплавы, и полуфабрикаты никуда не уйдут. Но доля продуктов, изготовленных с применением аддитивных технологий, безусловно, будет расти и дальше.
— В каких сферах могут пригодиться алюминиевые детали, созданные с помощью этих технологий?
— Алюминиевые изделия, созданные при помощи аддитивных технологий будут использоваться в автомобиле - и машиностроении, в аэрокосмической отрасли, стоит ожидать роста в сегменте потребительской электроники. Например, если говорить об авиаотрасли, то мы совместно с «Вертолетами России» успешно изготовили авиационные детали с использованием собственного порошка из сплава AlSi10Mg.
По большому счету, это те области, где алюминий востребован уже сейчас, и все области применения алюминия, в том числе потенциальные, открыты для новой технологии. А для расширения возможностей использования аддитивных технологий по всему миру, и «Русал» — не исключение, ведутся работы по созданию новых порошковых сплавов с улучшенными свойствами.
С удешевлением технологии производства, с открытием новых сплавов, составов, спрос на аддитивные детали будет только расти. Достоинство аддитивных технологий заключается в первую очередь в отсутствии ограничений, присущих традиционным способам производства.
Значительным преимуществом является и возможность индивидуального подхода, когда для внесения изменений в изделие не требуется перенастройка оборудования и замена дорогостоящей технологической оснастки.
— Какие детали можно создать при текущих возможностях? На ваш взгляд, сейчас печать по металлу — это больше про разработки и прототипы или же речь идет о готовых вещах?
— Возможности создания алюминиевых деталей при помощи аддитивных технологий ограничиваются лишь возможностями оборудования, точнее размерами рабочего пространства 3D-принтера, но и этот барьер постепенно уходит в прошлое. Изготавливать получается практически что угодно. И действительно, наибольшие преимущества 3D-печать представляет в прототипировании, поскольку даже при высокой стоимости технологии, возможности создания «штучных» образцов шире с точки зрения времени разработки и задействованных ресурсов.
Но будет неверно относить применение аддитивных технологий исключительно к стадии разработки: в единичном и мелкосерийном производствах, уже сейчас активно используются растущие возможности рынка 3D-печати. Кроме того, применение аддитивных технологий практически безотходно, а с точки зрения растущей значимости экологической составляющей производства 3D-печать станет еще более востребована компаниями.
— Кстати, что важнее в 3D-печати по металлу — сам принтер или материал?
— Принтер – это инструмент, от его характеристик зависит качество конечного продукта. Если оборудование не обладает достаточной точностью работы, то никакое качество алюминиевого порошка не исправит ситуацию. Но это относится и к материалу, из которого мы производим продукцию, поэтому говорить о приоритете принтера или металла не совсем верно. Конечное изделие в одинаковой степени зависит от качества оборудования и материала.
— А принтеры производятся в России или же мы их привозим из-за рубежа?
— Если говорить о 3D-принтерах, то, к сожалению, они преимущественно импортируются. У истоков технологии стояли не мы, не в России создавались и образцы принтеров, поэтому сейчас нам необходимо догонять лидеров.
Тем не менее, необходимо отметить и положительные сдвиги в данном направлении – некоторые российские компании, например, Региональный инжиниринговый центр УрФУ и ЦНИИТМАШ, активно занимаются разработкой собственных 3D-принтеров, при изготовлении которых будут использованы отечественные компоненты.
— Как обстоит ситуация с порошками?
— Здесь Россия имеет намного больше возможностей уже сейчас. Например, «Русал» обладает сильнейшей научно-производственной базой для выпуска алюминиевых порошков — мы производим порошки на специализированных участках предприятий в Иркутской области и в Волгограде, а активность ИТЦ компании позволяет с оптимизмом смотреть в развитие этого направления.
На данный момент мировой рынок алюминиевых порошков для 3D-печати не так велик и составляет около 170 тонн в год, еще около 500-700 тонн порошков производится из других металлических сплавов.
Но если говорить о среднесрочной перспективе, то мы намерены занять до 25% мирового рынка алюминиевых порошков для 3D-принтеров.
— Как в России в целом обстоят дела с аддитивными технологиями? Государство оказывает какую-либо поддержку, финансовую или бюрократическую? Есть ли «госзаказ» на соответствующих специалистов?
— Одна из основных проблем для России при освоении аддитивных технологий — отсутствие квалифицированных специалистов в этой области, а также отсутствие национальных стандартов для аддитивного производства. Однако эти проблемы решаются.
Сейчас у нас предпринимаются меры по широкому внедрению аддитивных технологий. В первую очередь, работы ведутся в области нормативной документации. К примеру, в США стандарты в сфере аддитивных технологий существуют уже более пяти лет, что облегчает их применение в высокотехнологичных отраслях.
Кроме того, Минобрнауки в рамках своих конкурсов активно поддерживает проекты, направленные на исследование возможностей аддитивных технологий. Мы также стремится оказывать поддержку данному сектору: в настоящее время совместно с Московским и Волгоградским государственными университетами инициированы совместные работы по развитию аддитивных технологий. В области авиакосмической техники разработана «дорожная карта», направленная на применение аддитивных технологий при создании перспективных изделий авиационной техники. При поддержке Минпромторг, в проекте принимают участие такие компании как ОАК, «Вертолеты России», ОДК.
Помимо производственных проектов ведется активная работа по подготовке специалистов в области аддитивных технологий. Флагманами в разработке и реализации таких учебных программ выступают ведущие вузы страны – СПбПУ им. Петра Великого, МГТУ им. Баумана и др.
Если инициированные проекты останутся высокоприоритетными, то у России есть все шансы не только ликвидировать отставание от конкурентов, но и занять ведущие позиции на рынке аддитивных технологий.

Александр Стадник: ждем от США движения навстречу, а не игры в одни ворота
Недавние выборы в США и формирование новой администрации во главе с избранным президентом Дональдом Трампом дают российскому и американскому бизнесу надежду на восстановление штатного сотрудничества. Пусть сразу вернуться к обычному бизнесу не получится, так как многие возможности упущены, но российская сторона будет прикладывать все возможные усилия на этом пути, чего ожидает и от США, рассказал в интервью РИА Новости торговый представитель России в США Александр Стадник.
— Год подходит к концу. Вероятно, вы уже готовы поделится некоторыми цифрами по итогам трех кварталов 2016 года. Какой товарооборот был в этот период, как он отличался от предыдущего? Какие тенденции готовы отметить? Смогла ли экономика России адаптироваться к санкционному давлению?
— В денежном выражении за январь-сентябрь 2016 года российско-американский товарооборот уменьшился на 9,6% и составил 14,3 миллиарда долларов, при этом российский экспорт сократился на 8,7% (6,5 миллиарда долларов), импорт уменьшился на 10,3% (7,8 миллиарда долларов). Но эти цифры не отражают действительность. Дело в том, что вслед за ценами на нефть потянулись цены и на остальные экспортные товары из России: металлы, химию, удобрения. На некоторые продукты цены упали в два-три раза. А как раз по этим ценам и строится стоимостная статистика. Если же смотреть на физические объемы, которые и отражают реальные продажи, то российский экспорт вырос на 9,6%. Это, с учетом прошлогоднего роста на 25%, является свидетельством востребованности российской продукции на американском рынке, крепкой позиции российских экспортеров. При этом 95-99% российского экспорта носит несырьевой характер, а более 65% это и вовсе неэнергетические товары. И потенциал роста на американском рынке еще далеко не исчерпан. США остаются для нас серьезным рынком: входят в первую десятку по экспорту нашей продукции и находятся на третьем месте среди наших крупнейших поставщиков. Мы покупаем в Америке летательные аппараты, оборудование, фармацевтические товары.
Но мне все же кажется, что оборот между двумя странами нужно измерять в первую очередь наличием торговых и инвестиционных проектов. Будь это создание производств, привлечение финансирования, инвесторов. Мы наблюдаем стремительный рост таких проектов. Да и производственные цепочки выстраиваются не всегда напрямую, имеют сложную конфигурацию добавленной стоимости на территории третьих стран. Тот же Российский экспортный центр, один из столпов инфраструктуры поддержки российского экспорта, может рассматривать варианты поддержки компаний с необходимой долей российского участия на территории третьей страны с условием, что ее продукция будет поставляться на экспорт за пределы России. Такой подход существенно помогает продажам на таких сложных рынках, как США. Самое главное, чтобы центры прибыли и высокопроизводительные рабочие места создавались в России. По такому принципу работают компании в сфере авиастроения, приборостроения, металлургии и других отраслей, и наши производители здесь не исключение. В нашем портфеле количество таких проектов растет.
— То есть измерять экономические показатели привычными категориями в условиях глобальной экономики уже сложно?
— Россия стала полноправным участником глобального рынка, а он сейчас переживает структурную трансформацию. В такие периоды неопределенность растет, а горизонт планирования компаний снижается, что приводит к нарушению баланса спроса и предложения, волатильности цен. В эти периоды стандартные метрики не всегда работают.
Посмотрите, российская экономика оказалась достаточно крепка и гибка, чтобы приспособиться к новым условиям, и никакие санкции не привели к изоляции России. Напротив, мы нашли новые возможности, ниши, новые точки роста. И в этом плане рынок тоже изменился, мир стал более многополярными. Страны учатся адаптироваться, отвечать новым вызовам.
Я бы сказал так, наши торговые отношения с США, они глобальны, они важны для общей ситуации на рынках. Мы — крупнейшие экономики и рынки мира. Часто я слышу утверждения, что товарооборот наших стран недостаточно высок. С тем, что он недостаточно высок, я согласен, но он имеет неиспользованные возможности для роста. У нас с США товарооборот около 21 миллиарда долларов был в 2015 году. Но это не значит, что он низкий или незначительный. США, на секундочку, по объемам взаимной торговли сейчас шестой партнер для России.
Если обратиться к американской статистике — там другая картина. Конечно, такие партнеры, как Китай, Мексика, Канада, являются ключевыми для США по понятным причинам. Товарооборот первой мною упомянутой тройки с Соединенными Штатами — более 1,5 триллионов. Но там немного другая структура взаимоотношений. США разместили очень много предприятий на их территории, и они экспортируют свою продукцию обратно в США. Apple, например. Найдите мне хотя бы один iPhone в США, который произвели на территории Соединенных Штатов. Они все сделаны в Китае. Кстати, стекло для этих устройств в значительных объемах производится в России.
— Какие отрасли имеют в торговле с США наиболее важное значение?
— У нас достаточно устоявшаяся структура товарооборота: первую строку занимают продукты нефтепереработки. Это не чисто нефть и газ. Это все-таки то, что относится к разряду несырьевого экспорта. Поэтому, в отличие от Европы, где сырьевой экспорт достигает колоссальных величин, с США доминирует несырьевой сегмент.
Дальше идет химическая продукция, включая удобрения, потом металлургия — черная и цветная, драгоценные металлы и камни. Помимо этого неплохо продается продукция машиностроения, оборудование, российский текстиль, продукты питания, стройматериалы, и конечно же, очень востребована инновационная продукция и IT-индустрия. Есть востребованные предложения как в плане гаджетов, электроники, решений, так и приложений. Наши разработчики признаны одними из самых сильных. Есть у нас и проекты, связанные с медицинскими технологиями и фармацевтикой.
Если говорить о наличии инвестиционных проектов, у нас их с США очень много. И если анализировать, с какими компаниями, то это все капитаны американского бизнеса. Например, крупнейший в Восточной Европе конструкторский центр "Боинг" — на территории РФ. Также самолеты корпорации сделаны с использованием компонентов, произведенных на территории нашей страны. 40% самолетов приземляются на наши шасси. Они как раз выпускаются на совместном предприятии ВСМПО-Ависма и "Боинга". Самолеты — это еще и статья номер один американского экспорта в Россию.
— Какие контракты и проекты вы ожидаете в новом году?
— В наших услугах нуждаются в первую очередь представители малого и среднего бизнеса, потому что выход на зарубежные рынки для них очень сложный и дорогостоящий процесс. Это большой спектр компаний — от нефтесервиса до продуктов питания, снеков и березовых палочек для мороженого. Крупным же компаниям мы оказываем поддержку на государственном уровне, даем рекомендации и консультации, где это требуется. Очень много работаем с региональными структурами по поддержке экспорта и привлечению инвестиций.
Сейчас все больше и больше становятся востребованы образовательные услуги. По последним данным, рейтинги востребованности вузов показали, что наши вузы усилили свои позиции. МГУ занял третье место по востребованности выпускниками. Но отсутствие инструментария, по которому признавались бы наши дипломы, тормозит рост спроса.
Но тем не менее порядка 1,2 тысячи американских студентов учатся по программам студенческих обменов. На мой взгляд, в ближайшем будущем, если политическая воля администрации США по улучшению взаимоотношений с Россией на базе торгово-экономических отношений будет реализовываться в конкретные дела, тенденция будет усиливаться.
Если говорить о других крупных проектах, то каждый из них тоже нуждается в серьезной поддержке со стороны государства. Есть проекты, которые нельзя запустить без поддержки властей. Например, связанные с логистической инфраструктурой, сопряжением глубоководных портов Аляски и нашего Северного морского пути, предоставлением ледокольных услуг, экологического мониторинга, навигацией.
В числе потенциальных проектов производство и продвижение на рынок Северной Америки перспективной авиационной техники. Очень большой интерес в США и емкий рынок для нашего самолета Бе-200. Но это проект, который требует политической стабильности. Бизнесу необходима уверенность, что его инвестиции защищены, а это крупные вложения.
— На каком этапе сейчас находится этот проект в США?
— Проект находится на этапе подготовки сертификации под требования американских авиационных властей. Самолет уже сертифицирован в Европе. И здесь он может пройти сертификацию по упрощенной схеме.
Я думаю, в будущем здесь можно создать группировку этих самолетов по типу той, что у нас существует в Сербии. В 2018 году могли бы начаться поставки.
— Есть чем гордиться?
— Нам есть много чем гордиться. И не только этим. Госпожа Хиллари Клинтон до такой степени разрекламировала наше IT, что наши специалисты самые востребованные в мире сейчас.
— А если серьезно. До сих пор давление на Россию продолжается. Вспомним недавний случай с журналистом Russia Today в госдепартаменте, когда сотрудник Госдепа открыто заявил, что не ставит наших журналистов в один ряд с западными СМИ.
— Сегодня один представитель Госдепа, а завтра другой. И каждый со своим анекдотом. Все это напоминает времена самых холодных событий. Многие, кто был их очевидцем, говорят, что сейчас даже хуже. Они тогда такого не видели. Иногда такая бесстыжая пропаганда и по Сирии, и по Украине. Но самая, конечно, яркая придумка — это то, что Россия пытается влиять на выборы в США. Хорошо Владимир Владимирович сказал, США — не банановая республика. Одна из величайших стран мира показала, что здесь работают демократические институты, связанные с волеизъявлением народа. Причем даже система этих выборов, которая вызывает вопросы, создавалась, когда действительно нужно было перестраховываться из-за неграмотности граждан. Поэтому необходима была система выборщиков. Все это в США традиционно. И здесь я аплодирую, они сохранили это как часть своего нерушимого законодательства. И несмотря на то, что с перевесом, который уже выражается в доле процентов, большинство было отдано за Клинтон, все равно оппоненты были вынуждены согласиться с победой Трампа. Эта система поддерживает волеизъявление регионов, штатов.
— Сложно было жить российским дипломатам под этим прессингом в предвыборную кампанию?
— Наблюдать было неприятно. Происходили новые сюжеты, связанные с антироссийской риторикой. В целом же, мы работали в том же ритме, что и с марта 2014 года, когда были введены санкции.
Этот режим предполагает, что сведены до минимума контакты на официальном уровне в двусторонних отношениях. Как вы знаете, у нас заморожена президентская комиссия, отношения на уровне ее рабочих групп. Но контакты с Минторгом, таможней, другими официальными ведомствами США у нас имели место быть. Касались они многосторонней повестки, деятельности Всемирной торговой организации, ОЭСР, по другим глобальным вопросам.
Я бы хотел отметить, что американская сторона на уровне экспертов вела себя по отношению к нам вполне конструктивно. Другое дело, что в части двусторонних отношений мы никаких проектов с официальными структурами не вели. Это и понятно. Американская сторона заморозила их, ввела санкции. Каждый раз напоминать о том, что есть санкции и говорить о них… Зачем?
— То есть вместо сотрудничества, пусть даже и в узких областях, продолжали ставить палки в колеса?
— Знаете, любое крупное мероприятие по российско-американскому бизнесу, а они были на территории США (заседания Американо-российского делового совета, Российско-американского тихоокеанского партнерства, региональных палат), сводилось к тому, что американские чиновники высокого ранга, которые курируют внешнеэкономическую деятельность, вместо того, чтобы рассказать о точках взаимодействия, начинали напоминать про санкции и правила их соблюдения, куда обращаться и кому писать, — обком в худших его проявлениях.
Меня всегда восхищало то, что все эти выступления вызывали у американского бизнеса некоторую зевоту. Бизнес от нас ждет идей и поддержки, куда ему двигаться. По каким проектам можно сотрудничать. А дальше уже бизнес сам должен принимать решение. По большому счету именно бизнес нам должен говорить, что нам делать, чтобы их проекты проходили в гладком спокойном режиме. С российскими официальными лицами ситуация совсем другая.
Первый замминистра экономического развития в мае встречался с ведущими американскими компаниями в России. Рассказывал о том, как мы реформируемся, какие предоставляем условия, как будет развиваться экономическая ситуация в РФ. И тут нам есть что рассказать и что показать. По мнению американского агентства Bloomberg, несмотря на политический кризис в отношениях между Россией и западными партнерами, бизнес продолжает инвестировать в российскую экономику. Шведская сеть IKEA решила вложить в новые магазины в России 1,6 миллиарда долларов. Французская Leroy Merlin — 2 миллиарда долларов. Американская Pfizer строит новый завод по производству медикаментов, американская же Mars расширяет производство жевательной резинки и кормов для животных. Компания Pepsi активно вкладывается в производство сыров, а в ноябре объявила о строительстве завода детского питания под Краснодаром за 40 миллионов долларов. В целом за девять месяцев 2016 года прямые зарубежные инвестиции в Россию выросли до 8,3 миллиарда долларов. Для сравнения: за весь 2015-й их было всего 5,9 миллиарда.
— Как в этом году обстоят дела с американскими инвестициями?
— Как и торговлю, их тоже не просто оценить. По данным Центробанка России, в первом квартале 2016 года приток прямых инвестиций из США в Россию составил 132 миллиона долларов, объем накопленных американских инвестиций 2,92 миллиарда долларов. Приток прямых российских инвестиции в США составил 100,6 миллиарда долларов, накопленных российских инвестиций в экономике США 7,246 миллиарда. Совершенно понятно, что эти цифры не отражают реальной картины. Показатели смело можно умножать в несколько раз. Это связано со сложной методикой подсчета и долгим процессом сбора данных. Я считаю, что нужно смотреть по конкретным проектам.
Кроме того, основные инвесторы в Россию — это Кипр, Нидерланды и Люксембург. Часто компании ведут дела через свои дочки. Статистика, конечно, является индикатором, но все-таки давайте смотреть на реальные проекты. Большинство американских компаний с правильной стратегией растут в России, а те, кто что-либо нам продают, задумываются о локализации. Есть понимание того, что большой потенциал скрыт в регионах. Нужно объяснять американскому бизнесу их возможности. Нам нужны инвестиции, чтобы развиваться, а инвестору, чтобы развиваться, нужно понимание, как и на чем он заработает.
— Ожидаете ли вы перемен в связи с приходом новой администрации?
— Я надеюсь, что сейчас мы подходим к той точке, когда страницу можно будет перевернуть. Особенно важной вехой я считаю телефонный разговор, который состоялся между нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом. Лидеры дали адекватную оценку состоянию наших отношений, они высказались, что данную ситуацию надо менять. И основой должен стать торгово-экономический компонент. Я надеюсь, что новая администрация избранного президента США (в ближайшее время приставка избранный уйдет в прошлое) будет работать в этом направлении. И эти действия будут построены на основе всего того, что было заявлено в ходе президентской гонки.
Необходимо, на мой взгляд, сразу после инаугурации двигаться в сторону возобновления работы механизмов полноценного двустороннего взаимодействия на межгосударственном уровне. Прежде всего, Российско-американской президентской комиссии и ее рабочих групп, в том числе по торгово-экономической тематике. Это самые эффективные механизмы.
— Если Трамп запустит процесс изменения, как быстро наш торговые отношения можно будет вернуть к досанкционному периоду?
— Как я уже упоминал, что несмотря ни на что наш экспорт в физических объемах растет, приток инвестиций положительный, мы не сможем двигаться в этом направлении быстро и сразу. Возврат к досанкционному периоду будет очень долгим. Даже если представить, что 21 января первым или вторым указом нового президента станет отмена санкций. Не все санкции он сможет отменить своим указом. Ему необходимо будет преодолеть очень серьезное сопротивление в конгрессе, если оно вообще преодолимо. Некоторые санкции, которые были приняты в период 2014-2016 годов, могут иметь долгую историю.
К исходной точке будет вернуться очень и очень сложно. Переформатировались инвестиционные потоки, рыночные ниши. Многие возможности на долгосрочную перспективу использованы бизнесом тех стран, в которых политики и администрации содействовали развитию деловых связей с Россией, а не пытались ограничить нас санкциями.
— Как говорится, США отхлестали себя, как унтер-офицерская вдова.
— Да, мы тут каждый день эту поговорку вспоминаем. Вернуться к бизнесу as usual уже не будет возможно. К отправной точке до санкций будет вернуться невозможно. Схема взаимодействия будет иной.
Принципиальным будет движение навстречу друг другу с учетом взаимных интересов, а не игра в одни ворота.
— Какие-то конкретные страны можете перечислить, кто воспользовался упущенными американцами возможностями?
— Возможности были открыты для всех, кто мог и хотел. Были те, кто хотел, но не позволяли санкции. У нас же экономика рыночная. Кто заинтересован, тот и воспользовался. Американским операторам американские санкции не дали возможности выгодно вложиться и посотрудничать с Россией — в этих нишах уже компании из Латинской Америки, с Ближнего Востока и Северной Африки, из Юго-Восточной Азии. Гигантскими темпами развивается сотрудничество с Китайской Народной Республикой.
Самые яркие примеры упущенных возможностей — энергетический сектор, финансовый сектор, микроэлектроника, которая могла рассматриваться как продукция двойного применения.
Кроме того, есть другие сложности, многие дуют на холодную воду, однажды обжегшись на молоке. Есть пример, когда совместный российско-шведский проект по переработке мусора затормозился из-за того, что американская компания опасается передавать шведам свою технологию, чтобы случаем не нарушить санкции. Казалось бы, такая мирная тема по защите окружающей среды.
Платежные карты Master Card, Visa, сети продаж через интернет eBay, Amazon остановили свою экспансию в РФ, а теперь эти места заняты "Алибабой" и попробуй их займи. Те же сотовые телефоны, электроника. Хотя здесь, конечно, все не только из-за санкций. Тут очень большую роль сыграл курс рубля.
— Падение курса рубля, насколько я понимаю, сыграло где-то российской экономике даже в плюс. Российская нацвалюта стала более привлекательной для развития экспорта из России?
— Совершенно верно. В 2015 году, например, российский экспорт в США на 11% сократился в валюте и на четверть вырос в физических объемах. Этот процесс, конечно же, был подстегнут не только низким курсом рубля, но и благодаря усилиям нашего бизнеса, принимаемым мерам по поддержке российского экспорта и улучшению условий для ведения бизнеса. Стало выгоднее возить произведенные в России товары морем, чем производить их здесь, на месте. Сейчас рост товарооборота 10%. Но по итогам года, возможно, будет еще некоторое увеличение. Если прошлый год был около 21 миллиарда долларов с отрицательным сальдо в 1,9 миллиарда в пользу США, то новые сентябрьские цифры показывают, что мы немного не дотягиваем до 20 миллиардов по итогам года. С ростом цен на наши товары мы с лихвой окупим эту разницу.
Интересно, что по статистике США мы больше продаем им. Сальдо достигает почти 10 миллиардов долларов в нашу пользу. Дело в том, что наша таможенная служба учитывает поставки между двумя странами. Американцы считают все российские товары, которые поступают к ним с учетом третьих стран. Эта статистика, на мой взгляд, дает более полноценную картинку. Когда, например, мазут идет через порт Роттердама в США, мы считаем, что это поставка в Нидерланды. На самом деле это перевалка груза, который идет дальше в тот же Чикаго.
Этот год должен быть успешным с точки зрения подписания контрактов, но цифры мы увидим только в следующем году. Поэтому главное, повторюсь, это количество бизнес-связей и бизнес-проектов.
Кстати, постепенно начинает восстанавливаться и американский импорт в Россию. Итоги года мы будем поводить где-то в феврале-марте.
В физических объемах наш показатель будет приличным. Хотя понятно, что не было бы санкций, было бы все еще лучше.
— Вы упомянули о том, что в связи с санкциями появились точки роста. Где они?
— Немного не так. Точки роста появились из-за наших ответных мер, которые позволили, например, развивать сельское хозяйство в более комфортном для аграриев режиме. Наши сельхозпроизводители нужны и востребованы — Россия в прошлом году стала крупнейшим экспортером зерна в мире. Но рынок РФ не закрывался. Значительно возросли поставки сельхозпродуктов из других стран, которые не присоединились к санкциям. Латинская Америка, Азия, Израиль.
— Креветки из Белоруссии — яркий тому пример?
— Там не все так просто — предполагается степень переработки на их территории, тогда эти поставки разрешены. Некоторые страны выиграли, другие проиграли. И надолго. В США такого ажиотажа у аграриев нет по сравнению с тем, что происходило в Европе. Особенно в Греции, странах южной и восточной части ЕС, значительной частью экспортного баланса которых была поставка цитрусовых, ягод и другой сельхозпродукции в Россию. Мы все это видели, когда европейские фермеры протестовали, несли убытки, потому что их продукция была не востребована в производимых объемах. И самое главное для них, что они прекрасно понимали, что другие страны — Сербия, Турция, Израиль, страны Латинской Америки нарастили свои объемы сельхозпроизводства, направленные на Россию, и теперь эти ниши, с которых они вынуждены были уйти, занять снова будет не так просто.
— Но возвращение, в частности, американских компаний возможно?
— Если говорить о тех секторах, что были закрыты для американских компаний самими США, то все будет зависеть от политической воли нового американского руководства. Мы и сейчас продолжаем сохранять свою открытость, мы сохраняли ее, несмотря на недружественные действия и санкционное давление, понимая, что открытость приближает возвращение нашего диалога в цивилизованное русло.
— Какие-то контакты с новой администрацией были или пока рано об этом говорить?
— Пока только обсуждаются кандидатуры в правительство. Если слухи подтвердятся, то торговлей будет заведовать американский миллиардер Уилбур Росс. Необходимо понять, какую команду сформирует новый лидер и какова будет его программа по России. Шанс на улучшение сотрудничества между нашими странами есть, нужен переход от заявлений к правильным прагматичным действиям.
— Вы недавно вернулись из Сан-Франциско с годового собрания Американо-российского делового совета. Какое настроение у бизнеса, тем более что в момент мероприятия уже было известно, кто стал победителем президентских выборов?
— Люди почувствовали перспективы. Эти ожидания связаны с тем, что новый президент США пообещал устанавливать, как он сказал, очень и очень хорошие отношения с Россией. Мы, конечно, под этим понимаем взаимоотношения, построенные на доверии, когда учитываются взаимные интересы, когда партнеры не разговаривают на языке санкций.
Запрос американского бизнеса на Россию велик. Теперь он получает дополнительный импульс. Ситуация в гражданском обществе подкрепляет этот запрос. Та пропаганда, те предвыборные страшилки, которые рассказывались с экранов телевизоров о России и ее длинных руках, о ее влиянии на выборы в США, не сработали.
— Увидели ли вы новые темы и возможности для потенциальных контактов?
— Была очень интересно построена повестка заседания, которая как раз-таки касалась обсуждения новых возможностей для сотрудничества. И в первую очередь за основу были взяты инновации. Для американцев было интересно послушать нашего замминистра Олега Фомичева, который курирует эту тему. Он рассказывал, как у нас устроена эта система, как она поддерживается в России. Выступающих было много. Это и представители финансовых институтов, и непосредственно компаний. Те, кто заинтересован в региональном сотрудничестве.
Огромная работа была сделана Республикой Татарстан. Что выразилось в рабочем визите президента Татарстана Минниханова, который провел широкий круг переговоров с компаниями в Кремниевой долине, побывал в Сиэтле и встретился с руководством "Боинга", региональными властями. Я думаю, что очень много новых тем возникло, которые будут отрабатываться в течении следующего года. Полагаю, что будет большая ответная делегация в Татарстан где-нибудь в начале весны и повторный визит президента республики в США. Потенциальные партнеры — очень интересные и значимые компании.
— По финансированию проектов удалось договорится?
— Пока существуют санкции, это самый серьезный секторальный блок. Самая весомая часть санкций, которая мешает развитию двустороннего товарооборота, торгово-экономических отношений. Без нормального финансового обеспечения осуществление проектов идет тяжело. Сейчас есть возможность с американской стороны финансироваться в течении 30 дней. Для серьезного крупного проекта, который зачастую начинает окупаться через пятилетие, это не разговор.
Для частных инвесторов есть фактор неопределенности. Если это крупные вложения, необходимо понимать, как завтра будет развиваться ситуация. Сегодня, к сожалению, помимо того, что существуют секторальные и персональные санкции, существует еще и ряд рисков, связанных с самим фактом наличия санкций.
— Последние санкции, связанные с Сирией, повлияли ли на бизнес в России? Была информация, что в связи с появлением новых ограничений против, например, Главгосэкспертизы, иностранные компании меняют управленцев граждан Америки в России, чтобы те не попали под нарушение законодательства своей страны.
— На бизнес влияет все. Он строится на анализе всевозможных факторов. Учитываются риски. Санкции — это, конечно, риски. Наш торговый режим разделен на белую и черную сферу. В белой зоне, в принципе, работа идет нормально. Есть черная зона — финансовые ограничения, в энергетическом секторе, продукция двойного назначения, персональные списки по юридическим и физическим лицам. И из этой зоны возникает серая зона. Там начинают оценивать риски. Компания, которая работает и в РФ, и в США, может просто боятся трудностей в США, отсюда возникает эта серая зона санкционных ожиданий и репутационных рисков. Вокруг этой серой зоны возникает консалтинговый бизнес и юридический, который помогает это все обойти. Поэтому, если говорить о санкциях, они имеют эффект условный и безусловный.
— Недавно конгресс предложил новые санкции из-за Сирии. Может быть еще хуже?
— У меня создается ощущение, что это носит все более символический характер. Это с одной стороны. Но с другой, это для нас весьма серьезный сигнал того, что у Трампа среди его однопартийцев, представляющих большинство в конгрессе, имеются оппоненты.
— Сенатор Маккейн, например.
— Самый популярный из непопулярных. Конечно, Трампу будет очень тяжело преодолевать инертность механизмов государственного управления и лобби своих партийных коллег, которые тем временем не являются для него соратниками.
— Могут ли утвердить новый санкционный пакет под конец эпохи Обамы, как завершающий аккорд до инаугурации Трампа?
— Знаете, очень много примеров, когда законы и указы принимались очень быстро в так называемый сезон "хромой утки". Но я еще раз хочу сказать — санкции ни к чему не приводят. Для бизнеса самое главное понимать стабильность условий — они стабильны. Есть хорошая тенденция к росту. Может, не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. А новые санкции — это как щипки обиженного ребенка. Будут щипаться по-детски, Россия может ответить по-взрослому, по-серьезному.
— Может ли этим серьезным быть избавление от облигаций США? За сентябрь Россия продала облигаций на 11 миллиардов долларов — это порядка 10% от общего объема того, что у нее было.
— Вряд ли это произойдет резко — это никому не выгодно, резкое избавление негативно может повлиять на стоимость активов по всему миру. Не забывайте, что в американских бумагах размещены золотовалютные резервы. Это высоконадежные и очень ликвидные бумаги, которые к тому же и приносят нам дополнительный процент. Центробанком эти средства используются для обменных операций. Это не средства бюджета, которые можно было бы потратить внутри России.
— Ожидаете ли вы повышения ставки ФРС и что произойдет с экономикой России в этом случае?
— До выборов, было очень много было свидетельств тому, что ФРС держит ставку без изменений, чтобы подыграть одному из кандидатов. Ожидается, что в декабре все-таки произойдет незначительное повышение ставок. Перед Трампом стоит тяжелая задача, с одной стороны, он собирается запустить масштабные инфраструктурные проекты, требующие доступных денег, с другой, эта же политика может разогнать инфляцию и создать опасные финансовые пузыри. Ему предстоит лавировать, подыскивая оптимальные значения ставки, чтобы обеспечить приемлемый уровень безработицы, экономического роста и инфляции. Мы можем наблюдать картину, когда с развивающихся рынков пойдет отток капитала. Это негативно, в первую очередь, для цен на сырье и сырьевых валют, к коим относится и наш российский рубль. Тем не менее мы все живем на ожиданиях и рынок уже успел к этому событию подготовиться. И не будем забывать, что экономика всегда колеблется, нет идеальной прямой линии.
— Приход Трампа это еще и ломка устоявшихся и наметившихся торговых блоков. Какую судьбу будет ждать ТТП и ТТИП?
— Как вы знаете, в феврале прошлого года министры торговли подписали соглашение о ТТП и теперь оно должно проходить ратификацию в Конгрессе. Я не слышал особой поддержки этого соглашения даже со стороны Хиллари Клинтон. Трамп очень четко говорил, что такое соглашение США не нужно. А самое главное — со стороны конгресса поддержки тоже не наблюдалось. Без участия США в Транстихоокеанском партнерстве оно полностью теряет смысл. Мне кажется, соглашение может не пройти ратификацию и будет некий трансформационный процесс, связанный с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Возможно, будет решена задача АТЭС-2020 по созданию зоны свободной торговли. Либо будет создано региональное всеобъемлющее экономическое партнерство с участием России, Китая. В чем вызывало вопросы ТТП? Президент Обама открыто заявлял, что оно против торговой политики Китая, нацелено на установление доминирования США в АТР. Китай диктует торговые условия, а диктовать их должны США, читалось между строк. Партнерство против кого-то — это не партнерство, тем более что оно несет угрозу оттока рабочих мест из США.
Мир становится многополярным, и экономические блоки приобретают все более региональный характер. Поэтому необходимо искать возможности для диалога. Даже при наличии Транстихоокеанского партнерства, даже если оно сохраняется, это все равно возможность для более глубокой интеграции России в мировую экономику. Многие страны, которые являются членами ТТП, заинтересованы в сотрудничестве с РФ, с ЕврАзЭС. Как вы знаете, в мае 2015 года Вьетнам подписал соглашение с Евразийским экономическим союзом о создании ЗСТ, недавно оно вступило в силу. Я за интеграцию интеграций. Но при том условии, что она должна быть честной. Трудно себе представить единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока без ЕврАзЭС. Трудно говорить о создании Экономического пояса Шелкового пути без ЕврАзЭС или без сотрудничества в рамках ШОС.
Соглашение с Европой, о котором вы спрашиваете, оно все-таки отличается от соглашения о ТТП. Оно более глубокое, охватывает больше сфер. По большому счету способствует развитию экологических технологий, информационному сотрудничеству, инвестиционному треку. Но там очень много противоречий уже на начальном этапе, в частности по защите инвесторов, товарного знака, интеллектуальной собственности, доступа на рынки.
Постоянно идут обсуждения и острые дискуссии. Это более кропотливый процесс, нежели ТТП. Будущее соглашения зависит от позиции США. Соединенные Штаты будут в первую очередь исходить из своих национальных интересов, которые Трамп обозначил как защиту своего производителя. Это наращивание производства здесь в США. Возврат производства, чтобы росло количество рабочих мест, новая индустриализация. Особое внимание уделяться, видимо, будет защите от трудовой миграции.
— Как вы думаете, можно ли вернуть ту Америку 80-х, крупнейшую производящую державу, сделать "снова великой"? При том, что страна уже встроилась в мировую глобальную экономику и американские предприятия производят продукцию по всему миру. Жизнеспособен ли протекционизм в современном мире?
— Протекционизм в современном мире — вещь неоднозначная. С одной стороны, концентрация производства на территории одной страны имеет свои плюсы, получаешь рабочие места, опыт и всю производственную цепочку в одном месте. А с другой стороны, ты теряешь преимущества от международного разделения труда. Однозначно здесь говорить нельзя — должен быть баланс.

Михаил Поляков: «Если мы на 97% корпоративный банк, распыляться на розницу смысла нет»
Михаил Поляков, председатель правления Нордеа банка
Беседовала: Елена Гостева, редактор Банкир.Ру
О том, почему Нордеа банк в России в свое время решил уйти с розничного рынка, где он может конкурировать с лидерами банковской индустрии, где дочерняя структура скандинавской группы в России зарабатывает больше и чем банк привлекателен для крупного корпоративного клиента, порталу Bankir.Ru рассказал председатель правления банка Михаил Поляков.
— До назначения председателем правления банка вы занимались в нем корпоративным бизнесом. А сейчас, по сути, весь бизнес и состоит из обслуживания корпоративных клиентов, так как какое-то время назад банк принял решение отказаться от работы на розничном рынке. Что сегодня представляет собой возглавляемая вами финансовая организация и как вам работается?
— Нордеа банк как был, так и остается в первую очередь корпоративным банком. Наша стратегия — классический корпоративный и инвестиционный банкинг. И вся наша активность, связанная с сокращением розничных операций, направлена на то, чтобы более четко следовать этой стратегии. Я сразу оговорюсь, что розница — хороший бизнес, она никогда не была для нас убыточной, она прибыльна и на сегодняшний момент. Оставшиеся у нас на балансе розничные кредиты не создают никаких сложностей. Единственный вопрос заключается в том, что розница не соответствует заявленной банком стратегии. Если мы на 97% корпоративный банк и приняли решение фокусироваться на этом типе бизнеса, значит распыляться на розницу никакого смысла нет.
«После 2008 года розница стала очень рискованным занятием»
— С чем было связано решение об уходе с розничного рынка, раз этот бизнес не убыточен? С тем, что вы поняли в какой-то момент, что на нее банк отвлекает большие ресурсы, и розничный бизнес не дает такого эффекта, из-за которого стоило бы его поддерживать?
— Изначально мы построили сеть филиалов и систему продаж кредитов — и потребительских, и автомобильных, и ипотеки. Мы активно привлекали вклады и развивали полноценную линейку услуг для частных лиц. А в 2008 году случился кризис, и все банкиры задумались о том, какие еще риски нас ждут в разных сегментах и разных направлениях бизнеса. И мы начали корректировать свое видение того, что мы хотим делать на этом рынке. Наша штаб-квартира в Скандинавии всегда была ориентирована на взвешенную оценку кредитного риска. Так вот, после 2008 года розница стала очень рискованным занятием. И очень многие продукты для частных лиц стали для нас неприемлемы. Время показало, что наш выбор был правильным. Сейчас мы видим, как тяжело на рынке монопродуктовым банкам и тем игрокам, кто сфокусирован на рискованных сегментах рынка.
— Ваш уход из розницы был стремительным?
— Не совсем так. Сначала мы сфокусировались на одном продукте — ипотеке, поскольку в этом сегменте у банка было конкурентное преимущество: достаточно дешевое фондирование и возможность кредитовать только качественных заемщиков. И в то время мы продвигали ипотеку довольно активно.
Но рост корпоративного бизнеса у нас всегда существенно опережал рост розницы. И наша модель всегда была ориентирована в большей степени на работу с юридическими лицами. И в какой-то момент времени мы задали себе вопрос: о’кей, а во что мы хотим играть на этом рынке? Я не говорю о соперничестве с национальными чемпионами: чтобы с ними тягаться, нужно потратить космическое количество денег, и не факт, что удастся добиться результата. Но если у тебя нет цели добраться до пьедестала, вопрос: а нужно ли вообще это делать? И мы решили сфокусироваться там, где у нас сосредоточена максимальная эффективность, самые сильные компетенции, где мы можем конкурировать с лидерами рынка и где мы зарабатываем больше. Розница — хороший бизнес, но ее эффективность у нас была несколько ниже, чем нам хотелось бы, и она не соответствовала нашей стратегии, поэтому мы приняли решение из нее уйти.
«Для того чтобы быть нашим клиентом, надо быть хорошим заемщиком»
— А бизнес банка изначально строился на обслуживании тех корпоративных клиентов группы Nordea, которые пришли работать в Россию?
— Нет, конечно. Банк вырос на работе с крупнейшими российскими компаниями. С того момента, как группа Nordea приобрела Оргрэсбанк, за полтора-два года мы показали десятикратный рост бизнеса.
— Тогда логичный вопрос: вот вы говорите, что розница затратна и рискованна, но ведь в корпоративном бизнесе есть обратная сторона — можно быстро остаться без любого клиента?..
— Конечно.
— Тогда чем вы как финансовая организация так привлекательны для крупного корпоративного клиента?
— Риск потерять любого клиента существует всегда. Как клиента удержать? Это вопрос регулярной и кропотливой работы по выстраиванию отношений. Мы адекватно оцениваем свои конкурентные преимущества, у нас есть хорошие продуктовые предложения, работает очень профессиональная команда, стабильно положение материнской структуры на европейском рынке, есть возможность проведения нестандартных кроссграничных операций. То есть в общем и целом мы очень хороший европейский банк. И чтобы работать с нашими клиентами, нам нужно становиться все лучше и лучше. Но вы правы: риск в один прекрасный момент получить падающий рынок корпоративного кредитования есть. И сейчас корпоративные портфели кредитов сокращаются абсолютно у всех.
— Многие банки говорят, что в состоянии нестабильности даже не цена ресурсов решает проблему. А то, что спроса на заемные деньги нет. Корпорации не очень понимают, во что они будут инвестировать те деньги, которые они получают в виде кредитов, и стараются этих кредитов не брать. А кредитный бизнес — это все же основной бизнес любого банка. Как вы себя чувствуете в этой ситуации?
— Кредитный бизнес — это один из основных бизнесов банка, он приносит большой объем доходов. Но мы занимаемся не только кредитованием, наша продуктовая линейка значительно шире. А пропорции между доходами по кредитам и комиссионными доходами от других операций, к счастью, становятся все лучше и лучше.
— То есть вам удалось сделать упор на комиссионный бизнес?
— Мы, безусловно, стараемся делать на это упор. Нам точно есть над чем еще работать.
— Запросы компаний в области кредитов сильно изменились?
— Сейчас крупнейшие компании активно снижают объемы долга. После кризиса многие заемщики пересмотрели свои аппетиты в отношении кредитных ресурсов, стали осторожно подходить к инвестиционным программам, более внимательно и адекватно оценивать приобретаемые и продаваемые активы, лучше управлять своими портфелями.
И да — компании стремятся избавляться от непрофильных активов. Во многих корпорациях идет работа над повышением эффективности бизнеса. Для нас это и хорошо, и плохо. Хорошо — потому что качество кредитного риска становится лучше, клиенты менее подвержены внешним воздействиям, они эффективнее управляют своим бизнесом, лучше строят риск-менеджмент, у них более устойчивые, адекватные модели развития. С другой стороны, мы понимаем, что потребности в заемных ресурсах становится объективно меньше.
— Можете назвать отрасли, в которых у вас крупнейшие клиенты?
— Химия и нефтехимия, металлургия, телеком. И, конечно, добывающая нефтяная и газовая промышленность.
— То есть для того чтобы стать вашим клиентом с желанием получить деньги, нужно быть первоклассным заемщиком?
— Нужно быть качественным заемщиком. Компания не обязательно должна быть крупнейшей, мы оцениваем заемщиков не по размеру. В первую очередь мы смотрим на качество риска, и по этому критерию, как правило, проходят именно крупнейшие компании. Мы можем работать с заемщиками не только верхнего эшелона, если модель их бизнеса, баланс и структура позволяют нам их финансировать. Если наш внутренний рейтинг по клиенту хороший, то почему бы нам с ним не работать?
— То есть это хорошо, если эта компания в своем секторе уникальна, или, по крайней мере, в этом секторе рынка не много компаний?
— Рыночная позиция — это один из факторов нашей оценки заемщика. Если у тебя уникальная рыночная позиция, при этом рынок, на котором ты работаешь, стабилен — это огромный плюс.
— Что еще учитывается?
— Разумный уровень долга. Капитализация, объем собственных средств в бизнесе. Ликвидность компании и как компания ей управляет. Срочность пассивов и активов, структура активов. Риски, связанные с валютами. Например, если выручка у компании в рублях, а кредитный портфель в долларах, то очевидно, что существует курсовой риск. Он может покрываться какими-то хеджирующими инструментами, а может не покрываться, и от этого зависит, как мы на такое положение дел будем смотреть: как на чистый риск или на риск под управлением.
«Санкции случились тогда, когда мы уже были огромным банком»
— Можно ли вас спросить, как сказались на банке санкции?
— Санкции одинаково влияют на все российские банки, вне зависимости от того, кто является материнской компанией. Потому что при финансировании в иностранной валюте и у госбанков, и у частных банков, и у иностранных дочек есть одна и та же проблема: банки-корреспонденты не проводят платежи. А если они с той стороны платежей не акцептуют — вот и всё, конец истории.
— Я правильно поняла, что у вас нет сейчас в клиентах компаний, которые находятся под санкциями и привлекают средства в валюте?
— В портфеле? Есть.
— И как вы с ними работаете?
— Санкции случились тогда, когда мы уже были огромным банком, и у нас уже существовали договорные отношения, и были выданы кредиты ряду компаний, которые потом под санкции попали. Все их кредиты обслуживаются в срок, и эта работа ведется в правовом поле, но при этом, конечно, новых займов мы не выдаем. Развитие бизнеса с такими компаниями сегодня — это прерогатива госбанков.
— Ваш прогноз: что ждет экономику России и мира в дальнейшем?
— Скорее всего, мы уже не увидим дорогой нефти, например по $100 за баррель. Потому что современные технологии позволили разрабатывать сланец, и цена будет находиться в определенной вилке. Как только она повышается до определенного уровня, тут же размораживается добыча сланца, он «доливает» рынок, стоимость барреля опускается. Как только мы уходим ниже определенного уровня, замораживается сланец, остаются традиционные производители, соответственно, цена начинает корректироваться. Думаю, мы будем находиться в коридоре плюс-минус $50 за баррель и не увидим никаких резких скачков цены в очень продолжительной перспективе.
«У людей есть карты, но они могут расплатиться ими далеко не в каждом магазине»
— В ближайшей перспективе для российского финансового бизнеса в чем вы видите выход: в информационных технологиях, в уходе в интернет от классического банкинга?
— От классического банкинга мы все равно никуда не уйдем. У нас будет комбинация между разными решениями для разных клиентов, для разных сегментов. То, что хорошо для розничных клиентов, не всегда работает для корпоративных, и наоборот. Через какой-то промежуток времени менее востребованными станут сети. Потому что даже при качественном уровне сервиса ничто не может сравниться с адекватным IT-решением, когда тебе никуда не надо идти и у тебя 24 часа в сутки доступ к счету. Для этого, правда, необходимо, чтобы, кроме банковской, и остальная инфраструктура была к этому готова. Сейчас это несоответствие очень заметно в регионах, у людей есть карты, но они могут расплатиться ими далеко не в каждом магазине.
— Вот у вас осталось всего лишь два офиса: в Москве и Санкт-Петербурге. Но кому-то же ведь, наверное, и поговорить с банком надо?
— Обязательно надо поговорить, и мы разговариваем. Большинство штаб-квартир крупных корпораций находятся либо в Москве, либо в Санкт-Петербурге. Поэтому две точки — более чем достаточно. Для работы с платежами есть «банк-клиент». Если нам нужно делать бизнес для компаний за Уралом, например в Новосибирске, нам ничего не мешает физически туда долететь.
— И там поговорить?
— Абсолютно так. Для крупных корпоративных клиентов банк с сетью отделений, с офисом поблизости давным-давно перестал быть необходимым. Эти крупные клиенты в банк не приезжают никогда. Мы же всегда готовы приезжать к ним.

Внедрение алюминиевых сплавов тормозит нормативная база
Александр Конюхов, главный научный сотрудник отделения «Транспортное материаловедение» АО «ВНИИЖТ», д. т. н.
В связи с кризисными явлениями в вагоностроении возрос интерес к производству вагонов с кузовами из алюминиевых сплавов. Спрос обусловлен возможностью повышения технических характеристик вагонов, снижения затрат жизненного цикла, обеспечения на высоком уровне надёжности и безопасности.
Мировая практика грузового вагоностроения свидетельствует о том, что использование алюминиевых сплавов в конструкции кузовов позволяет не только снизить массу тары вагона (удельный вес алюминия в 2,9 раза меньше, чем у стали, а удельная прочность в 2 раза выше), но и увеличить грузоподъёмность вагонов, повысить их конкурентоспособность.
Грузовые вагоны Северной Америки имеют грузоподъёмность 112 тонн, массу тары – 18 тонн, осевую нагрузку – 32,5 тонны, коэффициент тары – 0,17. Для сравнения: у отечественных вагонов грузоподъёмность порядка 70 тонн, масса тары – 21–24 тонны, осевая нагрузка – 23,5 (25) тонны, коэффициент тары – 0,30–0,32. Таким образом, на одну тонну перевозимого груза в России перевозят практически в два раза больше металла тары, чем в США и Канаде.
Основным доводом противников широкого использования таких вагонов является первоначальная стоимость вагона. Действительно, стоимость одной тонны алюминия на лондонской бирже около $1500, что почти в 5 раз больше стоимости стали. Удорожание кузова вагона массой 5 тонн за счёт стоимости алюминия составит примерно 500 тыс. руб., причём удорожание по сравнению со стальным вагоном – на 25%, а не в 4–4,5 раза, как отмечено в статье «Лёгкому сплаву тяжело конкурировать с железом» («Гудок» от 01.11. 2016). Если ещё учесть тенденцию к снижению стоимости алюминия, то фактор первоначальной стоимости вагона скоро уйдёт на второй план.
Безусловно, расчёт экономической эффективности необходимо разработать, опираясь на реальные данные по расходу алюминия и его стоимости. За рубежом, прежде чем заказывать десятки тысяч вагонов, несколько лет ушло на эксплуатационные испытания и расчёты ТЭО в нескольких компаниях. Сейчас в Северной Америке в эксплуатации находится порядка 150 тыс. таких грузовых вагонов, в основном полувагонов для перевозки угля и хопперов (зерновозов и минераловозов), а также крытые. Серийное производство вагонов с кузовом из алюминиевых сплавов в США освоено в 1986 году, объём 5000 вагонов в год. Кузова собирают по технологии «штифт с обжимной головкой» (ШтОГ соединения) без применения сварки.
Чтобы обеспечить разработку отечественных грузовых вагонов с кузовами из алюминиевых сплавов, необходимо разработать нормативную документацию (стандарты) на сплавы, соединения элементов, технические требования к ним и методы контроля. Отечественная промышленность также проявляет интерес к вагонам с кузовами из алюминиевых сплавов. Изготовлены и прошли сертификационные испытания вагоны-хопперы производства «Промтрактор-Вагон» и ТВСЗ. Однако коэффициент тары у этих вагонов продолжает оставаться высоким – более 0,22, что значительно уступает зарубежным аналогам. Большим тормозом внедрения новых конструкционных материалов в вагоностроении являются отечественные нормативные документы, в частности ГОСТ 9246-2013, в котором указывается минимальная масса тары – 21 тонна для вагонов с осевой нагрузкой до 25 тс. Эти требования объясняются отсутствием тележки для вагонов с коэффициентом тары 0,17. Надо срочно создавать тележку для коэффициента тары 0,16–0,20 с допускаемой осевой нагрузкой 27–32,5 тонны. Эта задача не представляется труднорешаемой, поскольку такая тележка (Barber) имеется в России. Основной технический довод противников снижения массы тары состоит в том, что при массе тары менее 21 тонны увеличивается количество сходов порожних вагонов из-за плохого состояния пути и плохой тележки. В США и Канаде подобных проблем нет или они давно решены.
Есть и проблемы в пассажирском вагоностроении при производстве поездов с кузовами из алюминиевых полых профилей («Сапсан», «Ласточка»). Не освоено у нас производство полых профилей из алюминиевых сплавов, их приходится закупать в Китае.
В любом случае нам пора готовиться к освоению производства современных высокоскоростных поездов, изготовленных по российским стандартам.

Россия среди «чужих» партнерств
Насколько ТТИП и ТПП меняют мировые экономические условия
Сергей Афонцев – доктор экономических наук, заведующий Отделом экономической теории ИМЭМО РАН, содиректор Научно-образовательного центра по мировой экономике ИМЭМО РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор МГИМО (У) МИД России.
Резюме Когда страна не может повлиять на действие каких-либо акторов мировой экономики, возникает дилемма – борьба или адаптация. Представители политических элит, как правило, предпочитают первое, экономических – второе.
Данный материал вышел в серии записок Валдайского клуба, публикуемых еженедельно в рамках научной деятельности Международного дискуссионного клуба «Валдай». С другими записками можно ознакомиться по адресу http://valdaiclub.com/publications/valdai-papers/
Формирование Транстихоокеанского и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерств (ТТП и ТТИП) вызывает бурные обсуждения как в самих странах, которые намерены к ним присоединиться, так и в остальном мире. Одни видят в этом процессе фундаментальное изменение международных правил игры и фактический закат ВТО, другие убеждены, что партнерства – логичное развитие прежней модели глобализации. Начнут в итоге функционировать эти объединения или нет (а на их пути возникло много политических препятствий), но появление такой идеи знаменует важные процессы в мировой системе экономических отношений.
Трансатлантическое партнерство: общий контекст
США и ЕС ведут переговоры о формировании Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства с 2013 года. На сегодняшний день это наиболее амбициозный проект в сфере развития договорных форматов регионального экономического сотрудничества, сочетающий традиционные меры либерализации торговли с последовательным согласованием регуляторных правил хозяйственной деятельности на территории стран-участниц. В случае успеха проект весьма глубоко воздействует на развитие как мировой экономики, так и механизмов ее регулирования.
С одной стороны, само по себе снижение барьеров для экономического взаимодействия между партнерами, у которых объем взаимной торговли товарами и услугами превышает 1 трлн долларов, а накопленный объем взаимных прямых инвестиций близок к 4 трлн, неизбежно скажется на интересах значительного числа экономических субъектов по всему миру. Для одних откроются новые возможности доступа к рынкам, другие столкнутся с ослаблением своих конкурентных позиций.
С другой стороны, формирование ТТИП придаст новый импульс процессам изменения архитектуры управления глобальными экономическими процессами в ситуации, когда Дохийский раунд переговоров в рамках ВТО фактически зашел в тупик. В паре с Транстихоокеанским партнерством (ТТП), соглашение о создании которого достигнуто в феврале 2016 г., ТТИП претендует на расширение договорных механизмов экономического регулирования за рамки сфер, определенных соглашениями ВТО (формат ВТО+). Инициатива в деле либерализации торговли и инвестиций переходит от международных экономических организаций с универсальным членством к региональным объединениям. При этом позиции развитых стран, в первую очередь США, в системе управления глобальными экономическими процессами укрепляются.
Насколько реальны эти перспективы и какое влияние они могут оказать на экономические и политические интересы России?
Как и в случае любого крупного изменения в структурах экономического регулирования, ответы на эти вопросы требуют анализа трех уровней реальности:
фактического (что на самом деле происходит в сфере формирования ТТИП);
аналитического (каковы оценки его ожидаемого влияния на мировую экономику и отдельные ее подсистемы);
риторического (как перспективы формирования ТТИП предстают в политических дискуссиях и материалах, предназначенных для формирования общественного мнения).
Отношения между тремя перечисленными уровнями часто бывают сложными, если не противоречивыми. В частности, риторические аргументы, используемые как сторонниками, так и противниками ТТИП, порой игнорируют (и что еще хуже – некорректно интерпретируют) результаты исследований ведущих аналитических центров. При этом реальный ход переговоров может быть далек от представлений как аналитиков, так и тем более – от риторической подачи соответствующих вопросов политически ангажированными представителями групп, представляющих конкретные экономические интересы. Тем не менее для понимания перспектив ТТИП важно учитывать процессы на всех трех уровнях. Это связано не только с тем, что в реальной политике хвост часто вертит собакой (в данном случае – риторические аргументы, даже самые фантастические, могут оказывать влияние на ход переговоров и принятие или непринятие их результатов политическими элитами и общественным мнением). Не менее важно, что результаты исследований ведущих мозговых трестов активно используются при подготовке (и корректировке) переговорных позиций сторон, оказывая тем самым влияние на будущее содержание соглашения о ТТИП.
Ожидаемое влияние ТТИП на внешнеэкономические связи России
Масштабы последствий заключения соглашения о ТТИП для интересов российских экономических субъектов будут определяться тремя группами факторов: соотношением эффектов создания и реориентации торговли между США и ЕС после заключения соглашения о ТТИП, влиянием этого соглашения на экономический рост в странах-участницах и уровнем внешнеторговых связей России с соответствующими странами.
Последний из перечисленных факторов имеет четкое количественное измерение. По состоянию на 2013 г. на Евросоюз и Соединенные Штаты приходилось соответственно 49,4% и 3,3% внешнеторгового оборота России (в абсолютном выражении – 417,5 и 27,7 млрд долларов). Резкое ухудшение экономических отношений России со странами Запада, снижение мировых цен на энергоносители и кризисные тенденции в национальной экономике привели к тому, что к первому полугодию 2016 г. доля ЕС в торговом обороте России сократилась до 43,8% (91,5 млрд долларов), в то время как доля США увеличилась до 4,2 процента. Правда, исключительно за счет того, что спад в торговле с Америкой (объем которой составил лишь 8,8 млрд долларов) был несколько менее выражен, чем спад в совокупной торговле России (в январе-июне 2016 г. торговый оборот с Соединенными Штатами сократился по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года на 19,2%, с Евросоюзом – на 26,1%, совокупный торговый оборот – на 22,2%). Несмотря на снижение объемов, торговля с ЕС и США обеспечивает почти половину (48%) совокупного внешнеторгового оборота России, что делает ее потенциально уязвимой для изменений в страновой структуре торгового сотрудничества ведущих партнеров.
Насколько значимыми могут быть такие изменения? Традиционным инструментом их оценки является расчет эффектов создания торговли (trade creation) и реориентации торговли (trade diversion) в результате заключения преференциальных торговых (и – шире – торгово-экономических) соглашений. Эффект создания торговли в отношениях между странами – участницами такого соглашения возникает благодаря тому, что снижение барьеров на пути взаимного сотрудничества позволяет заместить менее эффективное внутреннее производство приобретением соответствующих товаров по более низкой цене в стране-партнере. В свою очередь, эффект реориентации торговли обусловлен тем, что товары и услуги, которые ранее приобретались в третьих странах, после заключения преференциального соглашения выгоднее покупать в стране-партнере по данному соглашению, поскольку торговые барьеры в отношениях с этой страной снижены. Именно эффект реориентации торговли традиционно рассматривается в качестве основного фактора риска для государств, остающихся «за бортом» масштабных преференциальных договоренностей, направленных на активизацию регионального сотрудничества.
Большинство исследований, проделанных к настоящему времени, указывают на значительные потенциальные масштабы реориентации торговли и, как следствие, на выраженные негативные эффекты для третьих стран от заключения соглашения о ТТИП. Такой результат обусловлен тремя ключевыми обстоятельствами.
Во-первых, несмотря на общий низкий уровень тарифных барьеров во взаимной торговле (в среднем чуть выше 2% для импорта ЕС из США и чуть выше 3% – для американского импорта из Евросоюза), по ряду чувствительных товарных категорий (пищевые продукты, напитки, текстильная продукция и одежда) средний уровень импортных пошлин превышает 10 процентов. Так, в 2012 г. стоимостный эквивалент импортных пошлин на молочную продукцию в ЕС превышал 50%, а в США составлял почти 20%; на напитки и табачные изделия в Евросоюзе он был близок к 20%, в Соединенных Штатах достигал 14 процентов. Отмена барьеров в рамках ТТИП может привести к значительному оживлению взаимной торговли на фоне резкого проседания конкурентных позиций стран, не имеющих с ЕС и США аналогичного преференционного соглашения.
Во-вторых, принципиальной чертой ТТИП является ориентация на снижение нетарифных барьеров для торгово-экономического взаимодействия, в том числе через взаимное согласование регуляторных норм, действующих на территории Соединенных Штатов и единой Европы. Именно данный фактор рассматривается в качестве основного источника расширения взаимного экспорта товаров и услуг, кумулятивные масштабы которого, по разным оценкам, могут достигать 30–70% по сравнению с базовым сценарием, предполагающим неудачу переговоров. Наиболее значимые результаты с точки зрения улучшения взаимного доступа на рынки ожидаются в отраслях, производящих транспортные средства, химическую продукцию, продукцию пищевой промышленности и металлы. С учетом того, что изделия химической промышленности и металлургии занимают значительное место в российском экспорте (около 13% в структуре товарных поставок в ЕС в 2015 г.), эффекты реориентации торговли в данных отраслях могут оказаться весьма чувствительными.
В-третьих, акцент на дальнейшее улучшение условий для осуществления взаимных капиталовложений означает, что эффект реориентации затронет и инвестиционную сферу. Не менее трети взаимной торговли между Евросоюзом и США приходится на поставки между филиалами европейских и американских компаний, размещенных на партнерской территории, и реориентация инвестиций после заключения соглашения о ТТИП может придать дополнительный импульс реориентации торговли, в первую очередь в ущерб интересам стран, активно инвестирующим на территории Евросоюза и Соединенных Штатов, но не имеющим с ними преференциальных соглашений (это относится, например, к Японии, для которой эффект может быть частично ослаблен благодаря ее участию в ТТП, и в еще большей степени – к Китаю). В российском случае данный фактор может оказаться не столь выраженным, как в экономически развитых странах и ряде ведущих стран с развивающимися рынками, поскольку масштабы инвестиционной экспансии отечественных компаний в экономики ЕС и США ограниченны. Однако в долгосрочной перспективе (прежде всего в контексте смягчения геополитических противоречий) он может сыграть сдерживающую роль в развитии взаимных инвестиционных связей и реализации проектов в сфере технологического сотрудничества и создания трансграничных цепочек добавленной стоимости.
Теоретически негативные последствия реориентации торгово-инвестиционных потоков могут быть сглажены благодаря ускорению экономического роста в странах – участницах преференциального соглашения, обусловливающего рост ВВП и располагаемых доходов и, как следствие, расширение спроса на импортные товары и услуги. Применительно к ТТИП, однако, ожидать значительного выигрыша не приходится. Все имеющиеся расчеты ожидаемых результатов формирования ТТИП дают крайне низкие – менее 1 процентного пункта – оценки прироста ВВП и реальных доходов и для ЕС, и для США. По саркастическому замечанию автора одной из публикаций, даже при оптимистичных предположениях относительно экономического эффекта ТТИП доход среднего европейца увеличится на величину, позволяющую ему еженедельно выпивать еще одну чашку кофе. При всей условности соответствующих оценок нельзя не признать, что они не дают оснований рассчитывать, что возникнут компенсаторные эффекты, позволяющие хотя бы частично нейтрализовать эффекты торгово-инвестиционной реориентации.
Но насколько значимы они для России? Обнародованные в 2015 г. оценки потенциального влияния ТТИП на экономики стран БРИКС показывают, что даже в случае полной отмены барьеров в торговле между Евросоюзом и Америкой масштаб кумулятивного сокращения российского экспорта по сравнению с базовым сценарием составит лишь 1,7% (в том числе экспорта в США – на 4,3%, в ЕС – на 1,4%). Для сравнения: лишь за первое полугодие 2016 г. российский экспорт в Соединенные Штаты и Евросоюз упал на 11,8% и 33,9%, соответственно. Негативное влияние ТТИП на темпы экономического роста обещает быть еще менее выраженным. Ожидаемый кумулятивный спад российского ВВП может составить 0,1% – примерно столько же, сколько у Индии (0,09%), и чуть меньше, чем у Китая (0,12%). Важно подчеркнуть, что соответствующая оценка характеризует не ежегодный показатель спада ВВП, а суммарный эффект имплементации соглашения о ТТИП за период до 2027 года. И хотя в отдельных отраслях негативное влияние может оказаться более выраженным, оснований для катастрофических ожиданий в отношении прямых экономических последствий заключения соглашения о ТТИП имеющиеся на сегодняшний день исследования точно не дают.
Регуляторные последствия
Более сложно определить долгосрочные последствия для российской экономики, связанные с изменениями регуляторного режима торгово-экономических отношений между ЕС и США и его потенциального влияния на взаимодействие сторон-участниц с внешним миром. С одной стороны, отсутствуют стандартные методики количественной оценки такого рода последствий, что оставляет широкий простор для выдвижения самых разнообразных – в том числе прямо фантастических – предположений о влиянии ТТИП на интересы экономических партнеров Евросоюза и Америки. Например, о гипотетическом росте экспорта генетически модифицированных продуктов в ЕС из третьих стран, если под давлением американцев будет отменен запрет на ГМО-продукцию. С другой стороны, достигнутые двусторонние договоренности могут влиять на интересы третьих стран по сложным, порой априорно неочевидным, каналам, идентификация которых представляет нетривиальную задачу.
Основные риски для России, связанные с формированием единого европейско-американского регуляторного пространства, обычно связываются с сокращением возможностей маневра в двусторонних переговорах по торгово-инвестиционным вопросам и с перспективами навязывания России не устраивающих ее норм (включая технические стандарты, наднациональные механизмы защиты инвесторов, расширительные подходы к гарантиям прав интеллектуальной собственности, либерализацию доступа к рынкам государственных закупок и т.п.). Хотя с формальной точки зрения нормы преференциальных соглашений распространяются исключительно на отношения между странами, подписавшими соответствующие соглашения, опыт показывает, что США и особенно ЕС имеют повышенную склонность к распространению «своих» регуляторных норм на отношения со странами-партнерами. В этом смысле риски «регуляторного империализма», основанного на положениях ТТИП, еще более выражены, чем в случае соглашения о ТТП.
Возможные пути решения связаны, во-первых, с разработкой оптимальных переговорных стратегий по каждому из вопросов будущего регуляторного взаимодействия с Евросоюзом и Соединенными Штатами, и, во-вторых, с поисками рамочных форматов договорного взаимодействия с ними. Если перспективы нахождения такого формата в отношениях с американцами относятся скорее к компетенции футурологов, чем прогнозистов, то применительно к отношениям с ЕС в долгосрочной перспективе (10–15 лет) существует вполне реальная возможность возврата к идее соглашения о системном снижении торгово-инвестиционных барьеров. Как ни парадоксально, нынешнее содержание переговоров по ТТИП содержит намеки на то, что его итоговый вариант может облегчить выработку выгодных для России положений нового соглашения с Европейским союзом. Существует и ряд других обстоятельств, благодаря которым регуляторные новшества способны косвенно содействовать реализации российских интересов в отношениях с единой Европой и, в меньшей степени, с Соединенными Штатами.
Во-первых, устранение барьеров, связанных с различиями в технических, санитарных, фитосанитарных и иных стандартах, которые действуют в США и ЕС, с наибольшей вероятностью пойдет не по пути гармонизации и тем более унификации, а по пути разработки механизмов их взаимного признания. Появление соответствующих механизмов может сыграть роль прецедента и образца для подражания одновременно. Как известно, одним из главных препятствий при обсуждении «единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока» были различия в подходах к регуляторному сближению: для ЕС оно означало принятие Россией европейских технических стандартов, для России – взаимное признание стандартов Евросоюза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российские предложения противоречили складывавшимся десятилетиями представлениям европейцев об исключительности стандартов ЕС в экономических отношениях с зарубежными партнерами. Если в основу ТТИП будет положен принцип взаимного признания стандартов, и самой этой исключительности, и укоренившимся представлениям о ней будет нанесен ощутимый удар.
Во-вторых, в ходе переговоров о ТТИП под угрозой оказалась еще одна «священная корова» Европейского союза – т.н. принцип предосторожности, в соответствии с которым разработчики и пользователи технологий должны доказывать их безвредность для потребителей и окружающей среды. В США принят прямо противоположный принцип, предполагающий, что субъекты, возражающие против использования конкретных технологий, должны представить доказательства их опасности. Очевидное противоречие блокирует прогресс переговоров по широкому кругу вопросов – от торговли продовольственной и химической продукцией до разработки сланцевых месторождений. И если в таких чувствительных сферах, как производство и допуск на рынок генетически модифицированной продукции, от европейской стороны вряд ли можно ждать уступок, то в других отраслях они вполне возможны. Одним из примеров является печально известный Регламент по вопросам регистрации, оценки, допуска на рынок и ограничений на производство и оборот химической продукции (REACH), принятый в 2006 г. и с тех пор попортивший немало крови российским экспортерам. Можно только пожелать удачи лоббистам американских химических компаний, которые в ходе переговоров о ТТИП настаивают на пересмотре положений REACH. Если их усилия увенчаются успехом, у Брюсселя будет мало шансов сохранить в своем распоряжении протекционистский инструмент, ставший в свое время плодом совместного «творчества» европейских химических компаний и идеологически мотивированного «зеленого лобби».
В-третьих, одним из последствий заключения соглашения о ТТИП может стать ограничение масштабов субсидирования сельского хозяйства и в ЕС, и в США. Подобные перспективы обсуждаются представителями сельскохозяйственных лобби (что неудивительно – в критическом ключе) и экспертного сообщества (в большинстве случаев – в одобрительном тоне, с учетом позитивного влияния данного шага на благосостояние потребителей). Для России реализация такого сценария может означать сокращение искусственных – основанных на субсидиях – конкурентных преимуществ европейских и американских производителей, что придаст дополнительный стимул как для экономически оправданного импортозамещения, так и для экспансии российских сельхозпроизводителей на внешние рынки.
Наконец, опять-таки под давлением американских лоббистов, возможно ослабление европейских стандартов защиты наименований продуктов, контролируемых по региону производства. Производители «Российского шампанского», подмосковного пармезана и кизлярского коньяка явно не останутся внакладе при таком развитии событий.
Существенным является тот факт, что все перечисленные новшества в будущем могут найти отражение при разработке универсальных соглашений, касающихся вопросов торгово-инвестиционного регулирования – в частности, в рамках переговорного процесса в ВТО. Оборотная сторона медали состоит в том, что наименее привлекательные для России аспекты формирующегося в ТТИП режима «ВТО+» также могут быть инкорпорированы в многосторонние международные соглашения. Более того, многие наблюдатели ставят под вопрос будущее ВТО, которая, с их точки зрения, может оказаться лишней перед лицом растущей регуляторной мощи ТТИП и ТТП.
ТТИП, геополитика и перспективы управления глобальными экономическими процессами
Вопрос о влиянии ТТИП на международную архитектуру экономического регулирования остается на сегодняшний день одним из самых спорных. Существует широкий спектр мнений: от признания за ТТИП (в паре с ТТП) роли «могильщика» ВТО – до утверждений, что ТТИП (как и ТТП) строго основывается на нормах ВТО, а вводимые новшества способны послужить образцом для инициатив, призванных оживить зашедший в тупик Дохийский раунд переговоров.
В логику первой интерпретации, предполагающей замену нынешней многосторонней системы внешнеторгового регулирования американоцентричной системой региональных торгово-инвестиционных блоков, хорошо укладывается и прозвучавшее из уст Хиллари Клинтон сравнение ТТИП с «экономическим НАТО», и известная фраза Барака Обамы о том, что ТТП позволит Соединенным Штатам, а не Китаю, играть роль лидера глобальной торговли. В то же время второй интерпретации также нельзя отказать в рациональности.
Действительно, договорные форматы регионального экономического сотрудничества, сочетающие отмену барьеров во взаимной торговле товарами и услугами по образцу традиционных соглашений о создании зон свободной торговли (ЗСТ) со снижением торгово-инвестиционных барьеров, связанных с различиями в национальных регуляторных нормах, с середины 1990-х гг. стали, безусловно, доминировать в структуре региональных торговых соглашений. Они все больше оттесняли на второй план (по крайней мере количественно) объединения, опирающиеся на более глубокие форматы сотрудничества и интеграции, которые предполагают построение таможенного союза, общего рынка, экономического и валютного союза. Новые форматы (для обозначения которых часто используется термин «ЗСТ+») оказались идеальны для стран с разным уровнем экономического развития и/или практикующих разные подходы к регулированию тех или иных аспектов хозяйственной жизни. В обоих случаях различия экономических интересов не допускают унификации норм экономического регулирования, характерной для глубоких форматов интеграции, и в то же время позволяют устранить барьеры для сотрудничества в тех сферах, где имеется максимальная общность интересов и/или возможен размен уступок одних стран на уступки других. При этом в вопросах, регулируемых нормами ВТО, участники соглашений традиционно придерживаются соответствующих норм, строя на них собственные стратегии опережающей либерализации взаимных экономических связей. В свою очередь, в сферах, на которые нормы ВТО не распространяются, они самостоятельно разрабатывают нормы регуляторного сотрудничества (принцип «ВТО+»). ТТП и ТТИП вывели эти подходы на ранее невиданный уровень регуляторного охвата, однако сущность осталась неизменной: где возможно, «бежать впереди ВТО» в деле либерализации торговли, одновременно разрабатывая собственные нормы и правила в сферах, находящихся за пределами компетенции ВТО.
Может ли этот процесс привести к закату и отмиранию ВТО? На сегодняшний день такая перспектива выглядит нереалистичной. Во-первых, потому, что, как было сказано выше, соглашения в формате ЗСТ+ сами строятся на нормах ВТО. А во-вторых, механизмы ВТО, даже если они и не способны обеспечить дальнейшую либерализацию международной торговли, имеют ключевое значение для поддержания уже достигнутого уровня либерализации и разрешения торговых споров. Так что хоронить ВТО рано.
Немаловажное значение имеет и тот факт, что само по себе ТТИП затронет достаточно скромную долю мировой торговли. Оценки, в соответствии с которыми в сфере регуляторного воздействия ТТИП окажется свыше 30% мировой торговли товарами и более 40% торговли услугами, основаны на том, что в соответствующую сферу совершенно механически (и без всяких на то оснований) зачисляется взаимная торговля между странами Евросоюза. Если говорить собственно о торговле между ЕС и США, то ее масштабы существенно более скромные. По данным ВТО, на экспорт из Европейского союза в Соединенные Штаты в 2015 г. приходилось 2,3% глобального экспорта товаров, на экспорт из США в ЕС – и того меньше (1,5%). В глобальном экспорте услуг соответствующие доли лишь немногим выше – 3,1% и 4,1 процента. Это явно не те показатели, с которыми можно строить режим регулирования международной торговли без опоры на действенную структуру глобального регулирования, каковой в настоящее время является ВТО.
Необходимо обратить внимание на важный парадокс. В той мере, в какой США намерены использовать ВТО для более широкого продвижения регуляторных норм ТТИП и ТПП, геополитическая риторика, ориентированная на американского избирателя, может сослужить плохую службу. В современных условиях уверенное позиционирование ТТИП и ТПП как проектов, призванных закрепить американское лидерство в ущерб другим участникам международной системы, способно вызвать опасения по поводу формирования режима «эгоистичной гегемонии» не только у стран, оставшихся за бортом этих соглашений, но и у ряда их фактических и потенциальных участников (в том числе среди европейских элит). В таком случае на перспективах включения норм ТТИП и ТПП в систему соглашений ВТО можно будет уверенно поставить крест.
В свою очередь, если США планируют распространять сферу действия регуляторных норм ТТИП и ТПП «без ВТО» – через приглашение новых стран к подписанию этих соглашений и навязывание соответствующих норм по двусторонним торгово-инвестиционным соглашениям, – такая стратегия неизбежно оставит ниши, в которых двусторонние связи будут осуществляться вне регуляторного поля ТТИП и ТПП. А поскольку экономика, как и природа, не терпит пустоты, в соответствующих нишах вероятно появление региональных проектов, инициированных странами, не испытывающими восторга по поводу перспектив американской гегемонии в сфере глобального экономического регулирования. В этих условиях ВТО останется главным фактором, удерживающим мировой торговый режим от сползания к недружественной конкуренции альтернативных региональных проектов.
Возможные стратегии ответа на вызовы
Каждый раз, когда в мировой экономике формируются новые вызовы, из-за действий акторов, на поведение которых не удается оказать действенного влияния, возникает дилемма выбора между борьбой и адаптацией. Характер выбора часто зависит от того, кто именно его делает: представители политических элит в большинстве своем предпочитают борьбу, экономических – адаптацию. В российском случае стратегия борьбы с негативными последствиями ТТИП предполагает в первую очередь интенсификацию усилий по реализации собственных региональных проектов (прежде всего углубление интеграции в ЕАЭС и форсирование переговоров о заключении преференциальных соглашений со странами, оставшимися вне ТТИП и ТТП). В будущем элементом данной стратегии может стать активное использование механизмов ВТО для оспаривания тех действий ЕС и США, которые будут связаны с распространением на Россию не отвечающих ее интересам норм и положений ТТИП.
В свою очередь, стратегия адаптации предполагает оценку содержания будущего соглашения о ТТИП на предмет возможного использования отдельных его положений для совершенствования регуляторного режима в Российской Федерации, дальнейшей либерализации торгово-инвестиционных связей в рамках ЕАЭС и с дружественными странами СНГ, а также – в долгосрочной перспективе – в переговорах о заключении нового соглашения об экономическом сотрудничестве с Евросоюзом. Как было показано выше, ряд обсуждаемых в рамках формирования ТТИП вопросов может породить решения, способные укрепить переговорную позицию России в ее взаимодействии с европейцами. Поскольку масштаб прямых экономических потерь России от формирования ТТИП скорее всего окажется небольшим, принципиальное значение имеет поиск возможностей компенсации потерь секторам, где ущерб от реориентации торговли может оказаться максимальным. В частности, при оптимальном развитии событий потери российских производителей химической продукции могут быть сведены к минимуму в случае пересмотра европейского регламента REACH, а конкурентные позиции российских производителей продовольствия и сельскохозяйственного сырья укрепятся в случае снижения масштабов субсидирования сельского хозяйства в США и ЕС.
Оптимальный вариант реакции на вызовы, связанные с формированием ТТИП, будет предусматривать сочетание двух описанных стратегий. Каким именно окажется это сочетание – во многом зависит от финального результата переговоров о ТТИП. На сегодняшний день между сторонами достаточно принципиальных расхождений, чтобы сохранялся существенный уровень неопределенности не только по поводу содержания соглашения о ТТИП, но и о перспективах его подписания и тем более – ратификации. Ситуацию еще более осложняют институциональный кризис в ЕС, вспыхнувший с новой силой на фоне перспектив Брекзита, и грядущая смена политических лидеров в Соединенных Штатах и Германии, которые на протяжении последних лет были главными знаменосцами идеи ТТИП. Безусловно уверенным можно быть только в том, что формирование ТТИП не несет с собой катастрофических последствий для России, и после подписания соглашения (если это когда-нибудь произойдет) у нее будет достаточно времени для выработки оптимального ответа.

Встреча с председателем совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктором Рашниковым.
Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктором Рашниковым. Обсуждались итоги работы предприятия и планы на перспективу.
В.Путин: Виктор Филиппович, давно у Вас не был, но знаю, что ваша группа компаний развивается, Магнитка развивается. Мы договорились, что Вы расскажете о том, что сделано за последнее время, и поделитесь планами на ближайшие перспективы.
В.Рашников: За последние пять лет мы инвестировали более четырёх миллиардов, а вообще за 15 лет (это отсчёт с того момента, когда Вы первый раз побывали у нас на комбинате в 1999 году, в должности премьера) мы инвестировали 13 миллиардов, в том числе 10 – непосредственно в комбинат.
Это позволило нам полностью переоснаститься, мы добавили абсолютной мощности на три миллиона тонн, но главное – мы улучшили структуру и добавили того же холоднокатаного [проката] в два раза с пуском стана-2000, который Вы запускали.
Добавили на 1,5 тысячи тонн толстого листа и закрыли всю потребность сегодня в металле для производства труб большого диаметра. Мы сегодня ничего не закупаем за рубежом, все трубы делаем только наши.
Мы увеличили [производство] оцинкованного проката. Если в 2002 году мы делали всего 100 тысяч тонн на комбинате, то сегодня мы уже по 100 тысяч грузим каждый месяц. То есть сегодня 1 миллион 200 тысяч тонн мы делаем только оцинкованной продукции и ещё полимерный прокат.
В.Путин: Для автомобильной промышленности?
В.Рашников: Да, для автомобильной промышленности. Мы сегодня закрываем тоже всю потребность для российских заводов, 70 процентов делаем для АвтоВАЗа, 50 – для ГАЗа, 50 делаем для КамАЗа. Для иностранных заводов, которые сегодня у нас: это «Форд», «Фольксваген», «Рено», – мы поставляем порядка 50 тысяч по году. «Форд» – полностью покрываем всю потребность, которую он запрашивает.
Все проекты были направлены на продукцию для внутреннего рынка, и должен сказать, что мы её увеличили. Если в 2000 году мы делали 3,5 миллиона [тонн] для внутреннего рынка, то сегодня делаем 9,5 миллиона, то есть на внутренний рынок мы добавили продукции на шесть миллионов.
В последние годы в среднем по реализации один миллиард долларов зарабатываем в год и последние пять лет вышли на новые рубежи по прибыли, в среднем превышающие 400 миллионов долларов в год. Всего за этот период – 4,8 миллиарда, очень серьёзные налоги мы сегодня платим. Этого [добиться] нам позволило переоснащение и строительство новых проектов.
Природоохранная деятельность: валовые выбросы мы уменьшили в 1,6 раза, удельные – в 1,9. Это серьёзные инвестиции, затраты требуются очень большие. За последние пять лет в среднем на природоохранную деятельность они составляли от 3,5 до 4 миллиардов в год.
Списочная численность – за последние пять лет мы сократили на три тысячи [число работников] непосредственно на комбинате, а если взять с 2000 года, то мы сократились практически в два раза: было 36 тысяч – сейчас работает 18 тысяч. Так резко сократить [численность] позволило переоборудование, новые технологии, новое оборудование. По группе тоже с 60 [тысяч работников] ушли на 45 тысяч.
Производительность труда выросла в два раза, если в тоннах; заработная плата тоже выросла за последние пять лет в 1,5 раза, а если взять [длительный] период, то она вообще выросла в 10 раз: сегодня у нас средняя зарплата – 51 тысяча. Это даёт нам возможность [реализовывать] социальную политику – поддерживать пенсионеров, лечение, оздоровление работников, школы. Где–то 1,5 миллиарда в год мы тратим на благотворительность.
Ещё есть такой вид спорта – хоккей. Наша команда [«Металлург»] второй раз стала обладателем кубка Гагарина. Вы поздравляли, спасибо Вам. Мы уже пять раз становились чемпионами России, так что этот вопрос тоже смотрим. Весь этот объём позволил нам начиная от сталеплавильного [производства] и до проката всё практически переоборудовать, всё сделать современным и расширить сортамент.
Мы приступаем буквально с этого года к следующей программе, которая будет занимать первые пять лет, а потом следующие десятилетки: мы идём в первый передел [выплавка чугуна из железной руды]. Если мы до сталеплавильного [производства] всё сделали, то теперь начинаем от горы – от производства агломерата и до сталеплавильного производства.
Мы собираемся построить новую аглофабрику, к ней уже в этом году приступаем; заканчиваем реконструкцию стана-2500; строим агрегат цинкования, который в следующем году запустим; дальше – коксовую батарею и после этого приступаем к строительству доменной печи.
В.Путин: Это когда примерно?
В.Рашников: Доменные печи мы начнём года через четыре, аглофабрику мы в этой пятилетке построим, коксовую батарею тоже в этой пятилетке, стан-2500 тоже реконструируем в этой пятилетке. Агрегат цинкования на следующий год уже запускаем.
Это позволит полностью закрыть потребность по оцинковке у нас в России. В этом и следующем году ещё будет запускать «Северсталь», и в целом этим закрываем полностью потребность в оцинкованном прокате. Инвестиции тоже будут в среднем на уровне 700 миллионов в год, 700–800.
В.Путин: 700 миллионов долларов в год?
В.Рашников: Да. Если сейчас взять, как я уже сказал, за 15 лет, мы 13 миллиардов [проинвестировали]. Были пиковые года: стан-5000 пускали и стан-2000 – тут всё более планомерно. Это позволит нам уменьшить издержки и в среднем получать ещё где–то на 170–200 миллионов прибыли в год, а также сократить выбросы и увеличить заработную плату.
В.Путин: Сейчас у вас какая средняя заработная плата?
В.Рашников: Была 51 тысяча, в этом году ещё поднимаем на семь процентов, будет в среднем 55 тысяч.
В.Путин: Успехов вам. И в спорте тоже.
В.Рашников: Спасибо.

Дмитрий Медведев посетил Стойленский горно-обогатительный комбинат.
Председатель Правительства осмотрел карьер горно-обогатительного комбината, принял участие в церемонии открытия фабрики окомкования, а также вручил правительственные награды работникам предприятия.
Стойленский горно-обогатительный комбинат входит в Группу НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат).
Стойленский ГОК – одно из ведущих предприятий России по производству железорудного сырья для чёрной металлургии, на его долю приходится более 15% производства товарной руды в России.
Предприятие занимается разработкой одного из самых крупных месторождений Курской магнитной аномалии. Основная продукция – железорудный концентрат, железная агломерационная руда, железорудные окатыши (один из ключевых компонентов шихты для плавки чугуна в доменном производстве).
Карьер Стойленского горно-обогатительного комбината расположен в окрестностях города Старый Оскол. Глубина карьера достигает 370 м, диаметр по поверхности – 3 км. Балансовые запасы сырья в карьере составляют: богатая железная руда — 26,6 млн т, железистые кварциты – 1,4 млрд т.
Фабрика окомкования, строительство которой велось с 2014 года, – один из крупнейших и самых современных промышленных проектов в России и Европе. Фабрика позволит на 100% обеспечить потребности Группы НЛМК в основных видах железорудного сырья. Производственная мощность составит 6 млн т окатышей в год с возможностью увеличения производительности на 20% – до 7,2 млн т окатышей в год.
Площадь фабрики составляет 22 га. На её территории расположены более 70 объектов различного масштаба и назначения, включая современные очистные установки.
Конвейерная обжиговая печь фабрики окомкования Стойленского ГОКа является одной из крупнейших в Европе. Её производительность составляет 780 т окатышей в час, полезная площадь – 768 кв. м.
С вводом фабрики окомкования в эксплуатацию создано 270 новых рабочих мест.
Выступление Дмитрия Медведева на церемонии открытия фабрики окомкования:
Сегодня на Стойленском горно-обогатительном комбинате, одном из градообразующих предприятий Старого Оскола, в год его 55-летия мы открываем крупнейшую в Европе фабрику по производству железорудного сырья. Поэтому прежде всего позвольте вас сердечно поздравить с этим событием!
Это важное событие не только для группы компаний Новолипецкого металлургического комбината, но и для всей нашей металлургической отрасли, нашей промышленности. Это свидетельство того, что даже в относительно непростой экономической ситуации мы продолжаем строить заводы и фабрики, открывать новые производства, создавать новые высокоэффективные рабочие места.
Строительство потребовало весьма солидных вложений. Инвестиции за три года составили 34 млрд. Сколько строилась бы подобная фабрика лет 30–40 назад? Около 10 лет с учётом цикла строительства того периода, порядка принятия решений. А здесь три года – и такой результат. При проектировании были выбраны новые технологии, самое передовое оборудование, использованы современные системы газоочистки, энергосбережения, прогрессивная система автоматизации. Новая фабрика по производительности станет лучшей в горно-металлургическом комплексе страны и на все 100% обеспечит группу компаний Новолипецкого металлургического комбината сырьём.
Новое оборудование – это очень важно, но не менее важным является создание новых рабочих мест. На фабрике созданы действительно новые рабочие места, на них будут трудиться высококвалифицированные работники. Рассчитываем на то, что здесь будет и другая производительность труда. Это такой ориентир для металлургов и всей промышленности.
Хочу ещё раз поздравить вас с этим замечательным событием. Большое вам спасибо за ваш труд, за ваш вклад в развитие российской металлургии. Желаю новой фабрике успешной работы.

Везет умнейшим. Демидовские премии достаются лучшим
В Президиуме РАН прошло традиционное чаепитие, на котором были названы имена лауреатов возрожденной Демидовской премии. На этот раз ее удостоены академик Юрий Золотов - за выдающийся вклад в развитие аналитической химии, академик Валерий Рубаков - за основополагающий теоретический вклад в фундаментальные направления физики: квантовую теорию поля, физику элементарных частиц, гравитацию, теорию ранней Вселенной, академик Вячеслав Молодин - за выдающиеся достижения в области изучения археологии и первобытной истории народов Сибири.
Напомним, что Демидовскую премию для ученых учредил в 1831 году уральский промышленник Павел Демидов. В 1993 году она была возрождена по инициативе академика Геннадия Месяца в результате объединения усилий уральских ученых и предпринимателей. Сегодня общенациональные неправительственные Демидовские премии присуждаются за личный вклад в развитие фундаментальных наук в шести областях: физика, математика, химия, биология, науки о Земле, общественные науки. Номинации чередуются - их присуждают по три в год. Ученые награждаются не за какой-то отдельный научный труд, а по совокупности работ.
Как сообщил председатель УрО РАН и исполнительный директор Екатеринбургского общественного научного Демидовского фонда академик Валерий Чарушин, номинанты, как всегда, будут награждены дипломом, медалью в уникальном малахитовом футляре-шкатулке и денежной суммой в 1 миллион рублей.
На традиционном чаепитии лауреатов представлял научный обозреватель Владимир Губарев (на верхнем снимке - второй слева). “Везет вам всем, что вы со мной дружите, - сказал он академикам. - Все мои друзья становятся лауреатами Демидовской премии”.
Владимир Губарев рассказал об “одном из лучших и преданных учеников Александра Павловича Виноградова, основоположника отечественной радиохимии” - Юрии Золотове, выпускнике химического факультета МГУ. Вспомнил при этом интересный эпизод.
Однажды Виноградов, войдя в свой кабинет, спросил: “Все вокруг говорят Золотов, Золотов! Кто такой Золотов? Пригласите ко мне”. Позвали молодого аспиранта Золотова.
- Есть одна проблемка, - сказал Виноградов молодому ученому, - разберитесь, пожалуйста!
- За три года разберусь, - ответил тот.
- Да нет, - сказал Виноградов, - через неделю...
Аспирант Золотов в течение недели подготовил доклад, с которым успешно выступил на заседании Комитета №1, отвечавшего за создание ядерного оружия в СССР... Сегодня Ю.Золотов - советник РАН, завкафедрой аналитической химии МГУ им. М.В.Ломоносова и главный научный сотрудник Института общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова РАН.
Юрий Александрович разработал многочисленные методы химического анализа веществ. Он внес значительный вклад в развитие экстракции как научного направления и метода выделения и разделения элементов, применяющейся в аналитической химии, ядерной технологии, цветной металлургии. Юрий Александрович - один из самых крупных и признанных в мире специалистов в этой области. А еще он поэт и за чашкой чая прочитал коллегам свои стихи!
Вячеслав Молодин всю жизнь посвятил археологии. Одним из важнейших его вкладов в науку было открытие пазырыкской культуры на Алтае. Именно к представителям этой культуры относится так называемая принцесса Укока (Алтайская принцесса, Очы-бала), мумию которой в могильнике Ак-Алаха в 1993 году нашла супруга академика, тоже археолог, член-корреспондент РАН Наталья Полосьмак. Коренные алтайцы верят, что “принцесса”, которую еще называют Ак-Кадын (Белая Госпожа), является хранительницей покоя и стояла на страже врат подземного мира, не допуская проникновения Зла из низших миров.
Окончив с отличием исторический факультет Новосибирского государственного педагогического института, где активно занимался археологией, Вячеслав Молодин в 1971 году поступил в аспирантуру в Институт истории, филологии и философии СО АН СССР... С тех пор его занятие - открывать прошлое. На территории Западной и Южной Сибири он исследовал ряд высокоинформативных археологических комплексов, что позволило разработать концепцию этнокультурных процессов в обширных регионах Азии от эпохи неолита до этнографической современности. Работы исследователя отличает мультидисциплинарный подход. Он активно сотрудничает с антропологами, палеогенетиками, геофизиками, геологами и... пишет увлекательнейшие книги об археологии, которые читаются на одном дыхании.
Валерий Рубаков получил блестящее образование, окончив физико-математическую школу №57, затем - физический факультет МГУ. К моменту защиты диплома у него было уже четыре опубликованные работы. В 35 лет стал членом-корреспондентом РАН, а еще семь лет спустя - академиком. Научная биография Валерия Анатольевича связана с Институтом ядерных исследований Академии наук. Сегодня он - один из ведущих мировых специалистов в области квантовой теории поля, физики элементарных частиц и космологии.
Физикам всего мира Валерий Рубаков известен как автор концепции мироздания с дополнительными пространственными измерениями. Он также внес существенный вклад в развитие теории самой ранней Вселенной - космологии “до Большого взрыва”. Еще один важнейший штрих - Валерий Анатольевич один из основателей клуба “1 июля”, неформального сообщества академиков и членов-корреспондентов РАН, заявивших о неприятии реформы Академии наук.
Андрей СУББОТИН

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ СОВЕТСКИХ ГЕОЛОГОВ
Советские геологи первыми в мире создали геологическую карту территории, равной одной шестой части земли, территории Советского Союза
Виталий Овчинников
ЕЩЕ ОДНО ЧУДО СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Профессия геолога была одной из самых уважаемых и нужных профессий в Советском Союзе. Геологов не брали в армию даже в ВОВ..
Ты уехала в знойные степи,
Я ушёл на разведку в тайгу.
Над мною лишь солнце палящее светит,
Надо тобою лишь кедры в снегу
***
Сырая тяжесть в сапогах,
Роса на карабине.
Кругом тайга, кругом тайга
И мы посередине
***
Все перекаты, все перекаты,
Послать бы их по адресу.
На это место уж нету карты,
Плыву опять по абрису.
***
Песни геологов
ВСТУПЛЕНИЕ
Моя молодость была связана с геологией. Я имею «корочки» геолога коллектора и мастера буровых работ, которыми очень и очень дорожу. Сразу после окончания школы я уехал с геологической партией в Якутию, где проработал несколько лет, а потом по направлению от Якутской краевой геологической экспедиции я поступил в МГРИ, самый лучший в мире геологоразведочный институт. Он располагался тогда в трех старинных зданиях, размещенных в самом центре Москвы, прямо напротив здания манежа.
В этом институте я проучился несколько лет. Учился с удовольствием. Но с четвертого курса мне пришлось уйти. И не просто уйти, а уйти с треском. Да еще коренным образом поменять дальнейшую свою жизнь. Я оставил геологию и ушел в монтаж. Монтаж ракетных систем на полигоне Байконур. Естественно, что не сам. Меня устроили туда по великому блату. Устроил отец одного моего друга студента сокурсника. По его просьбе. И его отец помог мне.
А институт я закончил уже потом, к тридцати пяти годам своей жизни. И институт этот оказался машиностроительным, да еще, заочным. И по специальности, абсолютно не имеющей никакого отношения к геологии. Я стал инженером сварщиком. Но геология, как первая любовь, никак не забывается. У меня дома великолепная коллекция минералов, собранная со всех концов Союза. Мной собранная и моими бывшими сокурсниками, с которыми я долго поддерживал дружеские отношения. Но после развала Союза все эти связи потихонечку сошли на нет.
А Советское геологоразведочное производство страны, бывшее в свое время лучшим в мире и имеющее свое отдельное Министерство с численностью работающих в нем свыше трех миллионов человек, разрушено полностью и окончательно. Даже областных органов геологии в стране не осталось. Основная масса Российских геологов с высшим геологическим образованием перебралась за границу.
Когда-то Советская власть выдвинула лозунг – «Кадры решают все!» Это было время индустриализации страны, когда страна напоминала одну гигантскую стройку. И стране понадобились специалисты самых разных, порой даже немыслимых ранее профессий. И Советская власть, руководство страны, в кротчайшие сроки сделала невозможное! Они создали десятки тысяч ВУЗов, техникумов и профессиональных училищ, в которых готовили нужные стране профессиональные кадры, нужные специалисты! И как готовили! До сих пор за рубежом о Советских специалистах говорят с громаднейшим уважением.
Именно тогда и был создан знаменитейший на весь мир МГРИ имени Серго Орджоникидзе. Именно тогда и развернулись обширные работы по и изучению геологического строения недр Советской страны. И начали составляться геологические карты ее отдельных районов, а затем и всей территории СССР, по которым можно было не только изучать, но даже прогнозировать наличие тех или иных месторождений полезных ископаемых в различных районах страны.
А все студенты страны свои летние каникулы старались поработать в многочисленных геологоразведочных экспедициях Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии и Крайнего севера в качестве поисковых рабочих, помощников бурового мастера или коллекторов геологоразведочных работ. И деньги хорошие зарабатывали, и романтики с комарами и мошкой глотали по уши! А вечерние посиделки в тайге у костра с душевными разговорам и геологическими песнями под гитару оставались памятными до конца их дней.
СОВЕТСКАЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТОГРАФИЯ
К геологоразведочным работам относят комплекс различных специальных геологических и других работ, которые производятся для обнаружения и подготовки к промышленному освоению месторождений полезных ископаемых. Включают в себя изучение строения земных недр и земной поверхности определенной территории, закономерностей размещения полезных ископаемых и условий их бразования, особенностей строения, вещественного состава месторождений полезных ископаемых с целью их прогнозирования, поисков, установления условий залегания, предварительной и детальной разведки, геолого-экономической оценки и подготовки к промышленному освоению.
Одним из основных видов геологоразведочных работ является разработка и составление геологических карт, как отдельных районов, так и всей страны.
Геологическая карта — карта, отображающая на топографической основе, геологическое строение определенного участка внешней поверхности земной коры. На геологической карте изображается распределение на земной поверхности различных горных пород. Геологические карты составляются в ходе полевых съёмок геологов и камеральными методами с широким привлечением данных бурения, геофизических материалов, результатов аэрокосмического зондирования. Эти карты используют, главным образом, для прогноза и разведки полезных ископаемых, оценки условий освоения территорий, строительства, охраны недр. Венцом геологического исследования страны является составление геологической карты.
И первая геологическая карта Советского Союза появилась еще в 1937 году в масштабе 1 : 5 000 000 (главный редактор Д. В. Наливкин). Но она еще содержала «белые пятна» на севере, северо-востоке страны в Средней Азии.. Однако составление такой карты для одной шестой части земного шара явилось выдающимся мировым достижением. Ни одна крупная страна мира, включая США и Канаду подобных геологических карт не имела.
Создание обобщающих геологических работ для всей территории Советского Союза и многих ее регионов в это время было затруднено тем, что участки сплошных съемок были еще значительно изолированы друг от друга и результаты во многих случаях были трудно сопоставимы.
Широкие возможности для обобщений открылись на следующем этапе геологического изучения страны, связанном с организацией в 1939 г. центральной геологической службы СССР — Комитета по делам геологии, а затем и Министерство геологии СССР со своими отделениями по всем областям и районам страны. Поэтому геологические исследования и картирование развернулись с особой целеустремленностью и с нарастающими темпами.
Рост геологической изученности страны позволил приступить с 1954 г. к капитальному труду — к созданию полной геологической карты территории всего Советского Союза. Она издается в виде серий (более 100), включающих несколько тысяч листов карт разного геологического содержания.
В объяснительных записках к листам, на фоне характеристики геологического строения и полезных ископаемых территории дается анализ ее структурных и других особенностей, закономерностей образования и размещения полезных ископаемых в зависимости от геологических факторов, экономическая характеристика районов, их перспективы в отношении полезных ископаемых и намечаются пути дальнейшего, более детального изучения.
Ничего подобного не было разработано ни в одной крупной стране мира, ни в США, ни в Канаде, ни в Европе, ни в Австралии, не говоря уж про Китай, Индию и Южную Америку. СССР и здесь оказался первым в мире, и до сих пор страна пользуется старым заделом Советской геологической картографии.
PS Есть старая истина жизни и процветания каждого государства: Она проста! Чтобы процветать, страна должна развиваться. А чтобы развиваться, стране нужны минеральные ресурсы. Но ресурсы находятся в недрах земли. И для поиска этих ресурсов нужны люди особой профессии, профессии инженеров геологов. Потому что для такой огромной по просторам страны, как Россия, вопрос поисков ресурсов становится первоочередным.
Эту истину понимали Советские руководители, Нынешние руководители России ее совсем не берут во внимание. Для них ресурсами являются лишь ценные бумаги и доллары в зарубежных банках. Значит, вопросы развития России их совсем не интересуют. Отсюда вывод – нынешних руководителей России надо менять.

Встреча Дмитрия Медведева с председателем Внешэкономбанка Сергеем Горьковым.
Из стенограммы:
Д.Медведев: Сергей Николаевич, несмотря на определённые финансовые трудности, ВЭБ продолжает свою деятельность в качестве кредитора, коммерческой организации и института развития. Какие проекты в ближайшее время вы предполагаете осуществлять, а какие находятся в стадии завершения?
С.Горьков: Сейчас в портфеле банка больше 20 проектов, которые были профинансированы на 80–85%. Они были приостановлены по разным причинам. Это связано прежде всего с тем, что не было ликвидности и фондирования. Теперь мы имеем возможность их финансировать.
Д.Медведев: Какие это проекты?
С.Горьков: К примеру, это фармацевтика – завод инфузионных растворов в Калуге. Мы видим возможность дофинансировать небольшой объём – это всего несколько сот миллионов рублей, и в феврале мы уже готовы его запускать.
Или, например, электростанция, которая находится в городе Тутаеве, недалеко от Рыбинска. Также небольшой объём, порядка сотни миллионов рублей. Можно запускать, и мы готовы это сделать до января, чтобы в зимний сезон она уже работала.
Таких проектов разного объёма – больше 20. Общий объём финансирования – порядка 150 млрд рублей. Все эти проекты могут быть запущены за два предстоящих года. Мы считаем, что это будет существенный вклад в экономику, 0,2–0,3% ВВП.
Это 13 регионов России, от Хабаровска до Калининграда, девять разных отраслей. Это и энергетика, и металлургия, и машиностроение, и агропромышленный комплекс, а также фармацевтика, химическая промышленность. Мы подсчитали, что это – около 23 тыс. рабочих мест.
Д.Медведев: Нужно постараться все эти проекты довести до логического завершения.

Презентация лауреатов Демидовской премии 2016 года
Чаепитие, посвященное презентации новых лауреатов Демидовской премии 2016 года
22 ноября 2016 года в 15:00 в зале Президиума РАН состоялось традиционное чаепитие, посвященное презентации новых лауреатов Демидовской премии 2016 года которое проведет научный обозреватель Владимир Губарев.
В мероприятии участвовали академики Г.А.Месяц, В.Н.Чарушин, Н.Л.Добрецов, В.М.Новодворцев и лауреаты 2016года.
По традиции презентацию вел писатель Владимир Степанович Губарев.
Лауреатами Демидовской премии 2016 года стали:
Академик ЗОЛОТОВ Юрий Александрович – за выдающийся вклад вы развитие аналитической химии
Академик МОЛОДИН Вячеслав Иванович – за выдающиеся достижения в области изучения археологии и первобытной истории народов Сибири.
Академику РУБАКОВ Валерий Анатольевич – за основополагающий теоретический вклад в фундаментальные направления физики: квантовую теорию поля, физику элементарных частиц, гравитацию, теорию ранней Вселенной.
Демидовская премия
Демидовскую премию для учёных учредил в 1831 году уральский промышленник Павел Николаевич Демидов, «желая содействовать преуспеянию наук, словесности и промышленности в своём отечестве». Ежегодно на премии он выделял 20 000 рублей государственными ассигнациями, а само присуждение наград меценат предоставил Российской Императорской академии наук как «первенствующему учёному сословию в империи». По оставленному завещанию и после его смерти деньги на эти цели поступали в течение 25 лет, вплоть до 1866 года.
Демидовская премия была возрождена в 1993 г. по инициативе вице-президента РАН академика Г.А. Месяца и в результате объединения усилий уральских учёных, предпринимателей и при активной поддержке руководства Свердловской области.
Общенациональные неправительственные Демидовские премии присуждаются за личный выдающийся вклад в следующих областях знания: физика, математика, химия, биология, науки о Земле, общественные науки. Учёные награждаются не за отдельный научный труд, а по совокупности работ. Будущие лауреаты определяются не на конкурсной основе, а путем опроса специалистов в той или иной области.
***
Юрий Александрович Золотов родился 4 октября 1932 г. в с. Высоковское Клинского района Московской области.
Окончил химический факультет МГУ в 1955 г.
34 года проработал в Институте геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского АН СССР, где прошел путь от аспиранта до заместителя директора по науке.
Директор (1989-1999) и зав. лабораторией аналитической химии платиновых металлов Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН.
Член-корреспондент по Отделению физико-химии и технологии неорганических материалов с 1970 г., академик по тому же Отделению, специализация «аналитическая химия» с 1987 г.
В 2001-2002 гг. и.о. академика-секретаря Отделения физикохимии и технологии неорганических материалов РАН, член Президиума РАН (член бюро этого Отделения на протяжении длительного времени).
Член бюро и заместитель академика-секретаря Отделения химии и наук о материалах Российской академии наук.
В настоящее время советник Российской академии наук (с 2002 г.). Заведующий кафедрой аналитической химии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Главный научный сотрудник Института общей и неорганической химии имени Н.С. Курнакова Российской академии наук.
Ю.А. Золотов разработал многочисленные методы химического анализа различных веществ. Внес значительный вклад в развитие экстракции как научного направления и важнейшего метода выделения и разделения элементов, имеющего большое значение в аналитической химии, ядерной технологии, цветной металлургии. Он один из самых крупных и признанных в мире специалистов в этой области. Его исследования непосредственно связаны с решением практических задач и технологии. Развил методы химического анализа в потоке, предложил большое число новых реактивов для анализа и разделения смесей. Он ввел представление о так называемых гибридных методах анализа (1975), создал серию простейших средств для определения химического состава воды, пищевых продуктов и т.д. (1990-1998).
Развил теорию экстракции внутрикомплексных соединений, обосновал (1961) гидратно-сольватный механизм экстракции. Он обнаружил, объяснил и использовал явление взаимного подавления экстракции элементов при извлечении ионных ассоциатов. Перенес в теорию экстракции многие положения координационной химии. Разработал ряд методов разделения сложных смесей металлов и концентрирования элементов, содержащихся, например, в веществах высокой чистоты. Предложил ряд новых экстрагентов, ввел (1975) понятие о гибридных методах анализа, разработал ряд методов выделения и разделения элементов, развил методологию аналитического концентрирования следов. Автор работ по философским основам аналитической химии.
Главный редактор (1988-н.вр.) «Журнала аналитической химии». Член редколлегии журнала «Координационная химия» АН (1974-н.вр.), международного журнала «Analуtiсa Сhimiсa Aсta» (Нидерланды, 1975), международного журнала «Analуtiсal Sсienсes» (Япония, 1976), международного журнала «Fresenius Journal of Analуtiсal Сhemistrу» (Германия), журнала «Mikroсhimiсa Aсta» (Австрия, 1990), журнала «Reviews in Inorganiс Сhemistrу» (1979), международного журнала «Solvent Extraction and Ion Exchange» (США, 1986), журнала «Известия РАН. Серия химическая» (1991). Член редсовета и региональный редактор журнала «International Journal of Environmental Analуtiсal Сhemistrу» (США, 1984), региональный редактор журнала «The Analyst» (Англия, 1989). Заместитель главного редактора советско-британского журнала «Mendeleev Communications» (1990).
Член Национального комитета советских (российских) химиков (с 1972). Первый президент ВХО им. Д.И. Менделеева (1991-1995).
Почетный член Японского (1991) и Румынского (1996) обществ аналитической химии. Почетный иностранный член Шведского Королевского общества наук и искусств (Гетеборг, 2000).
Автор научного открытия. Опубликовал более 900 научных работ, автор и соавтор более 50 монографий в том числе на английском, немецком, японском и румынском языках.
Имеет более 60 авторских свидетельств и патентов.
Подготовил свыше 60 кандидатов и 9 докторов наук.
Лауреат Государственной премии СССР (1972), премии Совета Мтинистров СССР (1985), премии им. Л.А. Чугаева (АН СССР, 1989), Государственной премии РСФСР (1989), Государственной премии РФ (2000), премии РАН (2003).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1975), «Знак Почета» (1982), Дружбы (2000), медалью им. Л.А. Чугаева (АН СССР, 1991), золотой медалью им. Д.И. Менделеева (РАН, 1993).
***
Вячеслав Иванович Молодин родился 26 сентября 1948 г. в с. Орхово Домаческого района Брестской области БССР.
В 1966 г. он окончил среднюю школу № 55 г. Новосибирска и в этом же году поступил, а в 1971 г. с отличием закончил исторический факультет Новосибирского государственного педагогического института, где активно занимался археологией под руководством профессора Т.Н. Троицкой.
В 1971 г. он поступил в аспирантуру в Институт истории, филологии и философии СО АН СССР, где его научным руководителем стал академик А.П. Окладников. С 1973 г. переведен в штат Института младшим научным сотрудником.
В 1975 г. - присуждена ученая степень кандидата наук.
В 1984 г. - присуждена ученая степень доктора наук.
В 1987 г. - избран членом-корреспондентом АН СССР.
В 1997 г. - избран действительным членом (академиком) РАН.
В 1991 г. присвоено звание профессора.
В.И. Молодин внёс значительный вклад в археологию. На территории Западной и Южной Сибири им открыт и исследован ряд высокоинформативных археологических комплексов, что позволило ему разработать концепцию этнокультурных процессов в обширных регионах Азии от эпохи неолита до этнографической современности. Работы исследователя отличает мультидисциплинарный подход. На протяжении своего творческого пути он активно сотрудничает с антропологами, палеогенетиками, геофизиками, геологами.
С 1973 по н. в. В.И. Молодин является бессменным руководителем Западно-сибирского археологического отряда ИАЭТ СО РАН, ежегодно работая в поле по 4-6 месяцев в Западной, Южной и Восточной Сибири. В.И. Молодин принимал участие в зарубежных экспедициях в Монголии, на Кубе, в Канаде, Японии, Сирии, Франции.
В круг научных интересов ученого входят также проблемы, связанные с историей и организацией науки, ставрографией, первобытным искусством.
В.И. Молодин тесно сотрудничает с зарубежными коллегами, особенно из Германии, Монголии, Франции. В 1996 г. он избран членом-корреспондентом Германского археологического Института (Берлин); в 2013г. - членом-корреспондентом Шанхайского археологического Форума Института археологии Китайской Академии общественных наук.
В.И. Молодин автор и соавтор более 1400 научных работ, в том числе 35 монографий и 27 коллективных монографий. Работы ученого опубликованы в России более 100 в около 20 странах Европы, Азии и Америки. Значительное количество трудов издано в высокорейтинговых журналах.
Ученый ведет активную преподавательскую деятельность. Он профессор НГУ и почетный профессор НГПУ. Им подготовлено 13 докторов и 36 кандидатов наук, в том числе 2 зарубежных ученых.
В.И. Молодин имеет большой опыт научно-организационной работы: с 1992 г. по н.в. он заместитель директора по научной работе Института археологии и этнографии СО РАН, руководитель одного из ведущих отделов Института; научный руководитель международной лаборатории по изучению первобытного искусства НГУ и Университета Бордо (Франция), научный руководитель совместной лаборатории палеогенетики ИАЭТ СО РАН и ИЦИГ СО РАН; член Ученого Совета ИАЭТ СО РАН и НГУ.
С 1997 по н. в. он член Президиума СО РАН, с 2001 по 2008 г. - член Президиума РАН. С 2008 по 2011 г. он являлся членом Совета при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию; с 2010 по н. в. членом Экспертного Совета по охране культурного наследия РФ, с 2007 по 2016 г. - член Президиума ВАК, с 2007 по н. в. Председатель НИСО СО РАН, с 2014 г. по н. в. Заместитель Председателя Совета по фантам Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых и ведущих научных школ РФ, с 2015 по н. в. член научно-издательского Совета РАН, с 1994 по 1998 г. член Совета РГНФ, с 2016 по н. в. - член Совета РФФИ. В.И. Молодин член редколлегий и редсоветов ведущих отечественных и зарубежных журналов. С 2002 г. по н.в. член Бюро Отделения историко-филологических наук РАН.
За высокие научные достижения В.И. Молодин в 2000 г. удостоен международной премии им. В.П. Карпинского (Германия); в 2005 г. Государственной премии РФ в области науки и технологий (нового формата); в 2013 г. Государственной премии Новосибирской области. В 1999 г. ученый удостоен Ордена Дружбы, в 2007 г. Ордена Почёта, в 2014 г. Ордена «За заслуги перед Отечеством IV степени», в 2012 г. Ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» офицерского креста 1 класса, в 2006 г. Медалью «Дружба» Монголии; в 2007 г. присуждено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия).
***
Валерий Анатольевич Рубаков родился 16 февраля 1955 года в Москве. Получил блестящее образование, окончив физико-математическую школу №57, затем - физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. К моменту защиты диплома на кафедре Н.Н. Боголюбова он имел уже четыре опубликованные работы. Дальнейшая научная биография Валерия Анатольевича связана с Институтом ядерных исследований (ИЛИ) Академии наук. Здесь он был аспирантом (1978-1981), научным сотрудником — от младшего (с 1981) до главного (с 1994 г. по сегодняшний день), заместителем директора по научной работе (1987-1994); здесь же выполнены его наиболее интересные работы, выросла целая школа учеников.
В 1972 году поступил на физический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, окончил его в 1978, а затем поступил в аспирантуру Института ядерных исследований АН СССР. В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1989 году стал доктором физико-математических наук. Заместитель директора Института ядерных исследований РАН по научной работе (1987—1994). Главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН, профессор, заведующий кафедрой физики частиц и космологии физического факультета МГУ. Первый заместитель главного редактора журнала «Успехи физических наук», член редколлегии журнала «Теоретическая и математическая физика».
В 1990 году избран чл.-корреспондентом АН СССР, в 1997 году избран действительным членом РАН.Валерий Анатольевич является одним из ведущих мировых специалистов в области квантовой теории поля, физики элементарных частиц и космологии.
В.А. Рубаков — автор более 200 научных работ, многие из которых внесли основополагающий вклад в физику элементарных частиц, непертурбативную квантовую теорию поля и теорию ранней Вселенной. Физики всего мира знают Валерия Рубакова в первую очередь как автора идеи "мира на бране". В 1983 г. В.А. Рубаковым и М.Е. Шапошниковым была предложена концепция мира с дополнительными пространственными измерениями, в котором наблюдаемые частицы локализованы вблизи 3-мерного многообразия (доменной стенки), сейчас называемого браной. Целый ряд современных работ В.А. Рубакова посвящён разработке этого класса моделей, в частности, исследованиям возможной модификации гравитации на больших и малых расстояниях, пределов справедливости законов сохранения массы и электрического заряда в (3+1)-мерном мире, космологическим эффектам, связанным с дополнительными измерениями.
В одной из своих наиболее известных работ В.А. Рубаков заложил основы подхода к объяснению барионной асимметрии современной Вселенной, связанного с электрослабыми взаимодействиями. Непосредственным продолжением этой тематики стал большой цикл работ, посвящённых изучению непертурбативных эффектов, например электрослабого нарушения барионного числа, при столкновении частиц высоких энергий.
В.А. Рубаков внёс существенный вклад в развитие теории самой ранней Вселенной — космологии "до Большого взрыва". Широко известны его работы по инфляционной теории, в частности, по рождению гравитационных волн в экспоненциально расширяющейся Вселенной. Другие известные работы В.А. Рубакова связаны с квантовой гравитацией, суперсимметрией и целым рядом иных интересных направлений. Широкая эрудированность и глубокая физическая интуиция позволяют ему иметь компетентное мнение практически по любому направлению современной физики частиц и космологии.
В.А. Рубаков является заслуженным профессором МГУ (1999), а с 2010 г. заведует кафедрой физики частиц и космологии на физическом факультете. Блестящие учебники В.А. Рубакова «Классические калибровочные поля» и «Введение в теорию ранней Вселенной» издаются и переиздаются в России и за рубежом.
Нельзя не отметить вклад Валерия Анатольевича в популяризацию науки и распространение научных знаний среди широких масс россиян. Это не только работа в Комиссии РАН по борьбе с лженаукой, но и блестящие научно-популярные лекции и интервью, видеозаписи которых расходятся в социальных сетях.
В.А. Рубаков входит в состав редколлегий российских и международних журналов, таких как «Теоретическая и математическая физика», «International Journal of Modern Physics», ведёт огромную работу в качестве первого заместителя главного редактора журнала «Успехи физических наук».
Научные заслуги В.А. Рубакова отмечены золотой медалью с премией для молодых учёных РАН (1985) и премиями им. А.А. Фридмана (Президиум РАН, 1999), И.Я. Померанчука (ИТЭФ, 2003), М.А. Маркова (ИЯИ РАН, 2005), Б.М. Понтекорво (ОИЯИ, 2009), Ю. Весса (Технологический институт Карлсруэ, 2010), М.В. Ломоносова (МГУ, 2012) и Н.Н. Боголюбова (ОИЯИ, 2014).
Сообщение пресс-службы РАН

Число институтов УрО РАН сократится
Но слияния всех научных учреждений в единый исследовательский центр не произойдёт.
В октябре «ОГ» рассказывала об идее Федерального агентства научных организаций России (ФАНО) объединить институты Уральского отделения Российской академии наук в единый Уральский федеральный исследовательский центр (см. «ОГ» от 21 октября 2016 г.). Как сообщил журналистам председатель УрО РАН Валерий Чарушин, подобная реорганизация произойдёт в Перми и Сыктывкаре. А в Екатеринбурге произойдёт укрупнение некоторых научных учреждений по отраслевому принципу.
— В Перми всего пять научных институтов, и они приняли решение объединиться. В Екатеринбурге таких институтов 20, они занимаются разной тематикой, и модель их механического слияния абсолютно нецелесообразна, — подчеркнул Валерий Чарушин. Между тем, по его словам, о готовности объединиться заявили Институт геологии и геохимии (ИГГ) и Институт геофизики (ИГФ) УрО РАН.
— ИГГ недавно получил новое, хорошо оборудованное здание, площадью 14 тысяч квадратных метров. Вполне оправданно, если ИГФ также переедет в новое здание, инфраструктурные возможности которого, в результате, наполнятся новым содержанием, — рассказал Валерий Чарушин.
По его словам, за слияние в одну экологическую структуру высказались представители Института экологии растений и животных, Института промышленной экологии и Ботанического сада УрО РАН. А Институт горного дела готов объединиться с Институтом металлургии.
К мнению уральских учёных ФАНО отнеслось с пониманием.
Областноая газета

Россия среди «чужих» партнерств
Насколько ТТИП и ТПП меняют мировые экономические условия
Сергей Афонцев – доктор экономических наук, заведующий Отделом экономической теории ИМЭМО РАН, содиректор Научно-образовательного центра по мировой экономике ИМЭМО РАН и МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор МГИМО (У) МИД России.
Резюме Когда страна не может повлиять на действие каких-либо акторов мировой экономики, возникает дилемма – борьба или адаптация. Представители политических элит, как правило, предпочитают первое, экономических – второе.
Данный материал вышел в серии записок Валдайского клуба, публикуемых еженедельно в рамках научной деятельности Международного дискуссионного клуба «Валдай». С другими записками можно ознакомиться по адресу http://valdaiclub.com/publications/valdai-papers/
Формирование Транстихоокеанского и Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерств (ТТП и ТТИП) вызывает бурные обсуждения как в самих странах, которые намерены к ним присоединиться, так и в остальном мире. Одни видят в этом процессе фундаментальное изменение международных правил игры и фактический закат ВТО, другие убеждены, что партнерства – логичное развитие прежней модели глобализации. Начнут в итоге функционировать эти объединения или нет (а на их пути возникло много политических препятствий), но появление такой идеи знаменует важные процессы в мировой системе экономических отношений.
Трансатлантическое партнерство: общий контекст
США и ЕС ведут переговоры о формировании Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства с 2013 года. На сегодняшний день это наиболее амбициозный проект в сфере развития договорных форматов регионального экономического сотрудничества, сочетающий традиционные меры либерализации торговли с последовательным согласованием регуляторных правил хозяйственной деятельности на территории стран-участниц. В случае успеха проект весьма глубоко воздействует на развитие как мировой экономики, так и механизмов ее регулирования.
С одной стороны, само по себе снижение барьеров для экономического взаимодействия между партнерами, у которых объем взаимной торговли товарами и услугами превышает 1 трлн долларов, а накопленный объем взаимных прямых инвестиций близок к 4 трлн, неизбежно скажется на интересах значительного числа экономических субъектов по всему миру. Для одних откроются новые возможности доступа к рынкам, другие столкнутся с ослаблением своих конкурентных позиций.
С другой стороны, формирование ТТИП придаст новый импульс процессам изменения архитектуры управления глобальными экономическими процессами в ситуации, когда Дохийский раунд переговоров в рамках ВТО фактически зашел в тупик. В паре с Транстихоокеанским партнерством (ТТП), соглашение о создании которого достигнуто в феврале 2016 г., ТТИП претендует на расширение договорных механизмов экономического регулирования за рамки сфер, определенных соглашениями ВТО (формат ВТО+). Инициатива в деле либерализации торговли и инвестиций переходит от международных экономических организаций с универсальным членством к региональным объединениям. При этом позиции развитых стран, в первую очередь США, в системе управления глобальными экономическими процессами укрепляются.
Насколько реальны эти перспективы и какое влияние они могут оказать на экономические и политические интересы России?
Как и в случае любого крупного изменения в структурах экономического регулирования, ответы на эти вопросы требуют анализа трех уровней реальности:
фактического (что на самом деле происходит в сфере формирования ТТИП);
аналитического (каковы оценки его ожидаемого влияния на мировую экономику и отдельные ее подсистемы);
риторического (как перспективы формирования ТТИП предстают в политических дискуссиях и материалах, предназначенных для формирования общественного мнения).
Отношения между тремя перечисленными уровнями часто бывают сложными, если не противоречивыми. В частности, риторические аргументы, используемые как сторонниками, так и противниками ТТИП, порой игнорируют (и что еще хуже – некорректно интерпретируют) результаты исследований ведущих аналитических центров. При этом реальный ход переговоров может быть далек от представлений как аналитиков, так и тем более – от риторической подачи соответствующих вопросов политически ангажированными представителями групп, представляющих конкретные экономические интересы. Тем не менее для понимания перспектив ТТИП важно учитывать процессы на всех трех уровнях. Это связано не только с тем, что в реальной политике хвост часто вертит собакой (в данном случае – риторические аргументы, даже самые фантастические, могут оказывать влияние на ход переговоров и принятие или непринятие их результатов политическими элитами и общественным мнением). Не менее важно, что результаты исследований ведущих мозговых трестов активно используются при подготовке (и корректировке) переговорных позиций сторон, оказывая тем самым влияние на будущее содержание соглашения о ТТИП.
Ожидаемое влияние ТТИП на внешнеэкономические связи России
Масштабы последствий заключения соглашения о ТТИП для интересов российских экономических субъектов будут определяться тремя группами факторов: соотношением эффектов создания и реориентации торговли между США и ЕС после заключения соглашения о ТТИП, влиянием этого соглашения на экономический рост в странах-участницах и уровнем внешнеторговых связей России с соответствующими странами.
Последний из перечисленных факторов имеет четкое количественное измерение. По состоянию на 2013 г. на Евросоюз и Соединенные Штаты приходилось соответственно 49,4% и 3,3% внешнеторгового оборота России (в абсолютном выражении – 417,5 и 27,7 млрд долларов). Резкое ухудшение экономических отношений России со странами Запада, снижение мировых цен на энергоносители и кризисные тенденции в национальной экономике привели к тому, что к первому полугодию 2016 г. доля ЕС в торговом обороте России сократилась до 43,8% (91,5 млрд долларов), в то время как доля США увеличилась до 4,2 процента. Правда, исключительно за счет того, что спад в торговле с Америкой (объем которой составил лишь 8,8 млрд долларов) был несколько менее выражен, чем спад в совокупной торговле России (в январе-июне 2016 г. торговый оборот с Соединенными Штатами сократился по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года на 19,2%, с Евросоюзом – на 26,1%, совокупный торговый оборот – на 22,2%). Несмотря на снижение объемов, торговля с ЕС и США обеспечивает почти половину (48%) совокупного внешнеторгового оборота России, что делает ее потенциально уязвимой для изменений в страновой структуре торгового сотрудничества ведущих партнеров.
Насколько значимыми могут быть такие изменения? Традиционным инструментом их оценки является расчет эффектов создания торговли (trade creation) и реориентации торговли (trade diversion) в результате заключения преференциальных торговых (и – шире – торгово-экономических) соглашений. Эффект создания торговли в отношениях между странами – участницами такого соглашения возникает благодаря тому, что снижение барьеров на пути взаимного сотрудничества позволяет заместить менее эффективное внутреннее производство приобретением соответствующих товаров по более низкой цене в стране-партнере. В свою очередь, эффект реориентации торговли обусловлен тем, что товары и услуги, которые ранее приобретались в третьих странах, после заключения преференциального соглашения выгоднее покупать в стране-партнере по данному соглашению, поскольку торговые барьеры в отношениях с этой страной снижены. Именно эффект реориентации торговли традиционно рассматривается в качестве основного фактора риска для государств, остающихся «за бортом» масштабных преференциальных договоренностей, направленных на активизацию регионального сотрудничества.
Большинство исследований, проделанных к настоящему времени, указывают на значительные потенциальные масштабы реориентации торговли и, как следствие, на выраженные негативные эффекты для третьих стран от заключения соглашения о ТТИП. Такой результат обусловлен тремя ключевыми обстоятельствами.
Во-первых, несмотря на общий низкий уровень тарифных барьеров во взаимной торговле (в среднем чуть выше 2% для импорта ЕС из США и чуть выше 3% – для американского импорта из Евросоюза), по ряду чувствительных товарных категорий (пищевые продукты, напитки, текстильная продукция и одежда) средний уровень импортных пошлин превышает 10 процентов. Так, в 2012 г. стоимостный эквивалент импортных пошлин на молочную продукцию в ЕС превышал 50%, а в США составлял почти 20%; на напитки и табачные изделия в Евросоюзе он был близок к 20%, в Соединенных Штатах достигал 14 процентов. Отмена барьеров в рамках ТТИП может привести к значительному оживлению взаимной торговли на фоне резкого проседания конкурентных позиций стран, не имеющих с ЕС и США аналогичного преференционного соглашения.
Во-вторых, принципиальной чертой ТТИП является ориентация на снижение нетарифных барьеров для торгово-экономического взаимодействия, в том числе через взаимное согласование регуляторных норм, действующих на территории Соединенных Штатов и единой Европы. Именно данный фактор рассматривается в качестве основного источника расширения взаимного экспорта товаров и услуг, кумулятивные масштабы которого, по разным оценкам, могут достигать 30–70% по сравнению с базовым сценарием, предполагающим неудачу переговоров. Наиболее значимые результаты с точки зрения улучшения взаимного доступа на рынки ожидаются в отраслях, производящих транспортные средства, химическую продукцию, продукцию пищевой промышленности и металлы. С учетом того, что изделия химической промышленности и металлургии занимают значительное место в российском экспорте (около 13% в структуре товарных поставок в ЕС в 2015 г.), эффекты реориентации торговли в данных отраслях могут оказаться весьма чувствительными.
В-третьих, акцент на дальнейшее улучшение условий для осуществления взаимных капиталовложений означает, что эффект реориентации затронет и инвестиционную сферу. Не менее трети взаимной торговли между Евросоюзом и США приходится на поставки между филиалами европейских и американских компаний, размещенных на партнерской территории, и реориентация инвестиций после заключения соглашения о ТТИП может придать дополнительный импульс реориентации торговли, в первую очередь в ущерб интересам стран, активно инвестирующим на территории Евросоюза и Соединенных Штатов, но не имеющим с ними преференциальных соглашений (это относится, например, к Японии, для которой эффект может быть частично ослаблен благодаря ее участию в ТТП, и в еще большей степени – к Китаю). В российском случае данный фактор может оказаться не столь выраженным, как в экономически развитых странах и ряде ведущих стран с развивающимися рынками, поскольку масштабы инвестиционной экспансии отечественных компаний в экономики ЕС и США ограниченны. Однако в долгосрочной перспективе (прежде всего в контексте смягчения геополитических противоречий) он может сыграть сдерживающую роль в развитии взаимных инвестиционных связей и реализации проектов в сфере технологического сотрудничества и создания трансграничных цепочек добавленной стоимости.
Теоретически негативные последствия реориентации торгово-инвестиционных потоков могут быть сглажены благодаря ускорению экономического роста в странах – участницах преференциального соглашения, обусловливающего рост ВВП и располагаемых доходов и, как следствие, расширение спроса на импортные товары и услуги. Применительно к ТТИП, однако, ожидать значительного выигрыша не приходится. Все имеющиеся расчеты ожидаемых результатов формирования ТТИП дают крайне низкие – менее 1 процентного пункта – оценки прироста ВВП и реальных доходов и для ЕС, и для США. По саркастическому замечанию автора одной из публикаций, даже при оптимистичных предположениях относительно экономического эффекта ТТИП доход среднего европейца увеличится на величину, позволяющую ему еженедельно выпивать еще одну чашку кофе. При всей условности соответствующих оценок нельзя не признать, что они не дают оснований рассчитывать, что возникнут компенсаторные эффекты, позволяющие хотя бы частично нейтрализовать эффекты торгово-инвестиционной реориентации.
Но насколько значимы они для России? Обнародованные в 2015 г. оценки потенциального влияния ТТИП на экономики стран БРИКС показывают, что даже в случае полной отмены барьеров в торговле между Евросоюзом и Америкой масштаб кумулятивного сокращения российского экспорта по сравнению с базовым сценарием составит лишь 1,7% (в том числе экспорта в США – на 4,3%, в ЕС – на 1,4%). Для сравнения: лишь за первое полугодие 2016 г. российский экспорт в Соединенные Штаты и Евросоюз упал на 11,8% и 33,9%, соответственно. Негативное влияние ТТИП на темпы экономического роста обещает быть еще менее выраженным. Ожидаемый кумулятивный спад российского ВВП может составить 0,1% – примерно столько же, сколько у Индии (0,09%), и чуть меньше, чем у Китая (0,12%). Важно подчеркнуть, что соответствующая оценка характеризует не ежегодный показатель спада ВВП, а суммарный эффект имплементации соглашения о ТТИП за период до 2027 года. И хотя в отдельных отраслях негативное влияние может оказаться более выраженным, оснований для катастрофических ожиданий в отношении прямых экономических последствий заключения соглашения о ТТИП имеющиеся на сегодняшний день исследования точно не дают.
Регуляторные последствия
Более сложно определить долгосрочные последствия для российской экономики, связанные с изменениями регуляторного режима торгово-экономических отношений между ЕС и США и его потенциального влияния на взаимодействие сторон-участниц с внешним миром. С одной стороны, отсутствуют стандартные методики количественной оценки такого рода последствий, что оставляет широкий простор для выдвижения самых разнообразных – в том числе прямо фантастических – предположений о влиянии ТТИП на интересы экономических партнеров Евросоюза и Америки. Например, о гипотетическом росте экспорта генетически модифицированных продуктов в ЕС из третьих стран, если под давлением американцев будет отменен запрет на ГМО-продукцию. С другой стороны, достигнутые двусторонние договоренности могут влиять на интересы третьих стран по сложным, порой априорно неочевидным, каналам, идентификация которых представляет нетривиальную задачу.
Основные риски для России, связанные с формированием единого европейско-американского регуляторного пространства, обычно связываются с сокращением возможностей маневра в двусторонних переговорах по торгово-инвестиционным вопросам и с перспективами навязывания России не устраивающих ее норм (включая технические стандарты, наднациональные механизмы защиты инвесторов, расширительные подходы к гарантиям прав интеллектуальной собственности, либерализацию доступа к рынкам государственных закупок и т.п.). Хотя с формальной точки зрения нормы преференциальных соглашений распространяются исключительно на отношения между странами, подписавшими соответствующие соглашения, опыт показывает, что США и особенно ЕС имеют повышенную склонность к распространению «своих» регуляторных норм на отношения со странами-партнерами. В этом смысле риски «регуляторного империализма», основанного на положениях ТТИП, еще более выражены, чем в случае соглашения о ТТП.
Возможные пути решения связаны, во-первых, с разработкой оптимальных переговорных стратегий по каждому из вопросов будущего регуляторного взаимодействия с Евросоюзом и Соединенными Штатами, и, во-вторых, с поисками рамочных форматов договорного взаимодействия с ними. Если перспективы нахождения такого формата в отношениях с американцами относятся скорее к компетенции футурологов, чем прогнозистов, то применительно к отношениям с ЕС в долгосрочной перспективе (10–15 лет) существует вполне реальная возможность возврата к идее соглашения о системном снижении торгово-инвестиционных барьеров. Как ни парадоксально, нынешнее содержание переговоров по ТТИП содержит намеки на то, что его итоговый вариант может облегчить выработку выгодных для России положений нового соглашения с Европейским союзом. Существует и ряд других обстоятельств, благодаря которым регуляторные новшества способны косвенно содействовать реализации российских интересов в отношениях с единой Европой и, в меньшей степени, с Соединенными Штатами.
Во-первых, устранение барьеров, связанных с различиями в технических, санитарных, фитосанитарных и иных стандартах, которые действуют в США и ЕС, с наибольшей вероятностью пойдет не по пути гармонизации и тем более унификации, а по пути разработки механизмов их взаимного признания. Появление соответствующих механизмов может сыграть роль прецедента и образца для подражания одновременно. Как известно, одним из главных препятствий при обсуждении «единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока» были различия в подходах к регуляторному сближению: для ЕС оно означало принятие Россией европейских технических стандартов, для России – взаимное признание стандартов Евросоюза и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Российские предложения противоречили складывавшимся десятилетиями представлениям европейцев об исключительности стандартов ЕС в экономических отношениях с зарубежными партнерами. Если в основу ТТИП будет положен принцип взаимного признания стандартов, и самой этой исключительности, и укоренившимся представлениям о ней будет нанесен ощутимый удар.
Во-вторых, в ходе переговоров о ТТИП под угрозой оказалась еще одна «священная корова» Европейского союза – т.н. принцип предосторожности, в соответствии с которым разработчики и пользователи технологий должны доказывать их безвредность для потребителей и окружающей среды. В США принят прямо противоположный принцип, предполагающий, что субъекты, возражающие против использования конкретных технологий, должны представить доказательства их опасности. Очевидное противоречие блокирует прогресс переговоров по широкому кругу вопросов – от торговли продовольственной и химической продукцией до разработки сланцевых месторождений. И если в таких чувствительных сферах, как производство и допуск на рынок генетически модифицированной продукции, от европейской стороны вряд ли можно ждать уступок, то в других отраслях они вполне возможны. Одним из примеров является печально известный Регламент по вопросам регистрации, оценки, допуска на рынок и ограничений на производство и оборот химической продукции (REACH), принятый в 2006 г. и с тех пор попортивший немало крови российским экспортерам. Можно только пожелать удачи лоббистам американских химических компаний, которые в ходе переговоров о ТТИП настаивают на пересмотре положений REACH. Если их усилия увенчаются успехом, у Брюсселя будет мало шансов сохранить в своем распоряжении протекционистский инструмент, ставший в свое время плодом совместного «творчества» европейских химических компаний и идеологически мотивированного «зеленого лобби».
В-третьих, одним из последствий заключения соглашения о ТТИП может стать ограничение масштабов субсидирования сельского хозяйства и в ЕС, и в США. Подобные перспективы обсуждаются представителями сельскохозяйственных лобби (что неудивительно – в критическом ключе) и экспертного сообщества (в большинстве случаев – в одобрительном тоне, с учетом позитивного влияния данного шага на благосостояние потребителей). Для России реализация такого сценария может означать сокращение искусственных – основанных на субсидиях – конкурентных преимуществ европейских и американских производителей, что придаст дополнительный стимул как для экономически оправданного импортозамещения, так и для экспансии российских сельхозпроизводителей на внешние рынки.
Наконец, опять-таки под давлением американских лоббистов, возможно ослабление европейских стандартов защиты наименований продуктов, контролируемых по региону производства. Производители «Российского шампанского», подмосковного пармезана и кизлярского коньяка явно не останутся внакладе при таком развитии событий.
Существенным является тот факт, что все перечисленные новшества в будущем могут найти отражение при разработке универсальных соглашений, касающихся вопросов торгово-инвестиционного регулирования – в частности, в рамках переговорного процесса в ВТО. Оборотная сторона медали состоит в том, что наименее привлекательные для России аспекты формирующегося в ТТИП режима «ВТО+» также могут быть инкорпорированы в многосторонние международные соглашения. Более того, многие наблюдатели ставят под вопрос будущее ВТО, которая, с их точки зрения, может оказаться лишней перед лицом растущей регуляторной мощи ТТИП и ТТП.
ТТИП, геополитика и перспективы управления глобальными экономическими процессами
Вопрос о влиянии ТТИП на международную архитектуру экономического регулирования остается на сегодняшний день одним из самых спорных. Существует широкий спектр мнений: от признания за ТТИП (в паре с ТТП) роли «могильщика» ВТО – до утверждений, что ТТИП (как и ТТП) строго основывается на нормах ВТО, а вводимые новшества способны послужить образцом для инициатив, призванных оживить зашедший в тупик Дохийский раунд переговоров.
В логику первой интерпретации, предполагающей замену нынешней многосторонней системы внешнеторгового регулирования американоцентричной системой региональных торгово-инвестиционных блоков, хорошо укладывается и прозвучавшее из уст Хиллари Клинтон сравнение ТТИП с «экономическим НАТО», и известная фраза Барака Обамы о том, что ТТП позволит Соединенным Штатам, а не Китаю, играть роль лидера глобальной торговли. В то же время второй интерпретации также нельзя отказать в рациональности.
Действительно, договорные форматы регионального экономического сотрудничества, сочетающие отмену барьеров во взаимной торговле товарами и услугами по образцу традиционных соглашений о создании зон свободной торговли (ЗСТ) со снижением торгово-инвестиционных барьеров, связанных с различиями в национальных регуляторных нормах, с середины 1990-х гг. стали, безусловно, доминировать в структуре региональных торговых соглашений. Они все больше оттесняли на второй план (по крайней мере количественно) объединения, опирающиеся на более глубокие форматы сотрудничества и интеграции, которые предполагают построение таможенного союза, общего рынка, экономического и валютного союза. Новые форматы (для обозначения которых часто используется термин «ЗСТ+») оказались идеальны для стран с разным уровнем экономического развития и/или практикующих разные подходы к регулированию тех или иных аспектов хозяйственной жизни. В обоих случаях различия экономических интересов не допускают унификации норм экономического регулирования, характерной для глубоких форматов интеграции, и в то же время позволяют устранить барьеры для сотрудничества в тех сферах, где имеется максимальная общность интересов и/или возможен размен уступок одних стран на уступки других. При этом в вопросах, регулируемых нормами ВТО, участники соглашений традиционно придерживаются соответствующих норм, строя на них собственные стратегии опережающей либерализации взаимных экономических связей. В свою очередь, в сферах, на которые нормы ВТО не распространяются, они самостоятельно разрабатывают нормы регуляторного сотрудничества (принцип «ВТО+»). ТТП и ТТИП вывели эти подходы на ранее невиданный уровень регуляторного охвата, однако сущность осталась неизменной: где возможно, «бежать впереди ВТО» в деле либерализации торговли, одновременно разрабатывая собственные нормы и правила в сферах, находящихся за пределами компетенции ВТО.
Может ли этот процесс привести к закату и отмиранию ВТО? На сегодняшний день такая перспектива выглядит нереалистичной. Во-первых, потому, что, как было сказано выше, соглашения в формате ЗСТ+ сами строятся на нормах ВТО. А во-вторых, механизмы ВТО, даже если они и не способны обеспечить дальнейшую либерализацию международной торговли, имеют ключевое значение для поддержания уже достигнутого уровня либерализации и разрешения торговых споров. Так что хоронить ВТО рано.
Немаловажное значение имеет и тот факт, что само по себе ТТИП затронет достаточно скромную долю мировой торговли. Оценки, в соответствии с которыми в сфере регуляторного воздействия ТТИП окажется свыше 30% мировой торговли товарами и более 40% торговли услугами, основаны на том, что в соответствующую сферу совершенно механически (и без всяких на то оснований) зачисляется взаимная торговля между странами Евросоюза. Если говорить собственно о торговле между ЕС и США, то ее масштабы существенно более скромные. По данным ВТО, на экспорт из Европейского союза в Соединенные Штаты в 2015 г. приходилось 2,3% глобального экспорта товаров, на экспорт из США в ЕС – и того меньше (1,5%). В глобальном экспорте услуг соответствующие доли лишь немногим выше – 3,1% и 4,1 процента. Это явно не те показатели, с которыми можно строить режим регулирования международной торговли без опоры на действенную структуру глобального регулирования, каковой в настоящее время является ВТО.
Необходимо обратить внимание на важный парадокс. В той мере, в какой США намерены использовать ВТО для более широкого продвижения регуляторных норм ТТИП и ТПП, геополитическая риторика, ориентированная на американского избирателя, может сослужить плохую службу. В современных условиях уверенное позиционирование ТТИП и ТПП как проектов, призванных закрепить американское лидерство в ущерб другим участникам международной системы, способно вызвать опасения по поводу формирования режима «эгоистичной гегемонии» не только у стран, оставшихся за бортом этих соглашений, но и у ряда их фактических и потенциальных участников (в том числе среди европейских элит). В таком случае на перспективах включения норм ТТИП и ТПП в систему соглашений ВТО можно будет уверенно поставить крест.
В свою очередь, если США планируют распространять сферу действия регуляторных норм ТТИП и ТПП «без ВТО» – через приглашение новых стран к подписанию этих соглашений и навязывание соответствующих норм по двусторонним торгово-инвестиционным соглашениям, – такая стратегия неизбежно оставит ниши, в которых двусторонние связи будут осуществляться вне регуляторного поля ТТИП и ТПП. А поскольку экономика, как и природа, не терпит пустоты, в соответствующих нишах вероятно появление региональных проектов, инициированных странами, не испытывающими восторга по поводу перспектив американской гегемонии в сфере глобального экономического регулирования. В этих условиях ВТО останется главным фактором, удерживающим мировой торговый режим от сползания к недружественной конкуренции альтернативных региональных проектов.
Возможные стратегии ответа на вызовы
Каждый раз, когда в мировой экономике формируются новые вызовы, из-за действий акторов, на поведение которых не удается оказать действенного влияния, возникает дилемма выбора между борьбой и адаптацией. Характер выбора часто зависит от того, кто именно его делает: представители политических элит в большинстве своем предпочитают борьбу, экономических – адаптацию. В российском случае стратегия борьбы с негативными последствиями ТТИП предполагает в первую очередь интенсификацию усилий по реализации собственных региональных проектов (прежде всего углубление интеграции в ЕАЭС и форсирование переговоров о заключении преференциальных соглашений со странами, оставшимися вне ТТИП и ТТП). В будущем элементом данной стратегии может стать активное использование механизмов ВТО для оспаривания тех действий ЕС и США, которые будут связаны с распространением на Россию не отвечающих ее интересам норм и положений ТТИП.
В свою очередь, стратегия адаптации предполагает оценку содержания будущего соглашения о ТТИП на предмет возможного использования отдельных его положений для совершенствования регуляторного режима в Российской Федерации, дальнейшей либерализации торгово-инвестиционных связей в рамках ЕАЭС и с дружественными странами СНГ, а также – в долгосрочной перспективе – в переговорах о заключении нового соглашения об экономическом сотрудничестве с Евросоюзом. Как было показано выше, ряд обсуждаемых в рамках формирования ТТИП вопросов может породить решения, способные укрепить переговорную позицию России в ее взаимодействии с европейцами. Поскольку масштаб прямых экономических потерь России от формирования ТТИП скорее всего окажется небольшим, принципиальное значение имеет поиск возможностей компенсации потерь секторам, где ущерб от реориентации торговли может оказаться максимальным. В частности, при оптимальном развитии событий потери российских производителей химической продукции могут быть сведены к минимуму в случае пересмотра европейского регламента REACH, а конкурентные позиции российских производителей продовольствия и сельскохозяйственного сырья укрепятся в случае снижения масштабов субсидирования сельского хозяйства в США и ЕС.
Оптимальный вариант реакции на вызовы, связанные с формированием ТТИП, будет предусматривать сочетание двух описанных стратегий. Каким именно окажется это сочетание – во многом зависит от финального результата переговоров о ТТИП. На сегодняшний день между сторонами достаточно принципиальных расхождений, чтобы сохранялся существенный уровень неопределенности не только по поводу содержания соглашения о ТТИП, но и о перспективах его подписания и тем более – ратификации. Ситуацию еще более осложняют институциональный кризис в ЕС, вспыхнувший с новой силой на фоне перспектив Брекзита, и грядущая смена политических лидеров в Соединенных Штатах и Германии, которые на протяжении последних лет были главными знаменосцами идеи ТТИП. Безусловно уверенным можно быть только в том, что формирование ТТИП не несет с собой катастрофических последствий для России, и после подписания соглашения (если это когда-нибудь произойдет) у нее будет достаточно времени для выработки оптимального ответа.

Василий Осьмаков: Мы идем к безлюдной промышленности.
Россия отстает от стран-лидеров по масштабам роботизации промышленного производства в 69 раз. И пока этот отрыв не сокращается. «Хайтек» побеседовал о будущем российских промпредприятий с Василием Осьмаковым, заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации.
— На протяжении последних четырех лет вы возглавляли Департамент стратегического развития Минпромторга и сейчас в статусе уже замминистра продолжаете курировать это направление. Очевидно, вы один из самых информированных людей о реальном состоянии российской промышленности. Можете дать оценку, насколько сильно мы отстаем по эффективности нашей промышленности от лидеров четвертой промышленной революции — стран, которые активно внедряют роботизацию в свои промышленные процессы?
— Сводить все к роботизации — известное упрощение. Четвертая промышленная революция — это переход от конвейера к массовому индивидуализированному производству. Это и роботы, и принципиально новые материалы, и цифровые технологии. Это превращение промышленности по производству продуктов в индустрию по производству сервисов.
Если оценивать разрыв в эффективности стран, то универсальное мерило — это производственная среда, то есть пространство, в котором осуществляется производственная деятельность человека, включающее в себя негативные и вредные техногенные факторы. Здесь мы действительно серьезно отстаем. Но российская промышленность очень сложно структурирована и носит многоукладный характер. У нас есть как дремучие старые заводы, на которые еще и третья промышленная революция не пришла, так и абсолютно современные заводы-лидеры в своих нишах, где с роботами все в полном порядке.
Но из-за того, что у нас соседствуют между собой старые заводы и принципиально новые, средняя производительность в стране получается ниже, чем в странах-лидерах.
— Какие это цифры?
— Разница в производительности — в 4-5 раз. Но можно подсчитывать эти цифры по-разному. Сравнивать экономики по производительности труда — это интересное занятие, но в нем мало смысла. Можно ориентироваться на показатель удельной производительности, но он также не учитывает очень значимый ракурс проблемы. В России крупные предприятия исполняют еще и социальную функцию, особенно в отдаленных регионах. Это определяет специфику нашего промышленного развития и не позволяет напрямую сравнивать эффективность работы предприятий у нас, и, например, в отдельных взятых высокоиндустриализированных европейских государствах.
В целом да, по уровню производства мы проигрываем. Плотность роботизации в 2015 году в мировых странах-лидерах — 69 роботов на 10 тысяч рабочих промышленных производств. В России 1 робот на 10 тысяч. Если исходить из этого, мы отстаем в 69 раз. Но тут дело не в роботах. Эта цифра скорее демонстрирует то, насколько иначе у нас устроена экономика. А там, где роботы нужны, те отрасли промышленности, где современное производство невозможно без роботизации — там роботы у нас уже есть.
Для нас сегодня в части повышения производительности труда промышленных предприятий зачастую важнее не роботов внедрять, а современные технологии менеджмента, проектного управления. Устаревшая культура труда и руководства на предприятиях является основным сдерживающим фактором в промышленном хайтеке. Решить эти проблемы — и эффективность вырастет в разы.
— Есть какие-то конкретные планы по автоматизации и роботизации промышленности в России?
— Роботизация — не самоцель, а один из способов развития конкурентоспособных производств и создания конкурентоспособной продукции. Если мы говорим о предприятиях, в которые государство напрямую вкладывает какие-то средства, к примеру авиастроительные, судостроительные, двигателестроительные, в них все хорошо с модернизацией, закуплено современное, часто уникальное оборудование. Основная задача — его загрузка и повышение эффективности использования.
Проблема устаревших мощностей у «нормальных» предприятий уже решена, а те, которые продолжали работать на советском оборудовании, давно вымерли, проиграв конкурентную борьбу.
— Но вы чуть ранее говорили, что у нас остаются и «дремучие заводы», и что Россия все же отстает по уровню производства.
— Эти цифры означают, что масштабы роботоемкого производства в других странах больше, чем в России. Самая роботоемкая область — это автопром. В структуре нашей экономики автомобильная промышленность составляет меньшую долю, чем в странах, с которыми мы себя сравниваем, например, с Германией. Допустим, российский рынок — это 1,5 млн новых автомобилей в год. А немецкий автопром — десятки миллионов штук. Естественно, у них и роботов больше.
— Какие отрасли, помимо автопрома, также требуют роботизации?
— В 2015 году 15% продаж промышленных роботов пришлись именно на автопром. К другим наиболее роботоемким отраслям можно отнести машиностроение в широком смысле: станкостроение, электроника, металлургия, пищевая промышленность.
По данным ассоциации НАУРР, продажи промышленных роботов в разных отраслях в 2015 году составили 550 штук, к 2020 году эта цифра вырастет до 4 тысяч. Но все это очень сильно зависит от валютных курсов, развития экономики. Роботизация — это производная от экономического развития.
— Останутся ли в перспективе именно эти отрасли приоритетными для автоматизации?
— Из-за сложной структуры российской экономики, наша промышленность модернизируется «прыжками». К примеру, черная металлургия обновлялась в период с 2003 по 2008 годы. У автопрома сейчас пик создания производства, мощностей создано на 4 млн штук, а рынок — 1,5 млн штук. Вряд ли уже будут строиться новые заводы, и автопром не станет источником спроса на промышленных роботов в ближайшей перспективе. Если получится ускорить развитие других машиностроительных отраслей, таких как станкостроение, спрос на роботов сместится туда.
— Если я правильно вас поняла, получается, что в тех областях, где роботы нужны, они в России уже есть. Но тогда как быть с утверждениями, что передовые страны начинают переход к шестому технологическому укладу, а Россия еще прочно остается в пятом?
— К шестому технологическому укладу еще никто не перешел. Он находится сейчас на стадии осмысления. Шестой технологический уклад подразумевает абсолютную кастомизацию производства. Вообще концепция индустрии 4.0 и идеология шестого технологического уклада появились в Германии. Условно, при покупке японского автомобиля есть выбор из четырех базовых комплектаций и возможности для индивидуальной настройки минимальны. А, к примеру, у немецкого автомобиля кастомизация сильно выше. В итоге он всегда будет дороже. Поэтому для немцев индустрия 4.0 — это история про то, как, углубляя персонализацию оказываемых сервисов и продаваемых продуктов, сохранять ценовую конкурентоспособность, с фиксированными комплектациями и массовым производством, то есть делать это так же дешево.
Как будет выглядеть ремонт автомобиля в будущем? Предположим, у автомобиля разбито крыло, владелец идет в сервисный центр, в котором есть 3D-принтер и доступ к соответствующим 3D-моделям отдельных деталей, и новое крыло печатается прямо на месте. Уходит доставка, посредники, сокращается срок и стоимость конечной услуги. Со временем автомобиль будет продаваться не как товар, а как услуга.
Или возьмем фармацевтику. Сегодня это история про производство на больших заводах химической субстанции, из которой затем получаются массовые лекарства. В скором будущем препараты станут выращиваться на биофабриках и затачиваться под конкретные вирусы и заболевания. На следующем этапе развития пациент будет приходить в больницу, сдавать анализы и прямо на месте под него будут готовить индивидуальный препарат. Фармацевтика из промышленности по производству лекарств станет сервисом, так как продаваться будет именно сервис. Такой будет индустрия 4.0. И роботы — только часть этой общей картинки.
— Недавно компания Foxconn уволила 60 тысяч рабочих и наняла вместо них 40 тысяч роботов. Является ли тотальная автоматизация всех производств неизбежным процессом или есть отрасли промышленности, где роботы не смогут составить конкуренцию людям?
— Да, мы идем к безлюдной промышленности. Это единственный способ прийти к стандартизации производства и минимизации ошибок. Люди будут выбывать из процесса, но качество кадров, которые остаются, будет расти. И это процесс неизбежный. Как генератор занятости, машиностроительная промышленность, например, не очень хорошо работает, она не про решение социальных проблем. Там идет стабильное сокращение численности работающих на 0,5-1% в год. Чтобы процесс происходил мягко, на места сотрудников, ушедших на пенсию, новых уже не берут.
— Автоматизация и роботизация ведут к тому, что какие-то профессии умирают, спрос на другие растет, возникает потребность в новых кадрах, которые еще вчера никто не готовил. Какие рабочие ресурсы и с какими навыками будут нужны российской промышленности через 5-10 лет?
— По прогнозам АСИ и Московской школы управления «Сколково», до 2030 года появятся 186 новых профессий, а 57 исчезнут. Тренд заключается в том, что растет спрос на высококвалифицированные кадры, которые обладают компетенциями на стыке инженерии, ИТ и рабочих навыков. Самые дефицитные и востребованные сейчас кадры в России — это хорошие сварщики. Требования к рабочим на предприятиях постоянно растут. В итоге они будут становиться высокопрофессиональными специалистами, а миф про «работяг с окраин» и «люмпен-пролетариат» будет шаг за шагом размываться.
— Как организована работа по подготовке таких кадров?
— На федеральном уровне ведутся работы по гармонизации системы образования с требованиями промышленности. Сюда входит разработка профессиональных стандартов и новых образовательных стандартов на их основе. Основной тренд — трансляция «заказа» промышленности в систему образования. Но, к сожалению, в реальности сохраняется разрыв между тем, каких специалистов готовят учебные заведения, и тем, какие компетенции на самом деле требуются на производстве.
Эта проблема везде решается по-разному. В больших компаниях есть корпоративные кадровые стандарты и они сами «выращивают» себе специалистов, в том числе через стажировки, программы дуального образования. Бывает, инвестор начинает курировать какой-то колледж и отправляет на обучение преподавательский состав, чтобы затем готовить кадры под себя.
Проводятся и такие важные вещи, как чемпионат рабочих специальностей WorldSkills. Он помогает нам понять, что происходит с кадрами на рынке, и определить приоритеты. Так, в прошлом году на WorldSkills были компетенции, связанные с холодильным оборудованием, а в этом — нет, потому что это уже не так нужно. WorldSkills смотрит в будущее, а не делает слепок с того, что уже есть. К примеру, сейчас проводятся соревнования по мехатронике или нейропрограммированию. К тому же чемпионат WorldSkills позволяет мотивировать компании более качественно работать с кадрами и транслировать лучший опыт на предприятия.

Интервью Дениса Мантурова информационному агентству «Синьхуа».
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в интервью агентству «Синьхуа» рассказал о результатах посещения Китайской международной промышленной ярмарки СIIF-2016, оценил перспективы российско-китайского сотрудничества, обозначил его направления и назвал основные сферы взаимодействия двух стран. Особое внимание министр уделил развитию партнерских отношений в авиационной сфере, в частности при создании широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и перспективного гражданского тяжелого вертолета.
– Господин Мантуров, возглавляемая вами делегация посетила Китайскую международную промышленную ярмарку СIIF-2016, где Россия выступает в статусе страны-партнера. Можно ли считать ваш визит ответным на участие партнеров из Китая в Российско-Китайской выставке «Экспо», которая прошла в Екатеринбурге в июле этого года? И ограничивается ли официальный визит посещением промышленной ярмарки в Шанхае?
– В этом году китайской стороной, впервые за 18 лет проведения главной китайской промышленной выставки, учрежден статус страны-партнера, который был присвоен России. Отличительной чертой Шанхайской ярмарки являются экспозиции по самым разным направлениям, среди которых промышленная автоматизация, энергетика, металлообработка, станкостроение, робототехника. Надеемся, что и российская экспозиция вызовет интерес и будет по достоинству оценена участниками и гостями. Наша экспозиция, а также участие российских представителей в деловой программе ярмарки станут хорошим подтверждением тому, что Россия богата не только полезными ископаемыми, но и обладает значительным промышленным потенциалом, который может быть в полной мере реализован в широкой кооперации с китайскими партнерами.
Хотел бы еще раз поблагодарить китайских друзей за предоставление нашей стране этого почетного статуса. Рассматриваем этот жест как еще одно яркое подтверждение общепризнанного авторитета ярмарки в ряду важных событий в сфере промышленности и инноваций, которое позволит придать дополнительный импульс развитию торгово-экономических промышленных и инвестиционных связей между нашими странами.
Сотрудничество России и Китая динамично развивается. Китай с 2010 года занимает первое место среди торговых партнеров России. Наше взаимодействие затрагивает такие важные сферы, как авиастроение, радиоэлектроника, фармацевтическая и химическая промышленность, судостроение, транспортное машиностроение и металлургия. Мы придаем особое значение поступательному развитию полноформатных двусторонних отношений по всем направлениям. Данный визит в Китай наполнен рядом встреч, которые продолжают вектор развития нашего хорошего и продуктивного партнерства.
Это проявляется и в нашей работе на форуме по развитию индустрии инноваций и новых технологий (IEID). В 2014 году мы встречались с Министром промышленности и информатизации Китайской Народной Республики Мяо Вэем и договорились провести первое заседание подкомиссии.
Мы планируем посетить город Чжухай, ознакомиться с экспозицией Международного аэрокосмического салона и выставки аэропортового оборудования Airshow China-2016. Кроме того, проведем переговоры с руководством компаний Aviation Industry Corporation of China (AVIC), Avicopter Со. Ltd, China Aircraft Engine Group (CAEG), Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. (COMAC).
В Гуньи у нас будет возможность принять участие в торжественной церемонии запуска второй очереди высокотехнологичного завода группы «Ви Холдинг» по производству холодного проката в индустриальном алюминиевом комплексе «Юйлянь».
– Как на сегодняшний день вы оцениваете перспективы торгово-экономического сотрудничества России и Китая?
– Хочу отметить, что наши страны связывают многие десятилетия дружбы и единения. Сегодня нам общими усилиями необходимо стремиться к тому, чтобы расширять сотрудничество на благо народов двух стран. В 2016 году товарооборот России и Китая приблизился к отметке 90 млрд долларов. Перед нами стоит амбициозная задача увеличить этот показатель до 200 млрд долларов к 2020 году. Цель стоит непростая, и для ее достижения необходимо искать новые точки роста торгово-экономического сотрудничества, поддерживать и развивать кооперацию в ключевых секторах, в том числе промышленном.
– Как продвигается сотрудничество с китайскими партнерами в вопросе привлечения инвестиций в российскую экономику?
– Китайские инвестиции в экономику России показывают положительную динамику. Так, на 2,9%, по сравнению с прошлым годом, увеличен объем накопленных китайских прямых инвестиций в экономику России. На конец первого полугодия он составил 8 963,0 млн долларов. За этот же период объем поступивших китайских прямых инвестиций в экономику России показал 346,0 млн долларов, что на 4,8% больше по сравнению с 2015 годом. Для успешного продвижения сотрудничества нами разработан ряд инструментов и инициатив.
Существенная поддержка со стороны Правительства Российской Федерации оказывается программе по созданию на территории России индустриальных парков. На сегодняшний день уже создано 75 таких промышленных зон, еще 90 находятся в процессе строительства и 104 – на стадии проектирования. В рамках государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» нами выработана система инструментов и механизмов государственной поддержки этой формы промышленной кооперации. Ассоциация индустриальных парков в рамках реализации плана мероприятий по продвижению за рубежом потенциала локализации производств иностранных компаний в России приступила к подготовке бизнес-миссии регионов России в Китайскую Народную Республику, которая состоится в декабре 2016 года. Основной целью бизнес-миссии является привлечение китайских инвесторов для размещения производств в российских индустриальных парках и особых экономических зонах. Безусловно, мы приглашаем китайских партнеров к взаимной работе в данном формате.
Укрепление партнерства с Китаем является важной частью нашей работы по промышленному развитию в том числе Дальнего Востока. Мы создаем там максимально свободные и комфортные условия для размещения капиталов и производств. Кроме того, потенциальные инвесторы получают уникальную возможность для работы на российском рынке и выгодный плацдарм для прямого выхода на емкий растущий рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.
Речь идет, прежде всего, о территориях опережающего развития на Дальнем Востоке с целым комплексом налоговых и иных преференций. Уже есть примеры хороших китайских инвестиций.
Также мы предлагаем партнерам воспользоваться нашим новым инструментом промышленной политики – специальным инвестиционным контрактом. По данному контракту его участник берет на себя определенные обязательства по созданию на территории России высокотехнологичных производств с конкретными показателями по объемам реализации и локализации. Российская Федерация, в свою очередь, гарантирует инвестору стабильность ведения бизнеса и отраслевые преференции. Должен отметить, что у наших стран имеется большое количество нереализованных возможностей. Нам необходимо максимально задействовать имеющийся потенциал, создавать благоприятные условия для наращивания объемов взаимной торговли и инвестиций и расширять контакты по линии государственных, научных и деловых кругов. Участие в подобных мероприятиях призвано привлечь внимание к высокотехнологичным проектам двух стран, расширить взаимовыгодные деловые контакты.
– В каких отраслях промышленности России и Китая развернуто сотрудничество и каких результатов удалось достичь? Чего ждет Россия от сотрудничества с Китаем в сфере промышленности?
– Мы придаем особое значение развитию двусторонних отношений между Россией и Китаем в области промышленности. В настоящее время сотрудничество с Китайской Народной Республикой ведется по большому количеству направлений. Нашими странами проводится активная работа по увеличению товарооборота. Взаимодействие затрагивает такие сферы, как авиастроение, радиоэлектроника, фармацевтическая, химическая промышленности, судостроение, транспортное машиностроение, цветная и черная металлургия.
Ключевыми проектами между нашими странами являются программы совместного создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС) и разработки перспективного гражданского тяжелого вертолета.
По обоим проектам в июне 2016 года в присутствии глав России и Китая состоялось подписание межправительственных соглашений, к которым мы последовательно шли.
Что касается ШФДМС, то на сегодняшний день российская и китайская компании отработали основные параметры проекта самолета, определили перечень ключевых технологий, провели необходимые маркетинговые исследования, выработали предварительную бизнес-модель, обсудили варианты применяемых стандартов и сертификационных процедур, а также договорились о создании совместного предприятия. В конце этого года планируется завершить этап определения технической концепции машины и перейти к разработке эскизного проекта.
«Вертолеты России» совместно с китайскими партнерами согласовали объем работ по тяжелому вертолету. Сейчас стороны обсуждают детали контракта, который, мы надеемся, они в скором времени подпишут.
Немаловажным является и сотрудничество с китайской стороной по проекту SSJ 100. На данном этапе наши усилия в Китае сфокусированы на переговорах с авиакомпаниями, заинтересованными в обновлении или расширении парка региональных лайнеров. Вопросы подготовки лизинговых предложений также прорабатываются на перспективу под потенциальных заказчиков. Продолжается процесс сертификации. В рамках AirShow China 2016 планируется провести ряд встреч с китайскими партнерами. Безусловно, важным направлением нашей совместной работы является сотрудничество в области цветной и черной металлургии. В частности, весьма перспективной выглядит идея участия китайских стратегических и финансовых партнеров в развитии проекта «Алюминиевая долина» в Восточной Сибири. Концепция проекта предполагает создание эффективных мощностей по производству продуктов высоких переделов с использованием алюминия для авиации и аэрокосмических производств, автомобильной промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей.
Другой перспективной темой нашего планового сотрудничества является фармацевтическая промышленность. В области фармацевтики и медицинской техники налажен диалог не только между нашими министерствами, но и отраслевыми ассоциациями. В рамках рабочей группы по сырьевым материалам, в которую также входит фармацевтическая тематика, мы сможем уделять более пристальное внимание таким вопросам, как взаимодействие в сфере совместных разработок лекарственных средств и трансфер технологий, продвижение российских разработок на китайский рынок, регулирование в области обеспечения качества, вопросы поставок материалов и оборудования для производства лекарственных средств, сотрудничество в области ядерной медицины и радиофармпрепаратов, а также защиты интеллектуальной собственности.
Касательно нашего сотрудничества в области химической промышленности хотел бы отметить, что Китай является крупнейшим партнером России во внешней торговле химическими товарами. В товарной структуре экспорта российской химической продукции в Китай лидирующие позиции традиционно занимают минеральные удобрения. Благодаря механизму взаимодействия перед нашими странами открываются новые возможности в данной сфере. Это лишь ключевые направления нашей промышленной кооперации, и если подытожить, то работа такой площадки, как подкомиссия по сотрудничеству в области промышленности, позволит нам структурировать деятельность по наиболее важным направлениям сотрудничества в области промышленности, будет способствовать закреплению персональной ответственности руководителей за продвижение двусторонних проектов в приоритетных областях.
– Какое значение имеет инициатива строительства «Великого пояса Шелкового пути» для укрепления торгового и промышленного сотрудничества между Китаем и Россией? Есть ли у Министерства промышленности и торговли Российской Федерации планы или предложения по сотрудничеству с Китаем в рамках сопряжения с «Экономическим поясом Шелкового пути»?
– Россия высоко оценивает инициативу Китая по проекту «Экономический пояс Шелкового пути». Фактически речь идет о новых подходах во взаимодействии стран Евразийского экономического союза и Китая, реализации крупных инфраструктурных проектов, упрощении торговых правил, а также укреплении кооперации по линии различных финансовых институтов. Уверен, «Экономический пояс Шелкового пути» и Евразийский экономический союз будут гармонично дополнять друг друга. Соприкосновение этих знаменательных проектов означает выход на новый уровень партнерства и, по сути, подразумевает создание общего экономического пространства на континенте. Эффективная координация форматов взаимодействия будет способствовать установлению более тесного партнерства между Москвой и Пекином. Дополнительную динамику развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества придаст переход на взаиморасчеты в национальных валютах и создание зоны свободной торговли.
Также в рамках реализации проекта «Экономического пояса Шелкового пути» мы предусматриваем возможности сопряжения ресурсов российского энергетического сектора с планами китайской стороны по реализации данного проекта.
Как я уже упоминал, активно ведет свою деятельность на территории Китая компания «Ви Холдинг». Совокупные инвестиции компании в экономику Китая по состоянию на октябрь 2016 года превышают 3,4 млрд долларов и на сегодняшний день являются крупнейшей частной российской инвестицией в экономику Китая. Реализации данного проекта уделяется большое внимание со стороны глав государств и правительств наших стран. Уверен, уже в ближайшее время мы сможем наблюдать высокие результаты работы нашего совместного проекта.
– В рамках соглашения о стратегическом сотрудничестве между ОАО «Россети» и Государственной электросетевой корпорацией Китая, подписанного 20 мая 2014 года в присутствии Владимира Путина и Си Цзиньпина, проводится работа по созданию совместного предприятия ОАО «Россети» и ГЭК Китая. Расскажите поподробнее о том, каким образом сейчас продвигается взаимодействие по этому вопросу?
– Сотрудничество ОАО «Россети» и ГЭК Китая в рамках совместного предприятия для реализации проектов по модернизации, строительству и дальнейшей эксплуатации объектов электросетевого комплекса поспособствует изучению передового опыта и внедрению современных технологий в России, а также модернизации объектов электроэнергетики с использованием внетарифных источников финансирования.
С целью проработки вопросов совместного предприятия создана российско-китайская рабочая группа, основными задачами которой являются разработка концепции создания СП, его организационной структуры, определение перечня совместных проектов для реализации, а также разработка механизмов финансирования деятельности совместного предприятия. На встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики господином Си Цзиньпином было подписано Соглашение о создании совместного предприятия для реализации проектов в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и ГЭК Китая. В настоящее время разрабатывается перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках создаваемого СП, а также пакет уставных документов, необходимых для его создания.

Чубайс: «У нас нет ни одного проекта, который бы разрушился из-за санкций»
В то же время в интервью Business FM глава «Роснано» признался, что для его корпорации «санкции — серьезная вещь, очень глубоко повлиявшая на бизнес»
«Открытые инновации — 2016» — что осталось за пеленой дыма? Премьер-министр Дмитрий Медведев не смог выступить на пленарном заседании форума из-за инцидента с техникой, однако позднее глава правительства провел заседание президиума президентского Совета по модернизации экономики. О чем именно шла речь, узнал главный редактор Business FM Илья Копелевич, пообщавшись с главой Роснано Анатолием Чубайсом.
Анатолий Борисович, сегодняшний форум, хотим мы этого или не хотим, будем прославлен техническим инцидентом. Перед тем, как премьер собирался выступать, заискрило что-то в осветительных приборах, всех вывели. Главе правительства не удалось выступить, но он провел здесь очень много времени, просто уже не при широкой аудитории, а участвуя в президиуме совета по инновациями. Поэтому, коль мы все не слышали премьера, может быть, расскажете нам об основных месседжах от руководства?
Анатолий Чубайс: Прежде всего, вы сказали, что форум будет прославлен этим, могу ответить только так — очень жаль. Потому что событие абсолютно копеечное, выход из строя трансформатора — знакомая для меня история, это случается в энергетике, ничего тут катастрофического нет. Просто, если я правильно понимаю, один из усилителей, работающих на громкоговоритель, из-за скачков напряжения давал такие жуткие звуки, что у кого-то сложилось впечатление, что прямо артобстрел начался или что-то похожее.
Дымок тоже пошел, что-то замкнуло.
Анатолий Чубайс: Там было возгорание, но в ходе скачков напряжения через усилитель мы получили и такой эффект, на который сработала служба безопасности. Хотя предмета особенного нет, не знаю, как кому, мне здание очень нравится. Считаю, что «Сколково» классную работу сделали, вообще молодцы. Смотрится прекрасно. Ну, бывают сбои, я не вижу у них ничего катастрофического или даже значимого. Я не знаю, что Дмитрий Анатольевич планировал в своем выступлении, а на совете по модернизации я участвовал в заседании. Там была абсолютно рабочая тема, которую провел Дмитрий Анатольевич Медведев. Речь шла о тех регионах, которые наиболее активно и всерьез движутся по инновационному пути. Очевидно, что во многом региональная активность инновационная зависит не только от объективных причин, но и просто от позиции первого лица — губернатора. Я всегда это говорил, сегодня я это услышал из уст премьер-министра и с ним согласен, это так. У нас есть на сегодня 14 регионов, которые по-настоящему, всерьез, начиная с позиции первого лица, в ежедневном режиме занимаются инновациями. Эти регионы объединены в Ассоциацию инновационного развития, они сегодня заседали под руководством Медведева, естественно был запрос на поддержку, в том числе на финансовую, и она была обещана в размере около 5 млрд рублей. Это позитивная вещь, я всячески поддерживаю. Если удастся реализовать это решение уже в ходе прохождения бюджета в Госдуме, хорошо.
Не шла ли речь в ходе заседания этого совета об уточнении мандата, оптимизации институтов развития?
Анатолий Чубайс: Шла. Речь шла конкретно об одном институте развития — о «Сколково», в котором мы находимся. Там есть такая давняя тема, специалисты ее знают — экстерриториальный «Сколково». Одни говорят, что, как сейчас предусмотрено, все сколковские стартапы должны в какой-то день переехать в «Сколково», а другие отвечают: нет, давайте мы по всей стране дадим тот же режим для всех, включая льготы, и нечего им переезжать. Мне показалось, что сегодня как раз в ходе обсуждения этого вопроса был какой-то здравый компромисс предложен Вексельбергом и поддержан Медведевым. Как я понял на слух, идея в том, чтобы «Сколково» получило права типа франшизы, то есть оно могло бы давать регионам, у которых есть для этого предпосылки права, аналогичные правам «Сколково», и тогда они получают эти преимущества. Но это не одно решение на всю страну, а индивидуальное решение региональное, возможно, даже кластерное, на которое «Сколково» запросило сегодня права.
Но все равно компании, которые будут получать сколковский режим, должны территориально находиться в определенной зоне, не по статусу, а по нахождению за определенным забором.
Анатолий Чубайс: Да, но пока «Сколково» было не готово, эту дату все время передвигали, а сейчас предлагается другая концепция — не требовать от всех переезда, а предоставить центру право давать франшизу на свои полномочия в регионе.
Как мы знаем, у институтов развития до сих пор довольно много денег, потому что — хорошо это или плохо — они не все их использовали. Я говорю не про «Роснано», а про целый ряд других. Говорят, что во времена бюджетного голодания очень много желающих эти оставшиеся деньги отцепить обратно. Речь идет о деньгах, которые не были вложены до сих пор, просто находящихся на депозитах.
Анатолий Чубайс: Тут ситуация от института к институту отличается. Давайте исключим нас из анализа, чтобы я сам про себя не говорил и не нахваливал. У «Сколково», насколько мне известно, больших остатков нет, остатки большие есть у РВК («Российской венчурной корпорации»). И там действительно идет дискуссия, не передать ли часть из этих остатков в «Сколково», дав возможность направить их на развитие сколковской венчурной компоненты, нацеленной одновременно на развитие того, что называется национальной технологической инициативой. Может быть, в этом решении есть смысл, но как-то радикально это картину не меняет, а в то же время каких-то больших атак извне инновационной системы на остатки внутри нее я не вижу.
У «Роснано», насколько мы с вами регулярно общаемся, и вы рассказываете о ходе дел, картина как раз другая. Вы в свое время все вложили, частично возвращаете деньги, частично вам добавляли несколько лет назад, в прошлом году дали кредитные гарантии. Вы на какой стадии: берете кредиты, чтобы продолжать развивать начатые проекты?
Анатолий Чубайс: Стадия простая: на старте был гигантский бюджетный взнос в 130 млрд рублей, но прошло девять лет, и мы построили 73 завода и выходим из этих бизнесов, последовательно продавая свою долю в каждом из них.
Эти 130 млрд вы все вложили?
Анатолий Чубайс: Практически, да. Там чуть более сложная ситуация, потому что часть из них ушла на некоммерческую компоненту — строительство экосистемы и инфраструктуры, но упрощая картину — да. Дальше, проинвестировав эти средства, мы их сейчас получаем назад в достойном объеме, достойном настолько, что мы сняли вопрос о новых ассигнованиях бюджета.
И те 80 млрд — год назад шла речь о бюджетных гарантиях под кредиты — использовали вы их или нет?
Анатолий Чубайс: Вот это очень важно. Повторю еще раз, мы не запрашиваем и не имеем ассигнований из бюджета. Единственная форма поддержки, которая у нас есть, это госгарантии. Но это означает, что с этими гарантиями мы идем на коммерческий рынок, под коммерческие ставки получаем кредиты на длительный срок — семь-восемь лет, эти кредиты используем для инвестиций в капитал. Это довольно необычная модель, но мы ее освоили и считаем, что способны продвигаться дальше. Конечно, у нас есть ежегодные госгарантии, каждый год мы свою часть из них собираем. По будущему году у нас госгарантии в размере 21 млрд, а следующий год — 12 млрд, они немного сокращаются.
По убывающей. Но за прошлый год была большая сумма.
Анатолий Чубайс: За прошлый год было 35 млрд.
Вы выбрали их или нет?
Анатолий Чубайс: Вот сейчас выбираем в конце года, ровно это мы и делаем, и их будем инвестировать во вновь создаваемые фонды.
Почему РВК не нашло, куда вложить деньги, и у них деньги оставались на банковских счетах в течение многих лет? А вы еще и берете кредиты, хотя у нас сейчас немногие могут похвастаться, что им есть на что их использовать.
Анатолий Чубайс: Мне кажется очень правильным, что мы, один раз получив от государства деньги и получив их возврат, создаем систему, при которой их можно реинвестировать неограниченное количество раз: каждый цикл — семь-девять лет. В результате первого цикла построены 73 завода, наноиндустрия в России есть, она состоялась. Дальше каждый цикл будет приносить новые и новые заводы.
Если о цифрах, вы смогли бы назвать, сколько людей работает на этих заводах?
Анатолий Чубайс: Да, мы недавно уточнили цифры. Мы на этих заводах создали более 30 тысяч рабочих мест, это 30 тысяч человек, работающих в наноиндустрии России.
Могли бы вы озвучить последние цифры, связанные с выручкой этих предприятий и экспортной выручкой, если они у вас сейчас есть?
Анатолий Чубайс: У меня пока только статистика официальная за 2015 год: 341 млрд — это объем общий произведенной нанотехнологической продукции; не помню точную цифру экспорта, но она составляет где-то около 100 млрд в части предприятий, принадлежащих нам.
100 млрд — эту цифру вы уже несколько лет называете, она сейчас особо не растет, так мне кажется?
Анатолий Чубайс: Там рост есть, но, возможно, он замедлился в прошлом году. Я еще раз повторю, я не готов сейчас вам ответственно назвать точную цифру экспорта, хотя в наших отчетах она указывалась.
Ухудшилось ли сотрудничество с важными для вас западными партнерами за последние годы? Изменилось ли оно критически в каких-то сферах, остановились ли какие-то проекты? Ведь это связано в том числе с трансфером технологий, а зачастую и с кредитованием в тех же краях. Понятно, что там все застыло вследствие принятых санкций.
Анатолий Чубайс: Действительно, для нас санкции финансовые и технологические — это серьезная вещь, очень глубоко повлиявшая на бизнес «Роснано». Вместе с тем, как мы уже говорили, к счастью, у нас нет ни одного проекта, который бы разрушился из-за санкций. Что у нас есть из наиболее крупных изменений в результате санкций? Фактически мы полностью прекратили фандрайзинг, то есть поиск инвесторов в Европе и в Америке. Это сейчас безнадежно, мы этим просто не занимаемся. Но в наших новых фондах появились китайские партнеры, уже по факту они есть. Думаю, что до конца года мы объявим еще и новые цифры по новым китайским партнерам. Мы разворачиваем сотрудничество с японскими партнерами, сотрудничество с Малайзией, Сингапуром, Южной Кореей и понимаем, что в нашей стратегии, просто не изменяя ее, нужно заменить фандрайзинг западный на фандрайзинг в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Это удается сделать в тех же объемах?
Анатолий Чубайс: Да.
Расскажите нам, потому что наноотрасль непрерывно шагает куда-то дальше. Что можете сказать о новой продуктовой линейке — свежей, перспективной?
Анатолий Чубайс: Ну, во-первых, мы считаем, что уже в существующей продуктовой линейке есть важнейшие вещи, прежде всего, центры ядерной медицины, которые сегодня работают в Тамбове, Липецке, Башкирии, Екатеринбурге, в ряде других городов страны. Несколько десятков тысяч людей через них прошло, и не просто получили сверхраннюю диагностику, это реально спасенные жизни людей. И мы будем продолжать это делать, будем строить новые центры в Калуге, надеюсь, во Владивостоке и так далее. Из новых направлений, наиболее бурно обсуждаемых сейчас, и для нас в новых фондах, которые мы создали, новые направления — это темы, которыми мы занимаемся, на что мы смотрим более внимательно? Назову три-четыре сферы, которые для нас важны. Во-первых, очень интересна сфера робототехники, которая просто вышла на какой-то качественно новый уровень, и, очевидно, много чего может принести.
Мы эмпирически тоже видим, что у нас много интересных стартапов, причем коммерчески успешных, которые делают как раз разного рода роботы. Это наша национальная ниша, где мы себя нашли?
Анатолий Чубайс: Может быть, посмотрим. Пока я не вижу массовых производств, даже некоторые лидеры в этой сфере, как Boston Dynamics, в сложном финансовом положении, но сфера интересная, и заделы, как мне кажется, российские есть, на них следует посмотреть. Мне кажется очень важным создание в России отраслей, которые, может быть, не так для конечного покупателя видимы, но для индустрии в целом важны. Например, оптоэлектроника, ее реально в стране не существовало. На сегодня мы построили в Саранске завод по производству оптоволокна, в России просто ноль по оптоволокну, исключая специальные виды оптоволокна. Сегодня саранский завод начал производство, и, конечно же, российский рынок будет ему очень кстати, а это чистое импортозамещение. В оптоэлектронике мы развиваем приборопреобразующие электронные сигналы в оптический и приоборорасщепляющий оптический сигнал, в том числе в Москве построили завод уникальный — «Неофотоникс», это очень перспективная, очень интересная вещь, так же, как лазеростроение — компания IPG Photonics во Фрязино построена с нашим участием. Вся сфера оптоэлектроники мне кажется очень важной и перспективной, и Россия здесь имеет большой потенциал. Фармацевтика Life Science — мы традиционно туда инвестировали и будем инвестировать дальше. Честно говоря, инвестировали изначально в основном из социальных соображений, но оказалось, что этот портфель достаточно доходный. В целом, мы движемся в этой сфере хорошо. Недавно мы объявили, что привезли в Россию компанию номер один в этой сфере Pfizer, с которой подписано соглашение о совместном строительстве в Калужской области нового завода «НоваМедика». Причем этот завод будет производить не только продукты, трансфер технологий из Pfizer, но и разработанные в России продукты. Здесь, на выставке, мы представили центр компании «НоваМедика», который уже пять новых продуктов сделал, они находятся на клинических испытаниях. Очень интересные технологии в медицине, связанные с новым уровнем развития генетики, с расшифровкой гена и на этом основании индивидуализацией лечения для конкретного человека и по дозировкам, и по конкретным фармацевтическим средствам. Очень интересные перспективы в медицине связаны с дистанционной диагностикой, которая бурно развивается — удаленная диагностика. Вот в эти все сферы мы смотрим с особым вниманием, хотя никуда не уходим от традиционных сфер. Мы по-прежнему считаем, что самые ортодоксальные, самые традиционные сферы — металлургия, химия, нефтехимия, машиностроение — несут в себе колоссальный потенциал для обновления, и мы точно будем туда инвестировать.
Илья Копелевич

Чубайс: «У нас нет ни одного проекта, который бы разрушился из-за санкций»
В то же время в интервью Business FM глава «Роснано» признался, что для его корпорации «санкции — серьезная вещь, очень глубоко повлиявшая на бизнес»
«Открытые инновации — 2016» — что осталось за пеленой дыма? Премьер-министр Дмитрий Медведев не смог выступить на пленарном заседании форума из-за инцидента с техникой, однако позднее глава правительства провел заседание президиума президентского Совета по модернизации экономики. О чем именно шла речь, узнал главный редактор Business FM Илья Копелевич, пообщавшись с главой Роснано Анатолием Чубайсом.
Анатолий Борисович, сегодняшний форум, хотим мы этого или не хотим, будем прославлен техническим инцидентом. Перед тем, как премьер собирался выступать, заискрило что-то в осветительных приборах, всех вывели. Главе правительства не удалось выступить, но он провел здесь очень много времени, просто уже не при широкой аудитории, а участвуя в президиуме совета по инновациями. Поэтому, коль мы все не слышали премьера, может быть, расскажете нам об основных месседжах от руководства?
Анатолий Чубайс: Прежде всего, вы сказали, что форум будет прославлен этим, могу ответить только так — очень жаль. Потому что событие абсолютно копеечное, выход из строя трансформатора — знакомая для меня история, это случается в энергетике, ничего тут катастрофического нет. Просто, если я правильно понимаю, один из усилителей, работающих на громкоговоритель, из-за скачков напряжения давал такие жуткие звуки, что у кого-то сложилось впечатление, что прямо артобстрел начался или что-то похожее.
Дымок тоже пошел, что-то замкнуло.
Анатолий Чубайс: Там было возгорание, но в ходе скачков напряжения через усилитель мы получили и такой эффект, на который сработала служба безопасности. Хотя предмета особенного нет, не знаю, как кому, мне здание очень нравится. Считаю, что «Сколково» классную работу сделали, вообще молодцы. Смотрится прекрасно. Ну, бывают сбои, я не вижу у них ничего катастрофического или даже значимого. Я не знаю, что Дмитрий Анатольевич планировал в своем выступлении, а на совете по модернизации я участвовал в заседании. Там была абсолютно рабочая тема, которую провел Дмитрий Анатольевич Медведев. Речь шла о тех регионах, которые наиболее активно и всерьез движутся по инновационному пути. Очевидно, что во многом региональная активность инновационная зависит не только от объективных причин, но и просто от позиции первого лица — губернатора. Я всегда это говорил, сегодня я это услышал из уст премьер-министра и с ним согласен, это так. У нас есть на сегодня 14 регионов, которые по-настоящему, всерьез, начиная с позиции первого лица, в ежедневном режиме занимаются инновациями. Эти регионы объединены в Ассоциацию инновационного развития, они сегодня заседали под руководством Медведева, естественно был запрос на поддержку, в том числе на финансовую, и она была обещана в размере около 5 млрд рублей. Это позитивная вещь, я всячески поддерживаю. Если удастся реализовать это решение уже в ходе прохождения бюджета в Госдуме, хорошо.
Не шла ли речь в ходе заседания этого совета об уточнении мандата, оптимизации институтов развития?
Анатолий Чубайс: Шла. Речь шла конкретно об одном институте развития — о «Сколково», в котором мы находимся. Там есть такая давняя тема, специалисты ее знают — экстерриториальный «Сколково». Одни говорят, что, как сейчас предусмотрено, все сколковские стартапы должны в какой-то день переехать в «Сколково», а другие отвечают: нет, давайте мы по всей стране дадим тот же режим для всех, включая льготы, и нечего им переезжать. Мне показалось, что сегодня как раз в ходе обсуждения этого вопроса был какой-то здравый компромисс предложен Вексельбергом и поддержан Медведевым. Как я понял на слух, идея в том, чтобы «Сколково» получило права типа франшизы, то есть оно могло бы давать регионам, у которых есть для этого предпосылки права, аналогичные правам «Сколково», и тогда они получают эти преимущества. Но это не одно решение на всю страну, а индивидуальное решение региональное, возможно, даже кластерное, на которое «Сколково» запросило сегодня права.
Но все равно компании, которые будут получать сколковский режим, должны территориально находиться в определенной зоне, не по статусу, а по нахождению за определенным забором.
Анатолий Чубайс: Да, но пока «Сколково» было не готово, эту дату все время передвигали, а сейчас предлагается другая концепция — не требовать от всех переезда, а предоставить центру право давать франшизу на свои полномочия в регионе.
Как мы знаем, у институтов развития до сих пор довольно много денег, потому что — хорошо это или плохо — они не все их использовали. Я говорю не про «Роснано», а про целый ряд других. Говорят, что во времена бюджетного голодания очень много желающих эти оставшиеся деньги отцепить обратно. Речь идет о деньгах, которые не были вложены до сих пор, просто находящихся на депозитах.
Анатолий Чубайс: Тут ситуация от института к институту отличается. Давайте исключим нас из анализа, чтобы я сам про себя не говорил и не нахваливал. У «Сколково», насколько мне известно, больших остатков нет, остатки большие есть у РВК («Российской венчурной корпорации»). И там действительно идет дискуссия, не передать ли часть из этих остатков в «Сколково», дав возможность направить их на развитие сколковской венчурной компоненты, нацеленной одновременно на развитие того, что называется национальной технологической инициативой. Может быть, в этом решении есть смысл, но как-то радикально это картину не меняет, а в то же время каких-то больших атак извне инновационной системы на остатки внутри нее я не вижу.
У «Роснано», насколько мы с вами регулярно общаемся, и вы рассказываете о ходе дел, картина как раз другая. Вы в свое время все вложили, частично возвращаете деньги, частично вам добавляли несколько лет назад, в прошлом году дали кредитные гарантии. Вы на какой стадии: берете кредиты, чтобы продолжать развивать начатые проекты?
Анатолий Чубайс: Стадия простая: на старте был гигантский бюджетный взнос в 130 млрд рублей, но прошло девять лет, и мы построили 73 завода и выходим из этих бизнесов, последовательно продавая свою долю в каждом из них.
Эти 130 млрд вы все вложили?
Анатолий Чубайс: Практически, да. Там чуть более сложная ситуация, потому что часть из них ушла на некоммерческую компоненту — строительство экосистемы и инфраструктуры, но упрощая картину — да. Дальше, проинвестировав эти средства, мы их сейчас получаем назад в достойном объеме, достойном настолько, что мы сняли вопрос о новых ассигнованиях бюджета.
И те 80 млрд — год назад шла речь о бюджетных гарантиях под кредиты — использовали вы их или нет?
Анатолий Чубайс: Вот это очень важно. Повторю еще раз, мы не запрашиваем и не имеем ассигнований из бюджета. Единственная форма поддержки, которая у нас есть, это госгарантии. Но это означает, что с этими гарантиями мы идем на коммерческий рынок, под коммерческие ставки получаем кредиты на длительный срок — семь-восемь лет, эти кредиты используем для инвестиций в капитал. Это довольно необычная модель, но мы ее освоили и считаем, что способны продвигаться дальше. Конечно, у нас есть ежегодные госгарантии, каждый год мы свою часть из них собираем. По будущему году у нас госгарантии в размере 21 млрд, а следующий год — 12 млрд, они немного сокращаются.
По убывающей. Но за прошлый год была большая сумма.
Анатолий Чубайс: За прошлый год было 35 млрд.
Вы выбрали их или нет?
Анатолий Чубайс: Вот сейчас выбираем в конце года, ровно это мы и делаем, и их будем инвестировать во вновь создаваемые фонды.
Почему РВК не нашло, куда вложить деньги, и у них деньги оставались на банковских счетах в течение многих лет? А вы еще и берете кредиты, хотя у нас сейчас немногие могут похвастаться, что им есть на что их использовать.
Анатолий Чубайс: Мне кажется очень правильным, что мы, один раз получив от государства деньги и получив их возврат, создаем систему, при которой их можно реинвестировать неограниченное количество раз: каждый цикл — семь-девять лет. В результате первого цикла построены 73 завода, наноиндустрия в России есть, она состоялась. Дальше каждый цикл будет приносить новые и новые заводы.
Если о цифрах, вы смогли бы назвать, сколько людей работает на этих заводах?
Анатолий Чубайс: Да, мы недавно уточнили цифры. Мы на этих заводах создали более 30 тысяч рабочих мест, это 30 тысяч человек, работающих в наноиндустрии России.
Могли бы вы озвучить последние цифры, связанные с выручкой этих предприятий и экспортной выручкой, если они у вас сейчас есть?
Анатолий Чубайс: У меня пока только статистика официальная за 2015 год: 341 млрд — это объем общий произведенной нанотехнологической продукции; не помню точную цифру экспорта, но она составляет где-то около 100 млрд в части предприятий, принадлежащих нам.
100 млрд — эту цифру вы уже несколько лет называете, она сейчас особо не растет, так мне кажется?
Анатолий Чубайс: Там рост есть, но, возможно, он замедлился в прошлом году. Я еще раз повторю, я не готов сейчас вам ответственно назвать точную цифру экспорта, хотя в наших отчетах она указывалась.
Ухудшилось ли сотрудничество с важными для вас западными партнерами за последние годы? Изменилось ли оно критически в каких-то сферах, остановились ли какие-то проекты? Ведь это связано в том числе с трансфером технологий, а зачастую и с кредитованием в тех же краях. Понятно, что там все застыло вследствие принятых санкций.
Анатолий Чубайс: Действительно, для нас санкции финансовые и технологические — это серьезная вещь, очень глубоко повлиявшая на бизнес «Роснано». Вместе с тем, как мы уже говорили, к счастью, у нас нет ни одного проекта, который бы разрушился из-за санкций. Что у нас есть из наиболее крупных изменений в результате санкций? Фактически мы полностью прекратили фандрайзинг, то есть поиск инвесторов в Европе и в Америке. Это сейчас безнадежно, мы этим просто не занимаемся. Но в наших новых фондах появились китайские партнеры, уже по факту они есть. Думаю, что до конца года мы объявим еще и новые цифры по новым китайским партнерам. Мы разворачиваем сотрудничество с японскими партнерами, сотрудничество с Малайзией, Сингапуром, Южной Кореей и понимаем, что в нашей стратегии, просто не изменяя ее, нужно заменить фандрайзинг западный на фандрайзинг в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Это удается сделать в тех же объемах?
Анатолий Чубайс: Да.
Расскажите нам, потому что наноотрасль непрерывно шагает куда-то дальше. Что можете сказать о новой продуктовой линейке — свежей, перспективной?
Анатолий Чубайс: Ну, во-первых, мы считаем, что уже в существующей продуктовой линейке есть важнейшие вещи, прежде всего, центры ядерной медицины, которые сегодня работают в Тамбове, Липецке, Башкирии, Екатеринбурге, в ряде других городов страны. Несколько десятков тысяч людей через них прошло, и не просто получили сверхраннюю диагностику, это реально спасенные жизни людей. И мы будем продолжать это делать, будем строить новые центры в Калуге, надеюсь, во Владивостоке и так далее. Из новых направлений, наиболее бурно обсуждаемых сейчас, и для нас в новых фондах, которые мы создали, новые направления — это темы, которыми мы занимаемся, на что мы смотрим более внимательно? Назову три-четыре сферы, которые для нас важны. Во-первых, очень интересна сфера робототехники, которая просто вышла на какой-то качественно новый уровень, и, очевидно, много чего может принести.
Мы эмпирически тоже видим, что у нас много интересных стартапов, причем коммерчески успешных, которые делают как раз разного рода роботы. Это наша национальная ниша, где мы себя нашли?
Анатолий Чубайс: Может быть, посмотрим. Пока я не вижу массовых производств, даже некоторые лидеры в этой сфере, как Boston Dynamics, в сложном финансовом положении, но сфера интересная, и заделы, как мне кажется, российские есть, на них следует посмотреть. Мне кажется очень важным создание в России отраслей, которые, может быть, не так для конечного покупателя видимы, но для индустрии в целом важны. Например, оптоэлектроника, ее реально в стране не существовало. На сегодня мы построили в Саранске завод по производству оптоволокна, в России просто ноль по оптоволокну, исключая специальные виды оптоволокна. Сегодня саранский завод начал производство, и, конечно же, российский рынок будет ему очень кстати, а это чистое импортозамещение. В оптоэлектронике мы развиваем приборопреобразующие электронные сигналы в оптический и приоборорасщепляющий оптический сигнал, в том числе в Москве построили завод уникальный — «Неофотоникс», это очень перспективная, очень интересная вещь, так же, как лазеростроение — компания IPG Photonics во Фрязино построена с нашим участием. Вся сфера оптоэлектроники мне кажется очень важной и перспективной, и Россия здесь имеет большой потенциал. Фармацевтика Life Science — мы традиционно туда инвестировали и будем инвестировать дальше. Честно говоря, инвестировали изначально в основном из социальных соображений, но оказалось, что этот портфель достаточно доходный. В целом, мы движемся в этой сфере хорошо. Недавно мы объявили, что привезли в Россию компанию номер один в этой сфере Pfizer, с которой подписано соглашение о совместном строительстве в Калужской области нового завода «НоваМедика». Причем этот завод будет производить не только продукты, трансфер технологий из Pfizer, но и разработанные в России продукты. Здесь, на выставке, мы представили центр компании «НоваМедика», который уже пять новых продуктов сделал, они находятся на клинических испытаниях. Очень интересные технологии в медицине, связанные с новым уровнем развития генетики, с расшифровкой гена и на этом основании индивидуализацией лечения для конкретного человека и по дозировкам, и по конкретным фармацевтическим средствам. Очень интересные перспективы в медицине связаны с дистанционной диагностикой, которая бурно развивается — удаленная диагностика. Вот в эти все сферы мы смотрим с особым вниманием, хотя никуда не уходим от традиционных сфер. Мы по-прежнему считаем, что самые ортодоксальные, самые традиционные сферы — металлургия, химия, нефтехимия, машиностроение — несут в себе колоссальный потенциал для обновления, и мы точно будем туда инвестировать.
Илья Копелевич

«Украина — это не проблема Москвы»
Итальянский парламентарий выступил за отмену санкций против России
Юлия Калачихина (Ялта)
Почему Венеция признает Крым российским и с чем связаны последние жесткие заявления Рима в адрес Москвы по Сирии, в интервью «Газете.Ru» рассказал председатель регионального парламента Венето Итальянской Республики Роберто Чамбетти.
В Крыму сегодня завершается четырехдневный визит итальянской делегации, в которую вошли представители бизнеса и депутаты из Венето, Ломбардии, Лигурии, Эмилии-Романьи и Тосканы. В этом году парламенты этих регионов приняли резолюции, призывающие признать Крым и отменить санкции в отношении России. Один из делегатов — Роберто Чамбетти, председатель регионального парламента Венето и член партии «Лига Севера» (выступает за независимость северных провинций), рассказал о пользе референдумов и о том, чем итальянских бизнесменов привлекает Крым.
— В отличие от вашего коллеги Стефано Вальдегамбери, который говорит, что поездка итальянских парламентариев — это протест против санкционной политики ЕС, вы постоянно отмечаете мирный характер поездки. Вы думаете, «голубиный» настрой — более действенный способ переломить ситуацию?
— В таких ситуациях мирная дипломатия и восстановление диалога — единственный выход.
Европа управляется трусливыми дипломатами, которые слепы и глухи по отношению к простым людям, но, хотим мы этого или нет, именно с ними и приходится работать.
МИД Италии просил нас не приезжать в Крым, но наше желание рассказать, что ограничения против России никуда не ведут, все-таки привело нас сюда.
— Перед поездкой в Крым вы написали в фейсбуке, что настало время наводить мосты. С похожим тезисом выступил ваш оппонент и премьер Маттео Ренци на июньском форуме в Санкт-Петербурге. Правда, тогда речь шла в том числе о конкретном мосте в Петербурге, в возведении которого приняла участие итальянская Astaldi. В делегации есть представители в том числе строительных компаний. По-вашему, разве может все-таки идти речь о серьезном совместном бизнесе на полуострове, пока сохраняются санкции?
— Мирная риторика Ренци тогда объяснялась исключительно внутренней политикой: ему нужно было привлечь голоса тех же сицилийцев. Санкции создают серьезные препятствия, но во время такой поездки мы можем попытаться создать отношения, которые помогут обойти санкции или дадут им развиться, когда санкции будут отменены.
Нам интересны такие сферы, как металлургия, машиностроение, строительство. Перспективна винодельческая отрасль, при этом речь может идти об обмене технологиями переработки винограда, прямых поставках вина.
Авиабилет и российская виза Роберто Чамбетти Roberto Ciambetti/Facebook
Авиабилет и российская виза Роберто Чамбетти
— Незадолго до форума региональный парламент Венето стал первым в Европе, который принял прокрымскую резолюцию. С чем связано ваше пионерство? Какое вообще Венеции дело до Крыма?
— В 2014 году мы увидели, что у этой территории пытаются отнять демократические права. Я считаю, что крымские власти поступили правильно, когда, увидев бессилие Киева, обратились за советом к народу. И на референдуме у простых жителей спросили, какое будущее они для себя хотят.
Резолюция была направлена против санкций, в результате которых Венеция уже потеряла €90 млн, и на признание результатов крымского референдума. У нас много региональных представителей, у которых довольно крепкие связи с Россией. Поэтому мы поддержали право жителей Крыма на самоопределение.
— Впоследствии схожую антисанкционную резолюцию приняли еще несколько регионов, но на общегосударственном уровне проект об отмене санкций против России был отклонен. Продолжится ли процесс распространения аналогичных резолюций среди регионов и есть ли вообще в них какой-то практический смысл, помимо символического?
— Уже шесть регионов приняли подобную резолюцию. Мы надеемся, что наша точка зрения будет учитываться и в конце концов приведет к изменению политики правительства Ренци.
— Как вы для себя интерпретируете опыт Крыма? В 2014 году в Венеции проходило онлайн-голосование по вопросу о выходе области из состава Италии. В 2017-м состоится референдум о признании Венето автономией. Почему не независимости? Амбиций поубавилось?
— К сожалению, еще раньше, в 2013 году, законопроект о проведении референдума о выходе области из состава Италии заблокировал Верховный суд, признав инициативу не соответствующей конституции страны. Поэтому в 2014 году мы провели онлайн-голосование, а в 2017 году должен состояться референдум по вопросу о статусе автономии. Но раньше конституция не позволяла нам даже ставить вопрос об автономии. Так что это тоже прогресс.
— В чем вы видите выход из политического кризиса? Во Франции, к примеру, где сенат одобрил пророссийскую резолюцию, предлагалось постепенное снятие санкций. Немецкий европарламентарий Маркус Претцель на втором Ялтинском форуме предлагал оставить политику в стороне и продолжить вести бизнес как обычно.
— Я выступаю за немедленное снятие санкций, так как они совершенно непродуктивны. Это способ действия XVIII века, а мы вроде в XXI живем.
С Украиной уже всем в Европе все понятно. Это не проблема Москвы. Это [президент Украины Петр] Порошенко не может добиться работы от своего парламента.
— Еще летом казалось, что Россия и Европа близки к выходу из политического тупика. Поговаривали, что с 2017 года Евросоюз начнет постепенную отмену санкций. Но теперь снятие с России санкций увязывают уже не с украинским, а с сирийским вопросом. При этом санкции могут быть даже усилены. Как может разрешиться эта ситуация?
— За два года мы поняли, что санкции не способствуют решению каких бы то ни было вопросов. Украинская проблема осталась, как и сирийская. Отмените санкции, а дальше решайте уже дипломатические, политические и военные вопросы отдельно. Нельзя вводить санкции при возникновении любой новой проблемы. Лучше развивать взаимовыгодные отношения. И чем отправлять солдат для борьбы с Россией, лучше сражаться с общим врагом — международным терроризмом. Поэтому я смотрю в будущее с большим оптимизмом. Я думаю, что приезд подобных делегаций, как наша, может служить укреплению отношений гораздо лучше, чем отправка военных контингентов.
Роберто Чамбетти на винзаводе «Массандра» в Ялте Roberto Ciambetti/Facebook
Роберто Чамбетти на винзаводе «Массандра» в Ялте
— За ужесточение санкций выступили представители Германии и Великобритании. С чем связана довольно неожиданная критика итальянского МИДа в адрес Москвы?
— Это абсолютно ненормальная ситуация. Будучи в Санкт-Петербурге, Ренци говорил обратное, что он является сторонником диалога с Москвой. А когда через несколько месяцев ключевой спикер его правительства Паоло Джентилони заявляет, что «если Россия продолжит поддерживать действия Асада, она вновь окажется в изоляции», это никак не может быть позитивным сигналом.
— Сейчас эффект от санкций для России и Италии оценивается в €4 млрд. У Рима есть финансовые возможности продолжать конфронтацию?
— Нет. При этом, когда мы говорим о €4 млрд, речь идет не только о прямых последствиях, таких как падение товарооборота между Россией и Италией. А ведь из-за эмбарго цены на итальянские продукты упали.
Сейчас в стране банковский кризис, при этом нашу программу помощи неплатежеспособным банкам без реструктуризации пытается блокировать Берлин. Кроме того, из-за Brexit на финансирование единой Европы теперь придется тратить больше.
— В декабре Италию ждет конституционный референдум. Какие его возможные последствия?
— Это очень опасный референдум. Римское правительство хочет отнять полномочия и ресурсы у областей и провинций.
Именно это происходило на Украине, когда Киев лишил регионы права представлять интересы их граждан.
А когда демократия сжимается, это всегда несет угрозу. Самое характерное, что спонсоры этих конституционных изменений находятся за пределами страны. Это банки, корпорации, которые не платят налоги в Италии.
— Вас связывают с Лукой Дзайей, который ранее работал в команде Сильвио Берлускони и занимает явно пророссийскую позицию. Каковы его шансы стать следующим премьером Италии?
— Я бы хотел, чтобы он остался губернатором Венецианской области (Венето). У него очень хорошие ресурсы для лоббирования наших интересов.
— Разве на премьерском уровне ресурсов для этого у него не станет больше? К тому же его продвижение сделало бы вас вероятным кандидатом на пост губернатора.
— Я бы не хотел это комментировать.

«Шёлковая» стратегия
Китай разворачивается на Запад
Юрий Тавровский
Выдвинув 3 года назад инициативу под названием Новый Шёлковый путь, Китайская Народная Республика опирается на собственный опыт возрождения отсталых западных провинций и предлагает соседям по Евразии программу совместного процветания.
Китай всей своей мощью разворачивается на Запад. Такое впечатление сложилось у меня за последние 10 месяцев после поездок по важнейшим районам на Новом Шёлковом пути — провинциям Хэнань и Цзянсу, Ганьсу и Шэньси, Нинся-Хуэйскому и Синьцзян-Уйгурскому автономным районам.
Для китайцев "Запад" — не то же самое, что для нас: традиционно враждебное пространство, насылающее одну волну завоевателей за другой. Для китайцев Запад — это мечта и романтика, новые просторы и новые богатства. "Западным краем" в древности называли неведомые земли нынешней Центральной Азии, Персии, Индии. На Западе царила хозяйка Рая богиня Сиванму, росли персики бессмертия и водились стремительные "летающие кони". Туда обращали свои взоры властители древнекитайских царств, посылавшие гонцов в поисках продлевающих жизнь снадобий и, что ещё важнее, союзников. Именно так был открыт путь в эллинистические царства Ферганской долины, Афганистан и Индию. Посланный на Запад ханьским императором У-ди (156-87 до н.э.) дипломат и разведчик Чжан Цянь после полутора десятилетий плена, побегов и скитаний по пустыням вернулся со сведениями, позволившими вскоре начать караванную торговлю с соседями. Кстати, тогдашняя столица Чанъань, нынешний Сиань, была расположена гораздо западнее столицы нынешней, что стимулировало участие китайцев в делах народов Запада, а их — в делах китайских.
Предшествовавшая Хань династия Цинь (221-207 до н.э.) вообще была создана самым западным из враждовавших между собой семи древнекитайских царств. Его правитель Цинь Шихуан-ди повелевал полукочевыми племенами, которые превосходили в воинских умениях оседлых жителей Центральной равнины, и впервые объединил Поднебесную.
Великая династия Тан (618-907 н.э.), при которой расцвёл Шёлковый путь, была примером не только взаимопроникновения товаров и предметов культуры, но также смешения кровей. Окитаивание тюрков приняло такие же масштабы, как обрусение татарской знати со времён Золотой Орды. В свою очередь, императорский двор Тан, его аристократы и воинство долго не признавались в других царствах Поднебесной китайцами, а именовались "племя табгачи". Симбиоз китайских и тюркских народов не только создал "гремучую смесь" пассионарности и ускорил развитие новой нации, но и помог державе Тан сильно расшириться на Запад.
Активность на западном направлении была характерна как для большинства китайских династий, так и для соседних народов, не раз покорявших Поднебесную. Завоевав Китай и двигаясь по Шёлковому пути, монгольские орды династии Юань (1279-1368 н.э.) покорили полмира, дошли до Карпат и Чёрного моря. Спустя три века насчитывавшие всего 500 тысяч человек племена маньчжур сначала победили правившую Китаем династию Мин (1368-1644 н.э.), а затем расширили пределы своей династии Цин (1644-1911 н.э.) на Синьцзян, Монголию, Тибет. После свержения власти Цин в Китае начался период смуты и войн, западные окраины попадали под контроль разных военных группировок, но оставались частью Поднебесной.
Ситуация в западных областях начала меняться к лучшему после провозглашения в 1949 году КНР. Советская помощь в создании новых отраслей промышленности, неизвестных ранее областей науки и техники преображала Китай, особенно западные провинции. Но период стабильности и развития продолжался недолго, и с началом "великого скачка" в 1958 году китайский Запад разделил участь всей страны. Только после 1978 года Китай вернулся на траекторию развития. Однако локомотивом прогресса стали приморские провинции на Востоке, где были созданы специальные экономические зоны, куда потекли капиталы и технологии сначала "заморских китайцев" из Гонконга, Тайваня и других районов "Большого Китая", а затем Японии, США, государств Европы.
Тень отсталости и бедности накрыла китайский Запад, в состав которого сейчас включают провинции Ганьсу, Гуйчжоу, Цинхай, Шэньси, Сычуань, Юньнань, а также город центрального подчинения Чунцин и пять автономных национальных районов (Нинся-Хуэйский, Синьцзян-Уйгурский, Гуанси-Чжуанский, Внутренняя Монголия и Тибет). На эти районы приходится свыше 70% территории КНР, но менее 30% населения и всего около 15% ВВП. Диспропорция в развитии восточных и западных провинций стала не просто очевидной, но и опасной.
В 1999 году в Пекине приняли стратегическую программу "Великое открытие и развитие западных районов". Конечно, и до этого решения на китайском Западе кое-что открывали, кое-что развивали. Достаточно вспомнить о железной дороге между Ганьсу и Синьцзяном, о первой в мире высокогорной скоростной Цинхай-Тибетской железной дороге. Космодромы Цзюцюань в провинции Ганьсу и Сичан в провинции Сычуань. Центры ядерных исследований в Ганьсу и Цинхае. Нефтяные прииски Юймэнь и предприятия цветной металлургии в Цзяюйгуань в той же Ганьсу. Нетрудно заместить, что эти, да и большинство других новостроек имели военное, стратегическое значение и несильно поднимали уровень благосостояния. Вот почему принятая в 1999 году программа считается точкой отсчёта новой комплексной политики одновременного наращивания производственного потенциала и улучшения жизни людей, которую можно назвать "Разворот на Запад".
Дан приказ им всем — на Запад!
Для начала, как водится в КНР, была создана специальная рабочая группа во главе с премьер-министром Чжу Жунцзи. Группа подключила учёных и местные власти, разработала обширный многолетний план. Акцент в нём делался на развитие путей сообщения и телекоммуникаций, энергетику, борьбу с загрязнением окружающей среды. Только за одну 10-ю пятилетку, к 2006 году, на развитие инфраструктуры было потрачено более 1 триллиона юаней (около 120 млрд. долл.). Стимулирование сразу принесло плоды — западные регионы на протяжении последующих лет показывали средний рост ВВП на уровне свыше 10%.
Ещё одним толчком стал мировой финансовый кризис 2008-2009 годов. Китайское руководство решило бороться с ним за счёт резкого увеличения вливаний средств в инфраструктурное и жилищное строительство. Именно тогда по всей стране началось создание сети скоростных железных и шоссейных дорог. Современные терминалы аэропортов и вокзалов, университетские городки и школьные комплексы, административные здания и музеи, идеальные шоссе между большими и малыми городами преобразили западные провинции.
Посетив недавно провинции Шэньси и Ганьсу после десятилетнего отсутствия, я просто не узнал старые места. Практически в любом городе и городке появились кварталы новостроек, сгруппированные в "район развития", к которым от старой застройки ведут отменного качества широкие дороги. Отстроенная за счёт государства инфраструктура быстро обросла объектами частных инвесторов: многоэтажные жилые комплексы, торговые центры. Удобные транспортные магистрали привлекли новые предприятия, как китайские, так и иностранные.
Существенную роль сыграли дополнительные льготы для заморских инвесторов в западные районы: на 15% снизили налог на прибыль, позволили вкладывать капиталы в энергетику, сельское хозяйство, сферу услуг, телекоммуникации, создавать филиалы инженерно-проектных компаний, адвокатских контор, страховых компаний. Стоит упомянуть и про льготы, предоставленные местными властями. Это освобождение от налога на прибыль, на импорт материалов и оборудования на 2-5 лет, сокращение вдвое регистрационного сбора и сбора за аренду земли, разработку природных ресурсов. Синергия правительственных мер стимулирования и местных льгот позволила добиться зримых успехов в то самое время, когда во всём мире только и говорили про финансовый кризис, про рецессию и стагнацию. Но самое интересное было ещё впереди…
Разворот на Запад идёт по Шёлковому пути
Осенью 2013 года китайский руководитель Си Цзиньпин выдвинул инициативу создания "Экономического пояса Шёлкового пути", подразумевающую ускоренное совместное развитие Китая и стран, расположенных в ареале знаменитого торгового маршрута. Эта инициатива, вскоре дополненная ещё одной под названием "Морской Шёлковый путь XXI века", оказалась настолько неожиданной и масштабной, что поначалу вызвала непонимание и даже недоверие в странах Евразии, в том числе и России. Прошло немного времени, и недоверчивые взгляды стали меняться на восхищённые. Предсказавший как-то "конец истории" американский философ японского происхождения Фрэнсис Фукуяма назвал двойную инициативу, получившую общее сокращённое название "Один пояс и один путь" (ОПОП), не иначе как "крупнейшей стратегией XXI века". В своей статье для "Проджект Синдикейт" он написал: "Если проект ОПОП оправдает ожидания китайских плановиков, то вся Евразия — от Индонезии до Польши — преобразится в течение жизни одного поколения. Китайская модель будет процветать вне Китая, повышая доходы, а значит, и спрос на китайскую продукцию на новых рынках, которые заменят стагнирующие рынки в других частях света".
Действительно, предложив соседям по Евразии эскиз колоссального плана совместных инфраструктурных и промышленных проектов, Китай исходит из понятного стремления увеличить сбыт своей продукции за счёт создания новых и расширения существующих рынков. Китай уже осуществляет строительство дорог, туннелей и плотин, технопарков и зон свободной торговли в странах Центральной Азии, в Пакистане, Индонезии и на Цейлоне, в Греции, Венгрии, Сербии и Белоруссии.
При этом Китай никого не хочет "осчастливить" насильно. Впрочем, добровольцев хватает с избытком. По состоянию на середину 2016 года соглашения о сотрудничестве с Китаем в рамках ОПОП подписали более 30 стран, создано 46 зон сотрудничества с 17 странами. В созданный недавно для финансирования программ ОПОП Азиатский банк инфраструктурных инвестиций с капиталом в 100 млрд. долл. вступили 57 стран. Ещё бы, Пекин объявил о намерении вложить 1.4 трлн. долл. в реализацию программ наземного и морского Шёлковых путей! Ещё один новый финансовый институт — Фонд Шёлковый путь с капиталом в 40 млрд. долл. — нацелен в первую очередь на Россию и страны Центральной Азии.
В нашей стране к Новому Шёлковому пути относятся неоднозначно. Ориентирующиеся на США и его европейских союзников политические силы, СМИ и наладившие коррупционные схемы с Западом деловые круги то открыто, то исподтишка критикуют китайскую инициативу. Пекин подозревают то в стремлении "колонизировать" Россию при помощи более эффективной экономики, то, наоборот, в стремлении использовать наши природные и людские ресурсы ради предотвращения неминуемого краха якобы идущей на дно китайской экономики.
Как складывается паззл под названием "Шёлковый путь"
Нынешнее состояние инициативы "Один пояс и один путь" похоже на большой "паззл", фрагменты которого только начинают собираться. При этом китайская часть "паззла" уже в значительной степени готова. В этом я убедился, совершив в течение 2016 года серию поездок по всей протяжённости Нового Шёлкового пути.
В самом начале я осмотрел огромный морской порт Ляньюньган, где сходятся наземный и морской участки Нового Шёлкового пути, откуда берут начало железнодорожный "Новый Шёлковый путь" и скоростное шоссе "Китай-Западная Европа", которое должно дойти до Санкт-Петербурга. В городе Чжэнчжоу я увидел перекрёсток уже построенных высокоскоростных железных и шоссейных дорог, которые пересекают весь Китай с Севера на Юг и с Востока на Запад. Там же мне показали фундамент "электронного Шёлкового пути" — недавно открытый логистический терминал электронной торговли для зоны Нового Шёлкового пути. Я видел, как в "сухопутном порту" поезда загружаются контейнерами, которые через Казахстан, Россию, Белоруссию и Польшу отправляются в германский Гамбург.
В Сиани, который на протяжении двух тысяч лет был столицей Поднебесной и служил отправной точкой старинного Шёлкового пути, мне показывали не только терракотовое воинство императора Цинь Шихуан-ди, но и созданные в расчёте на взаимодействие со странами Запада "Зону освоения высоких технологий" и новый логистический центр.
Провинция Ганьсу поразила темпами развития "Нового Ланьчжоу" — созданного по мировым стандартам кластера заводов, лабораторий, логистических центров неподалёку от стратегической железной дороги "Новый Шёлковый путь" и скоростного шоссе "Китай — Западная Европа". Построенный с советской помощью в 50-е годы завод тяжёлого машиностроения, переместившийся на новую площадку, дал продукцию через 20 месяцев после начала строительства. Завод лаков и красок — через 8 месяцев. Эти и другие предприятия уже выпускают товары для стран Центральной Азии и Ближнего Востока, планируют расширить экспорт в Россию, Иран, на рынки Восточной и Западной Европы. В пустыне я объехал поля с тысячами ветрогенераторов и солнечных батарей, объединённых в экспериментальную электросеть. В древнем городе Увэй я бродил по циклопическим залам нового Центра радиационной медицины с уникальными установками облучения раковых клеток тяжёлыми ионами. Прямо со стен средневековой крепости Цзяюйгуань на Шёлковом пути я отправился в цеха металлургического завода, выплавляющего специальные стали с добавками редкоземельных элементов.
В Синьцзяне, граничащем сразу с восемью государствами Евразии, мне показали Зону свободной торговли Хоргос на стыке рубежей Китая и Казахстана. Именно из Хоргоса может начаться движение по южному маршруту Нового Шёлкого пути — на Пакистан и Иран. Через другой пограничный город, Алашанькоу, через Казахстан идут поезда, проходящие по территории России. В главном городе Синьцзяна Урумчи быстро достраивают собственную СЭЗ. На улицах пятимиллионного города видно немало студентов из стран Центральной и Южной Азии.
Совершенно очевидно, что, приступая к нынешней фазе "Разворота на Запад", китайцы не собираются заниматься благотворительностью. Они "переходят реку, ощупывая ногами подводные камни". Развивая инфраструктуру Нового Шёлкового пути, они в первую очередь заботятся о скорости перемещения грузов между собственными промышленными центрами, об удобстве всё более мобильных граждан Китая — предпринимателей, рабочих, студентов, туристов. Наращивая производство высокотехнологичной и экологичной продукции, они заботятся о выравнивании уровней развития западных и восточных провинций. Предлагая сотрудничество соседям по Евразии, китайцы не только стремятся выйти на их рынки, но и готовы открыть собственные, в том числе и рынок быстро растущей электронной торговли.
Обустройство китайского Запада ещё далеко не завершено. Ещё не слились в общенациональные сети скоростные железные и шоссейные дороги, не заполнены новые технопарки и зоны свободной торговли. Ещё не распаханы все залежные земли, не устранены бедность сельских жителей и экологические проблемы промышленных центров.
Однако достижения первых трёх лет после выдвижения инициативы "Один пояс и один путь" дают основания полагать, что китайский "Разворот на Запад" действительно становится "крупнейшей стратегией XXI века" и ещё при нашей жизни до неузнаваемости преобразит огромные пространства Евразии.

Российско-казахстанский бизнес-форум.
Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев приняли участие в работе Российско-казахстанского бизнес-форума, организованного в рамках XIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Центральная тема бизнес-форума с участием крупнейших предпринимателей России и Казахстана – углубление двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
* * *
А.Мырзахметов: Уважаемый Нурсултан Абишевич! Уважаемый Владимир Владимирович!
Разрешите от имени участников форума поприветствовать вас и поблагодарить за участие.
Хотел бы проинформировать, что сегодня на бизнес-форуме присутствует более тысячи представителей деловых кругов. В течение работы панельных сессий и основной сессии бизнес-форума подписано 50 документов на сумму свыше 3 миллиардов долларов США.
Хотел бы проинформировать, что у нас в работе имеется 60 проектов различных отраслей. Отрадно, что там не только есть вопросы энергетики и горнорудный, но есть и несырьевые сектора – это строительные материалы, пищевая [промышленность], фармацевтические проекты – на сумму почти 20 миллиардов долларов США.
С утра мы провели четыре панельные сессии – интерес большой. Мы знаем, что в этом году тема «Логистика и транспорт». Одна из сессий была посвящена этой теме. Большой интерес привлекла панельная сессия туризма. Мы с коллегами из ТПП России провели деловой совет российско-казахстанский по приграничному сотрудничеству. Также была сессия, посвящённая продвижению экспорта. Российский экспортный центр презентовал свои проекты.
В ходе работы форума, хотел бы отметить, предприниматели поднимали не только традиционные проблемы и барьеры. Они меньше всего звучали. Сегодня было отрадно видеть, что звучали вопросы возможностей, которые открывают наши интеграционные процессы. Мы сегодня говорили о нишах, о тех возможностях, которые даёт сопряжение программ Шёлкового пути и ЕАЭС. Сегодня многие выступающие показали чёткий пример кооперационных связей, и это было лейтмотивом нашего форума.
В целом все выступающие проявляют большой интерес к этим проектам. И хотел бы сказать, что мы по заданию Правительства подготовили – сегодня я рассказал своим коллегам-россиянам – региональную карту развития предпринимательства, это онлайн-ресурс, в котором уже более 300 проектов, эти проекты все для малого и среднего бизнеса, сто из них уже прошли отбор, и по тридцати есть интерес. Мы готовы в таком электронном формате тоже работать, мы знаем, что такая задача вами ставилась.
Мы смотрим также возможности сопряжения и с площадкой Alibaba, чтобы развивать электронную коммерцию, во всех направлениях работа идёт.
Сегодня в ходе обмена мнениями очень много предпринимателей, особенно российских, говорили об инвестиционном позитивном климате, они отмечали налоговый климат в Казахстане. Мы хотели бы отметить особую работу Российского экспортного центра, который активно, динамично продвигает российский импорт и экспорт. И мы считаем, что здесь у нас перспективы большие.
Я хотел бы для продолжения слово предоставить своему коллеге Александру Николаевичу Шохину, президенту Российского союза промышленников и предпринимателей.
А.Шохин: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Мне очень приятно от имени российского бизнес-сообщества, этой внушительной бизнес-делегации поблагодарить вас за участие в этом форуме. Этот форум является продолжением встречи на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума, когда Президент Назарбаев встречался с представителями российского бизнеса.
Я думаю, что такая частота встреч является залогом того, что мы, во–первых, можем фиксировать и результаты нашей совместной работы, и, во–вторых, намечать планы на будущее.
Мы сегодня обсуждали не только конкретные инвестиционные проекты на территории друг друга, прежде всего это проекты российских компаний на территории Республики Казахстан, но также мы обсуждали и те препятствия и преграды, которые мешают ещё более динамично развивать наше сотрудничество.
Очень важно нам продвигаться энергично в деле реализации Таможенного кодекса Таможенного союза, нового кодекса. И здесь большую роль играет ратифицированное обеими странами соглашение по упрощению таможенных процедур. Мы действуем не только в интересах членов ЕАЭС, но и реализуем базовое соглашение ВТО.
Безусловно, очень важно снять препятствия, связанные с транспортно-логистическими проблемами. И то, что специальная сессия была посвящена этому вопросу, позволяет надеяться на то, что многие проблемы могут быть сняты. Они касаются и транспортно-логистических проблем на территории Республики Казахстан, когда крупные проекты ещё нуждаются в таком логистическом обеспечении, ну и в не меньшей степени мяч лежит и на стороне Российской Федерации. В частности, такие коридоры, как из Западного Китая в Западную Европу, нуждаются в завершении, в частности, в строительстве российских участков этих транспортных коридоров.
Мы хотели бы, чтобы были более гармонизированы, унифицированы регуляторные механизмы, в частности, технические регламенты. К сожалению, мы вынуждены, не достигая договорённостей на наднациональном уровне, на уровне Евразийской экономической комиссии, оставлять многие вопросы в компетенции национальных правительств. Хотя думаю, что можно двигаться более энергично, не дожидаясь 2025 года, когда мы договорились выйти на унифицированные процедуры во многих вопросах.
Важно устранять препятствия, связанные с пограничными переходами, фитосанитарным, ветеринарным контролем, об этом тоже сегодня говорилось достаточно много. Но я соглашусь с моим коллегой Аблаем Исабековичем Мырзахметовым в том, что мы в большей степени обсуждали не проблемы и препятствия, а те возможности, новые ниши, в том числе ниши, связанные с инновационной высокотехнологичной продукцией, с возможностями встраивания наших проектов в глобальные цепочки добавленной стоимости и работы в на рынках третьих стран. Такие возможности есть. И соглашения, которые подписаны, это более 50 соглашений, и те, которые находятся в работе, не меньшее число, позволяют рассчитывать на то, что эта задача будет реализована.
Хотел бы ещё раз вас поблагодарить, уважаемые президенты, за участие в этом форуме. И надеемся, что в следующем году мы с вами встретимся вновь и сумеем доложить о продвижениях как по системным вопросам, так и по конкретным проектам.
Н.Назарбаев: Уважаемые участники форума!
Рад приветствовать вас в Астане.
Приятно видеть, что идея провести двусторонний экономический форум, которую мы с Владимиром Владимировичем высказали во время Санкт-Петербургского экономического форума, осуществилась наилучшим образом.
Мы, конечно, по всем направлениям близко сотрудничаем и не считали необходимым проводить такой форум. Однако спрос на него оказался очень большим.
Особая благодарность Президенту России за поддержку и активное участие.
Хочу поблагодарить правительства Российской Федерации и Казахстана, которые организовали форум, и поблагодарить представителей бизнеса Российской Федерации. Мне сказали, что около 400 представителей здесь присутствуют со всей территории России, обсуждают с нашими бизнесменами совместную работу.
Россия для Казахстана – стратегический партнёр, союзник по важнейшим вопросам политики и торгово-экономических связей.
Мы осуществляем взаимовыгодное деловое сотрудничество по самому широкому спектру. Этому, конечно, способствуют и межрегиональный форум, и наши деловые круги.
Поэтому я искренне приветствую Александра Николаевича Шохина, руководителя бизнес-сообщества. В период развала Советского Союза мы с ним пытались сохранить рублёвое пространство. Так что неправда, что по–другому работали. Серьёзно над этим работали. С тех пор мы знаем друг друга, дружим, и я рад его видеть.
Наших предпринимателей возглавляет [председатель правления Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен»] Аблай Мырзахметов. Они провели здесь хорошую работу.
Объём нашей взаимной торговли в докризисный период достигал более 20 миллиардов американских долларов. Но сейчас снизился на 30 процентов. И знаете, по какой причине? Большинство причин – внешние. Это санкции, это снижение стоимости биржевых товаров между нашими странами. Всё равно даже за первое полугодие наш товарооборот достигает почти 6 миллиардов американских долларов.
В этих условиях сейчас нам надо придать новый импульс повышению товарооборота. Все предпосылки у нас есть. По стоимости снизились, а по физическому объёму те товары, которыми мы торговали, продолжают умножаться.
Многие российские предприниматели уже делают бизнес в Казахстане, понимают его возможности и долгосрочные перспективы. У нас сейчас действует более 6 тысяч совместных предприятий вместе с бизнесменами России. Реализуются многие двусторонние инвестиционные проекты. Мог бы привести крупные примеры: такой проект, как «Автоваз», «Азия Авто» стоимостью более полумиллиарда долларов. Он предусматривает запуск в Усть-Каменогорске полного цикла производства автомобиля мощностью в 120 тысяч автомобилей. Это впервые в нашей стране. «Еврохим» ведёт строительство завода минеральных удобрений мощностью 1 миллион тонн в Южном Казахстане, в Джамбульской области. Там у нас огромные запасы руды – более 6 миллиардов тонн. Я думаю, компания будет наращивать. Стоимость проекта составляет более миллиарда долларов.
Крупнейшие проекты с участием российского капитала реализуются в нефтехимии, в горно-металлургическом комплексе, их много. Компания «Лукойл» в следующем году планирует запустить завод смазочных материалов в Алма-Атинской области мощностью 100 тысяч тонн в год. Кстати, «Лукойл» является чемпионом вложения инвестиций в Казахстан, достигающих более 10 миллиардов долларов. Объём вложений – завод смазочных материалов, который необходим и у нас, и у вас, – более 80 миллионов.
«Полиметалл» разрабатывает золоторудное месторождение Варваринское, инвестировал больше 500 миллионов долларов, сейчас эта компания начала работу разведки и добычи золота в рамках проекта «Кызыл» в Восточно-Казахстанской области. Это проект мирового уровня золотодобычи стоимостью более 300 миллионов долларов.
Подобных примеров много, и даже то, что я сказал, говорит о взаимном доверии и больших возможностях. В настоящее время у нас есть более, как мне доложили, 60 проектов на сумму 20 миллиардов долларов, в реализации которых будет оказываться с нашей стороны полная поддержка. Как видите, накоплен огромный опыт эффективного взаимного сотрудничества, в то же время есть и неиспользованный потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества.
Во–первых, мы работаем с вами в едином экономическом пространстве, из Таможенного союза создано полноценное региональное объединение – Евразийский экономический союз. Сегодня союз, инициаторами которого были Казахстан, Россия, Белоруссия, объединяет уже пять стран. Заключено соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, ведутся переговоры, то есть изъявлено желание Китайской Народной Республикой, в Южной Корее, и недавно Сингапур тоже изъявил желание открыть свободную торговлю с нашим союзом. Сотрудничество с ЕврАзЭС намерены развивать такие страны, как Индия, Египет, Иран, страны АСЕАН и другие. Это говорит о востребованности нашего Евразийского экономического союза.
Стратегическая задача – предоставить предприятиям возможность свободной конкуренции на пространстве ЕврАзЭС. Этому будет способствовать дальнейшая унификация наших законодательств.
В текущем году завершится подготовка нового Таможенного кодекса ЕврАзЭС. Он значительно упростит все таможенные процедуры между нашими странами. В торговле с третьими странами применяются меры нетарифного регулирования. Достигнута договорённость о последовательном и поэтапном создании единого транспортного пространства. Мы целенаправленно формируем общие правила игры, понятные для всех производителей и инвесторов. Вкладывая в экономику Казахстана, российский бизнес будет находиться почти в домашних для себя условиях. Мы это сделаем.
Я хочу отступить и сказать, что мы осознаём, насколько экономика России больше по объёму и технологическому опыту, чем Казахстан. Мы, Казахстан, выбираемся из определённого положения сырьевой экономики в бывшем Союзе. Тем ценнее и незабываемее будет сейчас поддержка и помощь российского бизнеса для нашей работы по индустриализации Казахстана и инфраструктурным проектам. Уверен, что это укрепит и далее наши близкие, союзнические отношения и доверительность отношений, которые всегда были и будут. Со своей стороны Казахстан всегда будет надёжным партнёром, близким человеческим связям, и соседом.
Во–вторых, взаимный интерес наших государств лежит в плоскости создания мощной транспортно-логистической инфраструктуры между Европой и Азией. Думаю, что вы эти дни это обсуждали. И Россия, и Казахстан ведут большую работу в этом направлении.
Мы на своей территории уже сформировали транспортные коридоры с востока на запад, с севера на юг. Новые маршруты, проходящие через Казахстан из Китая в Россию и Европу через Каспийское море на Кавказ, в Турцию, сокращают время доставки грузов в среднем в два раза по сравнению с традиционными морскими путями.
Появился ещё один новый маршрут из России через Казахстан, Туркменистан в Персидский залив. Это сквозная железная дорога на Ближний Восток без перевала с одного вида транспорта на другой. Время перевозки грузов из Сибири и Урала в страны Ближнего Востока сокращается на четверо суток. Таких возможностей раньше не было.
В–третьих, Казахстан активно занимается улучшением инвестиционного климата, диверсификацией своей экономики. Приток прямых иностранных инвестиций в экономику страны за последние 15 лет составил 260 миллиардов долларов. За счёт этого мы имели хороший рост.
В рейтинге Всемирного банка по лёгкости ведения бизнеса Казахстан занимает 41–е место в мире.
Мы продолжаем последовательную модернизацию экономики на основе – может быть, вам уже известно, – плана нации «Сто конкретных шагов» для выхода на уровень развитых стран ОЭСР. Вы знаете, что мы осуществляем стратегическую программу к 2050 году, к этому периоду войти в 30 развитых стран мира по стандартам ОЭСР.
Первое. Последовательно улучшается инвестиционный климат. В рамках госпрограммы индустриального инновационного развития в качестве приоритетных определены несколько секторов экономики. Это нефтепереработка, нефтегазоагрохимия, чёрная и цветная металлургия, пищевая промышленность, автопром, электротехническое машиностроение.
За шесть лет осуществления этой программы построены тысячи новейших предприятий на территории Казахстана, создано миллион рабочих мест. В приоритетных секторах инвесторы освобождены от уплаты корпоративного подоходного налога, земельного налога на 10 лет, налога на имущество на восемь лет. Гарантируется стабильность законодательства и контрактов в отношении налоговых ставок, кроме НДС и акцизов, законодательства в сфере занятости.
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан работает по принципу «одного окна» для всех иностранных инвесторов, и конечно, для российских. Оно оказывает им порядка 300 видов услуг. Введён институт инвестиционного омбудсмена. Кроме того, действует Совет иностранных инвесторов при Президенте, в состав которого входят и российские бизнесмены. Решаются любые вопросы, которые необходимы для инвесторов.
Также устранены визовые барьеры для граждан 37 государств. Со следующего года список расширен до 56 стран. Для малого и среднего бизнеса предусмотрены различные меры государственной поддержки: от субсидированной процентной ставки по кредитам до оказания сервисных услуг. Надеюсь, сегодня казахстанцы подробно об этом рассказывали.
Второе. У нас либеральный налоговый режим, существуют всего 13 налогов. По показателю налогообложения в рейтинге Всемирного банка Doing Business Казахстан занимает 18–е место среди 189 стран мира. Скажу, что Россия занимает 47–е место. Хоть в чём–то мы должны… (Смеётся.)
Кроме того, функционирует десять специальных экономических зон с конкретной отраслевой направленностью. Участникам СЭЗ предоставляются различные льготы. Количество разрешительных документов для ведения бизнеса сокращено в два раза, упрощены процедуры их получения.
И третье. Мы приступили сейчас к очередному этапу масштабной приватизации. Цель – оставить у государства не более 15 процентов экономики. В конкурентную среду передаются порядка 800 государственных предприятий на общую сумму около 10 миллиардов долларов. Продажи осуществляются разными способами: от простых аукционов до прямой адресной продажи стратегическим инвесторам. Полагаю, что российские компании примут активное участие в этом мероприятии.
Четвёртое. Нашей стратегией развития является создание двух инновационных кластеров: на базе вам известного Международного университета в Астане, парка инновационных технологий в Алматы. В них также предусмотрены различные виды государственной поддержки. Они тесно сотрудничают с соответствующими организациями, которые есть в России, в «Сколково». Казахстан заинтересован в активном развитии этих кластеров, участии в них российских компаний и стартапов.
Пятое. С 1 января 2018 года начнёт свою деятельность Международный финансовый центр Астаны. Этот центр будет занимать территорию, здание сегодняшнего «ЭКСПО–2017». Достаточную работу мы провели, приняты соответствующие законы и проведены переговоры с финансовыми центрами. Предусматривается много льгот для инвесторов: освобождение от оплаты корпоративного и индивидуального подоходных налогов, налогов на землю, имущество. Правовое регулирование будет основано на нормах английского права с привлечением английского судейского корпуса.
В финансовом центре будет действовать упрощённый визовый и трудовой режим.
Приглашаем российский бизнес принять активное участие в работе финансового центра.
Шестое. В следующем году Астана станет площадкой для проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО–2017. Энергия будущего». Мы уже говорили, я Вам рассказывал, Владимир Владимирович, многие из вас, как мне сказали, вчера и сегодня посетили территорию, строительство на стадии завершения. Уже начался процесс распределения выставочных площадей. В ней планируют принять участие множество стран, включая Россию, 18 международных организаций, ведущие мировые компании, с которыми уже достигнуты договорённости.
Приглашаем российские компании продемонстрировать мировому сообществу свои передовые технологии и разработки. Тема выставки – новая энергетика.
В завершение своего выступления хотел бы отметить, что все значимые инициативы бизнесменов всегда находят поддержку и внимание президентов Казахстана и России. Уверен, что многие обсуждаемые на форуме идеи и проекты найдут своё реальное воплощение.
Спасибо за внимание. Желаю больших успехов всем нашим гостям.
В.Путин: Уважаемый Нурсултан Абишевич! Дамы и господа!
Прежде всего хотел бы сказать, что в Астане всегда очень приятно бывать, потому что видишь, как быстро, энергично развивается столица Казахстана, как она становится краше, интереснее. Об этом свидетельствуют и условия, в которых нам сегодня удаётся работать.
Хотел бы отметить, что сегодняшняя встреча проходит по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева. И несмотря на то, что вроде бы на пространствах России, в Европе и в мире много подобных форумов, встреча российских и казахстанских партнёров, на мой взгляд, востребована и может стать хорошей, доброй традицией.
С помощью делового сообщества России и Казахстана мы и дальше будем предпринимать усилия, чтобы вернуть взаимную торговлю на траекторию устойчивого развития и роста. Будем и далее содействовать сближению экономик двух стран, созданию предпосылок для запуска новых проектов.
Важно, что в этом зале собрались главы крупнейших компаний, представители среднего, малого бизнеса, то есть все те, кто непосредственно вовлечён в проекты двустороннего сотрудничества – торгового, инвестиционного взаимодействия, и кто держит руку на пульсе экономической интеграции на евразийском пространстве в целом.
Сегодня, как известно, вы провели несколько сессий, посвящённых вопросам расширения экспорта несырьевой продукции, снижения административно-технических барьеров на пути торговли, формирования единого транспортного и логистического комплекса двух стран.
Состоялись многочисленные коммерческие переговоры, по итогам этих переговоров подписаны и подготовлены к подписанию документы – солидный пакет документов.
Для России Казахстан – это стратегический партнёр и союзник. Наше взаимодействие носит многоплановый, как говорится, и всеобъемлющий характер, поступательно развивается по всем направлениям.
На действительно высокий уровень вышли двусторонние торгово-инвестиционные связи. В Казахстане накоплено уже 9 миллиардов долларов российских капиталов, а в Россию вложено 3 миллиарда долларов из Казахстана. Совместно создано 6 тысяч предприятий, углубляется кооперация практически во всех секторах экономики. Только в прошлом году Казахстан посетили около 150 делегаций российских предпринимателей.
Реализуются двусторонние проекты в горной добыче, машиностроении, судостроении, химической промышленности, сельском хозяйстве – Нурсултан Абишевич только что об этом сказал.
Казахстан занимает второе место среди торговых партнёров России по Краткая справка Содружество Независимых Государств (СНГ) СНГ, это значит, что есть ещё и перспективы, есть куда двигаться дальше.
В 2015 году товарооборот составил 15,5 миллиарда долларов. Да, действительно – Президент Казахстана сейчас отметил – объёмы взаимной торговли, к сожалению, снизились. Спад вызван в основном конъюнктурными факторами, прежде всего сохраняющейся нестабильностью на глобальных рынках, колебаниями валютных курсов, а также высокой волатильностью цен на сырьё. Это известные объективные факторы.
Но даже в столь непростых условиях с помощью делового сообщества обеих стран мы и дальше будем предпринимать усилия, чтобы вернуть взаимную торговлю на траекторию устойчивого развития и роста. Будем и далее содействовать сближению экономик двух стран, созданию предпосылок для запуска новых проектов.
Россия и Казахстан уже многого добились в вопросах либерализации взаимной торговли. Вместе с другими партнёрами по Евразийскому экономическому союзу последовательно устраняем ограничения, препятствующие движению товаров, услуг, капиталов, рабочей силы.
Россия и Казахстан уже многого добились в вопросах либерализации взаимной торговли. Вместе с другими партнёрами по Евразийскому экономическому союзу последовательно устраняем ограничения, препятствующие движению товаров, услуг, капиталов, рабочей силы, но вместе с тем их ещё много.
Я сейчас рассказывал Нурсултану Абишевичу: вчера встречался с представителями российского бизнеса в Оренбурге, губернатор здесь тоже присутствует. Есть, казалось бы, вещи, которые мы считали давно устранёнными – это чисто инфраструктурные вещи, связанные с передвижением этих самых товаров, услуг и капиталов, элементарные вещи, связанные с переходом границы. Казалось бы, у нас и границ–то нет. Нет – а всё–таки она существует, и ограничения там существуют, в том числе инфраструктурные ограничения.
Нурсултан Абишевич знает, мы сегодня тоже говорили, когда в узком составе встречались: со стороны Казахстана построили дорогу, с нашей стороны, к сожалению, пока нет. И пункты пропуска ещё являются достаточно узким горлышком, для того чтобы работать так, как мы могли бы работать в полную силу. Всё это и предстоит нам не только обсуждать, но и решать совместно.
Мы реализуем программы промышленной и технологической кооперации. В России развёрнут процесс гармонизации отраслевого законодательства. Упрощаем административные процедуры, создаём общий рынок с Казахстаном в области автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского сообщения.
Имеем в виду оказывать весомую финансовую поддержку совместным российско-казахстанским бизнес-инициативам. Причём не только через национальные структуры, такие как Внешэкономбанк России и Российский фонд развития промышленности, но и через многосторонние институты, в частности через Евразийский банк развития.
Нурсултан Абишевич говорил о том, что делается в Казахстане. Я бы хотел два слова сказать о том, что делаем мы в России.
В России продолжается работа по улучшению делового климата, так же как и здесь, в Казахстане. Мы также стараемся привлечь иностранные инвестиции, обеспечить комфортные условия зарубежным, в том числе и казахстанским, компаниям, последовательно снижаем административную и налоговую нагрузку. С 2016 года введены надзорные каникулы, действует четырёхлетний, до 2018 года, мораторий на повышение налогов.
Реализуем комплекс мер по модернизации промышленности и сельского хозяйства, локализации производств и импортозамещению. И здесь у Казахстана очень хорошие возможности, и надо сказать, что Казахстан пользуется этими возможностями, и объём тех товаров, которые могли бы в бо?льшем количестве поступать на наш рынок, действительно увеличивается.
Российская сторона настроена и далее тесным образом взаимодействовать с Казахстаном. Уверен, работая вместе, сообща, ориентируясь на устойчивое развитие национальных экономик двух стран и повышение уровня жизни наших граждан, мы добьёмся успехов.
Мы реализуем комплекс мер по модернизации промышленности, как я уже сказал. Целенаправленная работа ведётся по содействию экспорту. Создан Российский экспортный центр, оказывающий помощь в продвижении конкурентной продукции на внешние рынки. Ожидается, что в 2016 году поддержка будет оказана 200 компаниям, объём зарезервированных средств – до восьми миллиардов долларов. Запущен рейтинг делового климата в субъектах Российской Федерации, который помогает инвесторам выбрать наиболее привлекательные регионы для вложения капиталов.
По линии российской корпорации по развитию малого и среднего бизнеса стартовал бесплатный электронный сервис – бизнес-навигатор так называемый. Он содержит информацию о том, где в России есть хорошие возможности для открытия дела, какая продукция и услуги востребованы, какую финансовую, имущественную поддержку может получить предприниматель, начинающий своё дело.
Новые перспективы для совместных проектов, запущенные в стране, открывают возможности и для запуска программ опережающего развития, в том числе в регионе, близком к Казахстану, имею в виду Урал. С сентября этого года эти программы запускаются. Этот приграничный с Казахстаном регион имеет давние традиции тесного сотрудничества в двустороннем формате, и казахстанский бизнес мог бы одним из первых среди иностранных инвесторов воспользоваться преимуществами этой специальной экономической зоны.
И в заключение хотел бы ещё раз подчеркнуть: российская сторона настроена и далее тесным образом взаимодействовать с Казахстаном и с казахстанскими друзьями, партнёрами. Уверен, работая вместе, сообща, ориентируясь на устойчивое развитие национальных экономик двух стран и повышение уровня жизни наших граждан, мы, безусловно, добьёмся успехов.
Большое вам спасибо за внимание.
А.Мырзахметов: Уважаемый Нурсултан Абишевич! Уважаемый Владимир Владимирович!
Ещё раз разрешите от имени участников форума поблагодарить за участие и выступления. В ваших выступлениях прозвучали новые задачи, цели, над которыми будет работать бизнес вместе с государственными органами по вопросам барьеров. Уверен, что сегодняшний форум и ваше участие дадут новый импульс увеличению наших торгово-экономических отношений, увеличению наших инвестиционных возможностей.
На этом ещё раз хотел бы всех поблагодарить, поблагодарить глав государств. Наш форум завершил работу. Большое спасибо.
До новых встреч!

XV Международный инвестиционный форум «Сочи-2016».
Основная тема форума – новое качество государственного управления: проекты для роста, проекты для жизни.
Пленарное заседание форума.
Из стенограммы:
Д.Медведев: Хочу вас поприветствовать в Сочи на нашем международном, в то же время региональном инвестиционном форуме. Мы здесь встречаемся практически каждый год, чтобы поговорить о развитии нашей страны, в том числе в региональном разрезе, поговорить о проблемах, которые существуют, вместе искать ответы на те вызовы, которые стоят перед Россией, заглянуть в будущее, сформулировать новые цели и новые задачи.
Хочу поблагодарить всех участников, всех организаторов, которые своими идеями и предложениями каждый год повышают интерес к нашим дискуссиям, поддерживая их высокий интеллектуальный уровень.
Не могу не вспомнить о совсем недавних политических событиях. Форум наш в этом году особенный, потому что он проходит сразу после выборов. Россия голосовала за Государственную Думу, за законодательные собрания в регионах, губернаторов, мэров, за местные органы власти.
Это почти 40 тыс. мандатов, которые во время избирательной кампании были предметом политической конкуренции между различными политическими силами.
Люди, вне всякого сомнения, выбирали, как они хотели бы жить дальше, кому доверить страну на ближайшие годы. Тот результат, который мы получили, – это не только показатель политической стабильности, хотя это очень важно, не только победа для «Единой России», если говорить о той политической силе, которую я представляю, но и большие возможности, и прежде всего, конечно, огромная ответственность перед людьми, которые нам поверили, которые поддержали нас. По сути, это такой карт-бланш от миллионов наших граждан на продолжение большой и тяжёлой работы по развитию страны.
Именно так, я надеюсь, это воспринимают представители федерального Правительства, руководители регионов, руководители законодательных органов власти, которые были избраны, и, конечно, наши коллеги – депутаты новой Государственной Думы.
Накануне форума была опубликована моя статья по социально-экономическому развитию нашей страны и по обретению новой динамики развития. В ней были проанализированы и риски, и вызовы, которые стоят перед нашей страной, перед нашим обществом.
В этой статье я, в частности, отмечал, что экономика заметно политизируется. Наверное, это не очень хороший фактор, особенно когда это происходит на международном уровне. Осложняется восстановление нормальных рыночных отношений. Яркий пример этого так называемые антироссийские санкции. Но даже в таких условиях умение конвертировать политическую стабильность внутри страны в эффективное развитие национальной экономики – это прямая обязанность власти. Приняв властные полномочия, мы взяли на себя обязательства сделать всё необходимое в текущем политическом цикле для роста экономики – возобновления её роста, а главное, для улучшения жизни людей, и экономическая повестка ближайших пяти лет будет ориентирована именно на это.
Конечно, мы работали в этом направлении и раньше, но сейчас речь идёт о гораздо большем, чем просто меры стимулирования экономики или качественная социальная политика. Сегодня в России существует запрос на реальное изменение экономической и социальной среды, а задача власти – на всё это ответить и ответить по возможности быстро и результативно. Всё это требует от нас совершенно иного подхода, как принято теперь говорить, проектного подхода, который прежде всего ориентирован на эффективность. Каждый рубль бюджета любого уровня, который вкладывается в конкретные проекты, должен улучшать качество услуг, товаров, инфраструктуры, а каждый нормативный акт, который мы издаём в рамках проектного подхода, те документы, которые принимают депутаты, должны давать конкретный результат.
Стратегия по созданию качественно новой среды в нашей стране будет обеспечена государственной поддержкой на всех уровнях. Но речь идёт не только о деньгах. Мы должны обеспечить чёткую реализацию всех принятых решений в каждом регионе через новый депутатский корпус, через законодательные собрания в регионах, через губернаторов, то есть исполнительную власть, через мэров городов и муниципальные власти. Надо признаться, что критика, которая раздаётся в адрес системы государственного управления за недостаточную гибкость, низкую эффективность, – абсолютно справедлива: государственная машина действительно неповоротлива и несёт в себе черты переходного периода: сохраняет и часть советских управленческих механизмов, и какие-то черты, которые появились в 1990-е годы, и наши последующие новации. Но надо прямо сказать, что её коэффициент полезного действия остаётся низким.
В такой огромной стране, как наша, с такими разными регионами, с такой многоступенчатой системой управления работа государственного аппарата должна быть на порядок более качественной.
В этом плане какой-либо верхней планки профессиональной ответственности не существует. За каждым неудачным, непродуманным или затянутым решением стоят люди, их судьбы, их жизнь, идёт ли речь об открытии нового бизнеса или просто о выдаче какой-то элементарной справки, о принятии новых законов или об элементарном разрешении на перепланировку квартиры. Очевидно и то, что низкая эффективность системы государственного управления – один из ключевых факторов, который сдерживает развитие страны.
Потому что многие хорошие инициативы и решения – экономические или социальные, вокруг которых, по сути, существует консенсус, в том числе внутриполитический консенсус, по которым не спорят представители отдельных политических партий, – мы оказываемся просто не в состоянии продвинуть из-за существующих барьеров, возведённых самим государственным аппаратом. Идеи, которые могли бы двинуть страну вперёд в самых разных областях, просто разбиваются об административные стены, а законы, которые принимаются, нередко не работают в должной мере. Именно поэтому мы сегодня, конечно, не без труда и не без проблем, но всё-таки стараемся переходить от модели управления по поручениям, к управлению по результатам, то есть к вот этому самому проектному подходу. По сути, результат этой деятельности и станет проверкой нашей способности обеспечить новое качество государственного управления. Это большая, очень сложная задача.
Конечно, мы начинаем действовать не с чистого листа. Сегодня я хотел бы сконцентрироваться не на наших успехах или упущениях, а на том, что мы собираемся делать в рамках каждого проекта. Почему это важно? Потому что, несмотря на то, что об этих проектах официально заявлено, состоялись решения Президента, Правительства, проведено уже несколько крупных мероприятий на эту тему, но всё-таки, как ясности до конца у многих – тех, кто занимается реализацией этих проектов, – нет, а ведь это деятельность на ближайшие несколько лет и на перспективу. И хотя целевые показатели в этом случае выражаются в цифрах и процентах, в реальной жизни это наши люди, которые переезжают в новые квартиры, больше не стоят в очередях в поликлиниках, или без излишних проблем и бюрократизма начинают новое дело.
У нас по тем решениям, которые мы приняли, сформировано 11 приоритетных направлений. Они затрагивают все сферы социальной и экономической жизни. Я расскажу о каждом из них подробнее – просто для того, чтобы мы понимали, чем планируют заниматься Правительство и регионы в ближайшее время.
Начну со здравоохранения. Понятно, что все мы хотим быть здоровыми до глубокой старости, чтобы как можно дольше заниматься любимым делом, просто жить полноценной жизнью. Поэтому задача государства очень сложна, она заключается в том, чтобы помочь людям сохранить здоровье, а в случае возникновения проблем – поскорее его восстановить.
Для получения медицинской помощи в любом уголке страны необходимо создать условия, чтобы это было делать и проще, и удобнее, а само лечение было быстрее и эффективнее.
Мы не в первый раз приступаем к этой задаче, но это как бы новая планка. Мы должны сделать медицину в нашей стране по-настоящему доступной. Россия – огромная страна. Есть места, куда добраться до пациента без специального транспорта невозможно, особенно в экстренных случаях. Поэтому одна из задач – сделать медицину более мобильной. Мы уже за последние несколько месяцев выделили на это средства, это только первые деньги, – около 4 млрд рублей на закупку новых автомобилей скорой помощи. Это порядка 1,8 тыс. машин.
Почему я об этом говорю? Потому что мы уже этой программой занимались. Несколько лет назад, почти 10 лет назад, парк автомобилей скорой помощи пришёл в негодность, и в нынешней экономической ситуации регионам трудно справиться одним с решением этой задачи, поэтому мы вынуждены снова из федерального центра, с федерального уровня помогать регионам решить эту проблему.
Другая тема – очереди и неразбериха в регистратурах, это не меньшее препятствие, чем огромные расстояния. Избавиться от них могут помочь информационные технологии. В результате пациент через портал государственных услуг сможет без очередей и нервотрепки записаться к врачу, получить результаты анализов и свою медицинскую карту, а врач – заполнять меньше бумаг и больше уделять времени пациентам. Число людей, которые активно пользуются личным кабинетом пациента на портале государственных услуг, должно вырасти в ближайшие годы более чем в два раза. Если по цифрам, то в 2017 году это будет около 6 млн, в 2018-м – уже около 15 млн. Это капитальные изменения в сфере медицинских услуг.
Но очевидно, что лучшую помощь оказывают и лучшие специалисты. Мы стараемся сделать всё, чтобы врачам и медсёстрам было выгодно наращивать квалификацию. Скоро будут внедрены новые профессиональные стандарты и протоколы лечения. На новый уровень мы выводим и обучение – благодаря порталу непрерывного медицинского образования. На нём в ближайшие годы будет размещено около 2 тыс. учебных модулей для повышения квалификации по всем врачебным специальностям. К 2018 году повышение квалификации с использованием этих модулей должно пройти не менее 260 тыс. врачей.
Также необходимы эффективные средства лечения, прежде всего это современные лекарства. Они должны быть доступны по цене и, естественно, безупречны по качеству. Мы собираемся отрегулировать систему государственных закупок, чтобы обеспечить здесь справедливые и обоснованные цены. Поддержим мы и разработку и производство самых эффективных лекарств, а также выстроим систему маркировки, которая не должна пропускать на прилавки контрафактные и поддельные лекарства.
Конечно, независимо от уровня медицины все мы хотели бы обращаться к врачу как можно реже. И чтобы здоровье было по-настоящему крепким, заботу о нём родители должны начинать ещё до рождения ребёнка. Поэтому мы продолжим совершенствовать и репродуктивную медицину. По уровню младенческой смертности нам нужно будет выйти на уровень развитых стран. В ближайшее время будут достроены 26 перинатальных центров. Они обеспечат самую современную и, самое главное, доступную медицинскую помощь на территории всей нашей страны. В этот проект планируется вложить более 80 млрд рублей. Это значит, что уже начиная с 2018 года мы ежегодно будем спасать на 1,5 тыс. новорождённых детей больше, чем в 2015 году.
Вторая тема – это образование. Современный мир – это мир интеллектуальных продуктов и сложнейших технологий. Жить и работать в таком мире, а тем более быть лидером без качественного образования и постоянного развития просто не получится. И это не только вопрос личного успеха. Высококлассные инженеры, строители, агрономы, учителя, рабочие – это сегодня, безусловно, самый ценный капитал, который определяет место страны в мире на десятилетия вперёд. Практика показывает, что чем больше времени и денег тратится на образование, тем быстрее и стабильнее развивается страна.
Мы должны сделать наше образование по-настоящему современным, качественным и доступным для всех, кто хочет учиться. Детей, которые приходят в детские сады и школы, с каждым годом, несмотря на демографические тренды, которые формировались не сейчас, всё-таки становится больше. Только число школьников в ближайшие десять лет вырастет на 3,5 млн человек. Мы решили вопрос с местами в детских садах (напомню, речь идёт о детях с трёх до семи лет), теперь наша цель в том, чтобы дети учились в удобных и безопасных школах. Это должны быть хорошо оборудованные классы, спортивные залы, лаборатории, где можно будет не только осваивать школьную программу, но и заниматься в самых разных кружках и секциях.
Деньги на это мы вне всякого сомнения найдём, хочу об этом прямо сказать. Даже в нынешнее непростое время на строительство школ в этом году выделено 25 млрд рублей. Такую же сумму мы планируем выделить в следующем году. Рассчитываем на государственно-частное партнёрство в этой сфере и, конечно, будем наращивать инвестиции при наличии возможностей.
Интересным и престижным нужно сделать и среднее профессиональное образование. Рабочие с хорошей квалификацией сейчас нужны везде. Можно сделать очень много прорывных открытий, но, если некому будет выточить нужные детали, собрать необходимые заготовки или просто наладить современный станок, эти разработки так и останутся в проектных бюро.
При подготовке таких специалистов будем ориентироваться на лучшие практики и, конечно, на потребности наших работодателей, чтобы диплом колледжа или техникума был гарантией получения хорошей работы. Рассчитываем, что к 2025 году все студенты колледжей и техникумов будут учиться по абсолютно новым стандартам.
Также мы продолжим развивать систему высшего образования. Ведущие вузы должны стать инновационными центрами, способными на равных конкурировать с лучшими мировыми университетами. Вы знаете наши задачи по вхождению в известные рейтинги. Хотя сами по себе рейтинги вещь довольно условная, тем не менее всё-таки они отражают движение российского образования, и за этими процессами мы тоже собираемся самым внимательным образом следить. В 2025 году один миллион студентов будут получать образование в электронной форме.
За этим сегментом образования (это моя позиция, она совпадает и с мнением моих коллег) нужно следить очень внимательно, потому что это совершенно новые технологии, в том числе имея в виду качество образовательных услуг, которые предоставляются в электронной форме. Тем не менее нужно стимулировать получение образования и в такой форме.
Третье, о чём хотел бы сказать, – это проекты по ипотеке и арендному жилью, по жилищно-коммунальному хозяйству и городской среде, а также по дорогам и экологии.
Последние 10 лет мы развивали ипотечное кредитование. С 2005 года объёмы выдачи ипотеки выросли более чем в 20 раз, ею воспользовалось свыше 5 млн семей. На самом деле, по сути, сама ипотека возникла за последние 10 лет, раньше её просто не было. И это, кстати, результат реализации первого национального проекта в этой сфере, который, напомню, назывался «Доступное и комфортное жильё», именно тогда в нашей стране появилась это иностранное слово, которое вначале люди даже не вполне воспринимали.
Сейчас, надо признать, ипотека вошла в дом огромного количества людей. Но понятно, что мы должны заниматься этим интенсивнее. С прошлого года была запущена программа «Ипотека с государственной поддержкой». Все, кстати, признают её эффективность. Благодаря этому люди смогли покупать жильё экономкласса на первичном рынке по ставке не выше 12% годовых. В итоге каждый третий ипотечный кредит выдаётся именно по этой государственной программе.
Но этого тоже недостаточно для того, чтобы ипотека развивалась, нужно просто больше и лучше строить, и, конечно, строить дешевле. Чтобы увеличить темпы строительства, мы выводим под застройку те земли, которые неэффективно используются или в регионах, или в муниципалитетах, или на федеральном уровне. Особенно это касается промышленных зон в крупных городах, где острый дефицит земель. Одновременно мы предусмотрели 20 млрд рублей ежегодно на обустройство инженерной и социальной инфраструктуры. Это позволит снизить стоимость квадратного метра.
Также необходимо создавать такой рынок ипотечных ценных бумаг, где будут более чёткие и прозрачные правила игры, а главное – защищённость частных инвестиций.
Рассчитываем, что уже через несколько лет эти меры позволят как минимум в два раза увеличить объёмы и количество ипотечных кредитов, а также помочь достичь нового показателя в строительстве жилья – порядка 100 млн квадратных метров в год. Мы к этому показателю уже довольно давно стремимся, но пока его достичь не удавалось. Это значит, что в ближайшие годы свыше 1,5 млн семей ежегодно смогут улучшать свои жилищные условия.
Эти меры по строительству жилья должны стать основой для создания комфортной городской среды. Комфортная городская среда – это та среда, когда людям удобно пользоваться городскими услугами, это когда не поскальзываешься на льду, когда не едешь через весь город в поисках нужных тебе вещей. Конечно, это и детские сады, и школы, это и магазины, и кинотеатры. Наконец, это просто городские дворы, о которых мы в последнее время вновь заговорили. Я считаю, что из программы городских дворов может получиться очень интересная региональная большая тема, но и федеральный центр здесь не останется безучастным. Конечно, мы постараемся поддержать региональные программы благоустройства, предложить новые стандарты и современные комплексные решения по развитию городов разного типа.
Подчеркну специально: необходимо все эти проекты самым подробным образом обсуждать с самими горожанами (это их город, и им решать, каким он должен быть, чего там быть не должно), постараться в том числе избавить города от крупных градостроительных ошибок. Надо признаться, за последние годы, этих ошибок было допущено немало. Очень часто возникают новые объекты – вроде бы довольны и чиновники, и застройщики, но люди, у которых не спросили, что бы они хотели иметь, этим совсем недовольны. Именно поэтому такие коммуникации, я считаю, очень важны для власти, прежде всего для региональных и муниципальных органов управления.
В то же время хотел бы сказать, и мы об этом говорили в рамках форумов недавних, что не должно быть и единообразия общественных пространств. В каждом городе есть и своя природа, и своя культура, и своя история, и поэтому каждый город, абсолютно каждый, нуждается в уникальном подходе.
Такую же систему обратной связи мы уже выстроили в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас у собственников квартир огромные полномочия по управлению многоквартирными домами. Вы помните, мы этим довольно активно занимались в последнее время, принимали решения, спорили иногда по поводу того, как должны управляться многоквартирные дома. Но сейчас решения приняты, люди вправе ожидать качественного сервиса. В частности, нужно будет добиться радикального сокращения аварий в сетях. Для этого мы продолжим передавать в концессию и котельные, и трубопроводы, и электросети, и другие объекты коммунальной инфраструктуры, но при сохранении эффективного контроля исполнения обязательств по таким контрактам.
Я прекрасно понимаю: бизнес неохотно идёт в малые города, ему не особенно выгодно вкладываться в ремонт сетей, поскольку эти проекты окупаются очень медленно. Поэтому нам придётся и дальше софинансировать эти программы модернизации на условиях государственно-частного партнёрства.
Комфортную городскую среду невозможно представить без дорог. Жизнь с каждым годом становится динамичнее, автомобилей в нашей стране тоже становится всё больше и больше, а двигаться быстрее можно только по хорошим дорогам. Нельзя сказать, что в последние годы мы обходили эту тему вниманием, и надо признать, что с федеральными дорогами ситуация действительно стала получше. Но проблем, конечно, и здесь много ещё. Двигаться нужно и по федеральному направлению, и по региональному направлению. Тем более что нашим людям абсолютно всё равно, какая эта трасса – федеральная или региональная. Если человек едет на машине и трасса хорошего качества, а потом куда-то сворачивает и трасса выглядит совершенно иначе, невозможно объяснить, что Федерация деньги нашла, а регион не нашел. Мы все в одной лодке и все отвечаем за состояние дорог.
Начинаем мы с крупных городов именно потому, что там живёт огромное количество людей, с населением более миллиона человек. Здесь живёт практически треть страны – 50 млн человек, и там как раз основные проблемы, в городах-миллионниках. Сосредоточимся на том, чтобы привести в порядок автотрассы в этих городах. Дорог, которые соответствуют нормативным требованиям, должно быть не менее половины от общей протяжённости. Но одного ремонта мало. По понятным причинам, даже на отремонтированных дорогах можно застрять в пробке, а это не только потерянное время. От того, как быстро приедет скорая помощь, очень часто зависит жизнь, поэтому развивать транспортную инфраструктуру в миллионниках нужно будет по всем направлениям с расчётом не только на сегодняшний день, но и на перспективу в 10–15 лет.
В первую очередь нужно оптимально организовать движение всего транспорта – и личного, и грузового, и общественного. Оптимально – это, конечно, и удобно, и безопасно для водителей и пешеходов, с хорошей разметкой, обустроенными переходами, отбойниками, качественным дорожным покрытием. Число опасных участков, участков аварийности, где ДТП происходят особенно часто, должно уменьшиться не менее чем в два раза за ближайшие полтора года.
Что касается денег. Это немаловажный вопрос всегда, тем более, когда речь идёт о дорогах. Мы прежде всего будем использовать средства федерального и региональных дорожных фондов, тем более что недавно мы приняли решение направить в региональные фонды дополнительные средства от акцизов на бензин – это около 40 млрд рублей ежегодно. Хотел бы обратить внимание своих коллег – руководителей регионов: эти деньги должны использоваться строго по назначению и совершенно недопустимо, чтобы стоимость строительства одного километра дорог в соседних регионах отличалась в разы. Мы с вами прекрасно понимаем, что это значит, если два соседних региона имеют принципиально разные расценки на дорожное строительство, – это коррупция.
Ещё одна очень серьёзная тема – моногорода. Приоритетные проекты направлены на решение многих застарелых проблем, которые есть почти в каждом регионе страны. Но есть территории, где эти проблемы звучат особенно остро, – это монопрофильные населённые пункты. Нет работы, нет перспектив развития бизнеса, сами города находятся в удручающем, как правило, состоянии. Между тем, и вот эту цифру, может быть, не все знают, у нас в моногородах по той классификации, которую мы сегодня используем, живёт десятая часть населения всей страны, то есть почти 15 млн человек. И у них должна быть нормальная благополучная жизнь.
Задача заключается в том, чтобы превратить моногорода из депрессивных индустриальных зон в территории новых возможностей, а ещё лучше в территории успеха. Это амбициозная задача, сложная задача, но в целом осуществимая. Чтобы этого добиться, будем использовать все меры, которые уже доказали свою эффективность, и, конечно, новые формы поддержки.
Уже в следующем году на эти цели должно быть направлено порядка 6,5 млрд рублей, за счёт них продолжим финансировать в моногородах необходимую для бизнеса инфраструктуру, предоставлять моногородам статус территорий опережающего экономического развития. Я регулярно такие документы подписываю, последний документ на эту тему, который вышел буквально вчера, – это документ о придании статуса так называемой ТОР городу Тольятти. Хотя это огромный город с очень большим производством, даже там есть серьёзные проблемы монопрофильности. Причём всё это будет делаться вне зависимости от того, исключён город из числа моногородов или нет, этот статус сохранится на будущее, чтобы не создавать проблем. Будет действовать и особый набор льгот по ведению бизнеса – как налоговых, так и в части государственного и муниципального контроля.
К концу 2018 года мы планируем создать в моногородах не менее 230 тыс. новых рабочих мест вне градообразующих предприятий с весьма солидным объёмом инвестиций.
Уважаемые коллеги!
Изменить жизнь людей к лучшему можно, только создав современную и эффективную экономику, крепкую экономику. Устойчивый экономический рост позволяет нам решать задачу изменения и экономической, и социальной среды. Это необходимое условие.
Конечно, можно долго спорить о том, какая из задач первична – инвестиции в человека или увеличение темпов роста экономики, но очевидно, что целью развития любой экономики является благосостояние людей и именно благосостояние может повысить спрос, который служит источником экономического роста, одно без другого невозможно.
Поэтому обязательным, ключевым условием выполнения проектов, которые мы выстраиваем вокруг человека, является успех нашей работы по ещё одному блоку проектов.
Всё, о чём я только что говорил, касается качества жизни в целом, а эти проекты, о которых хочу сейчас сказать, – это проекты роста, хотя здесь, конечно, взаимосвязь очевидна.
К их числу относятся малый бизнес, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Задача государства заключается в том, чтобы поддержать стремление наиболее активных людей заниматься малым бизнесом, индивидуальным предпринимательством, создавать для этого благоприятные условия. Сейчас на малых предприятиях работает около четверти занятых в экономике людей, но мы понимаем, что этот показатель должен расти, причём в несколько раз. Такая планка, которая является общемировой, составляет где-то 40–50% экономически активного населения.
Поэтому в ближайшие два года необходимо сделать всё, чтобы в этой сфере начали работать около 435 тыс. новых малых компаний.
Мы уже неоднократно говорили, в том числе на Сочинском форуме, как государство должно помогать малому бизнесу. У нас создана профильная корпорация, мы приняли целый ряд других важных решений, сегодня я собираюсь встретиться с представителями бизнеса и тоже эти вопросы пообсуждать.
Естественно, с учётом предложений предпринимателей должна строиться и проектная работа. Мы должны помочь малому бизнесу освоить новые рыночные ниши, расширить доступ к закупкам крупнейших корпораций, в регионах должна развиваться инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства, сеть лизинговых центров, которые готовы предоставлять оборудование (на эти цели в следующем году должно быть выделено около 20 млрд рублей), и, конечно, нужно сделать так, чтобы кредиты для малых предприятий стали дешевле. Это зависит, по понятным причинам, от макроэкономических условий (а они сейчас всё-таки меняются в правильную сторону) и от наших вместе с Центральным банком консолидированных усилий в этом направлении.
Одна из ключевых задач – упростить процедуры для тех, кто хочет открыть свой бизнес или расширить существующий. Мы знаем, что есть целый ряд забюрократизированных процедур, должна заработать система одного окна на базе многофункциональных центров, где предприниматели могут получить весь пакет государственных услуг.
Второй такой проект для роста, или инфраструктурный проект, касается экспорта и международной кооперации. Мы должны поддерживать те компании, которые производят несырьевые товары и услуги, должны помочь им выйти на внешние рынки. Конкурентная, высокотехнологичная, ориентированная на потребителя продукция под брендом «Сделано в России» – это лучший ответ на любые геополитические вызовы, и в таком производстве – наше будущее.
У нас уже работает Российский экспортный центр, будем и дальше развивать инструменты, которые помогут продвижению российских товаров, в том числе через глобальные электронные торговые площадки. Сконцентрируемся мы, конечно, и уже концентрируемся на поддержке сильных отраслей. У нас есть амбициозная цель – уже в среднесрочной перспективе выйти на удвоение несырьевого экспорта. По наиболее важным отраслям, в которых есть неплохие экспортные возможности, – это и авиастроение, и автостроение, сельскохозяйственное машиностроение, железнодорожное машиностроение, да и сельское хозяйство в целом, – мы можем сконцентрировать наши усилия и достичь значимых показателей уже в 2018 году.
Третье направление работы, или ещё один инфраструктурный проект, которым мы начали заниматься, – это государственный контроль и надзор. Понятно, чтобы все меры поддержки бизнеса работали, чтобы бизнесу просто стало легче дышать, нужна серьёзная перезагрузка системы государственного контроля и надзора. Контролировать или надзирать нужно там, где есть реальные риски для безопасности и здоровья людей, а не сплошняком, не устраивать для бизнеса «ковровые бомбардировки» и пачками выдавать разнообразные предписания. Это очевидные вещи, мы о них неоднократно говорили, но уже мы начали наводить порядок в этой сфере. Для малого и среднего бизнеса введётся единый реестр проверок. С этого года действуют трёхлетние надзорные каникулы, если в предыдущие три года не было выявлено существенных нарушений. Но предстоит сделать ещё очень многое.
Но предстоит сделать ещё очень многое.
Сокращая контроль, тем не менее важно обеспечить безусловную защиту интересов людей, для которых, собственно, система государственного контроля и работает. Государство должно гарантировать качество и безопасность лекарств, продуктов, любых других товаров и услуг за счёт построения, по сути, новой системы контроля и работы в сфере безопасности.
Очевидно, что за счёт этого мы сможем добиться и лучших показателей жизни и здоровья наших людей – а это десятки тысяч ежегодно спасаемых жизней.
Достижение этих глобальных целей требует и особого подхода при формировании бюджета. Его подготовка на три ближайших года является основной задачей Правительства. Работу над этим мы уже ведём и строим её на нескольких базовых принципах имея в виду достаточно непростую финансовую ситуацию, в которой эта работа происходит.
Во-первых (и это главное, на что я ориентирую коллег по Правительству), мы верстаем бюджет с учётом реализации приоритетных проектов. Он формируется вокруг идей, которые мы хотим воплотить, работая по этим приоритетным направлениям. Потому что всё, что напрямую не связано с приоритетами, должно быть подвергнуто максимально тщательному анализу, а в необходимых случаях просто оптимизировано, то есть уменьшено финансирование. Приоритеты (хотел бы об этом прямо сказать) не могут быть размытыми и аморфными. Если это приоритеты, под ними должны быть деньги. Это должны понимать все – и отраслевые ведомства, и Министерство финансов, и, конечно, наши коллеги в регионах.
Во-вторых (но не по значимости, а по порядку), бюджет должен остаться сбалансированным, это абсолютная аксиома.
В-третьих, все социальные обязательства, которые в настоящий момент государство на себя приняло, будут исполняться. Бюджет остаётся главным инструментом нашей социальной политики.
В-четвёртых, мы и дальше будем повышать эффективность расходов. Тратить деньги нужно максимально внимательно, рационально, финансировать прежде всего те проекты, в которых есть серьёзная, существенная отдача для людей и экономики, активнее, конечно, привлекать частный сектор, искать способы оптимизации расходов. Резервы, которые в настоящий момент у нас имеются, нужно расходовать очень экономно, для того чтобы сохранить для себя возможности дополнительного манёвра в будущем.
Региональные бюджеты также должны формироваться с учётом приоритетных проектов – обращаю на это внимание своих коллег, руководителей регионов, губернаторов, которые присутствуют в этом зале. Тем более что регионы у нас в стране очень разные, их потребности в рамках каждого направления различаются, – значит, нужно сформировать набор приоритетов, которые позволят более точно выстраивать проектную работу на местах. Как это делать, мы обсудим завтра. Я собираюсь провести специальный президиум Совета по стратегическому развитию и приоритетам с участием губернаторов. Мы там вместе с коллегами подробнее остановимся на мерах поддержки, которую можно было бы в этой ситуации оказать регионам.
Мы прекрасно понимаем, что финансовые возможности многих регионов сегодня находятся не в лучшем состоянии. Денег на инвестиции недостаточно. Многие регионы накопили долги, в том числе через дорогие коммерческие кредиты. Тем не менее мы будем помогать, но помогать так, чтобы стимулировать более активно привлекать инвестиции, наращивая собственную экономику. В этом ключ к такого рода поддержке.
Уважаемые участники форума, коллеги, планы на ближайшие несколько лет выглядят вполне амбициозно, особенно в нынешние непростые времена. Но именно в такие времена и требуются нестандартные решения, чтобы принципиально улучшить и экономическую, и социальную, и управленческую среду, чтобы медицина и образование были современными по всей стране, а не только в крупных городах, чтобы люди могли приобрести качественное жильё в чистых и уютных населённых пунктах, с нормальными дорогами, чтобы начинать свой бизнес можно было быстро и без каких-либо серьёзных затрат и чтобы мы (я имею в виду наша страна, наш бизнес) могли хорошо конкурировать на международных рынках, имея при этом и внятную государственную поддержку.
Это глобальные, но вполне жизненные, конкретные вещи. Именно поэтому они и стали приоритетными проектами. У нас есть все шансы это сделать. И самое главное, что у нас для этого есть и что было продемонстрировано совсем недавно, в ходе политической кампании, – это доверие людей, их желание работать на конкретный результат. Хочу привести в завершение цитату, которую приписывают святому Франциску, она в известной степени описывает и то, чем мы сейчас стараемся заниматься: «Начните делать то, что нужно, затем делайте то, что возможно, и вы вдруг обнаружите, что делаете невозможное». Спасибо за внимание.
В.Фадеев (модератор пленарного заседания, генеральный директор ЗАО «Медиахолдинг “Эксперт”»): Спасибо, Дмитрий Анатольевич.
Я хочу первый вопрос задать Владимиру Владимировичу Якушеву, губернатору Тюменской области, по поводу «невозможного», поскольку в Тюменской области экономический рост. Является это следствием того, что вы делаете то, что нужно, или вы делаете невозможное?
В.Якушев: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые участники сегодняшней сессии! Действительно, за восемь месяцев мы продемонстрировали экономический рост. И прошлый год, и позапрошлый – мы растём. Не теми темпами, которыми хотелось бы, но тем не менее растём. Растём за счёт чего? Это обрабатывающие производства в первую очередь, это лесопереработка, это стекольная промышленность, это металлургия. есть мы растём за счёт обрабатывающих производств.
И, конечно, наше машиностроение, которое традиционно ориентировано сегодня, да и всегда было ориентировано, на наши нефтяные и газовые компании, активно принимает участие в программах импортозамещения. Это и «Газпром», и «Лукойл», и «Роснефть», и «Новатэк», «Сургутнефтегаз». Компании в этом направлении активно двигаются, и там огромные резервы, поэтому наша обрабатывающая отрасль и наше машиностроение, которые находятся в Тюмени, в этих программах сегодня активно участвуют, там тоже возможности для роста.
Конечно, национальный рейтинг инвестпривлекательности регионов здорово застимулировал региональные команды. Потому что услышать себя в конце рейтинга на Петербургском форуме не очень красиво. Поэтому в последнее время все регионы без исключения в этом отношении сделали огромный рывок. Это, конечно, и создание проектных команд, и стимулирование участников этих команд. Мы с вами прекрасно понимаем, что в рамках государственного управления одна из главных проблем – это межведомственное взаимодействие. Когда сталкиваются интересы нескольких ведомств в вопросах каких-то конкретных инвестиционных проектов, это всегда проблема. Поэтому, конечно, проектный подход даёт возможность такое противостояние в снизить.
Где мы увидели ещё достаточно серьёзную проблему? На региональном уровне – да, но любой проект делается в конкретном муниципалитете. Конечно, если в этот процесс не вовлечена муниципальная команда, то никакой качественной работы мы «на земле» не получим, поэтому последние три года мы достаточно напряжённо работаем, чтобы наши коллеги в муниципальных командах, «на земле» тоже активно включились в этот процесс. Для этого мы запустили программы обучения муниципальных команд, они стали членами наших проектных групп. Мы запустили стимулы и антистимулы, потому что люди должны понимать, что они получат, если хорошо работают, и что их ждёт, если плохо работают.
Очень важный момент здесь, если брать наш, тюменский опыт, – это очень хорошо поставленная работа с «Деловой Россией» и с «Опорой России» по контрольным закупкам, когда они помогают нам это делать на уровне муниципалитетов и ресурсоснабжающих организаций. Разбор полётов потом идёт публично, с приглашением средств массовой информации, – нам это дало достаточно хороший эффект. Как результат этой работы в этом году за первое полугодие мы получили 30-процентный рост инвестиций по сравнению с прошлым годом. Мне кажется, это результат.
В.Фадеев: Спасибо.
Пётр Олегович Авен, Вы не только банкир, Вы экономист, в прошлом макроэкономист. Дмитрий Анатольевич в своей статье пишет в «Вопросах экономики» о том, что институты позволили удержать хозяйство страны от серьёзного провала (имеются в виду санкции и тяжёлая ситуация, и внешняя ситуация, и рыночная ситуация), но роста тем не менее нет. Что Вы думаете по этому поводу?
И второй вопрос уже как банкиру. Многие промышленники критикуют политику Центрального банка. Это тоже сопряжённая тема.
П.Авен (член совета директоров АО «Альфа-банк», председатель совета директоров ABH Holdings Ltd.): Дмитрий Анатольевич, коллеги! Говоря про экономику, часто приходится выбирать: бокал наполовину полон или наполовину пуст. Если говорить про нашу экономическую ситуацию, то где он, безусловно, полон, это если говорить о ситуации в статике, о ситуации, как она есть сегодня.
Действительно, несмотря на санкции, несмотря на резкое падение цен на нефть, экономику полностью удалось удержать и от краха по ВВП. У нас беспрецедентно хорошая бюджетная ситуация, у нас очень низкий государственный долг, у нас очень низкая по всем понятиям (5% с копейками) безработица. У нас инфляция падает.
Кстати, по прогнозам Альфа-банка, цифра 4% инфляции на будущий год – вполне реалистичная цифра, так же как 6% этого года. То есть я могу сказать, что всем, что касается работы денежных властей, можно только восхищаться. Это касается и Министерства финансов, и Центрального банка. Борьба с инфляцией – это одно, но то, что в условиях такого серьёзного кризисного удара удалось удержать и резервы, и банковскую систему, это, безусловно, абсолютная заслуга Центрального банка. Я тут могу только аплодировать на самом деле. Так что с точки зрения макроэкономической стабильности у нас ситуация, безусловно, очень хорошая.
Но стабильность макроэкономическая не является целью сама по себе. К сожалению, действительно население почувствовало на себе кризисные удары. У нас неравенство растёт темпами, которых мы не знали с начала 2000-х годов, падают реальные располагаемые доходы, в прошлом году расходы домохозяйств упали на 9,6%, это много. Но мне кажется, что после многих лет быстрого роста такое падение доходов не так страшно. Значительная более опасная история (и вот тут уже бокал наполовину пуст) – это ситуация с экономическим ростом.
По расчётам Альфа-банка, по расчётам наших специалистов, сегодня потенциальный экономический рост, то есть тот рост, который был бы, если бы у нас были полностью заполнены производственные мощности и использовано всё население, всё равно находится около нуля. Это говорит о том прежде всего, что любые разговоры о накачке экономики деньгами, так называемом количественном смягчении, абсолютно бессмысленны: ничего, кроме инфляции, это не вызовет. Сегодня дать больше денег – абсолютно пустое дело (это по поводу Центрального банка и его совершенно разумной политики).
К сожалению, надо заниматься факторами экономического роста. Их, вообще говоря, традиционно три: производительность труда, трудовые ресурсы и капитал. Если говорить о производительности труда, то сколько я себя помню – а я уже лет 30 выступаю на подобных форумах, наверное, – у нас цифры в соотношении с американцами одни и те же – 25–30%, ситуация не меняется.
Если говорить о трудовых ресурсах, ситуация у нас становится хуже. У нас за последние 10 лет на 7 млн человек сократилась численность тех, кому меньше 20 лет, у нас с 2011 года впервые растёт численность тех, кому больше 65 лет.
Вот мы хвалимся и разумно гордимся своей низкой безработицей, но сегодня у нас примерно 23% населения работает в бюджетной сфере, в госсекторе, это ужасно большая цифра, и цифра неэффективная. Если мы посмотрим на страны, похожие на нас по уровню развития, – Мексику, Бразилию, Чили, там та же безработица, 5%, но в госсекторе – не больше 10% населения. Это, безусловно, огромный потенциал роста эффективности.
Ещё тяжелее ситуация с инвестициями. У нас сегодня инвестиции – 21% ВВП, Дмитрий Анатольевич в своей статье назвал цифру 24% как ориентир. Я понимаю реальности, но сегодня в развивающихся странах инвестиции в целом – 32% ВВП. Я уже не говорю про Китай. Для того чтобы обеспечить рост, и обгоняющий рост, чтобы вернуть все те позиции, которые Советский Союз имел и Россия ещё не так давно имела в мире, 24% – это тоже недостаточная цифра. Инвестиции должны расти, безусловно, быстрее.
Тут надо сказать, что мы, конечно, в очень тяжёлом положении находимся, политическая ситуация препятствует внешним инвестициям впрямую. И я слабо верю, что инвестиции можно подтолкнуть ставками.
Наш с Александром Николаевичем Шохиным учитель, академик Шаталин, очень гневался, когда обсуждали цифры: мол, давайте ставки понизим, проценты. Наивно думать, что сегодня, понизив ставку Центрального банка на 2 процентных пункта, можно подтолкнуть инвестиции. Это совершенно не так.
Меня вообще умиляет, когда люди, не сделавшие в жизни ни одной инвестиции и не дающие кредиты в ежедневном режиме, объясняют мне, как влияет ставка. Дело не в ставке. Дело в вере в будущее и стабильности. Значительно важнее борьба с инфляцией и стабильная инфляционная ситуация, чем ключевая ставка Центрального банка. В этом смысле я абсолютно поддерживаю Эльвиру Сахипзадовну (Э.Набиуллину) и всю политику ЦБ.
Кроме того, я не верю в государственные инвестиции. Борис Титов в своей программе Партии роста предлагал создание новых, хороших институтов развития. Раньше они были плохие, а сейчас будут хорошие и будут правильно работать. Но у нас в 2014 году, на пике, в 10 институтах развития было активов 10% ВВП. Господин Горьков здесь находится, история Внешэкономбанка хорошо известна.
На самом деле я считаю, что единственный путь – это частные инвестиции и создание условий для частных инвестиций. И они существуют. Я совершенно согласен с Дмитрием Анатольевичем, что единственное и фундаментально важное – это создание среды. Для этого есть абсолютно все возможности, и именно этим, мне кажется, надо заниматься, для того чтобы хорошая статика переросла в такую же динамику.
В.Фадеев: Спасибо. У меня вопрос к Алексею Леонидовичу Кудрину.
Алексей Леонидович, мы ждём Вашу программу, в следующем году будет Ваша программа, и я думаю, что все здесь присутствующие её ждут. Может быть, что-то Вы приоткроете в части главной сегодняшней темы – государственного управления, эффективности, подхода целевого, проектного подхода, в этой части. Какие главные проблемы сейчас в госуправлении?
А.Кудрин: Я бы оттолкнулся от слов Дмитрия Анатольевича о том, что нынешняя система государственного управления громоздкая, неэффективная. И ещё бы на один тезис стал опираться – что мы должны перейти от управления по поручениям к некой более системной ситуации.
Я, может быть, больше всех участвовал в этой системе поручений, потому что Министерство финансов получало в первом или во втором лице большинство поручений всех, которые исполняются, всех тысяч поручений.
Я бы считал неким индикатором – не фактором, но индикатором, – если бы в течение двух лет при внедрении проектного менеджмента, управления проектами, которое здесь сегодня представил Дмитрий Анатольевич, количество поручений снизилось хотя бы на 25%. А впоследствии, я думаю, при ещё более качественном развитии управления, это, может быть, произошло бы и на 50% в течение лет пяти. Но это индикатор был бы.
В чём проблема? Почему у нас по-настоящему (я думаю, многие согласятся) не работает стратегическое управление и стратегическое планирование? Хотя мы принимаем (и сейчас не отменена концепция долгосрочного развития) среднесрочные планы развития, мы, когда определяем эти цели, некоторые индикаторы этой работы, даже по годам их зачастую расписываем, – мы за них по-настоящему, всерьёз не спрашиваем. Когда приходят поручения, они захватывают нас процентов на 60, от 60 до 80%, они важнее. Их невыполнение повлечёт за собой организационные и кадровые решения, а за невыполнение ключевых целей и индикаторов федеральных целевых программ, может быть, пожурят. И вот то, что у нас этот перекос сложился сегодня, многие подтверждают.
Поэтому я считаю, что первое – это ориентир на те цели и стратегические задачи, которые мы определили. Стратегические – это не значит через 10 лет, они раскладываются по каждому этапу и году. И если мы в течение года будем сверять себя каждый раз, сверять любые министерства и ведомства по выполнению именно вот этих целевых задач и в зависимости от этого поощрять или наказывать, мне кажется, уже сама эта система даст серьёзный результат. Только само внедрение – только когда мы поймём, что вот это так работает, а не иначе, – процентов на 20 наша эффективность начнёт повышаться. Я думаю, что внедрение этой системы возможно в течение полутора-двух лет. Но это не будет завершённой системой.
Сегодня также говорилось о проектном управлении и ключевых проектах. Я это на Совете по стратегическому развитию поддержал. Но это, по сути, управление изменениями. То есть процессы более рутинные – задачи, которые выполняет каждое министерство в сфере своего регулирования. Контрольно-надзорная деятельность больше относится к более рутинной работе, к процессу, как мы называем. А то, что мы планируем – изменить состояние каких-то компонентов в сфере здравоохранения, в сфере образования, перейти с одной системы на другую, – это процесс изменения.
Мы проектным способом должны управлять процессом изменения. Но те проекты, которые здесь были объявлены, не исчерпывают всех тех задач, которые нужно провести методом изменения. В каждом министерстве, в сфере своей деятельности, по основным функциям придётся, и нужно, проводить эти изменения. Поэтому я думаю, что наравне с системой, которая здесь была предложена, наряду с ней должна работать эта система управления в каждом министерстве и ведомстве, в тех сферах, в которых мы все заняты. Мы должны разделить эти сферы на более рутинные и те, что более в процессе изменений.
Я приведу пример. По данным министерств и ведомств, в этих процессах по контролю и надзору только за прошлый год было проведено 2 млн 356 тыс. проверок, из них 40 были плановыми. В последнее время, когда стал осуществляться серьёзный, особый контроль над плановыми проверками, их становится все меньше, а всё больше становится внеплановых проверок. В результате этих плановых проверок в 56% были выявлены нарушения определённых требований, то есть было за что написать какие-то предписания. В 8% случаев эти нарушения угрожали причинить вред здоровью гражданам или были связаны с вопросами безопасности для граждан, но только в 1% реально были какие-то опасности для людей.
Поэтому вся система наших проверок имеет, на мой взгляд, не такой большой эффект. Тем не менее в ходе проверок (это тоже было выявлено в одном исследовании) – в этот год предприятия, где проходят проверки, дают меньшие результаты, чем в другие годы или чем дают его конкуренты в эти же годы. То есть нам нужно уйти от системы, когда система проверок так встряхивает и, по сути, меняет состояние бизнеса, становится очень серьёзным административным бременем на этом предприятии. Борьба с этим административным бременем в государственном управлении, мне кажется, – одна из серьёзнейших задач.
В завершение этой части скажу, что все наши программы и стратегии, в том числе та, над которой сейчас мы, Центр стратегических разработок, работаем по поручению Президента, – будут ставить перед собой важнейшие цели, чтобы наша страна оставалась передовой, прежде всего экономически, и с точки зрения благосостояния людей. Все предыдущие программы в лучшем случае выполнялись на 50%, в то время как некоторые задачи выполнялись на 80%, а некоторые на 30%. Когда мы говорим о неэффективной системе управления, мы заранее себя обрекаем на то, что те цели, которые мы объявили, не будут до конца выполнены, если мы не перестроим систему управления. Вот почему я, прежде чем говорить о стратегии, целях, задачах, конкретных индикаторах, хочу сказать: перестройка этой системы госуправления, повышение его эффективности, в том числе в части компетенций самих чиновников, их переобучение, применение новых технических средств управления, методов big data с точки зрения анализа и выявление новых возможностей – изменение вот этой сферы является ключевым для выполнения других задач.
Я думаю, после этого мы и сможем достигать того невозможного, о чём сказал Дмитрий Анатольевич.
В.Фадеев: Да, надо изменить систему, надо внедрить новые методы, но Вы не расшифровываете. Я уточню. Дмитрий Анатольевич об этом в начале речи сказал: у нас были национальные проекты, они дали результат. У нас продолжительность жизни выросла, у нас детская смертность существенно сократилась, у нас школы теперь во многих городах другие. У нас был проект агропромышленный, и мы видим результаты этого проекта.
Тогда у меня обывательский вопрос: если только что, совсем недавно, проекты работали и, значит, какие-то были правильные в нынешней нашей трактовке методы управления, тогда что Вы предлагаете? И как использовать опыт тех нацпроектов?
А.Кудрин: Отвечу Вам частично так. Государство за предыдущий период немало вложило средств в отдельные отрасли – и в здравоохранение, и в образование. Вообще-то у нас финансирование здравоохранения и образования с 2000 года по 2013-й возросло в три раза в реальном выражении. То есть мы просто стали в три раза больше инвестировать в эти сферы. В стране у нас немало выросли частные инвестиции. В долларовом выражении в 2013 году, до девальвации, объём инвестиций в страну был 400 млрд долларов в год в основные фонды. Но, как выяснилось, факторная производительность, которая определяет эффективность от этих вложений, стала снижаться каждый год примерно с 2004–2005 годов.
То есть эффективность наших вложений стала уменьшаться, и это неизбежно привело к тому, что темпы экономического роста при тех же самых инвестициях становились всё ниже и ниже, то есть мы больше вкладывали, а результат оставался ниже. Это свидетельствует о том, что модель – как задействовать эти факторы, как их соединять, – стала неэффективной. Вот почему одной из задач является повышение факторной производительности через новые схемы соединения этих факторов и повышение от них отдачи. Это целые цепочки мер, которых нужно добиться, в том числе связи образования с экономикой, конкуренции и спроса на инновации, подпитывания инновациями крупнейших предприятий.
Если говорить не о том, что, может быть, частично получилось, а о том, что вообще не получилось за последние лет 10, у нас не перезапустился процесс технологического инновационного развития. Если брать по индикаторам 2007 года, которые были приняты, мы практически процентов на 10 улучшили показатели по технологическим изменениям на промышленных предприятиях или по доле инновационной продукции. Мы отстали от тех целей, которые мы ставили, радикально. Мне кажется, мы эти цели будем ставить в первую очередь, потому что если Россия не станет технологически передовой, если не станет догонять или даже становиться лидером в этой сфере, то, конечно, мы и другие – и социальные задачи, и военные задачи – серьёзно не выполним.
Вот, если так говорить, от новых факторных схем производительности – к новым задачам в том числе и технологического развития и производительности.
В.Фадеев: Спасибо. Мишель Литвак, президент корпорации АО «ОТЭКО». Мишель очень серьёзно работает здесь, на юге, в Тамани. Порт, инфраструктура транспортная.
М.Литвак (президент корпорации АО «ОТЭКО»): Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! Компания «ОТЭКО» строит ряд проектов в Тамани. Общий объём планируемых инвестиций – 8 млрд долларов. Мы уже проинвестировали на сегодняшний день 2,5 млрд долларов. Конечно, мы столкнулись и с настоящими трудностями.
Хочу поблагодарить Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина – я к нему много раз обращался и каждый раз получал поддержку. Хочу поблагодарить Председателя Правительства – мы подписали первую в стране государственно-частную концессию. Спасибо Вам. Хочу поблагодарить губернатора Краснодарского края и его команду за поддержку наших проектов. Губернатор убедил меня, чтобы мы дальше продолжали инвестировать, что мы и сделаем. С 2000 года с нуля, в пустом поле мы начали строить порт. На сегодняшний день это нефтеналивной порт для нефтепродуктов и СУГа мощностью 20 млн т оборота в год. Мы также строим комплекс по перевалке навалочных грузов с общим оборотом 35 млн тонн в год – для угля, руды, серы, минудобрений, – который будет в полном объёме работать в конце 2018 года.
С нашим партнёром – компанией Louis Dreyfus мы строим зерновой терминал мощностью 14,5 млн т, который заработает в середине 2019 года.
Здесь хочу отметить: практика во всём мире и у нас тоже показала, что, когда развивается порт, идёт развитие региона. В Тамани будет всё то же самое. Мы планируем построить целый индустриальный парк. Самые значимые заводы в этом парке – по производству метанола, аммиака, карбамида, высокооктанового бензина.
90% инфраструктуры – железная дорога, гидротехника, электричество, хранилища, склады – в 2018 году уже будет построено.
Мы всё строим на свои средства. Государственных денег здесь нет. Наоборот, все объекты государственной собственности строим за свой счёт и безвозмездно передаём государству. Мы планируем построить новый город в Тамани. Всю социальную инфраструктуру – детские садики, больницы, школы и так далее – мы возьмём на себя. Это удвоит Тамань.
Что я могу сказать здесь бизнесу? Времена непростые, мы это все знаем. Надо рассчитывать на себя, находить средства для инвестиций.
В.Фадеев: Скажите, какая рентабельность вашего бизнеса, если вы строите за свой счёт всю инфраструктуру и передаёте государству?
М.Литвак: Наверное, такой бизнес нельзя условно просчитать. Если смотреть краткосрочно (мы уже строим 16 лет и ещё долго будем строить), то, наверное, в такой проект входить нельзя. А если смотреть вдолгую, это уже другая ситуация. Я лично считаю, что сейчас лучшее время. Мы знаем, что сегодня сырьевая база на самом низу, все намного сговорчивее, можно найти намного больше людей и так далее. Поэтому сейчас самый правильный момент всё это делать.
В.Фадеев: Спасибо. Александр Григорьевич Абрамов. Вот сейчас прозвучала тема денег, государственных денег. Господин Литвак сказал, что он предпочитает не работать и не работает с государственными деньгами. А Вы работаете с государственными деньгами?
А.Абрамов (председатель совета директоров ООО «ЕвразХолдинг»): Любой нормальный предприниматель, бизнесмен работает с любыми деньгами. Вообще, наверное, неправильно их как-то красить – государственные или негосударственные. Я делал себе пометки по ходу выступления премьер-министра, и мне кажется, что страна и, в общем, истеблишмент до сегодняшнего момента не в состоянии договориться между собой, что? у нас приоритет: мы хотим быть социально ответственным и социально стабильным государством или мы хотим иметь экономический рост.
Мы привыкли в корпорациях: кто отвечает за выполнение планов по EBITDA, по доходам? Всегда с ФИО, соответственно, всегда есть какая-то конкретная персона. И в данном случае мы хотим иметь устойчивый и высокий экономический рост, но при этом мы хотим иметь социально стабильное государство с очень высокими патерналистскими настроениями у населения, при этом имея 70-процентную долю участия государства в экономике. Мне кажется, дискуссия по поводу эти трёх постулатов – 70% государства в экономике, приоритет для нас экономический рост или для нас приоритет социальная стабильность – по большому счёту не закончена, то есть у нас единства на этот счёт нет.
Соответственно, я иногда задаю себе вопрос: а может, нам и не нужен экономический рост? Вот тут Пётр (П.Авен), говорил, что его надо решать, но вроде как бы и не надо. По крайней мере создаётся такое впечатление. И мне кажется, что абсолютно ясный и чёткий ответ на этот вопрос – что да, мы хотим расти на 6% в год и готовы идти для этого на все возможные ограничения, включая социальные, или нет, – вот это очень важно сегодня. Иначе мы будем так топтаться на месте очень долго, имея в виду: а 70% государственного участия в экономике что нам позволят сделать? Или вообще, может, невозможно двигаться дальше в такой парадигме и нужно расслабиться и спокойно жить в режиме полпроцента, один процент, и всё хорошо.
Я специально, может быть, слегка провоцирую, но тем не менее этот вопрос, на мой взгляд, на сегодняшний день разными частями нашего истеблишмента по-разному воспринимается.
Второе. Когда мы говорим про рост инвестиций, я совершенно согласен, что рост инвестиций в общем, по-крупному, является чуть ли не основным драйвером обеспечения экономического роста. Но рост инвестиций, по крайней мере частных, возможен только в том случае, если у вас рынки капитала есть, если они по крайней мере не стагнируют, а растут.
Нам часто задают вопрос: как вы принимаете решения? Естественно, доходность и риск, но в не меньшей степени это возможность выхода из инвестиций. Если любой выход из инвестиций не может быть внятно сформулирован, большинство инвестиционных комитетов на такого рода инвестиции не даёт добро. А когда у вас рынки капитала сужаются… Вот вчера Артемьев (И.Артемьев, руководитель Федеральной антимонопольной службы) говорил, что у нас 70 или 75% – госсектор. Я помню, 10 лет назад было 50 или 45. Мы видим, что рынок капитала уменьшился на самом деле, это объективный фактор. Соответственно, и частных инвестиций в такой ситуации будет меньше, потому что помимо доходности и всех тех ограничений, в том числе административных, о которых здесь справедливо говорится, которые надо снимать, есть ещё и вот этот фактор, о нём почему-то мало говорят.
Образование. Нам сегодня очень трудно представить себе ситуацию, когда мы будем его финансировать таким образом, как это надо было бы делать. Очень дорогое это занятие. И в условиях, когда в государственном бюджете денег не так много и образование у нас в превалирующей части государственное, не представляется возможным финансировать таким образом, чтобы оно было конкурентоспособным на уровне лучших мировых образцов. Но в этой части, мне кажется, у нас есть уникальный шанс, который называется «онлайн-образование», где мы реально можем догнать, а может быть, даже и перегнать, потому что там очень много всякого рода специфических технологических особенностей. Мне кажется, это действительно шанс сегодня, и в этом смысле (Дмитрий Анатольевич это отметил в своём докладе) одна из приоритетных задач или один из проектов. Это было бы важно не упустить.
И последнее – проектное управление, или управление изменениями, как Алексей Леонидович совершенно справедливо сказал. Несколько ремарок, которые бросаются в глаза, потому что мы много потратили времени, чтобы добиться того, чтобы проектные офисы работали.
Первое. Я очень редко слышу на уровне подготовки проектов обсуждение бюджета на их подготовку. Потому что нам приходилось себя ломать (имеется в виду частный сектор), привыкая к мысли, что от 4 до 10% от общей стоимости проекта нужно потратить на предпроектной и проектной стадии и зачастую списать эти деньги. Очень сложно представить себе губернатора или министра, который, потратив такие деньги, их спишет. Его завтра просто замучают Счётная палата и прокуратура.
А проектная работа невозможна без такого рода денег, которые регулярно, каждый день списываются, потому что, если вы готовите проект, чем больше денег на предпроектной стадии вы потратите, тем точнее и лучше вы его выполните. Да, зачастую бывает такое, что потратили деньги, собрали и сказали, нет, мы это не делаем. Наверное, две три проектов заканчиваются таким образом – идут «на полку».
Вторая вещь – межведомственные барьеры. Мой личный опыт говорит: проектный офис не будет работать, пока его не патронирует первое лицо. Вот нам не удавалось. Сколько раз было такое: большой проект, миллиард долларов, все понимают важность, шум, гам, но человек, возглавив этот проект, встречает мощное сопротивление директоров, других региональных руководителей.
Поэтому мне кажется, что количество проектов, особенно тех, которые фундаментально меняют сложившиеся уклады, должно быть ограничено, потому что лично Дмитрию Анатольевичу придётся за ними следить.
И ещё один момент. Когда мы движемся по времени от начала проекта до его конца, при реализации проекта, если она началась, если она успешна, чрезвычайно важная фаза – это анализ результатов. К сожалению, часто долго ждать приходится, потому что некоторые проекты – это три-шесть лет. Но, смею вас заверить, я сам был потрясён, насколько важно и полезно поднять проект, который мы инициировали в 2005 году, разобрать его до деталей и, оценив собственные ошибки, сделать выводы.
Мы очень мало говорим, вообще не говорим, о качестве госинвестиций в таком разрезе. А почему бы не потратить много времени и много денег для того, чтобы разобрать, как мы потратили, условно говоря, 4 трлн долларов, которые мы инвестировали в свою страну с 2001 года по 2014-й. Разные оценки бывают, я сказал, 4 трлн долларов, но не думаю, что я сильно ошибаюсь. Представьте себе, 4 трлн долларов мы потратили – насколько они эффективно сработали. Мне кажется, это тоже вещь, которая чрезвычайно важна и заслуживает того, чтобы стать одним из национальных проектов.
В.Фадеев: Спасибо.
Вы затронули актуальную тему: соотношение частного и госсектора. Вы сказали (это, видимо, цифры ФАС), 70% – это фактически уже госсектор. А что дальше?
А.Абрамов: Дальше – госплан. Я уж, честно говоря, удивляюсь, почему нет ещё госплана.
В.Фадеев: Вопрос: как изменить эту долю? А давайте всё приватизируем! Вот здесь руководители – «Газпром», «Россети», «Роснефть», «Аэрофлот». Если всё быстро приватизировать, то, несомненно, доля уменьшится, формально уменьшится. Но, наверное, есть другой подход – надо делать что-то, чтобы развивался как раз тот самый негосударственный сектор. Вот здесь что Вы имеете в виду: приватизировать госкомпании или сконцентрировать усилия на частном секторе?
А.Абрамов: Я не думаю, что на этот вопрос нужно отвечать в режиме одного предложения или трёхминутной речи.
Вообще говоря, это серьёзный проект. То, что Вы сейчас оконтурили как деприватизация... Ведь, речь не идёт о том, чтобы всё продать быстро. Речь идёт о том, чтобы сформулировать наши приоритеты. И если на уровне истеблишмента в стране будет принято решение так и двигаться – в сторону, которая называется «увеличение частного сектора и уменьшение государственного», – то это проект. Соответственно, сколько он займёт, я не знаю, готового рецепта нет. Точно звучать на бытовом языке не должно: давайте всё быстро приватизируем.
В.Фадеев: Спасибо. Я этот ответ и надеялся услышать. Алексей Леонидович, прошу Вас.
А.Кудрин: Александр (А.Абрамов) сказал, что мы не понимаем, будет в основном государственная модель экономики или будет частная, вроде как мы ещё не выбрали. Пётр (П.Авен) говорит, что, по нашим оценкам, потенциальный экономический рост в России 0%, даже если всё загрузить, не меняя, не проводя реформ. Мишель говорит: я инвестирую, я всё делаю, но меня называют сумасшедшим.
Честно сказать, мы провели фокус-группу по поводу того, что мы ожидаем в перспективе. Действительно, мы стратегически не определились. Какой современная модель экономики должна быть? Конечно, доля государственного сектора больше 30% или, возьмём аккуратнее, более 40% – это преимущественно государственный капитализм, очень неуклюжий, неэффективный, с большим количеством административного ресурса. Тогда того уровня производительности мы не достигнем. Поэтому и приватизация, но сопровождаемая другими методами регулирования и уменьшения давления на частный бизнес, который сам выбирает, который гибок...
Кстати, одно из преимуществ этого кризиса в том, что наша экономика стала намного гибче, она быстрее реагирует на сигналы, где-то перестраивает проекты, она быстрее уменьшает плохие расходы, но и быстрее перестраивается на новые типы моделей, продукции. Вот эта гибкость нам сейчас в общем-то помогла в том числе выходить из рецессии. Но этого недостаточно, только той сложившейся гибкости недостаточно. А гибкость я имею в виду прежде всего частного сектора.
В.Фадеев: Спасибо.
Давайте сейчас мы перейдём от макроэкономики к микроэкономике. Дмитрий Анатольевич упомянул в выступлении концессии. Очень важная тема – концессия. Здесь сходятся интересы людей, в первую очередь в сфере ЖКХ, здесь частный бизнес, здесь государственные деньги, муниципальные управления, здесь новые технологии. Очень важная тема – концессии в ЖКХ. И они плохо идут, законы приняты, но они плохо идут, спрос на концессии очень невелик.
Пётр Олегович (обращаясь к П.Авену), у Вас ведь в Вашей компании «Альфа-групп» есть тема водоканалов и тема концессий. Почему спрос на концессии низок?
П.Авен: Действительно, мы много лет уже этим занимаемся. Я хочу сказать и Дмитрию Николаевичу (Д.Козаку) спасибо, и Михаилу Александровичу Меню. Мы получаем полную поддержку по работе в ЖКХ. Начиная с 2012 года, когда мы подписали первое в России концессионное соглашение в Воронеже, мы получаем поддержку в тех регионах, где уже работаем. Там у нас всё нормально. Мы очень благодарны губернатору Краснодарского края, где мы сейчас работаем. Мы в этом году вложим 500 млн рублей в водоканал в Краснодаре. Мы благодарны господину Якушеву, где мы сейчас переходим на концессию в Тюмени. Везде, где мы работаем, у нас всё нормально.
В целом мы в водоканалы вложили уже более 200 млн долларов. У нас сегодня 25% частного рынка в водоснабжении (это «Альфа-групп»). Результаты очень хорошие. В тех регионах, где мы работаем, вдвое упала аварийность, на 30% – потребление электроэнергии, на 15–25% – потребление воды и так далее. То есть там проблем нет. Но это новая сфера, и, к сожалению, стимулов у МУПов и администраций приглашать частников не существует. Чего греха таить, часто МУПы – непрозрачные организации с непонятной экономикой, часто с коррупционным расходованием средств на модернизацию и ремонты, соответственно, с дотациями, субсидиями. Для чего мы им нужны? Поэтому ЖКХ, как мне кажется, и концессии (хотя нормативная база вообще существует) – именно та сфера, где государство должно действительно во многом помогать этому процессу, толкать его вперёд.
У нас очень простое предложение. Так как эффективность очевидна, а стимулов нет, нет рынка предложений, взять 10–15 городов (больших это прежде всего касается, сегодня есть возможность работать в больших городах с населением от 250 тыс. до 1 млн) и сделать аудит работы МУПов по водоснабжению в этих городах. Если будет видно, что они неэффективны (а это будет видно, поверьте мне) в большинстве, то просто обязать выставлять это на концессию, проводить концессионные конкурсы, подталкивая МУПы к тому, чтобы привлекать частников, а частникам давать возможность работать.
Мне кажется, именно так и нужно развивать частный сектор там, где он пока ещё не упрочил свои позиции.
В.Фадеев: Владимир Владимирович, Вы что думаете по этому поводу?
В.Якушев: Что касается концессий, тут как раз вопрос зашёл о «Росводоканале» – мы сейчас плотно этим занимаемся. Здесь несколько моментов.
Первый момент. Для того чтобы зайти в концессию, если мы говорим сейчас о водоснабжении, во-первых, надо иметь схему водоснабжения. Мы над ней работали два года. Это огромный труд, надо всё хорошо и досконально подготовить, чтобы все технические решения, которые были в этой схеме, действительно были оправданы и необходимы муниципалитету.
К сожалению, существует такая проблема, когда технические решения, которые представлены там, с первого раза не всегда грамотно продуманы. Поэтому здесь возникает такая дискуссия, и, конечно, рождение этого документа немножко затягивается во времени.
Вторая проблема. Для того чтобы зайти в концессию и заключить концессионное соглашение, необходимо, чтобы всё имущество было зарегистрировано в установленном законом порядке. В областном центре мы порядок наводим, но тем не менее бесхоз вылезает. Через какое-то время мы, конечно, можем ситуацию менять, и эти объекты становятся тоже предметом концессии. Если мы говорим о маленьких муниципалитетах и если там имущество находится в хозведении МУПов, то у МУПов ещё должны быть деньги, чтобы зарегистрировать это имущество. Это тоже проблема, которая на сегодняшний день существует. Почему мы говорим, что не так быстро, как хотелось бы. Все вопросы, требующие имущественного оформления, достаточно длинны во времени, и мы должны этот путь пройти для того, чтобы потом полноценно заключить концессионные соглашения.
И третья тема, Дмитрий Анатольевич её коснулся в своём выступлении. Мы реально прочитали финмодель по водоканалу города Тюмени. До 2040 года мы сейчас готовим концессионное соглашение. Но что касается тех тарифов, которые мы предусматриваем, у нас огромная дыра там, и мы не понимаем, за счёт чего мы эту дыру будем компенсировать.
В.Фадеев: Какая ставка процентная заложена в вашей модели?
В.Якушев: Процентная ставка 14 на сегодняшний день.
За счёт чего мы должны компенсировать эту дыру? Понятно, что должен участвовать бюджет в рамках ГЧП, но тогда у бюджета должна быть возможность. Эти нюансы, мы, конечно, отработаем и решение найдём. Но с точки зрения «бегом побежали, сложили концессионные соглашения», а в конечном итоге они не заработали, дыру не знаешь, за счёт чего покрывать… Потом наши тарифы тоже ограничены платой, тариф расти максимально не может. Проблема, которая возникает с тарифом, – это опять региональный бюджет. Это всегда вопрос, который необходимо решать.
Поэтому концессия – это, конечно, выход. Но есть нюансы, на которые надо обратить внимание, и мы все вместе должны найти выход.
В.Фадеев: Спасибо. Алексей Леонидович.
А.Кудрин: Если Центральный банк продержит инфляцию два года хотя бы на уровне 4%, то ставки на рынке снизятся примерно до 10, а может, до 8%, потому что все должны быть уверены, что стоимость денег тогда в экономике станет устойчиво низкой. Не как сейчас, ведь не под нынешнюю инфляцию выдают деньги, а под ту, которая через три года будет. И если все будут понимать, что Центральный банк жёстко будет держать эту цель три-четыре года, ставки в стране пойдут вниз, и у нас серьёзно расширится число тех, кто берёт ипотеку, кто может инвестировать в инфраструктуру. Это известная зависимость.
В.Фадеев: Дмитрий Анатольевич, Вы отреагируете на те замечания и предложения, которые здесь были, в частности, предложения Петра Авена о том, чтобы сделать какой-то тестовый пример, касающийся МУПов, по оценке эффективности их, чтобы можно было двинуться дальше?
Д.Медведев: Давайте я всё-таки не только на эти МУПы отреагирую, потому что даже не все, кто в зале сидит, знают, что это такое. Объясняю: МУПы – это муниципальные унитарные предприятия. Если говорить о них, то вообще-то их планировалось закрыть ещё года три назад, и такая задача была сформулирована. Но жизнь гораздо богаче и сложнее, и по понятным причинам целый ряд решений исполняется медленнее, чем мы бы хотели. Но давайте я всё-таки не про частности скажу, а про некоторые вещи, которые здесь звучали и с которыми мне в основном хотелось бы согласиться, но, может быть, с какими-то нюансами.
Здесь много было дискуссий по поводу эффективной ставки, по поводу влияния ключевой ставки на ситуацию в экономике. Конечно, это очень важная тема.
Я не могу не согласиться с Петром Олеговичем в том, что сама по себе ставка – это ещё не решение вопроса. Мы знаем массу примеров мировых, когда очень низкая ставка в системе рефинансирования, ключевая ставка низкая, а инвестиций нет и роста нет. Вот нам бы не попасть в эту ловушку.
Посмотрите, что происходит с Японией в последние лет 20–25. Это высокоразвитая, высокотехнологичная страна с высоким уровнем жизни, которого мы бы хотели достичь через какое-то время, и в этом смысле у них, казалось бы, всё хорошо, но экономика-то не растёт.
Поэтому мне бы хотелось солидаризироваться с коллегами в том, что сама по себе среда стимулирования частных инвестиций, стимулирования нормального экономического роста в частном секторе или на базе государственно-частного партнёрства – это не менее важное долгосрочное условие развития экономики, чем просто ставка, которая используется Центральным банком и которая в конечном счете конвертируется в коммерческую ставку банка. Вот этим должно заниматься Правительство, этим вообще должны заниматься мы все вместе с бизнесом.
Теперь к основной теме, которую мы сегодня обсуждаем. Я об этом говорил, и мне трудно не согласиться с тем, что было сказано Алексеем Леонидовичем. Мы действительно очень хорошо научились работать по системе поручений.
Объективно у нас никогда другой системы, во всяком случае в современной жизни, и не было: когда мы говорим о проектном менеджменте, то имеем в виду, что само по себе это явление, этот способ управления появился из бизнеса. В советские времена, естественно, экономика была другой, а в современной жизни мы с лёгкостью освоили эту систему большого количества поручений, по которым легко отчитываться и по которым легко раздавать или награды, или дисциплинарные взыскания. Работать в рамках проектного управления намного сложнее даже с точки зрения верификации самого результата.
И в этом смысле я бы хотел обратиться к нашим коллегам, которые здесь, на сцене, находятся и которые в зале сидят. В известной степени это ещё и такая школа, как работать по проекту. Вот Александр Григорьевич (А.Абрамов) здесь упоминал, какие фазы в проекте должны быть выделены, какой бюджет первоначальный, как этот бюджет расходуется, какие риски изначально существуют, какие риски купируются, какие не купируются, но это всё понятно на уровне бизнес-модели, а сейчас мы предлагаем это сделать на уровне государственного управления.
По этому поводу есть ведь известный скепсис, когда говорят: «Ну что они это проектное управление, этот проектный офис тащат на государственную службу? Это неорганично для государственной службы. Здесь очень просто всё: дано поручение – исполняйте, не исполнил – пошёл вон! А другие методы, присущие бизнесу, здесь работать не будут». Но опыт государственного управления других стран недвусмысленно свидетельствует о том, что может работать проектный метод и в государственном управлении. Только нужно грамотным образом наложить его на существующую систему государственного управления, и, о чём тоже мои коллеги здесь говорили, очень важно, чтобы эти системы были созданы в каждом ведомстве, чтобы этим занимался не только Аппарат Правительства или отдельно Дмитрий Анатольевич Медведев вместе со своими коллегами – заместителями Председателя Правительства, а чтобы в каждом ведомстве был соответствующий штаб, который все эти задачи способен правильным образом обслуживать и анализировать. Вот этого необходимо добиваться, и в этом смысле я полностью поддерживаю то, что говорили мои коллеги.
И наконец, последнее по поводу проектного метода, который стал основным пунктом обсуждения сегодня. Также не могу не согласиться с Алексеем Леонидовичем Кудриным в том, что, безусловно, для нас важно не только достигнуть целевых показателей – в образовании, здравоохранении, по дорогам, в городской среде, то есть во всех сферах жизни людей. Это, конечно, ключевая, важнейшая задача. Но нам нужно поменять и всю систему государственного управления. Потому что если мы не сумеем её приспособить под решение этих задач, то мы не сможем добиться того, о чём я говорил в своём выступлении.
И конечно, все мы рассчитываем, что инвестиции будут продолжаться, что частные инвесторы будут всё-таки чувствовать себя защищёнными. Это в значительной степени зависит от государства.
Здесь была дискуссия по поводу того, какую экономику мы строим и какая доля государственной собственности нам необходима. Мне кажется, на этот вопрос нет канонического ответа. Потому что в истории разных стран в разные периоды были ситуации, когда объём государственной собственности увеличивался и когда он падал. Но отвечаю на общий вопрос: мы определились, куда идём? Да, конечно, мы давным-давно определились, ещё в начале 1990-х годов. Мы строим рыночную экономику, притом что в Конституции у нас записано, что Россия является социальным государством.
И вот здесь возвращаюсь к тому, о чём Александр Григорьевич (А.Абрамов) сказал. Я иногда коллегам из бизнеса завидую по поводу простоты постановки задач. Он говорит: нужно договориться, консенсуса достичь по поводу того, что важнее – социальные обязательства исполнять или добиваться экономического роста. Вот это дилемма. Если мы договоримся, значит, начнём нормально развиваться или, наоборот, будем сохранять патерналистскую психологию и исполнять те социальные нагрузки, которые существуют. Смею вас заверить, ситуация чуть более сложная, во всяком случае с позиции людей, которые занимаются государственным управлением. И пример здесь совершенно понятен.
Социальная стабильность – исключительно важное благо. Мы с вами в следующем году будем отмечать юбилей одного исторического события, наши коллеги из Коммунистической партии предложили его отметить всенародно, я имею в виду Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Но эта революция – очевидный пример того, как с утратой стабильности были, по сути, разрушены основы экономики и на долгие годы утрачены перспективы экономического роста.
Именно поэтому, мне кажется, мы должны дорожить всем, что имеем сейчас: и политическими результатами, которые были достигнуты совсем недавно, и теми, может быть, робкими, но существующими уже сегодня успехами в экономической и социальной жизни. Во всяком случае я это понимаю именно так.
Документы, подписанные в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2016»
В присутствии Председателя Правительства Дмитрия Медведева были подписаны следующие документы:
Специальный инвестиционный контракт АО «ГМС Ливгидромаш» для реализации проекта «Создание промышленного производства насосов для нефтепереработки, а также насосов большой мощности для транспорта нефти и нефтепродуктов»
Подписали: Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Орловской области Вадим Потомский и генеральный директор группы «ГМС» Артём Молчанов
Специальный инвестиционный контракт по модернизации промышленного производства в рамках проекта по строительству Ульяновского станкостроительного завода
Подписали: Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, управляющий директор «Гильдемайстер Бетайлигунген ГМбх» Дирк Хульманн и генеральный директор «Ульяновского станкостроительного завода» Алексей Антипин
Протокол о намерениях по созданию и развитию портово-индустриального (промышленного) парка ОТЭКО в порту Тамань
Подписали: глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель совета директоров АО «ОТЭКО» Мишель Литвак
Соглашение о намерениях по модернизации производства химических удобрений
Подписали: глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава муниципального образования Белореченский район Иван Имгрунт и генеральный директор ООО «ЕвроХим БМУ» Дмитрий Стрежнев.

Китайская корпорация готова инвестировать в горнодобывающую промышленность Ирана $ 10 млрд.
Китайская корпорация "CITIC Group Corporation Hina" выразила готовность предоставить Ирану финансирование в размере $ 10 млрд., в основном, в горнодобывающую отрасль экономики, заявил высокопоставленный чиновник китайской компании Чжоу Яфан.
Чжоу Яфан заявил об этом во время встречи с главой Иранской организации шахт, развития горнодобывающей промышленности и реконструкции Мехди Карбасианом, в штаб-квартире IMIDRO в Тегеране. Китайское правительство, как ожидается, выдаст необходимые разрешения до конца этого года, и процесс финансирования начнется в 2017 году, уточнил китайский чиновник.
Чжоу призвал IMIDRO обеспечить "CITIC Group" списком своих приоритетных проектов в горнодобывающей отрасли, и выразил заинтересованность своей компании в секторах стали, угля, меди и алюминия Ирана.
Карбасиан, который также является заместителем министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли, сказал, что стоимость горнодобывающих проектов, находящихся в стадии реализации на стальных, медных и алюминиевых заводах, в частности, в районе Персидского залива, угольных проектов в центральной части Ирана, а также разработка Особой экономической энергетической зоны "Парс", оценивается в $ 2 миллиарда.
IMIDRO на своем годовом общем собрании, состоявшемся в субботу, сообщила, что добывающий сектор Ирана требует 15,3 $ млрд. прямых иностранных инвестиций для достижения целей, предусмотренных в Шестом пятилетнем плане развития страны (2016-2021 гг.).
"CITIC Group Corporation" является китайской государственной инвестиционной компанией, созданной в 1979 г. Его первоначальная цель состояла в том, чтобы "привлекать и использовать иностранный капитал, внедрять передовые технологии и принимать передовую и научную международную практику в эксплуатации и управлении".
В настоящее время, корпорация владеет 44 дочерними предприятиями, в том числе "China CITIC Bank", "CITIC Holding", "CITIC Trust Co." и "CITIC Merchant Co. Ltd", в Китае, Гонконге, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Стоимость активов "CITIC Group" достигает $ 200 млрд. Группа предоставила в 2015 году китайским компаниям $ 100 млрд. кредитов.

«Самая проблемная отрасль — строительство с устаревшими ГОСТами и СНиПами»
Интервью с председателем Алюминиевой ассоциации Иваном Матеровым
Ирина Быстрицкая
О позициях российских производителей алюминия, перспективных разработках и востребованности продукции, борьбе с демпингом и устаревшими стандартами в интервью «Газете.Ru» рассказал председатель Алюминиевой ассоциации Иван Матеров.
Необходимость новых стандартов
— Скоро исполнится год с момента, когда была создана Алюминиевая ассоциация. Что произошло за это время, как вы оцениваете ее текущие позиции на рынке?
— Мы видим большой интерес бизнеса к нашей деятельности, что позволяет говорить о том, что Ассоциация постепенно становится всероссийским объединением производителей, поставщиков и потребителей алюминия.
Сейчас в Ассоциации с учётом поданных заявок около 50 участников. В основном это крупные игроки, занимающие ведущие позиции в своих категориях. Однако чтобы сформировать полную и всестороннюю картину рынка, необходимо активное участие малого и среднего бизнеса. Пока они медлят, присматриваются. Уверен, в следующем году мы сможем переломить ситуацию.
— Несмотря на ослабление курса рубля, которое было выгодным для экспортных компаний, текущую конъюнктуру рынка нельзя назвать достаточно позитивной для компаний — цены на алюминий находятся около многолетних минимумов. Каковы главные задачи, которые сейчас объединение ставит перед собой?
— Внутренний рынок составляет около 1,5 млн тонн алюминия в год. И, несмотря на наметившийся рост, это все равно низкий уровень. Мы планируем увеличить потребление отечественного алюминия в России и СНГ к 2020 году до 2 млн тонн. И для этого есть все предпосылки.
— Методы стимулирования спроса, как и факторы, которые его сдерживают, бывают разные. Расскажите, какие законодательные, регуляторные изменения необходимы, на ваш взгляд, для роста потребления алюминия в России?
— Понимаете, в каждом сегменте свои вопросы.
Но, пожалуй, самой проблемной отраслью является строительство. Причина тому устаревшие ГОСТы, СНиПы и другие стандарты.
На протяжении многих лет мы наблюдаем мировую тенденцию расширения применения алюминия в строительстве. Только в Европе за последние 40 лет потребление алюминия для этих целей увеличилось почти в 15 раз и составляет 36 кг/чел в год. В нашей же стране все наоборот – потребление алюминия упало до 4,5 кг/чел.
Вследствие того, что большинство стандартов не менялось уже лет 20, строительные компании могут возводить современные здания только после разработки и утверждения специальных технических условий, что существенно удорожает и увеличивает сроки проектирования.
Более того, существуют ограничения на применение алюминия при возведении фасадных конструкций и в электропроводке домов, и многом другом.
— Неужели никто не обновляет стандарты и требования к строительным объектам? Как решить эту задачу?
— Существует Технический комитет по стандартизации (Технический комитет по стандартизации ТК 465 «Строительство». — «Газета.Ru»), который на государственном уровне должен решать эти вопросы. Но он крайне неповоротлив. Чтобы изменить ситуацию, необходимо изменить стандарты, ввести в действие современные материалы, технологии, методы испытаний и измерений.
Последние двадцать лет именно строительная отрасль, по сравнению с другими отраслями народного хозяйства, наиболее динамично развивалась. Поэтому накопилось много новаций, которые нужно вносить в нормативную базу. Для этого Алюминиевая ассоциация предлагает создать подкомитет «Конструкции и строительные материалы на основе алюминия в строительстве» и новый Технический комитет «Строительные материалы (изделия) и конструкции».
— Есть в этом вопросе поддержка со стороны органов власти?
— Конечно, есть. Так, в марте этого года премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение разработать План мероприятий по стимулированию спроса на продукцию высоких переделов из алюминия на 2016-2017 годы. Проект сейчас находится в аппарате правительства, проходит последние согласования. Документ станет руководством к действию.
Но даже без этого распоряжения многие ведомства понимают, что современные материалы на основе алюминия стимулируют развитие многих отраслей экономики.
Тот же Минстрой готов вместе с нами добиться снятия ограничений на применение кабельно-проводниковой продукции с использованием алюминия при строительстве зданий.
Спрос на высокие технологии
— Иван Сергеевич, давайте тогда перейдем с обсуждения регламентов к рыночным тенденциям. На ваш взгляд, в каких сферах алюминий может занять ведущие позиции?
— Во-первых, как мы уже говорили, это проводка из алюминия в жилых и коммерческих зданиях, а также долговечные и экологичные фасады и окна.
Во-вторых, достаточно перспективный сектор – это производство вагонов. Например, алюминиевый вагон-хоппер успешно прошел сертификацию, и уже есть первый заказ на 20 штук.
Уже в следующем году мы ожидаем увидеть эти вагоны в действии на железных дорогах.
Разумеется, одним из главных направлений остается автомобилестроение. Стремление к снижению веса автомобиля побуждает производителей делать алюминиевые двигатели, проводку, кузова, диски.
— Есть еще какие-нибудь инновационные примеры?
— Продвижением инновационной продукции мы тоже занимаемся. Это и алюминиевые трубы нефтегазового сортамента, и алюминиево-циркониевая катанка, и кабели из термокоррозионностойкого алюминиевого сплава (ТАС). Это, кстати, абсолютно новый продукт, предназначенный для нефтяных скважин. Главное его преимущество заключается в том, что он на 15-30% легче медных аналогов и примерно на 40% дешевле традиционной кабельной продукции. Этот кабель успешно прошел опытно-промысловые испытания в крупнейших нефтедобывающих компаниях. В настоящее время ассоциация, «Русал» и опытно-конструкторское предприятие «ЭЛКА-Кабель» ведут активную работу по продвижению данной продукции на российский рынок. Насколько я знаю, сейчас «ЭЛКА-Кабель» участвует в тендере на поставку 500 км кабеля.
— А что с высокотехнологичным сектором?
— Есть очень интересный проект по производству окиси алюминия особой чистоты для выращивания монокристаллов лейкосапфира, необходимых в производстве сверхярких светодиодов. Сейчас задача нашей ассоциации — полностью обеспечить потребность внутреннего рынка в этом продукте, которая, по прогнозам, достигнет 5 тыс. тонн к 2020 году, и наладить экспортные поставки не только этого сырья, но и готовой продукции – энергосберегающих светодиодных светильников.
В Набережных Челнах компания «Кама-Кристалл Технолоджи» уже запустила первую очередь производства окиси алюминия особой чистоты. Надеюсь, не за горами и производство светильников.
— Пока что вы упоминаете исключительно технические отрасли, если можно так сказать. Востребованность ограничивается только ими?
— Конечно, мы стимулируем спрос не только в них, мы работаем над повышением спроса на алюминий во всех отраслях промышленности, даже секторе товаров народного потребления. В ближайшие пять лет спрос на алюминиевые кастрюли и сковородки будет активно расти. По нашим прогнозам, к 2021 году объем российского рынка алюминиевой посуды вырастет на 11 тыс. тонн – до 33,6 тыс. тонн. И в этой ситуации наша ключевая задача — замещение импортной продукции, которая занимает более трети внутреннего рынка.
Что нам стоит мост построить
— У ассоциации, насколько известно, есть масштабные планы по продвижению на российском рынке мостов из алюминия. Так, в рамках прошедшего в этом месяце Восточного экономического форума (ВЭФ) она проводила переговоры с дальневосточными чиновниками по поводу их возведения. Расскажите, о чем удалось договориться?
— Результатом нашей встречи стала договоренность о строительстве двух пешеходных переходов: на въезде во Владивосток по дороге из аэропорта и на острове Русский при подъезде к комплексу зданий Дальневосточного федерального университета. Мы надеемся, что наш пилотный алюминиевый мост будет возведен уже в следующем году, к Восточному экономическому форуму — 2017.
— Сколько сейчас в России мостов из алюминия?
— В нашей стране алюминиевый мост – это пока большая редкость. На самом деле, пока существует только один такой мост — Коломенский в Петербурге, построенный в далеком 1969 году. Хотя ситуация и улучшается. Так, помимо Владивостока, в Нижегородской области принято решение о строительстве алюминиевых пешеходных переходов. Проект получил положительное решение госэкспертизы. Уже проведен тендер на строительство, выбран генподрядчик и производитель металлоконструкций. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2-го квартала 2017 года.
— А почему о проектах строительства необходимо договариваться профильным объединениям? Почему ситуация настолько неповоротливая? Все дело только в упомянутых вами требованиях и стандартах?
— Задача по продвижению строительных проектов совпадает с целью деятельности ассоциации. Одной из приоритетных задач алюминиевой промышленности является удвоение потребления алюминия до 2021 года. В этом приросте доля строительства занимает более 20%. В прошлые годы алюминий почти не использовался в гражданских секторах: энергетика и строительство обходились практически без него. Поэтому в настоящее время нет соответствующих документов и нормативов, предусматривающих использование алюминия в строительстве.
— То есть в России сейчас есть только один алюминиевый мост не из-за того, что обычные стальные лучше по каким-либо параметрам?
— Не из-за того. Даже более того, на самом деле выбор между алюминием и сталью достаточно простой.
По сравнению со стальными аналогами мосты из «крылатого металла» в 2 раза легче, не требуют регулярного восстановления антикоррозионного покрытия.
Кроме того, меньший вес металлоконструкций существенно облегчает и ускоряет процесс монтажа пролетных строений. Пролетные строения для небольших мостов, вписывающиеся в перевозные габариты, могут доставляться на стройплощадку в полной заводской готовности и сразу устанавливаться на опоры моста.
— А какая ситуация с материалом для мостов за рубежом? Насколько алюминиевые мосты распространены в мире?
— В других странах такой проблемы нет. Мосты из алюминия сейчас крайне востребованы и активно применяются по всему миру.
Например, в Европе около 280 пешеходных мостов из алюминия. В Китае принята десятилетняя государственная программа строительства 300 тыс. алюминиевых пешеходных мостов, примерно по 30 тыс. мостов в год.
Конкуренты не дремлют
— Раз уж речь зашла о зарубежье. Насколько борьбу зарубежных производителей алюминия можно назвать честной и конкурентной? Есть ли на мировом рынке демпинг или же при текущих ценах компании не могут себе это позволить?
— Недобросовестная конкуренция является одним из главных препятствий для развития российских производителей. В особенности это касается товаров, которых ввозят по заниженной стоимости из Китая.
Мы надеемся, что государство будет защищать рынок от демпинга, который сейчас наблюдаются на рынке алюминиевого профиля, велосипедов, фольги и даже колес.
— Дело, на ваш взгляд, именно в ценах? Может, наши предприятия недостаточно конкурентоспособны по качеству продукции?
— В нашей стране есть отличные предприятия, способные обеспечить рынок необходимым количеством качественных алюминиевых дисков. Но именно из-за демпинга со стороны китайских компаний они просто не могут конкурировать. Наша страна обладает огромным потенциалом экструзионных мощностей, который загружен немногим более чем на 50%.
— Что, по вашему мнению, может уравнять правила игры?
— Пока мы не введем ввозные пошлины, около 45% общего потребления алюминия и алюмосодержащей продукции в России и СНГ так и останется за импортом, а десятки отечественных предприятий продолжат терять работу, давая зарубежным производителям зарабатывать на нашем рынке.
— Как еще можно усилить позиции российского бизнеса? Можно ли, например, в текущих экономических условиях привлечь в сектор инвестиции? Кажется, не так давно зарубежным инвесторам был представлен проект «Алюминиевая долина». Как он продвигается и какие цели намечены?
— Что касается красноярской «Алюминиевой долины», то сейчас мы находимся уже на втором этапе обоснования создания особой экономической зоны (ОЭЗ) и индустриального парка. Идут переговоры с потенциальными инвесторами, мы выясняем параметры их бизнес-проектов и требования к инфраструктуре. С правительством Красноярского края согласуется местоположение и границы земельных участков.
Мы верим, что «Алюминиевая долина» даст огромный толчок развитию среднего и крупного бизнеса в Красноярском крае, привлечет значительные инвестиции иностранных партнеров, которые сегодня активно посещают потенциальную площадку.
— На какой объем привлеченных средств ориентируются инициаторы проекта?
— По нашим прогнозам, на начальном этапе сумма привлеченных инвестиций составит не менее $300 млн. Это ставит «Алюминиевую долину» в число крупнейших инвестпроектов края последних лет.
Поэтому заинтересованность и местных властей, и бизнеса вполне объяснима: запуск «Алюминиевой долины» сделает из Красноярска город, где создаются инновационные высокотехнологичные и высокодоходные продукты из алюминия для всех секторов экономики, что позволит производителям получить стратегическое преимущество.

Социально-экономическое развитие России: обретение новой динамики.
Статья Председателя Правительства России Дмитрия Медведева для журнала «Вопросы экономики».
Сокращенная версия (публикуется в «Российской газете»):
Российская экономика проходит период глубокой трансформации. И в ближайшие годы нашей стране предстоит осуществить коренное обновление своей экономической системы, соответствующее тем вызовам и изменениям, которые на наших глазах происходят в мировом социальном и экономическом порядке. Глобальный кризис, начавшийся в 2008 году и продолжающийся до настоящего времени, формирует новую повестку, вставшую перед всеми ведущими странами мира – развитыми и развивающимися.
Россия не является исключением. Нам предстоит сформировать модель развития, способную обеспечить нашей стране значимое место в современном мире.
Нынешний кризис обусловил нарастание нестабильности мировых рынков, функционирование которых существенно отличается от того, что было принято на протяжении предшествовавших десятилетий. Сформировался глобальный финансовый рынок, способный почти мгновенно перемещать по миру огромные суммы денег. Но не сформировалась адекватная ему система глобального регулирования.
Важнейшей особенностью современного этапа развития (и современного кризиса) становится политизация экономической жизни, особенно на международном уровне. Рынки все больше подчиняются политическим законам в ущерб законам экономики. Политический фактор все активнее вмешивается в экономическую политику, подчас подменяя собой рыночную конкуренцию. Разного рода санкции – лишь наиболее наглядное проявление этого тренда.
Экономическое развитие России оказалось под влиянием внешних шоков, которые остро дают о себе знать с 2014 года. К таковым относятся динамика цен на нефть и другие товары российского экспорта, а также санкции (прежде всего финансовые и технологические). Причем дело не только в глубине падения цен, что периодически случалось на протяжении последних десятилетий, а прежде всего в скорости падения. В 2015 году нефть подешевела вдвое практически за полгода, что беспрецедентно в современной экономической истории.
Но все-таки главным фактором низких темпов экономического развития являются структурные проблемы российской экономики, обострение которых стало результатом наложения двух обстоятельств. С одной стороны, это сам глобальный кризис. С другой, это исчерпание модели экономического роста 2000-х годов. Существенное снижение темпов роста началось задолго до падения цен на нефть и введения антироссийских санкций.
1. Экономический кризис: промежуточные итоги.
В конце 2014 года нам предрекали катастрофу, а один известный политик утверждал, что российская экономика будет «порвана в клочья». Нам пророчили неуправляемый бюджетный кризис, срыв в инфляционную спираль и длительное падение рубля, продолжительный и глубокий спад производства, скачок безработицы. В общем, катастрофический сценарий. И он действительно мог произойти, если бы мы сделали худший выбор, выдав нервную, популистскую реакцию на обрушившиеся на нас трудности (зафиксировать валютный курс, увеличить бюджетные расходы, зафиксировать цены и т.п.).
Вместо реализации внешне популярных, но безответственных предложений, мы занялись систематической работой по противодействию шокам и одновременно формированию условий для обновления экономической системы. Результаты оказались лучше большинства прогнозов. Мы выстояли потому, что удалось сформировать систему антикризисных мер, позволившую не допустить неконтролируемого развития ситуации.
Мы сохранили фундамент для обеспечения макроэкономической стабильности. Бюджет, хотя и не без потерь, справляется с теми тяжелыми вызовами, которые ставит перед ним внешнеэкономическая конъюнктура. Меняется структура доходов бюджета. Доля доходов, не связанных с нефтью и газом, составляет почти 60%. Это уже совсем другая экономическая модель.
Своевременные решения о переходе к инфляционному таргетированию позволили сохранить золотовалютные резервы и обеспечить устойчивость денежной системы. Инфляция неуклонно снижается и по итогам года не превысит 6%. А целевой ориентир в 4%, еще недавно многим казавшийся фантастическим, приобретает реальные очертания.
Несмотря на колебания валютного курса и в отличие от всех предыдущих кризисов, на этот раз не произошло ни бегства вкладчиков из банков, ни конвертации средств в иностранную валюту: в депозитах населения доминирующим остался российский рубль. За 2015 г. объем вкладов населения увеличился на 25%, объем средств на счетах российских предприятий – на 20%.
Банковская система проходит через трудный путь очищения, закрытия неэффективных банков. В первом полугодии 2016 г. Центральный банк прекратил деятельность 48 кредитных организаций, за 2015 г. было закрыто 93 банка. При этом Россия не столкнулась с банковской паникой. Банковская система работает достаточно стабильно.
Произошло значительное снижение оттока капитала. В 2015 году отток сократился более чем в 2,5 раза – до 58,1 млрд долл. (2014 г. – 153 млрд долл.). В 1-м полугодии 2016 г. он составил 10,5 млрд долл., по сравнению с 51,5 млрд долл. в 1-м полугодии 2015 г. Снижается совокупный внешний долг России. От максимума (733 млрд долл.) в середине 2014 г. он сократился на 30% (более чем на 200 млрд долл.) до 516 млрд долл.
Существенные изменения происходят и в реальном секторе. На протяжении длительного времени мы сетовали на «голландскую болезнь» - снижение эффективности и конкурентоспособности внутреннего производства из-за укрепления курса национальной валюты. Теперь «голландская болезнь» ослабла. Результатом стал рост конкурентоспособности и, соответственно, производства в ряде отраслей. В их числе металлургия, химическая промышленность, отрасли, производящие продукцию массового спроса (пищевые продукты, одежда и обувь), сельское хозяйство, отдельные подотрасли машиностроительного комплекса и фармацевтика. Уже по итогам 2015 года рост в этих отраслях составил: в пищевой промышленности (2%), в химическом производстве (6,3%) и в производстве нефтепродуктов (0,3%). На 26% увеличилось производство лекарственных средств. Устойчивую позитивную динамику демонстрирует сельское хозяйство: 2014 г. – 3,7%; 2015 г. –3% , за семь месяцев 2016 г. – 3,2%.
Напротив, более всего страдают те отрасли, которые ранее получали максимально благоприятные условия от роста спроса, основанного на рентных доходах – это, прежде всего, строительство и услуги.
Мы много говорим о важности импортозамещения. Прежде всего, надо видеть два существенных отличия от привычных (характерных для ХХ века) моделей импортозамещения. Во-первых, сейчас оно должно обеспечивать не только и даже не столько вытеснение импортных товаров, сколько появление производителей, конкурентоспособных на глобальном рынке. Во-вторых, в основе подлинного, а не искусственного импортозамещения лежат не валютные манипуляции и не административные подпорки для отечественных фирм, а создание условий, благоприятных для появления и развития российских компаний - глобальных чемпионов. Иными словами, импортозамещение - это не «лозунг дня», а часть нашей стратегии. Но уже сейчас мы можем наблюдать проявление эффектов импортозамещения.
Наибольший эффект наблюдался в производстве автотранспортных средств. В том числе и благодаря созданию совместных производств с иностранными компаниями снижение среднегодовой доли импорта в 2015 г. составило 22,5 п.п. Можно также отметить снижение доли импорта в производстве металлов и металлических руд (4,5 п.п.), текстильных и галантерейных изделий (7,8 п.п.), пищевых продуктов (4,1 п.п.).
Налицо улучшение финансового положения ряда предприятий и отраслей. Финансовый результат предприятий (прибыль) увеличился на 53.7% в 2015 г., что существенно выше инфляции. На счетах российских компаний находится более 21 трлн руб., из которых депозиты составляют более 12 трлн (рост на 40% за два года). Это создает основу для повышения инвестиционной активности.
Важным индикатором экономического развития является готовность населения инвестировать в жилье. В результате антикризисных мер уже в 2016 году удалось активизировать ипотечное кредитование. В 1-м полугодии объем предоставленных кредитов составил 665 млрд руб. (рост на 44%).
Но все стабилизационные меры не могут пока компенсировать главного проявления кризиса – падения благосостояния россиян. И хотя нам удалось не допустить скачка безработицы - не только в сравнении с 1990-ми годами, но и с 2009 годом, когда безработица превысила 9,0% против нынешних менее 6,0%, - за последние два года люди стали беднее. Снизились реальные располагаемые доходы, сократилась реальная зарплата.
Мы пошли на значительное расширение социальной поддержки. Эта статья расходов бюджета росла быстрее, чем расходы по большинству других направлений. В целом расходы бюджетной системы на социальную политику выросли в 2015 г. на 0,4% в реальном выражении (с учетом инфляции), расходы на пенсионное обеспечение – на 1,3%, в то время как совокупный объем расходов консолидированного бюджета в реальном выражении сократился на 5,1%. Социальная поддержка будет постоянно в центре внимания правительства, хотя мы хорошо понимаем, что лучший механизм обеспечения роста благосостояния – это устойчивый экономический рост.
Обязательным условием выполнения этой задачи является сохранение политической стабильности в стране. У нас только что прошли выборы. И очень важно, чтобы новая Государственная Дума обеспечивала законодательную платформу для ответа на экономические вызовы, которые стоят перед страной.
2. Экономический рост: задачи, риски, ограничения.
Экономический рост может не восстановиться автоматически после рецессии. По крайней мере, это касается развитых стран. В прошлом кризисы приводили к сжатию экономики, но после восстановления сбалансированности практически автоматически восстанавливался и экономический рост. Теперь ситуация меняется. Наглядным примером стала Япония, демонстрирующая на протяжении уже четверти века темпы роста, близкие к стагнации, причем ситуацию не удается улучшить никакими макроэкономическими экспериментами. Вот уже пять лет схожая картина наблюдается в еврозоне. Новая реальность, которая формируется в последние годы, требует, чтобы и задача восстановления экономического роста решалась по-новому. Эти же задачи стоят и перед Россией, хотя конкретные решения по запуску роста не будут у нас тождественны тем, которые реализуются в Японии или еврозоне. Что требуется для достижения устойчивого экономического роста? Нужны инвестиции – частные и государственные, внутренние и внешние. Инвестиции в настоящее время должны быть драйвером – более важным, чем рост потребления и экспортный спрос. Выход России на траекторию устойчивого роста требует существенного увеличения масштабов инвестиций - с нынешних 20% ВВП до 22-24%.
На первом месте по важности стоят, конечно, внутренние частные инвестиции. Необходимо выработать меры, которые бы не только стимулировали сбережения, но и способствовали трансформации их в инвестиции.
Очевидно, что проблема не в процентных ставках – в Европе они даже отрицательные, а инвестиции все равно стремятся к нулю. Проблема - в высоком уровне неопределенности, хотя она может проявляться по-разному в разных странах и регионах. Для одних СТРАН это непонимание бизнесом перспектив спроса. Для других – геополитическая неопределенность, отсутствие ясных приоритетов в деятельности национальных правительств. Свою роль играет и то, что принято у нас называть недостатками предпринимательского климата – слабая защита прав собственности, нестабильность «правил игры» и др.
Вырабатывая экономическую политику важно формулировать не только то, что необходимо сделать, но и то, чего правительство должно избегать. Вижу два ограничения, которые надо ставить при реализации курса на структурные реформы и экономический рост: популизм, с одной стороны, и проведение реформ за счет людей, с другой. Первое опасно и, в конечном счете, приведет ко второму, поскольку за популизм всегда платит народ. Между тем, характер необходимых структурных реформ не требует сейчас высокой социальной платы (в отличие от 1990-х годов).
Мы не можем допустить популизма – ни словесного, ни тем более бюджетного. Мы не будем идти по пути включения «печатного станка» и разбалансирования экономики – мер, за катастрофические последствия которых всегда расплачиваются люди. Если бюджету не хватает денег, мы не будем допечатывать их для покрытия недостающих доходов. Все понимают, что эмиссия необеспеченных денег – это просто производство бумаги, которое подстегнет инфляцию, обесценит доходы людей, зарплаты и пенсии.
Неприемлемы и предложения в текущих условиях ввести очень жесткое регулирование экономики, вернуться к образцам советского планирования. Именно жесткость советской модели привела к ее краху в условиях современного (постиндустриального) общества. Есть и ряд других идей внешне столь же простых, сколь и опасных: от перехода к мобилизационной экономике, национализации крупных компаний до тотальной распродажи всей государственной собственности.
Реальная работа – в отличие от агитации – предполагает глубокие структурные реформы, суть которых - повышение эффективности в государственном (бюджетном), и в частном секторах. Это уже совсем другие проблемы и трудности в сравнении с массовым закрытием предприятий, потерей доходов или деградацией социальной сферы, которое мы наблюдали в начале 90-х.
И здесь важна не только направленность, но и темп проведения реформ. Правительство обязано тщательно анализировать все последствия предпринимаемых им шагов – и занимать по таким вопросам более выверенную, даже более консервативную позицию.
3. Контуры экономической политики на предстоящий период: приоритеты.
В рамках этой статьи хотелось бы сосредоточиться на ключевых направлениях, без которых перспективное развитие практически невозможно.
Эффективная бюджетная политика является непременным условием адаптации экономики к новым реалиям.
Важной задачей в бюджетной сфере является определение баланса между необходимостью жить по средствам и созданием бюджетных стимулов для возобновления роста.
Мы продолжим оптимизацию расходов бюджета, сокращая менее эффективные расходы и в силу доходных возможностей наращивая более эффективные, те, которые обеспечивают повышение производительности российской экономики. К таковым, в первую очередь, относятся инвестиции в человека (это именно инвестиции, а не расходы). Второй составляющей являются инвестиции в транспортную инфраструктуру.
В последние годы наблюдалось ухудшение ситуации с региональными бюджетами – быстро рос их долг, прежде всего дорогой, коммерческий. Нам удалось остановить рост долговой нагрузки на регионы. Теперь стоит задача повышения устойчивости региональных и местных бюджетов: необходимо обеспечить их стабильность и более четко урегулировать ответственность разных уровней управления друг перед другом, а главное - перед людьми.
Структурные реформы обеспечат повышение конкурентоспособности экономики. Они требуют реализации комплекса мер как общего, так и точечного воздействия.
Мы рассчитываем на эффективную реализацию новых мер, содержащихся в законе о промышленной политике. Среди них - режим специального инвестиционного контракта, который гарантирует предсказуемость условий в течение 10 лет. Большие надежды возлагаем на Фонд развития промышленности, который недавно заработал и уже неплохо себя зарекомендовал. Будут использоваться и другие меры финансовой поддержки растущих фирм, включая предоставление субсидий и государственных гарантий, софинансирование исследований и разработок, меры стимулирования спроса (в том числе через госзакупки).
Важным фактором диверсификации экономики должен стать малый бизнес. Работает Корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП). В рамках национальной гарантийной системы МСП объем выданных гарантий и поручительств уже достиг 45 млрд рублей, что означает объем общего кредитования МСП в размере порядка 90 млрд рублей. Ставки по этим программам составляют 10-11%, причем планируется их дальнейшее снижение. Корпорация будет поддерживать не только те компании, которые работают на внутренний рынок, но и фирмы, имеющие экспортный потенциал. Благодаря инструментам поддержки будет, по крайней мере, в два раза увеличена доля малых и средних предприятий в экспорте.
Способность экспортировать несырьевую продукцию должна стать одним из основных критериев при решении вопроса об оказании государственной поддержки тому или иному проекту, предприятию. На это нацелены созданные в последнее время институты поддержки экспорта, включая «ЭКСАР» и Российский экспортный центр (РЭЦ). Вместе с тем следует отказаться от использования инструментов государственной поддержки при отсутствии внятных показателей эффективности и сроков вывода продукции на мировой конкурентоспособный уровень.
Предстоит переосмыслить ряд привычных подходов к внешней торговле, включая понятие защиты отечественного бизнеса. В современном мире стоит задача включения отечественных производителей в глобальные цепочки добавленной стоимости. Наиболее эффективные и конкурентоспособные товары состоят из компонентов (включая оборудование), производимых в разных странах. То есть искусственные ограничения импорта нередко становятся ограничениями для экспорта.
Несмотря на сложности геополитического характера, Россия будет продвигаться по пути внешнеэкономической открытости, создания зон свободной торговли с отдельными странами и группами стран, подписывать преференциальные торговые соглашения. Мы видим огромные возможности, которые открывает либерализация международной торговли, осуществляемой на равноправной основе. Естественно, что в центре нашей интеграционной повестки будет находиться Евразийский экономический союз.
Реализация структурных реформ потребует также оздоровления предпринимательского климата и повышения качества государственного управления.
Стимулирование предпринимательства. Прежде всего необходимо переломить негативные ожидания бизнеса, обеспечить снижение экономических, политических и правоприменительных рисков предпринимательской деятельности.
Способность властей выполнить взятые на себя обязательства станет фактором усиления предсказуемости и ослабления негативных ожиданий бизнеса. В частности, предсказуемость должна быть обеспечена в налоговой политике.
Не менее важно упорядочение контрольно-надзорной деятельности, обеспечение ее прозрачности, внедрение риск-ориентированного подхода к осуществлению соответствующих мероприятий. При помощи «дорожных карт» Национальной предпринимательской инициативы мы стали расчищать всю эту систему от барьеров, часть которых сохраняется еще с советских времен. Упрощены процедуры в строительстве, регистрации прав собственности, в подключении к энергосетям, в налоговом и таможенном администрировании.
Одна из самых чувствительных для предпринимателей тем – защита частной собственности, защита от давления на бизнес, которое иногда доходит до его ликвидации. В этой связи следует напомнить как об уже принятых, так и обсуждаемых мерах, направленных на ослабление избыточного контрольно-надзорного и незаконного силового давления на предпринимателей. Так, с начала 2016 г. малый бизнес на три года освобожден от проведения плановых проверок со стороны органов государственного и муниципального контроля. Обсуждаются меры, направленные на то, чтобы представители правоохранительных структур несли повышенную ответственность, включая уголовную, за незаконные действия, препятствующие предпринимательству и разрушающие бизнес. Президентом создана рабочая группа по разрешению конфликтных ситуаций между силовыми ведомствами и бизнесом, прежде всего за счет выработки рекомендаций по совершенствованию законодательства.
Наконец, неотъемлемой частью здорового предпринимательского климата является развитие конкуренции. Нам здесь еще многое предстоит сделать. Сейчас прежде всего надо бороться с административным монополизмом и монополизмом крупных корпораций, а не с теми небольшими фирмами, которые благодаря эффективности оказываются способными занять доминирующие позиции на локальном рынке.
Предстоит повышать эффективность системы закупок – государственных, муниципальных, а также госкомпаний. Практически завершено формирование основных институтов федеральной контрактной системы, за счёт чего в 2015 году удалось сэкономить более 300 млрд рублей. Расширяется вовлеченность небольших компаний в систему госзакупок, общий объем участия которых достигает 700 млрд рублей, а в следующем году должен превысить 1 трлн рублей.
Практика показывает: готовность предпринимателя инвестировать зависит в первую очередь от регионов. Здесь закладываются основы доверия между властью и бизнесом. Со своей стороны, правительство создает дополнительные возможности и институты для повышения инвестиционной привлекательности регионов, включая территории опережающего развития, особые экономические зоны, индустриальные парки и технопарки. Оно будет внимательно следить за эффективностью этих институтов и оперативно принимать решения как по закрытию тех, которые демонстрируют неэффективность, так и по формированию новых механизмов там, где налицо эффективная работа региональных администраций.
Качество государственного управления.
Мы двигаемся по пути оптимизации и упрощения организации государственного аппарата. Сокращение на 10% численности государственных служащих на федеральном и региональном уровне, которое было осуществлено в 2016 году – болезненное, но относительно простое мероприятие в этом направлении.
Важным шагом является создание единого механизма администрирования налоговых, таможенных и других фискальных платежей. Произошла консолидация ряда функций органов исполнительной власти. Эта работа будет продолжена. Рассчитываем на ее распространение на региональный уровень.
Следующим крупным шагом становится переход к выделению специальных проектных команд, которые должны будут обеспечить достижение приоритетных задач, без чего трудно будет добиться качественного изменения жизни общества. У нас уже есть позитивный опыт реализации приоритетных национальных проектов. Опираясь на него, мы можем придать новое качество функционированию институтов государственного управления. Работу в этом направлении координирует Президентский совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Эффективность социального развития.
Экономическая политика важна не сама по себе, а должна обеспечить условия для роста благосостояния. На это направлены изданные в мае 2012 г. указы Президента В.В.Путина.
Несмотря на все трудности последнего времени, у нас есть важные достижения, которые составляют основу для дальнейшего роста. Во-первых, вот уже на протяжении трех лет растет численность населения России – впервые с конца 1980-х годов. Во-вторых, увеличивается доля семей с числом детей больше одного. В-третьих, продолжительность жизни достигла 71 года, и хотя это еще невысокий показатель для развитой страны, он достигнут впервые в многовековой истории России.
Основная задача, которая стоит перед социальной политикой – оказать помощь тем, кто в ней нуждается (это, прежде всего, пенсионеры, дети и инвалиды), и дать возможность зарабатывать тем, кто хочет и может работать.
Семьям с детьми будет оказываться энергичная поддержка. Важным инструментом социальной политики стал материнский капитал. Правительство расширило сферы его применения и продлевает сроки реализации этой программы. Будет продолжена выплата ежемесячных пособий многодетным семьям, включая дотации на жилищно-коммунальные услуги. В течение трех лет должна быть ликвидирована очередь на земельные участки для многодетных семей или предоставлено жилье.
Необходимо выработать комплексную программу помощи пожилым людям. Она даст возможность как получения адекватной медицинской помощи, так и максимально возможного сохранения активного образа жизни.
Предстоит повысить эффективность рынка труда. Нас не должна успокаивать относительно низкая безработица в стране. Продолжающееся снижение численности населения в трудоспособном возрасте требует более активных мер по задействованию имеющихся трудовых ресурсов, по концентрации их в точках экономического роста.
По мере восстановления экономического роста возможности трудоустройства будут расширяться. Однако это совсем не повод для успокоительных выводов, если мы говорим о новом качестве роста. Перед нами стоит задача по созданию миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Ее решение неизбежно предполагает массовую модернизацию производства, закрытие, временную остановку или реконструкцию предприятий, а с этим всегда связаны сокращения или переобучение или смена места работы. Поэтому появятся повышенные требования к рынку труда. Да, по демографическим причинам на этот рынок теперь поступает меньше новых работников, что может облегчить проблемы с занятостью, возникающие при модернизации экономики. Однако для реальной жизни это слишком простое уравнение. Далеко не всегда будут совпадать искомые профессии, специальности и регионы.
К числу самых актуальных социально-экономических проблем относятся состояние и перспективы пенсионной системы. Эти проблемы далеко не ограничиваются вопросом о возрасте выхода на пенсию, который может быть решен лишь на основе взвешенного и всестороннего общественно-экспертного обсуждения. В ходе такого же обсуждения выдвигаются разные предложения по развитию пенсионной системы, включая отмену обязательных пенсионных накоплений, переход на стимулированные государством добровольные накопления и т.д.
Выбор той или иной пенсионной модели – задача не только чрезвычайно ответственная, но и крайне сложная. Трудно даже назвать наиболее адекватную модель, которую признали бы таковой во всем мире или, по крайней мере, в развитых странах с более высокой продолжительностью жизни. Однако при любом выборе распределение ресурсов пенсионной системы должно строиться с учетом приоритетности поддержки людей старшего пенсионного возраста.
Здравоохранение и образование были в числе приоритетных национальных проектов 2000-х. Приоритетными они остаются для нас и в настоящее время. Они вошли и в перечень стратегических проектов предстоящих лет.
Качественное образование – источник конкурентоспособности страны, определяющий ее позиции в мире на десятилетия вперед. Сейчас нужно сосредоточиться на доступности качественного школьного образования. Именно в школе закладываются интеллектуальные и технологические успехи страны. При всей важности университетов в них происходит профессиональная настройка, эффективность которой в значительной мере определяется эффективностью школьного образования. Через 10 лет количество школьников вырастет на 3,5 млн человек, и они должны будут учиться в современных учебных заведениях.
Приоритетным является и профессиональное образование. Ключевые задачи здесь - обеспечение возможности прохождения переобучения на протяжении всей профессиональной карьеры. Все более актуальна проблема образования для уже взрослых людей и более старших поколений – переобучение, приобретение второй специальности, овладение компьютерной грамотностью. Требуется расширить доступность дополнительного образования. Учебные заведения, которые развивают программы дополнительного образования для разных категорий населения, должны получать стимулы к расширению такой деятельности.
Оценивая затраты и усилия на развитие образования, необходимо понимать, что речь идет о высококонкурентной сфере. В мировой экономике развернулась острая конкуренция за кадры. В современном мире люди получили возможность выбирать, где им учиться, а потом и работать. Эту конкуренцию мы не имеем право проигрывать.
Система здравоохранения – уровень ее развития определяет качество жизни человека. Задачи, которые предстоит решить в этой сфере, по сложности превосходят те, которые уже удалось решить. Например, капиталовложения, сделанные в последние годы в современное медицинское оборудование, по своим масштабам превышают все, что делалось ранее. Но еще важнее – вопрос его квалифицированного использования, эффект, который мы должны от этого получить.
Любая реформа в такой чувствительной сфере, как здравоохранение требует выполнения обязательного условия – должны быть четко и понятно определены государственные гарантии бесплатного оказания медицинской помощи.
В числе приоритетных направлений - развитие первичной медико-санитарной помощи, телемедицина, внедрение единой электронной карты пациента. Важнейший приоритет - обеспечение доступности и качества лекарственных препаратов, в том числе для малообеспеченных пациентов, последовательная борьба с фальсификатами в торговых сетях, значительное повышение эффективности системы контроля за качеством лекарств. Контроль за качеством производимых препаратов, медикаментов и медицинской техники тем более актуален, что в стране начался важный процесс импортозамещения в этих сферах: люди должны быть уверены в качестве отечественной продукции.
***
В предстоящие годы Россия будет сталкиваться с конкуренцией и соперничеством между странами за рынки, инвестиции и человеческий капитал, продолжающимися торговыми и финансовыми запретами, относительным падением стоимости товаров ее традиционного экспорта. Бессмысленно ждать возвращения благоприятной сырьевой конъюнктуры. Такая стратегия обрекала бы нашу страну на отставание, понижение уровня жизни, закрывала бы перспективы выхода на передовые позиции в экономике и социальной сфере. Не имеют перспектив и ожидания, что проблемы экономического развития могут быть решены преимущественно за счет государственных средств. Приоритет государства – безопасность, инвестиции в человека, помощь наиболее уязвимым слоям населения, инфраструктура. Им должна отвечать и структура бюджета России.
В этих условиях критически важно не просто восстановить экономический рост, а добиться долговременных и устойчивых его темпов. Новая модель экономического роста – это, прежде всего, увеличивающиеся частные инвестиции благодаря созданию делового климата, поощрению предпринимательской инициативы. Мы должны обеспечить привлекательность российской юрисдикции для бизнеса.
Сложность задач, которые необходимо решить, масштаб вызовов, на которые необходимо ответить, особенно в условиях ограниченных ресурсов, требуют от нас очень точных действий. Только в этом случае мы сможем в обозримом будущем увидеть не просто контуры новой структуры экономики, а вполне ощутимые результаты.
Результаты, которые, прежде всего, почувствуют люди. Результаты, которые дадут возможность России играть одну из ведущих ролей в мировой экономике. Результаты, которыми мы все сможем гордиться.
Полная версия статьи публикуется в журнале «Вопросы экономики», выпуск №10 за 2016 г.

27 августа – 4 сентября 2016 г. в Кейптауне (ЮАР) состоялась 35-я сессия Международного геологического конгресса (МГК) – крупнейшего форума в области фундаментальных и прикладных исследований наук о Земле, который проводится под эгидой Международного союза геологических наук (IUGS) на регулярной основе один раз в четыре года, начиная с 1878 г.
В работе 35-й сессии МГК приняли участие 4 тыс. человек более чем из 100 стран мира. Российскую официальную делегацию на конгрессе возглавил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ – руководитель Федерального агентства по недропользованию Е.А. Киселев.
Научная программа конгресса состояла из трех крупных разделов:
-Геонауки для общества (15 тематических сессий);
-Геонауки для экономики (11 тематических сессий);
-Фундаментальные геонауки (21 тематическая сессия).
В рамках МГК прошла выставка GEOEXPO-2016, где были представлены 132 экспозиции геологических служб, международных и национальных научных организаций, компаний, университетов из разных стран мира.
Одной из крупнейших на выставке GEOEXPO-2016 была экспозиция Министерства природных ресурсов и экологии РФ и Федерального агентства по недропользованию. Она размещалась на площади 72 кв.м и включала три тематических раздела:
1. Заявка России на право проведения 37-й сессии Международного геологического конгресса в 2024 г.
2. Россия и международные проекты по геологическому изучению и оценке минерально-сырьевого потенциала крупнейших регионов Мира.
3. Геология и полезные ископаемые России.
В подготовке экспозиции приняли участие специалисты ВСЕГЕИ, ВНИГНИ, ВИМС, ИМГРЭ, ВНИИОкеангеологии, Росгеолфонда, Гидроспецгеологии, ВСЕГИНГЕО, ЦНИГРИ, АЦ «Минерал». Информационные материалы для экспозиции были также предоставлены ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Росгеология». Большую помощь в организации экспозиции оказала Холдинговая компания «Металлоинвест».
Особенностью 35-й сессии МГК явилось представление заявки России на право проведения 37-й сессии Международного геологического конгресса в 2024 г. в Санкт-Петербурге. Заявка России была подготовлена Всероссийским научно-исследовательским геологическим институтом им. А.П. Карпинского совместно с Минприроды России, Федеральным агентством по недропользованию, Российской академией наук, администрацией Санкт-Петербурга в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации.
Кроме России на право проведения 37-й сессии МГК в 2024 г. претендовали Германия (официальные партнеры – Польша, Франция), Турция, Республика Корея. По результатам голосования членов IUGS право проведения 37-й сессии МГК получила Республика Корея.
Российская делегация приняла участие в пленарных и секционных заседаниях конгресса, в работе Совета Международного союза геологических наук и Международного геологического конгресса, заседании Международного союза геологических наук, Специального симпозиума PanAfGeo (по приглашению Генерального секретаря Ассоциации Европейских геологических служб), а также в брифинге Совета Международного геологического конгресса. Кроме того, были проведены рабочие встречи с делегациями геологических служб Китая, США, Республики Корея, Казахстана, Узбекистана.
По инициативе России в рамках научной программы конгресса была организована работа сессий «Глубинные процессы и металлогения Восточной-Центральной Азии», конвинеры Петров О.В. (Россия), Д.Шувэнь, Ли Тиндун (Китай) и «Тектоническая эволюция Арктики», конвинеры М. Смерлор (Норвегия), Петров О.В. (Россия).

Выступление и ответы на вопросы СМИ Министра иностранных дел России С.В.Лаврова в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Министром иностранных и европейских дел Великого Герцогства Люксембург Ж.Ассельборном, Москва
Уважаемые дамы и господа,
Мы провели хорошие, содержательные переговоры с моим люксембургским коллегой Ж.Ассельборном.
Люксембург – наш давний партнер: в этом году мы отмечаем 125-летие со дня установления дипломатических отношений между Российской Империей и Великим Герцогством Люксембург.
Связи между нашими странами являются весьма многосторонними, многогранными. Люксембург – один из крупнейших иностранных инвесторов в России. Развиваются межпарламентские связи, межрегиональные обмены, контакты в сфере науки, образования, культуры.
У нас достаточно интенсивный политический диалог. Сегодня мы обсудили возможности его дальнейшей активизации. Приветствуем устойчивый интерес деловых кругов к расширению взаимного сотрудничества. На российском рынке работают флагманы люксембургской промышленности, включая компанию «СЕС Глобал» в космической отрасли, «Пауль Вюрт» в металлургии, «Гардиан Индастриз» в производстве высокотехнологичного стекла. Железнодорожные компании России и Люксембурга разрабатывают проект создания совместного многопрофильного логистического транспортного узла в рамках международного проекта «Шелковый путь Евразии». В числе перспективных направлений приложения усилий – совместный с компанией «Свободный порт Люксембург» проект создания в Приморском крае особой зоны «Свободный порт Владивосток», который буквально несколько дней назад обсуждался иностранными партнёрами с российскими представителями на втором Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
Мы отметили, что наша торговля, конечно, пострадала от нынешнего состояния отношений между Россией и Евросоюзом, от общемировой конъюнктуры. В прошлом году товарооборот сократился на 25,9 %. Однако в этом году по итогам первых шести месяцев тенденция изменилась, и товарооборот уже увеличился более чем на 9 %. Мы рассчитываем, что принятые на состоявшемся в феврале этого года заседании Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Бельгийско-люксембургским экономическим союзом решения позволят эту позитивную тенденцию укрепить.
Мы обменялись мнениями об отношениях между Россией и Евросоюзом, говорили и о наиболее острых и привлекающих всеобщее внимание конфликтных ситуациях, прежде всего, о ситуации на Украине и положении дел на Ближнем Востоке и Севере Африки.
По Украине мы убеждены в необходимости сдвинуть с «мертвой точки» процесс выполнения Минских договоренностей. Для этого Киев, ДНР и ЛНР должны пройти свою часть пути и выполнить взятые на себя полтора года назад обязательства. От наших украинских коллег добиваемся выполнения обязательств по проведению конституционной реформы с тем, чтобы законодательно закрепить на постоянной основе особый статус Донбасса, проведение амнистии, организацию местных выборов на территориях ДНР и ЛНР. Все это необходимо решать через прямой диалог с Донецком и Луганском в рамках Контактной группы, от чего Киев в последнее время старается устраниться. Ознакомили г-на Ж.Ассельборна и его делегацию с работой в рамках Контактной группы и «нормандского» формата, где представители России, Германии, Франции вместе с украинскими представителями стараются добиться выполнения перечисленных мной обязательств в сфере политических реформ на Украине. По нашему глубокому убеждению, линия Киева на то, чтобы сначала обеспечить режим полной тишины как минимум в течение месяца и только потом начать обсуждать политические аспекты Минских договорённостей, нацелена на то, чтобы бесконечно затянуть процесс. В ответ мы предлагаем разработать параллельную «дорожную карту», в рамках которой каждый шаг в сфере укрепления режима безопасности сопровождался бы шагом по продвижению политических реформ, прежде всего, в виде тех законопроектов, которые Киев обязался разработать и принять.
Мы поговорили о Ближнем Востоке и Северной Африке, прежде всего, в свете ситуации, которая складывается с усилением позиций террористических группировок, необходимости бескомпромиссно бороться с ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусрой» и всеми, кто прячется под их «зонтиками». Говорили о том, что принятый 9 сентября в Женеве пакет документов, согласованный Россией и США, который вступил в силу вчера, должен помочь начать двигаться к урегулированию сирийского кризиса в контексте решения антитеррористических задач, улучшения гуманитарной ситуации, укрепления режима прекращения боевых действий против участников перемирия, к числу которых террористы, конечно, не относятся. Все это должно создать предпосылки для возобновления межсирийского политического процесса, с которым больше тянуть просто недопустимо. Мы об этом сказали, находясь в Женеве, специальному посланнику Генсекретаря ООН С.де Мистуре.
У нас состоялся очень интенсивный хороший разговор. Мы признательны наши коллегам за такой диалог. Будем продолжать поддерживать контакты по этим и по другим вопросам международной повестки дня.
Вопрос (обоим министрам): Какова перспектива проведения прямых палестино-израильских переговоров? Есть ли конкретика по срокам и месту возможной встречи М.Аббаса и Б.Нетаньяху? Будет ли это Москва или Люксембург, о котором недавно говорила израильская сторона?
В интервью немецкой газете «Вельт» Министр иностранных дел Люксембурга Ж.Ассельборн сказал, что Венгрии не место в ЕС. Есть ли еще страны, которым нет места в Европейском союзе? Помогают ли подобные заявления удерживать единство ЕС в условиях высокой турбулентности в европейском обществе? Как вам видится ситуация с сохранением единства Европейского союза, учитывая современные вызовы?
С.В.Лавров: В отличие от некоторых других участников международного общения, мы не вмешиваемся во внутренние дела отдельных стран или организаций. Мы заинтересованы в том, чтобы у нас были максимально стабильные, надежные, предсказуемые партнеры. Это, пожалуй, является основным критерием.
Что касается возможности прямых палестино-израильских переговоров, то напомню, в одном из своих выступлений Президент Египта А.-Ф.Х.Ас-Сиси высказался в пользу проведения прямой встречи между Премьер-министром Израиля Б.Нетаньяху и Президентом Государства Палестина М.Аббасом в Российской Федерации. Мы будем к этому готовы. Место встречи, будь это Москва, другая часть России или третья страна, должны определять сами лидеры Израиля и Палестины. В отношении времени мы тоже будем ориентироваться на их готовность к такому контакту. В любой момент, когда все обстоятельства сойдутся в одной точке и лидеры Израиля и ПНА будут к этому готовы, если выбор падет на Россию, мы будем делать все, чтобы такая встреча прошла успешно.
Вопрос: В данный момент поступают новости о том, что ВВС Израиля нанесли удары по силам Сирии на юге страны. Как бы Вы могли прокомментировать подобные события? Как они могут повлиять на ход мирных переговоров по Сирии?
Удалось ли Москве в Женеве убедить Вашингтон в необходимости расширить список террористических группировок на территории Сирии за счет тех, кого Вашингтон до последнего считал оппозицией? Если да, то о каких группировках идет речь? Опираясь на последние договоренности с Государственным секретарем США Дж.Керри, как Вы расцениваете шансы размежевать оппозицию и террористов в Сирии?
С.В.Лавров: Я думаю, что Вы имеете в виду Голанские высоты. Если это так (потому что иных новостей я не слышал), то, конечно, ситуация на Голанских высотах – отражение общей дестабилизации Ближнего Востока и резкого нарастания там террористической угрозы, с которой, конечно, нужно бороться. На Голанских высотах есть террористы, признанные всеми врагами человечества. Разумеется, бороться с ними, включая нанесение ударов, нужно таким образом, чтобы оставаться в рамках резолюций Совета Безопасности ООН, посвященных Голанским высотам. В целом, конечно, следует проявлять сдержанность, не допускать каких-либо провокаций. Мы исходим из этого в наших контактах с израильтянами, сирийцами и другими странами этого региона.
Что касается Сирии, то передо мной сейчас стоит более актуальная задача – сделать так, чтобы список террористических группировок не сокращался. Есть слишком много свидетельств того, что бывшая «Джабхат ан-Нусра», которая сейчас называется «Джабхат Фатх аш-Шам», рассматривается очень многими участниками процессов на Ближнем Востоке и в Северной Африке в качестве силы, которую нужно сохранить для того, чтобы впоследствии, возможно, использовать ее для смены режима в Сирии. Я напрямую задавал этот вопрос Госсекретарю Дж.Керри. Он категорически отрицает, что в планы США входит «покрывательство» «Джабхат ан-Нусры», отведение от нее угрозы американской и коалиционной авиации. Повторю, об этом мне говорил Государственный секретарь США Дж.Керри. Я не имею оснований не доверять ему и его искренности в том, чтобы «Джабхат ан-Нусра» оставалась в списке террористических организаций, где она сейчас находится.
Но есть целый ряд свидетельств того, что не все так думают и считают. Есть, например, организация «Ахрар аш-Шам». В самом начале создания МГПС мы предлагали включить ее наряду с ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусрой» в список террористических организаций. Тогда наши партнеры отказались это делать. Для того, чтобы не затягивать процесс вступления в силу резолюции Совета Безопасности ООН, мы пошли на компромисс и сохранили в террористических списках только ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусру». Теперь один из лидеров «Ахрар аш-Шам» в интервью, по-моему, саудовским СМИ, комментируя нашу с американцами договоренность от 9 сентября, заявил, что основной проблемой для выполнения этой договоренности является сохранение «Джабхат ан-Нусры» в качестве террористической организации, на которую не распространяется режим прекращения боевых действий. Далее он заявил, что «Джабхат ан-Нусра» якобы порвала связи с «Аль-Каидой» и решает задачи сирийской революции вместе с другими умеренными группировками, участвуя в совместных с ними операциях против режима. Подобные высказывания я прочел и в британских СМИ, где комментаруя российско-американскую договоренность от 9 сентября, также заявляют, что проблема с ее выполнением будет заключаться в том, что «Джабхат ан-Нусра» «несправедливо оставлена в качестве террористической организации». Это предмет для очень серьезного разговора с нашими американскими партнерами. Я уже сказал, у меня нет оснований не верить Госсекретарю Дж.Керри, но мы видим то, что происходит «на земле» в Сирии: коалиция как-то очень неохотно работает по позициям «Джабхат ан-Нусры». Поэтому те, кто в Вашингтоне отвечает за военную часть этих процессов, наверное, могли бы предоставить какую-нибудь информацию.
Еще один лишь момент. Говоря о договоренности от 9 сентября, которую Россия и США заключили в Женеве, мы слышим комментарии из Вашингтона в том ключе, что США не уверены, что Россия будет выполнять условия договоренности в той форме, как они написаны. В частности, с таким заявлением выступил официальный представитель Белого Дома Дж.Эрнест. Странное заявление, учитывая то, что договоренности включают переподтверждённые обязательства США отмежевать террористов от умеренной оппозиции. Такое обязательство США взяли еще в начале этого года. Скоро будет 12 месяцев, как это произошло, но ничего не сделано. Более того, как я сейчас процитировал, уже раздаются голоса о том, что нужно не отмежевывать умеренных оппозиционеров от «Джабхат ан-Нусры», а вообще ее легализовать, может быть, даже присоединять к ней новые группировки с тем, чтобы создать более эффективную военную силу «на земле» для противодействия армии САР. Все это требует очень откровенного разговора.
Чтобы не возникали сомнения насчет того, как мы будем выполнять договоренность в том виде, как она заключена, мы предложили опубликовать ее, а не сохранять в секрете, как этого хотели бы наши американские партнеры. Нам скрывать нечего. Все, что там написано – это предмет согласия. Мы взяли на себя обязательства выполнять все добросовестно и побуждать всех, от кого зависит выполнение различных разделов этого документа, к такому же честному и открытому выполнению. Будем добиваться опубликования этого документа. Думаю, что мировое общественное мнение, включая СМИ, заинтересовано в этом. Предлагаем одобрить этот документ резолюцией Совета Безопасности ООН без каких-либо изменений.

При поддержке Минпромторга реализован новый металлургический инвестпроект в Ставрополье.
В Невинномысске Ставропольского края завод «СтавСталь» торжественно запустил в эксплуатацию новый электросталеплавильный цех. Инвестиционный проект получил государственную поддержку по линии Министерства промышленности и торговли РФ на компенсацию части затрат по уплате процентов за инвестиционный кредит.
Реализация проекта позволит решить ряд важных проблем для региона: увеличение рабочих мест, производство материалов для стройиндустрии и утилизация металлолома.
Открытие электросталеплавильного цеха завершило реализацию двух очередей инвестиционного проекта по строительству завода «СтавСталь», стоимость которых уже превысила 10 млрд рублей. В перспективе завод откроет еще два цеха по производству стальных строительных материалов. Численность персонала предприятия вырастет до 900 человек.
Мощность электросталеплавильного цеха позволяет переплавлять до 500 тыс. т стали в год. Итогом работы трех печей цеха становится литая заготовка – стальной полуфабрикат для металлургических производств. Основной объем заготовки, около 350 тыс. т в год, будет перерабатываться на этом же заводе – первый, прокатный цех производит из таких заготовок востребованную в строительстве стальную арматуру. Производство собственной заготовки позволит получать гарантированно качественный металл, обеспечить бесперебойную работу производства и снизить себестоимость продукции.
Отличительная черта электросталеплавильного цеха завода «СтавСталь» в том, что его печь выплавляет заготовки из металлолома, а не из руды. Технологии производства соответствуют высоким требованиям экологической безопасности, а расположение завода выбиралось с учетом розы ветров, чтобы обезопасить жителей региона и работников завода от любых возможных выбросов в процессе плавки лома.

Анатолий Чубайс: к Hyperloop мы присматриваемся, но пока не готовы инвестировать.
Инновации, которым на сегодняшний день уделяет большое внимание как государство, так и бизнес, тесно связаны с нанотехнологиями. Формированием в России конкурентоспособной нанотехнологической индустрии занимается группа РОСНАНО.
Председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2016) рассказал о том, чем компании интересен Дальний Восток и страны АТР, почему нужно научиться делать в России газовые турбины больших мощностей, какие нанотехнологии нужны для развития беспилотников и «интернета вещей» и как мнения экспертов об одной и той же идее могут разниться от «абсолютный идиотизм» до «гениальное решение».
— Мы с вами беседуем, находясь на Дальнем Востоке, и исходя из этого вопрос: как РОСНАНО планирует развиваться в этом регионе?
— У нас уже есть проекты на Дальнем Востоке, это не какая-то закрытая территория. У нас был хороший проект, в рамках которого мы добывали в Приморье сырье, из него затем производили материал для приборов ночного видения — германий. Этот проект уже завершен, мы вышли из него, и вышли успешно.
Это не единственный пример на Дальнем Востоке. В этой поездке у нас состоялись две продуктивные встречи: с губернаторами дальневосточных регионов и с бизнес-сообществом. Их суть: РОСНАНО начинает новый инвестиционный цикл, в рамках которого мы хотели бы особое внимание обратить на Дальний Восток.
Мы имеем за плечами восьмилетнюю историю. В нашей сфере 8–10 лет — это инвестиционный цикл, который начинается с выбора проекта, далее идет строительство завода, монтаж оборудования, выход на проектную мощность, окупаемость и выход из проекта. Поэтому у нас в 2016–2018 гг. будут большие объемы выходов, только в этом году более чем на 10 млрд руб.
Соответственно, возникает второй инвестиционный цикл РОСНАНО, и мы готовы начинать новые инвестиции. Сейчас мы активно ищем проекты, встречаемся с бизнесом, чтобы рассказать, каков характер проектов, в которые мы собираемся инвестировать, какие требования.
У нас состоялся конструктивный, на мой взгляд, разговор. Предпринимателей интересовали условия инвестирования, доходность, вопросы управления рисками, отраслевой спектр. Если говорить про отрасли, речь идет о высокотехнологичной части реального сектора. Это металлургия, машиностроение, химия, нефтехимия, электроника, фотоника, фармацевтика.
— А почему именно Дальний Восток?
— Мы хотим значительно расширить присутствие в этом регионе. Мы считаем, что здесь хороший потенциал, здесь можно существенно активизировать работу, для этого необходим прямой контакт с бизнесом, который мы и получили на форуме.
— Перейдем к сотрудничеству со странами АТР. Есть ли у вас какие-то совместные проекты с японцами?
— Мы имеем достаточно хорошие контакты с Японией: и с ведущими японскими компаниями, и с финансовыми структурами, есть и проекты. В частности, мы построили завод по производству кварца в Сибири с Sumitomo.
РОСНАНО имеет за плечами восьмилетнюю историю. В нашей сфере 8–10 лет — это инвестиционный цикл. И мы готовы начинать новые инвестиции. Сейчас мы активно ищем проекты, встречаемся с бизнесом, чтобы рассказать, каков характер проектов, в которые мы собираемся инвестировать, какие требования.
Мы довольны, он хорошо идет, там сейчас будет строиться вторая очередь. Но мы, конечно, заинтересованы в существенном развитии сотрудничества с Японией. Поэтому мы поддерживаем и активизируем контакты, я довольно часто там бываю.
К сожалению, пока не многим можем похвастаться. Почти всегда мы видим препятствия больше с политической стороны, чем с экономической. Если я правильно понимаю, у нас за последние полгода произошла некая подвижка во взаимоотношениях с Японией. Мы видим активные встречи нашего президента Владимира Путина с их премьером Синдзо Абэ. Планируется поездка Путина в Японию. С учетом всех контактов, которые у нас были (я с Абэ встречался по поводу наших проектов в Японии), мы очень надеемся, что политические ограничения будут сняты, и мы надеемся на резкую активизацию сотрудничества с Японией. Но пока о каких-то конкретных проектах говорить рано.
— Обсуждаете ли вы какие-то проекты с Японским банком для международного сотрудничества JBIC?
— Мы JBIC хорошо знаем, я с его президентом встречался. По его словам, они заинтересованы в сотрудничестве с РОСНАНО, но им нужен технологический партнер. Потому что они финансисты и мы финансисты. Нужно добавить крупного технологического партнера, и тогда будем всерьез обсуждать создание инвестиционного фонда. Сейчас, если они по политике сдвинулись, я думаю, что появится партнер.
— В Азии есть и другой перспективный вектор для сотрудничества — Китай. Например, 25 июня в рамках визита Владимира Путина в Пекин вы договорились с министерством науки и техники Китая о создании фонда прямых инвестиций в области высоких технологий. Этот фонд уже создан?
— Пока нет. Мы тогда и сказали, что рассчитываем его создать до конца года. Исключительно благодаря договоренности с министерством, с министром лично, с которым у нас очень давние и позитивные контакты, у нас работа продвигается по графику.
Мы нашли партнера (финансовая структура) благодаря помощи министерства, и мы надеемся, что до конца этого года мы объявим о создании еще одного фонда с Китаем в дополнение к тем трем, которые сейчас уже существуют.
Создание фонда — это существенно более сложная задача, чем создание проекта. Нужен pipeline проектов, интересных как одной, так и другой стороне. Нужно понимание финансовых параметров фонда. Действительно сложные вопросы возникают при согласовании юрисдикции. Часто китайские партнеры настаивают на юрисдикции Гонконга, что связано с определенными сложностями. Создание фонда — это редко меньше года.
— На Петербургском международном экономическом форуме — 2016 вы встречались с арабскими партнерами. Там о чем-то договорились?
— Там мы на гораздо более ранней стадии, чем с китайскими. С арабскими партнерами у нас пока нет фондов, но за то короткое время, что прошло после ПМЭФ, у нас состоялось несколько встреч. У них явно есть интерес к нашей продукции и к идее создания фонда.
Из той продукции, которая вызывает интерес, можно выделить тему базальтопластики (базальтовые композитные материалы) — это особые строительные материалы которые в условиях тяжелого климата, высокой температуры могут оказаться очень полезны. Видим интерес и к другим материалам. Но главное для нас — фонд. Пока мы не можем похвастаться, что договорились о его создании, но мы двигаемся в эту сторону.
— Может быть, вы обсуждаете создание фонда и с представителями других регионов, например из стран Латинской Америки?
— В Латинской Америке из стран, у которых существует два вида задела (во-первых, задел собственно по нанотехнологиям и интерес к нему, а во-вторых, интерес к private equity — индустрии, то есть к созданию фондов), это Бразилия, Аргентина, может, Мексика, хотя чуть в меньшей степени. Но в Бразилии тяжелейший экономический кризис, перешедший в политический кризис. В Аргентине тоже не так давно новый президент появился… Честно говоря, мы считаем, что сейчас с ними затраты по созданию фондов скорее будут больше, чем потенциальный результат, поэтому активных усилий там не предпринимаем.
— Может быть, есть еще какой-то интересный для вас географический вектор?
— Есть. Нас интересует не просто Азия, а Юго-Восточная Азия. Мы с интересом ведем диалог, например, с Малайзией, в которой есть интересный задел по высоким технологиям и у которой есть интерес к созданию фонда, они хорошо понимают, что это такое. Мы ведем такие переговоры и надеемся, что и там будет хороший результат.
— А если смотреть конкретные сферы, в которых РОСНАНО интересно было бы развиваться? Например, в энергетике с «Интер РАО».
— Конечно, есть. Энергетика — это исторически и фактически одна из сфер нашей работы. У нас уже на сегодня есть целый ряд перспективных проектов. Вместе с «Интер РАО» мы ведем работу, которая мне кажется просто важнейшей. Вся современная тепловая энергетика в мире и в России находится в стадии перехода от паросиловой генерации к парогазовой генерации. У паросиловой КПД (коэффициент полезного действия. — прим. ТАСС) 35–36%, у парогазовой КПД 55–60%.
Потенциально масштаб этого технологического передела таков, что практически все паросиловые станции нужно будет переводить в парогазовые циклы. Это означает, что нужны газовые турбины. Россия их не умеет производить. Это колоссальной сложности задача, в мире всего 4 страны, которые умеют это делать.
Мы считали, еще работая в энергетике, а сейчас уже в РОСНАНО, что мы должны сконцентрировать усилия и научиться производить турбину. Работа велась много лет, два года назад мы договорились с «Интер РАО» при поддержке «Ростехнологии» об уникальном проекте по созданию российской газовой турбины мощностью 110 МВт. Был построен еще во времена РАО ЕЭС стенд, целая электростанция в Ярославской области. Поскольку такая турбина невозможна без нанотехнологических покрытий, там есть большая роль РОСНАНО.
Так вот, мы вместе «Интер РАО» и «Ростехом» ведем работу по созданию российской газовой турбины большой мощности. Работа продвигается хорошо, надеемся, что мы сможем в течение года максимум получить работоспособную российскую газовую турбину.
Кроме этого, у нас хорошее взаимодействие с «Интер РАО». Мы всерьез обсуждаем идею создания энергетического фонда, private equty / венчурного фонда, нацеленного на энергетику, в том числе на генерацию. «Интер РАО» проявляет интерес, есть довольно большой список того, что в генерации нужно делать, в российской в том числе.
Идея — собрать деньги вместе, сформировать перечень приоритетных проектов, понимая, что в этом случае энергетические компании могут быть не только инвесторами в фонд, но они и потенциальные потребители технологий. Это история, когда у тебя и инвестор, и рынок в одной отрасли. Будем продвигаться дальше, надеемся, что получим какой-то внятный результат, но очень рассчитываем и на участие других генераторов тоже.
— В какие сроки этот фонд может быть создан?
— Это довольно серьезная работа. Создать фонд — минимум год. Если отталкиваться от сегодняшнего времени — речь может идти о будущем 2017 годе как о реальном сроке.
— А каков может быть объем фонда?
— Объем фонда пока непонятен, так как непонятен состав участников. А вот проекты мы как раз обсуждаем и предварительно даже договорились о них с «Интер РАО».
— Когда вы начали их обсуждать?
— Месяца 3–4 назад.
— Если говорить о развитии РОСНАНО в среднесрочной перспективе, есть ли какая-то «наносоставляющая» в таких популярных сейчас направлениях, как беспилотники или «интернет вещей»?
— Этими темами мы интересуемся, беспилотниками в том числе. Мы видим хороший задел в стране. Мы видим основные компании, которые в эту сторону продвигаются, ведем с ними диалог. Мы пока не сформировали проект, но эта тема нам интересна. Там, безусловно, есть нанотехнологии: это углепластик, это композитные материалы, покрытие, оптоэлектроника…
Что касается «интернета вещей», там немножко другая история. Там есть софт, есть хард. В софт мы не лезем, это не наше. А вот его материальная основа в принципе для нас интересна. Правда в этом интересе мы, как правило, не на конечных изделиях, а на исходных материалах. Например, мы совместно с Газпромбанком запустили первый в России завод по производству оптоволокна в Саранске.
Россия не умела производить оптоволокно до недавнего времени. Никакой «интернет вещей» без радикального увеличения потока передаваемой информации невозможен, а это наши компоненты. Или, например, у нас есть совместная с АФК «Система» компания «Микрон». Это первый производитель электронной компонентой базы на 90 нм, а теперь уже на 65 нм. Понятно, что «интернет вещей» без электронной компонентной базы немыслим.
Мы совместно с Газпромбанком запустили первый в России завод по производству оптоволокна. Никакой «интернет вещей» без радикального увеличения потока передаваемой информации невозможен, а это наши компоненты.
«Интернет вещей» ведь будет основан не только на электронике, но и, конечно же, на оптоэлектронике и фотонике. Мы недавно запустили в Москве очень интересное производство: мы проинвестировали в американскую NeoPhotonics, а потом эту технологию перенесли в Россию и построили завод по производству сплиттеров (это устройства, которые умеют расщеплять оптический сигнал) и других оптических устройств. Это тоже относится к «интернету вещей».
Но все, что я назвал, это скорее не конечные устройства, а элементная база. «Интернет вещей» для нас интересная тема, но мы на нее заходим скорее от основ, а не от конечной продукции.
— Сейчас также активно обсуждается проект Hyperloop. Вы как-то могли бы там поучаствовать?
— Это очень интересная тема, по которой мы видим распределение экспертных позиций в спектре от «это абсолютный идиотизм и полный абсурд» до «это гениальное решение, которое перевернет всю систему пассажирского транспорта на земном шаре».
Мы общались с профессиональными железнодорожниками, которых интересует эта тематика, и они напрямую взаимодействуют с Hyperloop.
Как известно, сейчас РЖД всерьез выходит на проект высокоскоростных магистралей. Следующий технологический передел — это Hyperloop. Нам точно это интересно, там 100% потребуется углепластик для самой трубы. Но дело не только в нем, там будут еще десятки технологических компонентов.
С другой стороны, если говорить трезво, то на сегодняшний день концепция еще не доказана.
К сожалению, есть некие конфликты внутри команды между Маском и разработчиками, а новые прорывные идеи очень уязвимы с точки зрения взаимоотношений в команде.
Поэтому если говорить откровенно, то суть нашего отношения такова: нам интересно, мы присматривается, но мы пока не готовы к принятию финансовых решений.

Сергей Попов: «Ключевым партнером банка стал „дифференцированный клиент”»
Сергей Попов, заместитель председателя правления Кузнецкбизнесбанка
Беседовала: Елена Гостева, редактор Банкир.Ру
О том, как работают региональные банки в городе, в котором в 90-е годы, на заре новой экономики было много предприятий, в первую очередь тяжелой металлургии, и которые со временем практически вся влились в крупные холдинги и «перепрописались» в Москве и Новосибирске, Bankir.Ru рассказал заместитель председателя правления Кузнецкбизнесбанка Сергей Попов.
— Как в нынешней непростой с экономической точки зрения ситуации чувствует себя банк?
— Чем дольше живу, тем больше убеждаюсь, что законы природы одинаковы для всех. Физика, со школы известно, наука о природе. В одном из разделов физики, механике, состояние любого тела характеризуется двумя параметрами: покой и движение, потенциал и кинетика. Поэтому оценка состояния человека, компании, государства также следует оценивать с позиций «сегодня» и «завтра».
Несмотря на трудность прогнозирования будущего в текущей ситуации, пытаться оценить препятствия, ожидающие впереди, просто необходимо. Время меняется стремительно и, чувствуя себя хорошо сегодня, завтра можно безнадежно отстать или того хуже… Вообще уже никуда не торопиться, объясняться с представителями АСВ.
Поэтому мы обладаем крепкими позициями с точки зрения нормативов регулятора. То есть мы соблюдаем норматив Н1 по достаточности капитала на уровне 28%, при требовании к Н1.1 более 23%. Норматив Н3 по ликвидности банка, с учетом изменений в методике расчета №3490-У, у нас вообще зашкаливает за тысячу. За ликвидностью мы смотрели всегда, после 2008 года особенно, поэтому и в прежней редакции инструкции №139-И показатели ликвидности баланса выполнялись с большим запасом. Причин для беспокойства вроде бы и нет.
— Так что получается, у стабильно выполняющих нормативы ЦБ региональных банков все хорошо и нет причин для беспокойства?
— Они есть. Главный риск — неопределенность. Как верно заметил еще Остап Бендер, люди больше всего боятся непонятного. Вот этого-то сейчас с избытком. Непонятно, что происходит в городской экономике, региональной, всей страны. Непонятны действия законодателей, правительства, нашего регулятора, администраций всех уровней, чьи действия или бездействия меняют среду нашего обитания.
Банк предусматривает свою деятельность бесконечно долго, но существовать в отрыве от экономики невозможно. Банк вообще — это организация, обслуживающая денежные отношения между субъектами экономики. И как отразится на нем отсутствие этих отношений? На мой взгляд, ошибочно думать, что исключительно банки формируют экономическую активность и рост производства.
Новокузнецк, город нашей основной деятельности, за время существования банка потерял значительную часть своей промышленной экономики. Предприятия, формирующие основной вклад в экономику города и региона, стали составной частью крупных объединений, с регистрацией в Москве, Челябинске или за пределами юрисдикции Российской Федерации. Естественно, что и прибавочная стоимость формируется там же. В этой ситуации нашему банку «быть лучше рынка» трудно. Конечно, сокращение производства как такового и переход оставшегося крупного и ставшего средним бизнеса в крупные «федеральные банки» отражается на клиентской базе. Отрицательно отражается. Нежелезные нервы клиентов не всегда выдерживают чтения банковских некрологов: «В связи с неисполнением законодательства… отозвать лицензию №… у банка, назначить администрацию… Выплаты начнутся…» Кто ж захочет стоять в очереди за своими деньгами?
И надо признать, когда банк дает деньги клиентам в виде кредитов, то знает о клиентах гораздо больше, чем клиент о банке, когда приносит деньги в банк. При рассмотрении заявки на кредит банк изучит платежеспособность лица, его кредитную историю, его трудовой путь, запросит поручителей и залог. Когда же клиент доверяет деньги банку, то часто ограничивает знакомство с банком вывеской, эмблемкой АСВ на входе и числом, обещающим процент на вклад. Остальное клиент запрашивает крайне редко. Скорее всего, по причине того, что вряд ли сможет получить достоверную информацию о состоянии банка.
— На чем же тогда основано ваше сотрудничество — регионального банка и его клиента?
— В этой связи важнейшим условием сотрудничества является доверие клиентов к банку. Чтобы больше доверять, надо чаще встречаться и честно разговаривать, глядя в глаза. За последнее время стали чаще встречаться с клиентами, усилили то, что часто называется PR.
Это действительно стали «связи с общественностью», а не банальная реклама. Консультационные семинары, цикл передач «Экономика для всех», сборник статей «Экономическое равновесие», объединивший статьи в разных СМИ по темам финансового просвещения.
И это живой контакт клиентов с руководителем любого уровня, любого подразделения банка с вопросами от «скользкого пола» до «инвестпроекта». Или наоборот, от проекта до пола. Особенно важно это доверие наших клиентов во время очередной волны слухов о «скорой кончине банков» второй-третьей сотни. И это работает.
— Региональные банки часто говорят о том, что федеральные банки, выдав один кредит предприятию в регионе, тут же стараются переманить все счета этого предприятия к себе на обслуживание. Вы тоже это видите?
— Нашим «заклятым партнерам» недешево даются относительно чистые способы отъема зарплатных клиентов крупных предприятий. Люди просто не хотят поддаваться административному нажиму, но в конце концов «аргументы администрации» действуют. С пониманием относимся к таким работникам, и для них продолжают действовать многие наши «программы лояльности».
К сожалению, при работе по зарплатным проектам, региональные руководители «системообразующих» открыто спекулируют «поддержкой государства» и откровенно вводят в заблуждение население относительно критериев надежности. Договариваются в телеинтервью с журналистом до того, что «если уж Министерство обороны обслуживается в банке, то банк, безусловно, надежный». У Банка России в документах нет таких критериев надежности. Внезапная проверка боеготовности войск 25–31 августа показала, что и в вопросе финансового обеспечения военнослужащих в полевых условиях Банк России справится лучше сам.
— Кто является основой вашего бизнеса, каковы ваши ключевые партнеры и клиенты? В чем специфика работы банков в вашем регионе?
— Развитие банка шло так, что мы постепенно отошли от клиентов, которых можно назвать «ключевыми». Как показал опыт, когда нужно «ключей не найдешь». VIP-клиенты очень пугливы и от малейшего шороха приходят в движение. Не «броуновское», а направленное — «центробежное», бегут кто в «ячейки», кто в валюту, кто туда. А кому-то, по их мнению, «обязательно помогут». А, глядя на них, менее «ключевые» так же бегут, образуя лавину и пугая друг друга. Поэтому после 2008 года мы отказались от политики благоприятствования для отдельных групп клиентов. Сервис не стал хуже, он стал одинаковым для всех. И теперь клиентская база банка диверсифицирована и по пассивам, и по активам. «Ключевым партнером» стал «дифференцированный клиент».
— И на кого работают деньги ваших клиентов?
— Ресурсы новокузнечан работают в виде кредитов малому бизнесу. К сожалению, возможности и желания наши и клиентов не всегда совпадают. Мы имеем возможность переключиться на кредитование более крупного бизнеса. Есть ресурсы у нас, есть спрос у клиентов, но риск надзора ограничивает, сдерживает наше взаимное влечение. Риск получить «мотивированное суждение» по 254-П с последующими «рекомендациями» по увеличению резервов далеко не нулевой, а формировать внеплановый резерв не позволит текущий финансовый результат, так как убыток вызывает дополнительное внимание надзора и настороженность клиентов. Поэтому часто решение принимается с оглядкой на возможные требования надзора Банка России о резервировании. Впрочем, в банке всегда понимали риск на одного заемщика. Поэтому и внутренний норматив на одну организацию (группу) у нас значительно ниже установленных требования Банка России.
Что еще я бы отметил как особенность работы «местного банка». Наши решения и действия осуществляются в формате «мосты сожжены», в том смысле что нет вариантов сослаться на «вышестоящую организацию», как это принято у «региональных представителей». Если ты кого-то из земляков обманул, то сохранить лицо и доверие будет крайне сложно. Поэтому в нашем банке никогда не было скрытых комиссий — за ведение ссудного счета, печать документов, рассмотрение заявки и тому подобного. Не было уплаты процентов вперед, до получения кредита. Думаю, что и эвфемизма cash-back, звучащего по-русски менее благородно — «откат», у нас тоже не будет. Особенно если вести речь об «откате» на счета неких фондов за право обслуживать зарплату работников организаций. Да, мы можем проиграть тактическую борьбу за конкретный зарплатный проект, но стратегически выиграем. Нельзя дать увязнуть коготку.
— Какие услуги вы предлагаете? От чего пришлось за годы существования банка отказаться, а что, наоборот, стало основой для роста?
— Услуги банка не отличаются какими-то особенностями, это классические банковские услуги — расчеты, кредиты. На определенном этапе банку удавалось предложить качественный сервис в каком-то сегменте рынка банковских услуг и получать от этого дополнительные преимущества. Во второй половине 90-х годов банк обслуживал счета городского бюджета, «подковерная» борьба за который привела к требованию к городской администрации расторгнуть договоры банковского счета. Взаимовыгодное сотрудничество распалось.
С 1994 года банк начал выпускать чиповые карты «Золотая корона» и стал лидером в регионе по «пластиковому бизнесу» на десятилетие, пока крупные «системообразующие» не подсадили всех на магнитные Visa и MC.
С 1998 года сотрудниками банка совместно с Центром финансовых технологий (ЦФТ) был придуман и внедрен проект «Система учета и сбора коммунальных платежей по единой квитанции (СУСКП)». Договоры по использованию СУСКП были нами заключены,в том числе, со Сбербанком и Почтой России. Сейчас, также с ЦФТ, развиваем проект автоматизированной оплаты проезда в общественном транспорте. Каждый проект на своем этапе приносил свое. Доходы, остатки, авторитет.
— Как в последние годы чувствуют себя клиенты? Как изменились их потребности и запросы?
— Клиенты разделились. На тех, кто закрыл счета и уехал, и тех, кто все-таки остался. Очень много людей, с которыми банк работал на протяжении четверти века, уехали из города и региона. В Москву, Новосибирск, Краснодарский край.
Конкуренция среди наших клиентов, представителей малого бизнеса, усиливается. В основном за право оказывать услуги «градообразующим» предприятиям. Условия оплаты по таким контрактам предусматривают значительную отсрочку платежа. Плохо платят. Бюджет плохо рассчитывается за выполненные работы и оказанные услуги. Большая проблема — рост дебиторской задолженности. Беда! Сначала «градообразующие» запустили лозунг: «Платят только трусы». Потом перестали платить друг другу и сами предприниматели: «Я ему заплачу, а сам где возьму?» А по закрытым формам и актам необходимо начислить, а главное — выплатить зарплату и налоги. С чего их платить, если рассчитаются через полгода? Нужно взять кредит.
Но динамика роста дебиторской задолженности ухудшает финансовые показатели заемщика и оценку с точки зрения резервов. А главное, остаются сомнения, рассчитаются ли с «нашим» предпринимателем. Уже есть печальный опыт, когда партнеры не рассчитались. Процедура банкротства мало кому помогала вернуть долг. Теперь такого клиента мы должны еще «курировать» как неплательщика налогов.
Сказать, что все клиенты чувствуют себя совсем плохо, все же нельзя. У кого-то и хорошо. А в целом, как по Владимиру Войновичу: «Дела с малым бизнесом не сказать чтобы шли очень плохо, можно даже сказать — хорошо. Но с каждым годом все хуже и хуже».
— Вы видите себя федеральным банком, при этом находитесь далеко от Москвы. В чем ваша федеральность?
— Федеральность, на наш взгляд, не синоним принадлежности к Москве и области. По своему Сибирскому федеральному округу мы вполне конкурентны. К тому же, как я уже говорил, много клиентов переехали в Новосибирск. Есть «наши» люди в Красноярском крае, на Алтае.
В своем выступлении на Петербургском экономическом форуме Эльвира Набиуллина отнесла к банкам федерального значения банки с капиталом не менее 1 млрд рублей. Мы понимаем, что ограничение круга операций для наших клиентов может значительно сократить наш бизнес. Поэтому напряжемся и будем соответствовать требованиям «Базеля» и Банка России. Тем более что капитал у нас уже выше 1,3 млрд рублей, а валюта баланса как раз на уровне 7 млрд рублей.
— Готовы ли вы к требованиям Базеля III?
— Работа по контролю за достаточностью капитала и ликвидностью ведется давно. Еще до внедрения требования «Базеля» капитал и ликвидность были в числе наших приоритетов. Ежемесячный отчет по рискам показывает уровень достаточности капитала, изменения капитала и его структуру. Пережив отток ликвидности в 2008–2009 году, всерьез занялись «Стандартом ликвидности», работа продолжается и нас не пугает. Более того, ведется и практическая, и научная. Руководитель нашего банка работает над докторской диссертацией, одна из глав посвящена оценке достаточности капитала.
Тема капитала — одна из главных тем его лекций для студентов — финансистов двух наших вузов. Сотрудниками банка подготовлены публикации в журналах об управлении ликвидностью. Студенты под руководством сотрудников банка пишут дипломные работы по темам капитала и ликвидности, имеющих практическое значение. Думаю, мы справимся с «Базелями».
— Что позволяет вам принимать решение о выдаче кредита за четыре часа?
— Мы разработали стандартную процедуру оценки. Программой «скоринг» никого не удивишь, этим может похвастать любой крупный розничный банк. Одним из недостатков этих программ является их цена и то, что приходится подход разработчика принимать «на веру».
Мы сами составили «портрет нашего человека», разработали несложную анкету и обучили сотрудников. Получив условные «да» по вопросам анкеты, сотрудник сверяет информацию клиента с нашей — кредитная история, зарплата и другие параметры, и самостоятельно принимает решения в пределах своих лимитов. Если лимита не хватает, вопрос передается на следующий уровень принятия решения. И так до высшего исполнительного органа. В этом вопросе нет предела совершенствованию. Изучаем процесс рассмотрения заявки, узкие места, неэффективные потери, сокращаем или исключаем их. Конечно, как и везде, трудно исправить то, что «всегда так было», но в этом и есть наша работа — повышать эффективность операционной деятельности. Уверен, что и четыре часа не предел. Но «эффективность» — это не столько «быстро», сколько «возвратно», поэтому ускоряться будет с учетом этого ограничения.
— С каким малым и средним бизнесом вы работаете? Есть мнение, что многие крупные банки как раз и сгубило кредитование МСБ. А вот вы его даже кредитуете. Вы так досконально смогли его изучить?
— На мой взгляд, банки губило не кредитование, а неверное целеполагание. Мне доводилось слышать «модных докладчиков» на конференциях, чьи банки наращивали портфели слишком быстро. KPI гнал вперед, не взирая на финансовые возможности заемщиков. Тогда уже возникали вопросы, на которые «докладчики» снисходительно отвечали: «Всё под контролем». Оказалось, что не всё. Стратегия роста портфелей продолжилась ростом «токсичных активов».
Кстати, крупные банки, входившие в новый для себя рынок, скажем, города Новокузнецка, старались обозначиться как максимально комфортные для малого бизнеса. «Кредитование без залога, по самой низкой ставке» и другие, на наш взгляд экзотические предложения, как мы говорим: «под курсовой проект», без изучения перспектив бизнесмена. В этой гонке пришлось и нам принять участие. Некоторые программы были скорректированы с точки зрения «требований рынка». В первую очередь были снижены требования к обеспечению. К сожалению. Потому что залоги и так обесцениваются быстро, а с учетом небыстрых судебных споров стоимость обеспечения не обеспечивает закрытие задолженности после реализации.
— А в каких сферах работают те предприятия МСБ, которые вы кредитуете?
— В кредитном портфеле малый бизнес традиционно представлен торговлей и строительно-ремонтными работами, но доля его все меньше, операциями с недвижимостью, растет доля сектора коммунального хозяйства. Не убито еще совсем производство, что нас особо радует, и производственники получают в банке максимальные льготы.
Кстати, говоря о нежелании крупных банков заниматься кредитованием малого и среднего бизнеса, вспоминается прошлогоднее заявление А.Костина на форуме «Россия зовёт», о том, что кредитование малого и среднего бизнеса бессмысленно в текущей ситуации и убыточно для ВТБ24. Можно согласиться, что «инкорпорировав малый и крупный бизнес» можно повысить эффективность кредитования малого бизнеса, но надо повышать и внутреннюю эффективность в самих банках. Дело о хищении миллиарда рублей в новокузнецком офисе трудно отнести к проблемам «инкорпорирования малого и крупного бизнеса». «Выданные» на развитие малого бизнеса кредиты так и не вернулись. Кроме как убытками, стать они не могут. Видимо, дело не только в проблемах МСБ, но и в корпоративном управлении известного банка. Да мало ли подобных казусов с большими банками, ставших известными общественности? Вот свежий пример:
«Уголовное дело возбуждено с подачи Центробанка, выявившего признаки вывода активов из финансовой структуры посредством предоставления кредитов заемщикам, не ведущим реальной хозяйственной деятельности». Он, как видим, «такой не один».
Да и с кредитованием крупного бизнеса случаются неприятности.
Известно же, что «Большое видится на расстоянии». А малое лучше посмотреть поближе, иногда, перепроверяя зрение, понюхать и пощупать руками. У банков, живущих в регионе кредитуемого бизнеса больше возможностей увидеть риск и быстро на него среагировать. Поэтому, если «большие» не хотят и не могут работать с малым и средним бизнесом, пусть работают с себе подобными, а малый бизнес оставят тем, у кого это лучше получается.

«Для роста причин пока не видно»
Интервью с старшим вице-президентом «ФК Открытие» Геннадием Жужлевым.
Ирина Быстрицкая
О рисках для банковского сектора, изменениях в процессе санации банков, а также судьбе активов «Трансаэро» в интервью «Газете.Ru» рассказал старший вице-президент банка «ФК Открытие» Геннадий Жужлев.
- Сегодня экономисты по-разному характеризуют ситуацию в российской экономике. Кто-то говорит, что мы достигли дна, другие говорят, что все еще впереди, третьи – что это не так уж важно, а главный риск для экономики – затяжная стагнация. Из каких оценок и прогнозов вы сейчас исходите?
- С точки зрения практической пользы всех этих изысканий - нашли мы «дно» или нет - для банков и их клиентов имеет значение не сам по себе факт достижения этого дна, а, скорее, наличие четко выраженной динамики. «Дно» означает фиксацию на определенном уровне, появление четкой и понятной тенденции. Даже если мы видим, что эта тенденция отрицательная и что каждый год мы падаем на какой-то определенный уровень – это уже лучше, чем неопределенность.
Сегодня на экономику по-прежнему оказывает влияние множество отрицательных факторов: спрос сильно сжался, в разы сократились источники инвестиций. Возможности финансирования, даже не инвестиционного, а для текущей деятельности, уменьшились. В таких условиях, естественно, сложно говорить о каком-то позитивном развитии – как финансового сектора, так и реального, - но появление ясности – это уже неплохо.
- Вы не ожидаете дальнейшего ухудшения ситуации?
- Ситуация стабилизировалась, российские компании более или менее адаптировались к самым неприятным негативным факторам: низким сырьевым ценам и низкому спросу. С дефицитом инвестиций, текущего финансирования и низкой прибылью можно справляться, работать над издержками, повышать эффективность бизнеса, закрывать неэффективные направления.
На текущих уровнях мы уже не наблюдаем таких резких скачков курса национальной валюты, которая уже не настолько бурно реагирует на изменение цен на нефть. Да и сама по себе динамика стоимости барреля не вызывает у предпринимателей и населения паники, как раньше. Теперь для бизнеса настало время строить планы и работать дальше.
- Как сейчас ситуация выглядит для банков? У вас постепенно восстанавливается спрос на кредиты и другие услуги?
- Мы находимся на переломном этапе. Восстанавливается спрос на кредиты среди качественно хороших предприятий, которые более-менее пережили шесть кварталов спада. Бурного роста, конечно, тоже нет - скорее, спрос нормализуется, идет возврат к прежним уровням заимствований там, где они были уменьшены.
Есть и такие клиенты, которые не пережили этот кризис или не переживут его в дальнейшем. Это компании с большими накопленными убытками, которые в этих убытках, скорее всего, и останутся в дальнейшем. Они с удовольствием взяли бы кредиты, чтобы покрыть потери, но мы такие кредиты не даем.
Иными словами, сейчас большой спрос на кредиты у проблемных заемщиков. Осенью, я думаю, он вырастет еще больше.
- К осени вы ожидаете повышения спроса не только у проблемных клиентов?
- Да, мне пока видится такая тенденция, которая отчасти является сезонным фактором (возвращение из отпусков и начало делового сезона), но сильного роста я не жду: все-таки последние кризисы, начиная с восьмого года, многому учат и банки, и их клиентов. Предприятия уже не так безответственно берут кредиты, сформировался более консервативный подход, и это хорошо.
- А что касается выдач? Как у вас за последнее время изменился объем просроченной задолженности в вашем портфеле? И как вы изменили свою политику?
- Объем просроченных кредитов сейчас растет абсолютно у всех банков, и растет он ровно столько же, сколько продолжается спад в экономике - те же самые шесть кварталов. Это совершенно нормально и объяснимо. Более того, до недавнего времени график роста просрочки с высоким коэффициентом коррелировал с динамикой цен на нефть: каждый этап падения цены на нефть приводил к скачку просрочки с лагом в шесть месяцев.
- И что вы с этим делаете?
- Работаем с этим. Наша политика по выдаче кредитов начала ужесточаться сразу после начала резких кризисных явлений в 2014-м году. Сначала мы ввели ряд ограничений и дополнительных условий, например, мы стали тщательнее проверять финансовое состояние компании-заемщика, повысили требования в части залогов и соотношения долга и прибыли.
Год-полтора назад мы приостановили финансирование отраслей, которые просели наиболее сильно на общем фоне. Сейчас, когда резкий спад остановился, мы готовы рассматривать клиентов из любой отрасли, но не каждому дадим кредит. Наш подход основан на анализе каждой конкретной компании. В любой отрасли, даже если она в целом не очень хорошо себя чувствует, есть компании-лидеры. Мы таких лидеров ищем, выбираем и работаем с ними.
Я и сам стараюсь придерживаться такого принципа, и сотрудников на это мотивирую: если ты работаешь с лидером отрасли, который задает правила игры и во многом влияет на рынок, у тебя и риски намного меньше. Лидер всегда тебя проконсультирует и даже поможет в твоей работе с другими, менее крупными, игроками в индустрии.
- А по размеру компаний у вас есть градация при отборе клиентов? Вы работает с малыми компаниями?
- Мы работаем и с малым бизнесом, и со средним бизнесом, и с крупным. Обновленная стратегия корпоративного банковского бизнеса «Открытия», которая сформулирована в этом году и которую я сейчас внедряю, как раз предполагает активный рост в сегменте среднего бизнеса. Весной мы запустили новую бизнес-модель, в рамках которой средний бизнес выделен в отдельный клиентский сегмент. Что касается малого бизнеса, у нас хорошо развито это направление. У банка на текущий момент около 150 тысяч таких клиентов.
Возвращаясь к среднему бизнесу - в этом сегменте клиентов меньше, но мы очень активно работаем с ними. Каждый месяц сотни таких клиентов открывают у нас счета. Все они получают хороший сервис и дополнительные возможности.
И, конечно, мы активно кредитуем средние предприятия и предлагаем им интересные кредитные продукты. Некоторые наши коллеги, успешные банки, сегодня не хотят кредитовать средний и малый бизнес - только обслуживать. Я считаю, что это неправильно. У банков есть возможность финансировать малый и средний бизнес, просто нужно уметь это делать. Мы умеем.
- А, кстати, о ваших коллегах - насколько в последнее время усложнилась конкуренция, в том числе после того, как Центробанк начал активно отзывать лицензии, и пошли разговоры о том, что безопасно держать деньги только в Сбербанке?
- Знаете, у нас есть такая шутка, что счет в Сбербанке есть у всех. Но при этом активно пользуются его услугами, конечно, далеко не все.
С точки зрения защиты интересов клиентов политика ЦБ правильная и полезная. Она дает понимание рынку, клиентам, что нужно обслуживаться только в надежных банках. И «Открытие», являясь крупнейшим частным банком и входя в перечень десяти системообразующих кредитных организаций, является по факту абсолютно надежным - таким же, как Сбербанк.
Поэтому политика ЦБ нам скорее помогает: сначала клиенты переходят в госбанки, но очень скоро возвращаются в частный банк, только уже в крупный. Потому что мы намного ближе к клиенту.
Здесь срабатывает личностный фактор, когда клиент не чувствует себя винтиком в огромном механизме, песчинкой из десятков миллионов других клиентов. Он чувствует, что его ценят, у него есть мобильный телефон его личного менеджера, и он понимает, что его проблемой будут заниматься, а не отошлют к многочисленным регламентам и инструкциям.
Наиболее сильно растет конкуренция за качественных заемщиков. После падения рынка, роста просрочек, ограничений в кредитовании все крупные банки усилили борьбу за качественного клиента.
- А в своей сети отделений вы меняли что-то в связи с кризисом?
- В условиях снижения спроса и числа хороших клиентов план один: работа над эффективностью и оптимизация затрат. И мы не исключение. За последние полтора года мы оптимизировали нашу филиальную сеть. Так, по итогам присоединения банка «Петрокоммерц» в середине прошлого года планировалось закрыть 38 точек, из них закрыто к настоящему моменту 27, до середины 2017 года будут закрыты еще 11.
Вообще в целом сейчас на корпоративном рынке физическое наличие филиалов уже не требуется для средних и крупных клиентов. У нас в Москве всего один офис, который обслуживает несколько тысяч наших корпоративных клиентов, и это совершенно нормально, ведь большая часть операций проходит дистанционно, по электронным каналам. Даже инкассацию уже можно сделать через кэш-карты самостоятельно. Необходимость наличия большого числа отделений для банков уже в прошлом.
Безусловно, в ключевом регионе банк должен быть представлен, должны находиться специалисты на местах, чтобы общаться и встречаться с клиентом. Делать это из Москвы, конечно, сложно. Поэтому у нас есть офисы во всех наиболее развитых регионах с точки зрения объема бизнеса.
- В IT-cфере какие-то новые услуги прорабатываете? Сейчас много нового появляется, популярны проекты в сфере дополненной реальности, мессенджеры. У вас есть какие-то планы в этом направлении?
- Все достижения и современные технологии именно в банковском бизнесе у нас реализованы и работают, здесь мы в числе лидеров. Есть у нас и уникальные продукты, которые больше не реализованы нигде. Например, банк «Точка» - дистанционный банк для предпринимателей, обслуживаясь в котором, Вам вообще не нужно посещать отделения.
- Как это получается?
- Для тех операций, где необходимо личное участие (например, заключение договора), наши сотрудники приезжают в офис к клиенту. Все остальное делается дистанционно.
- Тогда еще один вопрос о проблемных клиентах. У вас было два суда с компанией «Трансаэро».
- Да, один из них мы выиграли, а второй был приостановлен в связи с банкротством компании.
- Можете рассказать, как у вас сейчас ситуация обстоит с возвратом денег? В каких вы отношениях сейчас с компанией?
- С «Трансаэро» мы в таких же отношениях, как и с любым другим проблемным заемщиком. Компания сама по себе уже никому ничего не в состоянии вернуть, поскольку сейчас у нее отрицательный капитал и огромный долг, который превышает ее активы.
Возврат возможен за счет обеспечения и реализации активов. По данной сделке у нас есть дополнительные источники погашения кредита, мы сейчас с ними работаем и рассчитываем вернуть значительную часть долга.
- Когда?
- В следующем году, я думаю.
- Эта компания теоретически может возродить деятельность? Были новости, что они как-то хотят снова запустить бизнес.
-Компании «Трансаэро» как бизнеса не существует. Все их активы сейчас – это де-факто активы кредиторов. А нематериальные активы, которые тоже могут составлять бизнес (например, лицензии перевозчика) у них отсутствуют. Так что там нечего возрождать.
- Возвращаясь к разговору о кредитах и инвестициях. Сельскохозяйственный рынок считается обычно сложным в плане кредитования, потому что там все зависит от капризов погоды. Сейчас объем инвестиций в этот сектор растет, это повлияло на вашу политику на этом рынке?
- Объем инвестиций в российский АПК и раньше рос опережающими темпами, и сейчас продолжает расти, даже на фоне общего падения. Когда средний прирост инвестиций в российской экономике в целом находился на уровне 2-3%, в АПК он от года к году достигал 8-10%. Причина такой впечатляющей динамики - введение системы субсидирования кредитов, получаемых на инвестиции в АПК.
Мы сделали специальный анализ, как влияют государственные субсидии на динамику отраслей. Так вот наилучшая динамика именно в АПК. Вторым фактором, повлиявшим на рост отрасли, стали санкции и наши контрсанкции, безусловно.
АПК не является нашей специализацией и приоритетом, но мы с этими компаниями работаем – в первую очередь с перерабатывающими производствами. Что касается фермеров, финансировать такие хозяйства, на мой взгляд, должны специализированные организации.
- Такие, как Россельхозбанк?
- Россельхозбанк, другие банки, специальные лизинговые компании. Во всем мире есть специальные кредитные организации, которые фокусируются на таком финансировании.
Так же, как, например, финансирование золотодобытчиков. В этой отрасли тоже серьезная специфика. Кстати, у нас в «Открытии» сильнейшая команда на рынке драгметаллов, одна из лучших команд в России. Мы очень успешно работаем с клиентами из этой отрасли.
- Это ваш приоритет?
- Это одно из наших очень сильных направлений. Это не такой большой рынок, чтобы назвать данную отрасль приоритетом банка. Но наши сотрудники уже много лет работают в этой сфере, знают все нюансы бизнеса, региональную специфику.
- А какие ваши приоритеты сейчас и на будущее?
- Сейчас ярко выделенных приоритетов по отраслям у нас нет. Но, конечно, мы наблюдаем за ситуацией. Мы готовы работать со всеми, и по факту у нас очень диверсифицированный портфель: легкая, тяжелая промышленность, транспорт, металлургия, логистика, нефть, газ, много ритейла, IT, услуги - всё есть, со всеми работаем.
- В ближайшей перспективе в банковской сфере видите ли вы какие-то риски, или, наоборот, ожидаете каких-то позитивных изменений, послаблений от того же Центробанка. Рассчитываете ли вы на снижение ставки?
- В послабления со стороны Центробанка в части регулирования я не верю. А снижение ставки – это не послабление, это макроэкономика. Если есть предпосылки, она снижается.
Политика Центрального Банка понятна: они делают все для того, чтобы банки были сильными, устойчивыми, докапитализированными, и в этом заинтересованы все: и банки, и власть, и регулятор, и страна, и население. Другое дело, что выполнить это сложно.
Что касается рисков, то сегодня, после того, что мы уже пережили, сложно представить какие-то еще серьезные потрясения. Глобальный риск - это существенное падение цены на нефть - еще раза в два - но, по-моему, это невозможно.
Основной риск, который остается – это продолжение негативных тенденций в экономике. Но мы скорее ожидаем некой стабилизации. Для роста причин пока не видно, но и дальнейшее падение, наверное, уже ничем не обусловлено, во всяком случае не в ближайшие полтора года. Однако и в условиях стабилизации – даже без восстановления – мы продолжим эффективно работать.

Леван Джагарян: вопрос отзыва иска Ирана по С-300 снят с повестки дня
До конца августа в Тегеране на уровне замминистров иностранных дел пройдут российско-иранские консультации по ближневосточной тематике и ходу имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе ИРИ. Об этом, а также о ситуации с контрактом по С-300, перспективным сделкам в нефтегазовой сфере и о том, что мешает наплыву российских туристов в Иран, в интервью корреспонденту РИА Новости Полине Чернице рассказал посол России в Тегеране Леван Джагарян.
— Насколько интенсивно ведется двусторонняя работа РФ и Ирана по Сирии? Предоставляет ли Тегеран Москве собственные данные спецслужб о местах нахождения террористов?
— Россия и Иран довольно активно взаимодействуют по сирийской проблематике. Как вы знаете, наши страны являются членами Международной группы поддержки Сирии (МГПС), в рамках которой у нас установились доверительные контакты с иранскими партнерами. Кроме того, на регулярной основе на уровне замминистров иностранных дел двух стрн проходят двусторонние консультации по Ближнему Востоку, где одно из центральных мест занимает именно ситуация в САР. Вся эта работа показывает, что подходы Москвы и Тегерана по Сирии достаточно близки. Мы заинтересованы в скорейшем прекращении вооруженного конфликта в этой стране, установлении мира и стабильности, а также полном уничтожении террористических группировок. Должен отметить, что по линии военных ведомств между нашими странами также установилось тесное взаимодействие. Надеюсь, что совместными усилиями нам удастся стабилизировать ситуацию в Сирии.
— Тегеран не раз заявлял, что ориентация на Россию как на основного партнера является стратегическим выбором страны. Какие барьеры сняты для российских инвесторов?
— 23 ноября 2015 года в рамках участия в саммите ФСЭГ президент России Владимир Путин посетил Иран. Его встречи придали дополнительный импульс развитию двусторонних торгово-экономических отношений. Так, 23 декабря 2015 года в Тегеране в присутствии министра связи и информационных технологий Ирана Махмуда Ваэзи и первого заместителя председателя правительства России Игоря Шувалова было подписано соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между ИРИ и РФ. Реализация соглашения и протокола к нему обеспечит российским и иранским инвесторам долговременную стабильность и предсказуемость правовой среды, будет способствовать активизации инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Ждем ратификации этого документа иранским парламентом.
Основным негативным фактором, отрицательно влияющим на развитие двусторонних российско-иранских торгово-экономических отношений, в настоящее время является, как и в предыдущие периоды 2011-2015 годов, отсутствие действенных механизмов банковско-финансового обеспечения внешнеэкономической деятельности. В этой связи с весны 2016 года ряд российских банков начал предпринимать шаги по налаживанию отношений с иранскими партнерами из финансового сектора.
В настоящее время прорабатываются совместные проекты в нефтегазовой сфере, электроэнергетике и транспорте. Принято решение о предоставлении Россией Ирану двух государственных кредитов на сумму свыше 2 миллиардов евро для реализации проектов по строительству ТЭС в провинции Хормозган, а также электрификации железнодорожного участка Гармсар – Инче-Бурун на северо-востоке страны.
— Рассчитывает ли РФ на дальнейшее наращивание товарооборота с Ираном?
— Безусловно, дальнейшее наращивание товарооборота с Ираном является для Российской Федерации одним из приоритетных направлений двустороннего сотрудничества, о чем предметно говорили Путин и Роухани в ходе своей недавней встречи в Баку 8 августа.
Уже сейчас наблюдается рост двустороннего товарооборота. Так, по итогам пяти месяцев 2016 года товарооборот между Россией и Ираном увеличился на 70,9% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил 855,7 миллиона долларов США, в том числе экспорт из России в Иран увеличился на 91,5% и составил 697,4 миллиона долларов США, российский импорт из Ирана увеличился на 16% до 158,2 миллиона долларов США. Основной рост товарооборота был обеспечен за счет поставок электрических машин, средств наземного транспорта и оружия.
В целях увеличения взаимного товарооборота, а также увеличения контактов между российскими и иранскими компаниями активно осуществляется сотрудничество в выставочно-ярмарочной области. В частности, в декабре 2015 года состоялся визит министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова в Иран, была проведена представительная российская национальная промышленная выставка "Торгово-промышленный диалог: Россия — Иран". В ней приняло участие около 100 российских предприятий, представляющих такие отрасли промышленности, как авиастроение, судостроение, энергетика, сельскохозяйственное и транспортное машиностроение, металлургия и другие.
— Насколько успешно идет импорт сельхозпродукции, возможен ли еще рост в этом секторе и за счет какой продукции?
— Учитывая определенный дефицит в России по ряду сельскохозяйственных товаров, Иран представляет интерес как поставщик мяса птицы, плодоовощной, молочной и рыбной продукции. В период 2015-2016 годов удалось диверсифицировать товарную структуру по сельскохозяйственным продуктам, поставляемым из Ирана в Россию. За последние полтора года проделана большая работа по созданию благоприятных условий для поставки иранской продукции в Россию. Россельхознадзор ознакомился со структурой государственной ветеринарной службы Ирана, организацией контроля эпизоотической ситуации на территории страны и системой сквозного контроля безопасности продукции животного происхождения. Стороны разработали и парафировали ветеринарные сертификаты на молочную, мясную и рыбную продукцию. Были проинспектированы иранские предприятия по производству молочной продукции и мяса птицы. В результате в реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, ввозимых на территорию Таможенного союза, были включены 25 иранских предприятий.
Начиная с конца 2015 года стали заключаться контракты на поставку из ИРИ в РФ креветок и сухого обезжиренного молока. Ранее данная продукция не импортировались из Ирана, а сейчас объемы ее поставок с каждым днем увеличиваются.
Рост в этом секторе однозначно возможен. В настоящее время Россельхознадзор рассматривает предложения иранской стороны относительно поставок форели и рыбных консервов в Российскую Федерацию, что, несомненно, положительно отразится на росте импорта иранской сельскохозяйственной продукции. Мы также заинтересованы в наращивании экспорта пшеницы в Иран.
— Увеличилось ли число российских компаний, работающих в Иране, за время, прошедшее с момента снятия санкций, или речь идет о восстановлении контактов между старыми партнерами?
— Несомненно, после снятия санкций наблюдается рост интереса российских компаний к иранскому рынку. Здесь можно отметить как возобновление контактов между российскими и иранскими компаниями, так и наличие компаний, ранее не присутствующих на иранском рынке. Так, 12 июля 2016 года был подписан меморандум о взаимопонимании между АО "Зарубежнефть" и Национальной иранской нефтяной компанией (NIOC) о разработке иранских нефтяных месторождений Западный Пейдар и Абан. Российская компания также выразила готовность развивать сотрудничество с Национальной иранской нефтяной компанией в области нефтетрейдинга.
Активизировал работу при поддержке АО "Газпромбанк" на рынке Ирана ПАО "Уралмашзавод". Совместно с Ассоциацией горнопромышленников Ирана (Iran Mine House) ведется работа по продвижению на горнорудные предприятия Ирана новой линейки экскаваторного и дробильно-размольного оборудования.
Российское сельхозмашиностроение в Иране представлено ассоциацией "Росагромаш", основной задачей которой является продвижение продукции российских производителей сельскохозяйственной техники. В частности, завод "Ростсельмаш" поставил несколько современных зерноуборочных комбайнов.
Кроме того, необходимо отметить активизацию и увеличение интенсивности контактов между российскими и иранскими компаниями в рамках межрегионального сотрудничества. В частности, в 2016 году Иран посетили губернаторы Челябинской области Борис Дубровский, Свердловской области Евгений Куйвашев, Астраханской области Александр Жилкин, глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. Были также делегации из Ульяновской, Тюменской и Ростовской областей. С удовлетворением констатируем важность открытия с 22 июля регулярного авиасообщения между Тегераном и Астраханью.
— Можете ли вы подтвердить информацию о том, что в конце сентября состоится визит в Иран главы "Лукойла" Вагита Алекперова? Ожидается ли подписание соглашения по месторождению Анаран?
— Визит господина Алекперова в Иран прорабатывается, однако информацией о конкретных датах мы на данный момент не располагаем. В сентябре прошлого года он уже побывал в Иране и у него состоялись достаточно полезные переговоры с министром нефти ИРИ Биджаном Зангане. Надеюсь, что этот диалог будет продолжен. Если говорить о конкретных проектах, то рассматривается возможность участия российской компании в двух месторождениях в районе города Ахваз.
— Ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что нефтяными и газовыми проектами Ирана заинтересовалась и "Роснефть", о каких проектах может идти речь? Обсуждались ли какие-то из них в ходе визита в Тегеран Игоря Сечина в конце апреля? Когда можно ожидать начала их согласования?
— В ходе визита делегации ПАО "НК "Роснефть" во главе с Сечиным в апреле были проведены переговоры с руководством Штаба исполнения указов Имама, Национальной иранской нефтяной компании, а также министром нефти ИРИ Зангане о сотрудничестве в нефтегазовой и нефтехимической сферах. Стороны договорились о формировании списка совместных перспективных проектов с дальнейшей проработкой на уровне экспертов.
— Планируется ли подписать меморандумы с российскими компаниями по геологоразведке в Иране? Возможно ли создание консорциума российских компаний для разработки месторождений в ИРИ?
— Работа в этом направлении ведется. В частности, на полях 12-го заседания постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству был подписан ряд документов, в том числе соглашение о долгосрочном сотрудничестве по геологической разведке на водные ресурсы между АО "Росгеология" и министерством энергетики Исламской Республики Иран.
Кроме того, на стадии согласования находятся тексты меморандумов о взаимопонимании между ПАО "Газпром" и Национальной иранской газовой компанией, а также между ПАО "Газпром нефть" и Национальной иранской нефтяной компанией о сотрудничестве в области разработок нефтегазовых месторождений, в том числе проведения геологоразведочных работ.
Безусловно, создание консорциума российских компаний для разработки месторождений в Иране возможно. Каких-либо ограничений с точки зрения иранского законодательства на этот счет нет. Полагаю, что создание подобного консорциума будет зависеть от общих интересов компаний по определенному проекту. Насколько мне известно, в настоящее время на территории Ирана таких консорциумов нет.
— Посол Ирана в РФ Мехди Санаи говорил в марте, что Иран приветствует российские инвестиции в туристический сектор и строительство гостиниц. Проявляют ли российские компании интерес к Ирану? Можно ли предполагать, что это направление будет пользоваться спросом у россиян?
— Что касается туристического сектора, то здесь интерес в большей степени мы наблюдаем с иранской стороны к нашей стране. В прошлом году российские диппредставительства в Иране выдали около 35 тысяч виз иранским гражданам, большинство из которых были туристическими. Кроме того, Иран впервые вошел в топ-20 стран по количеству туристов, посетивших Россию. В феврале этого года в Тегеране был также открыт офис Visit Russia, занимающийся продвижением нашей страны как привлекательного направления для путешествий и деловых поездок. В церемонии открытия принимал участие глава Ростуризма Олег Сафонов.
На данный момент иранские авиакомпании осуществляют чартерные рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Как я сказал выше, в конце июля нынешнего года был также запущен регулярный рейс по маршруту Тегеран-Астрахань. Все это позволяет нам уже сейчас говорить о том, что прошлогодний рекорд по количеству иранских туристов, посетивших Россию, будет побит.
Российские туристы, конечно, также едут в Иран, однако их количество не велико. Причиной тому, на мой взгляд, являются некоторые ограничения, связанные с исламскими нормами в Иране. В первую очередь это касается соблюдения определенного дресс-кода, даже в курортных местах, раздельных пляжей для мужчин и женщин, а также действующего в стране "сухого закона".
Что же касается любителей истории, то для них Иран наверняка станет открытием. Могу лично порекомендовать посетить такие города, как Исфаган, Шираз и Йязд, известные сохранившимися в хорошем состоянии памятниками древней персидской цивилизации. Наряду с этим все популярнее среди наших граждан становится и горнолыжный туризм в Иране.
— Иранская сторона также заявляла о готовности облегчить визовый режим и даже о возможности отменить визы, если РФ пойдет на такой шаг. Ведутся ли сейчас переговоры по этой теме?
— В ходе визита президента России Владимира Путина в ноябре 2015 года в Тегеран среди подписанных двусторонних документов было также двустороннее межправсоглашение об упрощении условий взаимных поездок отдельных категорий граждан РФ и ИРИ. Так, облегченный визовый режим уже сейчас действует в отношении предпринимателей, членов официальных делегаций, лиц, участвующих в научной, культурной или творческой деятельности, в том числе в университетских и других образовательных программах. Речи об отмене визового режима между нашими сторонами пока не идет.
— Проявляет ли Иран интерес к поставкам новейших российских комплексов ПВО С-400? Может ли быть заключен новый контракт? Можно ли ожидать урегулирования всех оставшихся деталей процесса отзыва иска по непоставке комплексов С-300 в ближайшее время?
— Военно-техническое сотрудничество РФ и ИРИ строится на принципах равноправия, взаимной выгоды и не имеет целью нанесение ущерба другим странам. Традиционно Иран проявляет интерес к приобретению самых современных типов оружия российского производства. Продукция военного назначения, поставляемая ИРИ, предназначена для применения исключительно в оборонительных целях и не создает угрозы изменения баланса сил в регионе. Вопрос отзыва иска по С-300 неоднократно комментировался официальными представителями РФ и сейчас снят с повестки дня. ВТС России и Ирана осуществляется на основе соблюдения действующих норм российского законодательства, международных обязательств Российской Федерации и положений резолюций, принятых СБ ООН в отношении Ирана.
— Ожидаются ли в ближайшее время визиты делегаций из Ирана в РФ, в том числе министерства энергетики и иностранных дел? Планируется ли визит российских делегаций в Иран, в том числе по линии МИД?
— За последние несколько лет между нашими странами установился интенсивный делегационный обмен. В августе ожидаются активные контакты по линии внешнеполитических ведомств. В Тегеране запланированы двусторонние консультации по ближневосточной тематике, в которых примет участие замминистра иностранных дел России Михаил Богданов. Затем, ближе к концу августа, другой замминистра иностранных дел России Сергей Рябков также посетит иранскую столицу, но уже для обсуждения хода имплементации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Знаменательным событием для нас станет запланированный на ноябрь этого года визит в Иран председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, проработкой которого сейчас занимается наше посольство.
Ориентировочно в декабре также должно состояться заседание Межправкомиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству, российскую часть которой возглавляет министр энергетики России Новак. Принципиальное согласие на проведение этого мероприятия на иранской территории было достигнуто в ходе недавнего визита в Россию сопредседателя МПК со стороны ИРИ, министра связи и информационных технологий Ваэзи.

Ситуация в российской экономике заставила правительство принять меры по ее поддержке, которые уже дали определенный результат. О том, какой дальнейший рост промышленности ждет страну, чем будут руководствоваться власти РФ при возобновлении экономических отношений с Турцией и зачем нам наряду с тяжелыми машинами производить круизные лайнеры, рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
− Недавно мы стали свидетелями попытки военного переворота в Турецкой Республике. Может ли это отразиться на нормализации экономических отношений Москвы с Анкарой?
− Это в большей степени вопрос дипломатии и международной политики.
Если вы имеете в виду российско-турецкое сотрудничество в части промышленности, то думаю, что мы будем продолжать развитие в положительном тренде. Естественно, это должно быть сотрудничеством исключительно во взаимовыгодном ключе. Экономические интересы российской промышленности будут стоять во главе угла.
− А наоборот – меры по расширению сотрудничества будете предлагать?
− По всем направлениям, которые выгодны нашим деловым кругам, мы даже в период сложных отношений практически ничего не ограничивали.
Падение двустороннего товарооборота почти на 42% — до 6,1 миллиарда долларов — за первые пять месяцев 2016 года и потеря Турцией статуса пятого по величине торгового партнера России связано в первую очередь с рисками, которые видели для себя сами наши компании.
Свою роль в этом сыграло также падение мировых цен на энергоносители, составлявшие существенную долю российского экспорта в Турцию. Однако российско-турецкий товарооборот по-прежнему является весьма диверсифицированным. Полагаем, что в будущем при благоприятном развитии событий он будет расти, но достичь прежних объемов будет тяжело.
Последние события в российско-турецких отношениях создают хорошие предпосылки для возобновления наших полноформатных двусторонних отношений в торговой и промышленной сферах.
Мы готовы продолжить взаимовыгодное экономическое сотрудничество, тем более что у нас имеются хорошие устоявшиеся связи в различных отраслях промышленности, в том числе металлургии, автомобилестроении, сельскохозяйственном и энергетическом машиностроении, фармацевтике и деревообработке.
− Сейчас в правительстве обсуждается бюджет на 2017–2019 годы. При этом расходы в номинальном выражении планируется заморозить. Как считаете, возможен рост промпроизводства без увеличения расходов на промышленность?
− Да, конечно же, возможен. Более того, мы считаем, что по мере оздоровления экономики рыночные механизмы должны начинать доминировать в развитии любой отрасли, за исключением тех, где у нас априори неравные отношения с зарубежными партнерами.
Возьмем, например, авиацию – она долгие годы была недофинансирована. Более того, если мы говорим о советской гражданской авиации, то практически все типы самолетов, выпущенные в советское время, не ставили топливную эффективность во главу угла. А именно топливная эффективность является основным индикатором экономической эффективности гражданского самолета в целом.
Они выпускались в другой экономической реальности и при абсолютно других экономических подходах. А когда наша страна резко перешла к рыночной экономике, отечественная авиация стала просто неконкурентоспособной.
Все эти предпосылки привели к тому, что нужно было разрабатывать абсолютно новую авиационную технику.
Почему, например, появился проект Sukhoi Superjet, а не продолжилось производство существовавших на тот момент самолетов? Потому что существовавшие на тот момент самолеты при всех возможностях к реализации не давали перспектив дальнейшего развития для нашего авиапрома, в них не было никаких новаций. А в Superjet была инновационность, и предпочтение было отдано ему. Так появился SSJ100 со своим дальнейшим развитием МС-21. Любому производителю самостоятельно создать подобный самолет невозможно. Поэтому по таким отраслям экономики, как авиапром, для того чтобы поддержать заданный в середине 2000-х годов темп развития, мы точно будем сохранять приоритет в части бюджетных инвестиций.
− А по каким еще отраслям сохранится инвестиционный приоритет?
− Авиация – это лишь один из примеров. Если взять фармацевтику, то здесь мы сегодня видим результаты реализации программы, принятой в 2011 году. Мы будем переводить механизмы поддержки этой отрасли в рыночные механизмы через льготные займы, через субсидии на клинические исследования.
Сейчас принято решение по переводу части средств из госпрограммы в Фонд развития промышленности под клинические исследования и вывод наших лекарственных препаратов на внешние рынки.
Если мы говорим про автопром, то здесь был резкий рост за счет того, что мы запустили механизм промсборки для иностранных производителей. Это было своевременно, целесообразно и дало в итоге ощутимый эффект.
Но сегодня мы видим, что мощностей создано почти в два раза больше, чем есть потребность у российского рынка. Поэтому нужно организовывать спрос, то есть создавать механизмы по компенсации скидок нашим автопроизводителям, по льготному автокредитованию, по созданию механизма по выходу на внешние рынки.
Естественно, в каком-то виде мы сохраним субсидии и на следующий год, чтобы поддержать автопром и сохранить те мощности, которые были созданы.
− Каким будет уровень промпроизводства в 2017 году?
− Я могу поделиться только своими личными прогнозами, исходя из реализации тех стратегий, которые были утверждены. Мы должны оказаться по крайней мере в положительной зоне именно по обрабатывающим отраслям промышленности, а сколько это будет… больше 1% точно. Согласно базовому сценарию прогноза на 2017 год, в промышленности рост составит 1,1%, в обрабатывающих отраслях − 1,7%. Это близко к реальности с учетом тенденций по инфляции, тем более что все равно будет снижаться ставка рефинансирования.
Прожитые полгода дают такие ощущения, что следующий год должен быть более позитивным. Мы уже нащупали дно и должны двигаться вверх.
− В прошлом и текущем годах правительство реализовывало план поддержки экономики или антикризисный план. Понадобится ли он в следующем году?
− При готовящемся бюджете нам никто никаких лимитов в этой части не доводил и не доведет, поскольку всегда принимается решение на правительственном уровне. Но, по нашим ощущениям, какой-то объем средств будет зарезервирован на следующий год. В каком объеме – мне сложно спрогнозировать, но это будет явно меньше, чем в прошлом и в этом годах. По крайней мере, средств должно хватить на то, чтобы поддержать положительную динамику по ряду отраслей промышленности, где мы задали хороший темп.
Например, транспортное машиностроение. Меры поддержки сработали мультипликативно, когда было принято решение по запрету на продление срока службы вагонов. То есть в совокупности с административными мерами сработали и финансовые. Мы исходим из того, что в этом году подход тоже даст эффект, мы должны продлить его как минимум еще на год, а то и на два, чтобы выровнять переходный этап.
По автопрому в каком-то объеме меры должны сохраниться, в каком – будем смотреть по возможностям и по результатам этого года. Продажи грузовых машин, например, растут, и продажи по году будут выравниваться за счет того, что часть мер по автобусам, по машинам скорой помощи и по школьным автобусам на сумму 6 миллиардов рублей придут с отложенным эффектом, и мы увидим результат производства уже в третьем квартале.
Будем смотреть, что будет происходить с легковыми автомобилями, и подстраивать механизмы поддержки. Если пошли в рост коммерческие и легкие коммерческие автомобили, это говорит об оздоровлении экономики в целом, потому что это значит, что бизнес заинтересован в приобретении такого транспорта. Мы должны найти правильное решение по включению всех мер, которые должны сработать по легковому автотранспорту.
− Вы упомянули автопром. А авиастроение и сельхозмашиностроение?
− Да, в сельхозмаше рост производства перевалил уже за 30%. Я думаю, мы постепенно должны снижать уровень субсидирования. По этому году там заложено 25%, в следующем году, может, будет чуть меньше, через год – еще меньше и так далее. При этом мы должны сохранить позитивный тренд в отрасли, поэтому резко ничего нельзя отменять. Как резко вводить, так и резко отменять. Всегда должны быть какие-то переходные периоды. Но сельхозмаш в каком-то объеме точно должен сохранить развитие, в том числе и за счет государственных мер поддержки. То же самое касается и фармацевтики.
В судостроении, например, у нас тоже много разработок, которые мы должны внедрять. В отраслевой госпрограмме у нас заложен существенный объем средств, которые предполагается направить на лизинг, на продвижение нашего судостроительного сегмента на рынке. Надо сказать, что, принимая в 2009 году решение по периоду лизинга протяженностью семь лет, мы получили колоссальный эффект – за этот период было реализовано порядка 100 судов, и мы должны сохранить этот тренд, особенно речное судостроение, которое за это время сильно обновилось. В этом году мы делаем акцент на пассажирском судостроении. Подчеркну, что ранее никогда, ни в советское время, ни в современное российское, мы не строили крупных круизных лайнеров.
− Ранее обсуждалась возможная приватизация ОСК и УВЗ, которые производят и гражданскую, и военную продукцию. Были предложения о разделении производств и приватизации именно гражданской части. Актуален ли этот вопрос сейчас, если да – в каком ключе?
− Это неверно. Приватизация какой-то части, гражданской либо военной, – ни в коем случае.
Площадка российского вертолётостроительного холдинга ОА Вертолеты России во время открытия Международного авиационно-космического салона МАКС-2015. Архивное фото
Приватизацию пакетов акций компании мы не исключаем.
Такой процесс уже запущен, например c холдингами госкорпорации "Ростех". Частными инвесторами был приватизирован пакет акций концерна "Калашников", продан контрольный пакет "АвтоВАЗа" альянсу "Рено-Ниссан", согласованы условия сделки по продаже значимого миноритарного пакета акций "Вертолетов России", осталось технически реализовать сделку.
Также рассматриваются и остальные холдинги, входящие в Ростех.
− Какие-то конкретные планы по приватизации промышленных активов государства на следующий год уже есть?
− Что касается ОСК и УВЗ – вряд ли. А вообще, точно нужно искать либо портфельных, либо стратегических инвесторов. На все активы без исключения.
Другой вопрос, в каком объеме: 25% или 49% – все будет зависеть от конъюнктуры и от принимаемых правительством и президентом решений. Я буду предлагать постепенно по всем промышленным холдингам, по которым будет принято решение о приватизации, привлекать внебюджетные источники, вопрос только в том, когда лучше это сделать. Это необходимо, потому что бюджетные источники будут сжиматься, а программы развития предприятий нужно реализовывать.
Когда продаются активы из других отраслей экономики, государство ставит для себя цель получить средства для пополнения бюджета. Когда мы говорим про промышленные активы государства, то они все в аспекте ОПК требуют инвестиций. И если правительство принимает решение по снижению объемов финансирования этого сектора, тогда нужно искать альтернативные решения, как сохранить динамику развития. Мы не можем, просто снижая гособоронзаказ и госинвестиции, оставить предприятия опять у разбитого корыта, как в 1990-е годы. Мы этого не допустим.
− При условии конвертации долга Ростеха в акционерный капитал "АвтоВАЗа" сколько нужно будет внести "Рено", чтобы доля французского концерна не размылась?
− Это счетная позиция. Мы точно не хотим размытия доли "Рено", которая, в свою очередь, заинтересована в сохранении и развитии актива. Поэтому, думаю, акционеры смогут договориться. Мы не видим здесь для себя никаких опасений.
То же самое по КАМАЗу. Его рост сегодня заложен во многом за счет унификации большого количества компонентов, в том числе и кабин, в которой заинтересован рынок. Сегодня рост продаж приходится в первую очередь на те модели, которые были разработаны вместе с Daimler. В этом заключается синергетический эффект. Есть много других примеров в различных отраслях промышленности. Но в каждой из них мы должны принимать взвешенные решения, чтобы не потерять эффект развития и получить возможность привлечения существенных внебюджетных источников.
− Согласованы ли окончательно со всеми ведомствами корректировки в соглашениях о промсборке с автопроизводителями, которые должны учесть экспорт и складские запасы в общем объеме производства на 2016 и 2017 годы?
− Во-первых, те соглашения, которые заканчиваются в 2016 году, не будут корректироваться. Поэтому те автопроизводители, которые завершают их сейчас, задумываются о специнвестконтракте и начинают вести с нами диалог. А в таком контракте главным инструментом и мотивацией в части выполнения его условий является 719-е постановление правительства, где по каждой отрасли прописаны требования по уровню локализации, который привязывается к технологическим операциям. Поэтому все корректировки стратегии автопрома до 2025 года будут ориентированы именно на этот показатель, который сейчас как раз находится в стадии формирования.
Возвращаясь к автопрому, рассчитывать только на российский рынок будет неправильно. Мы должны создать такой механизм, который будет работать и мотивировать на то, чтобы российские автопроизводители (как аутентичные, так и иностранные) были ориентированы на внешние рынки.
− И завершающий вопрос. В июле проходил международный промышленный форум "Иннопром-2016", почему именно Япония стала партнером форума 2017 года?
− Во-первых, Япония – один из ведущих технологических мировых лидеров. Выставка носит прикладной характер и традиционно сильна именно в части инновационного развития отраслей промышленности. Поэтому мы видим в участии Японии большие перспективы для тех отраслей, где есть интерес у наших предприятий.
Речь идет о секторах, которые дают в перспективе высокую добавленную стоимость для наших предприятий, начиная от биотехнологий и заканчивая утилизацией твердых бытовых отходов, где у японцев есть огромный опыт. Это недооцененный потенциал для развития целых индустрий в экономике нашей страны. Поэтому мы видим здесь отдельную нишу и перспективу развития.

Вода и мир
Почему не нужно поворачивать сибирские реки, или что такое конкуренция за пресную воду
Анастасия Лихачева – кандидат политических наук, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Резюме: Обязательным условием эффективного развития водоемких производств в Сибири и на Дальнем Востоке является экспорт в несколько стран АТР – тогда можно говорить об использовании водных ресурсов как стратегического политического ресурса.
В начале мая министр сельского хозяйства Александр Ткачёв и советник президента по экономике Сергей Глазьев с разницей в неделю подняли вопрос об экспорте российской пресной воды. Министр – радикально – предложил экспортировать воду через Казахстан в Китай для развития Синцзяня – за счет излишков алтайских ГЭС. Сергей Глазьев подошел более рыночно – воду «добывать, очищать, готовить к потреблению и экспортировать». Ранее об использовании «водного золота» говорил Юрий Лужков, а в 2013 г. к идее вновь обратилось Минэкономразвития. Сегодня проект реанимировался в несколько ином обличии, но в старой сути – не прилагая никаких особых усилий, получать много денег, продавая сырье, которое нам практически ни во что не обходится.
Глобальная конкуренция за воду действительно нарастает, и страны, обладающие этим ресурсом, будут в выигрышном положении. Но необходимо принять во внимание, что водная проблема перешла из режима локальных кризисов в режим глобального стратегического вызова. И этот переход играет принципиальную роль в том, как разворачивается реальная конкуренция. Сегодня торговля «сырой» водой (по аналогии с нефтью), т.е. реализация проектов по повороту сибирских рек, водопроводу из Байкала в Китай и т.д. – это продажа без добавленной стоимости, с непредсказуемыми экологическими эффектами и потенциально высокой коррупционной составляющей ценнейшего стратегического ресурса, стоимость которого со временем будет только увеличиваться.
Адаптация к глобальному водному вызову: виртуальная вода и квазиколонизация
Долгосрочной проблемой международных отношений уже в ближайшем будущем станут ситуации, когда к изменению распределения воды в бассейне приводят не конкретные действия государств, расположенных выше по течению, а объективные плохо поддающиеся контролю процессы: рост населения, изменение его привычек потребления, урбанизация, рост водозабора в сельском хозяйстве. В подобных случаях у государств не останется выбора кроме коллективной адаптации, поскольку и военными действиями указанные тенденции переломить сложно.
Даже при отсутствии в будущем острых международных конфликтов за гидроресурсы прямые последствия водного дефицита окажут глубинное влияние на все сферы деятельности человека. Уже начавшиеся процессы затрагивают изменение структуры ведущих и развивающихся экономик, провоцируют масштабную миграцию в районы, менее подверженные водному дефициту – по оценкам директора Института водных проблем РАН Виктора Данилова-Данильяна, число «водных беженцев» может достигнуть 500 млн человек к 2030 г., т. е. всего через 15 лет.
На региональном уровне человечество уже заметно перекроило карту гидроресурсов: в мире действует более 3 тыс. водохранилищ и плотин, ирригационные каналы отводят воду на сотни километров от рек в степи и пустыни. Государства, расположенные ниже по течению, резко реагируют на изменение «верхними» стока в свою пользу. Египет неоднократно заявлял, что готов на любые меры, чтобы не допустить строительства плотины «Возрождение» в Эфиопии, Узбекистан допускает войну с Таджикистаном из-за Рогунской ГЭС, а Сирия вплоть до гражданской войны протестовала против каждой новой плотины на территории Восточной Анатолии в Турции. При этом даже на национальном уровне самих по себе манипуляций с «сырой» водой уже недостаточно для адаптации к глобальному водному вызову.
В отличие от перекрытия рек, что даже теоретически дает преимущества только ограниченному числу стран, эффективное использование пресной воды предоставляет широкие возможности для всего мира. Ресурсы для экстенсивного роста уже исчерпаны во многих государствах. Повсеместно за исключением Бразилии, России и Канады дефицит воды станет главным ресурсным ограничением развития, как экономического, так и социального. И возможностей для перелома тенденций, стимулирующих спрос на воду – демографического бума, перехода на белковое питание, урбанизацию – сегодня де-факто не существует. Речь может идти только об адаптации к процессам и попытке их смягчения. Поэтому единственный стратегический ответ на глобальный водный вызов и международную конкуренцию за воду – повышение эффективности водопользования за счет перераспределения водозабора и новых технологий водопользования. При этом ни первое, ни второе не требуют перераспределения воды между странами.
О физическом перемещении воды как таковой говорить можно только на региональном уровне и в несопоставимых объемах. Аналогия с нефтью имеет смысл разве что в вопросах способов транспортировки, поскольку объем экспортируемой нефти на порядки меньше объема воды, необходимой для производства товаров. В глобальном масштабе перераспределение водозабора – это главным образом перераспределение производства и сбыта не самой воды, а водоемких товаров: продовольствия, энергии, промышленных товаров, биотоплива. Академик Данилов-Данильян приводит очень наглядный пример: на выращивание зерна, импортируемого в страны Северной Африки и Ближнего Востока, уходит объем воды, равный ежегодному стоку Нила. То есть в регионе текут две реки: Нил реальный и виртуальный. Очевидно, что невозможно обеспечить подобные объемы продовольствия без международной торговли виртуальной водой и технологиями.
Виртуальная вода. Концепция «виртуальной воды», предложенная в начале 1990-х гг. Джоном Энтони Алланом, основана на статистике водопотребления, а именно того факта, что большая часть воды используется человеком не напрямую, а как производственный ресурс. Он определил ее какколичество воды, вложенное в производство продуктов питания или иной продукции. Согласно данной концепции, страны, ограниченные в гидроресурсах, могут и должны закупать водоемкую продукцию у стран, где относительная ценность воды ниже. Таким образом достигается наибольшая эффективность использования водных ресурсов.
В этой экономической формуле целый ряд государств уже нашли источник укрепления собственных международных позиций (так, Бразилия и Аргентина стали одними из ведущих поставщиков мяса в мире, выйдя на рынки Азии, Иордания почти полностью перешла на импорт водоемких злаков из США, значительно снизив уровень водного стресса в сельской местности), а развивающиеся азиатские гиганты адаптируют под нее основные направления государственной политики. Данная концепция не зафиксировала новую форму торговли водой как таковой, но оказала важнейшее влияние на политику гидропользования, обеспечив наглядные ответы на принципиальные вопросы: какова относительная ценность воды и как ее можно адекватно учесть в экономике и торговле. Экспортеры виртуальной воды (речь идет о чистом экспорте) – страны Северной Америки, а также Аргентина, Таиланд и Индия. Чистые импортеры: Япония, Южная Корея, Китай, Индонезия и Нидерланды.
Примечательно, что хотя Китай является одним из крупных экспортеров продовольствия, масштабы импорта, в первую очередь мясной продукции, настолько значительны, что количество импортируемой виртуальной воды превышает даже объемы экспорта. Совсем по другой причине в число импортеров попадают Нидерланды. Страна славится высокоэффективным сельским хозяйством и бережным отношением к каждому метру земли. Именно по этой причине она выращивает культуры с низкой добавленной стоимостью, предпочитая закупать в других странах корма для скота и специализироваться на животноводстве и цветоводстве. Таким образом, в количественном выражении Нидерланды действительно чистый импортер, однако в денежном выражении страна получает значительные доходы как экспортер продукции, в которой вода имеет максимальную добавленную стоимость.
Чтобы нагляднее представить себе выгоды от сознательной торговли виртуальной водой, приведем ряд показателей по разным странам на основе базы данных «Водный след» (Water footprint). Так, для производства 1 тонны соевых бобов потребуется 4124 м3 воды в Индии, 2030 – в Индонезии, 1076 – в Бразилии. При этом средний мировой уровень – 1789. Если мы возьмем производство мяса, водная составляющая отличается еще сильнее: на тонну говядины потребуется 11 681 м3 в Нидерландах, 21 028 м3 в России и 37 762 м3 – в Мексике. Среднемировой уровень – 15 497 м3.
Рис и пшеница, основные потребители воды в сельском хозяйстве (доля риса в общем объеме водной составляющей производства зерновых составляет 21%, пшеницы – 12%) также требуют кратно отличающихся объемов воды в разных странах: одна тонна риса в Австралии обойдется в 1022 м3 воды, а в Бразилии – уже в 3082 м3. Водная компонента в тонне пшеницы варьируется от 619 м3 в Нидерландах до 2375 м3 в России. Это объясняется разницей в эффективности сельскохозяйственных технологий, состоянием водного хозяйства и климатическими особенностями. Таким образом, разумное водопользование становится весьма существенным источником конкурентоспособности.
Торговля виртуальной водой – уже сегодня основная площадка для международной конкуренции государств за водные ресурсы. Именно таким образом можно оказывать прямое воздействие на рынки продовольствия, энергии и промышленных товаров других стран и в то же время продавать собственные гидроресурсы с максимальной добавленной стоимостью. И важность этой площадки будет расти по мере относительного удорожания пресной воды. Политическое значение продовольственной проблемы признается всеми, а возможность оказывать прямое влияние на рынки продовольствия через один из главных факторов сельхозпроизводства – водные ресурсы – не вызывает сомнений. Одним из катализаторов «арабской весны» в Египте стало эмбарго на экспорт российского зерна летом 2010 г. и последовавший за этим скачок цен на хлеб. Более того, важна не только торговля, но и просто учет воды как фактора производства. Уже появились исследования, доказывающие, что контроль над источниками пресной воды стал для «Исламского государства» (запрещено в России. – Ред.) ключом к установлению контроля над обширными территориями – и над экономической деятельностью всего региона.
Квазиколонизация. За последние 20 лет десятки миллионов гектаров в развивающихся и особенно наименее развитых странах были проданы или арендованы для выращивания продовольствия, заготовку древесины и производство биотоплива. На практике это привело к появлению термина «квазиколонизация». Данный процесс представляет собой масштабную скупку и аренду земель за рубежом для вывоза произведенных на них товаров, в первую очередь продовольственных, на территорию собственной страны и только затем – для продажи в третьи страны. По оценкам профессора Джона Энтони Аллана, на эти виды деятельности сегодня приходится 90% сделок с землей в Африке и 80% в мире. Все указанные производства отличаются повышенной водоемкостью, а исследования подтверждают, что именно наличие источников пресной воды становится определяющим фактором для аренды и скупки земель за рубежом.
Хотя прямые иностранные инвестиции существовали всегда, сегодня можно говорить о новом феномене – агроколонизации. Так называемые захваты земли (land grabs) стали массовым явлением с начала 2000-х годов. В чем главные отличия «захвата земли» от обычных инвестиций? «Захват» сопровождается несправедливым распределением доходов между местными сообществами и инвестором и ориентацией на вывоз выращиваемых культур в страну происхождения инвестора, а не на местный или мировой рынок. Это объясняет высокую привлекательность для «захватчиков» стран с низкой защитой прав собственности и неустойчивыми политическими режимами. В подобных случаях распределение доходов максимально выгодно инвестору (доля «колонии» состоит в доходах чиновников), становится возможным хищническое природопользование, отсутствуют стимулы к долгосрочной стратегии использования арендованной или даже выкупленной земли. Хотя большинство подобных соглашений предполагают срок аренды от 50 до 99 лет, в условиях неустойчивости режимов в большинстве африканских государств это нельзя расценивать как серьезную основу долгосрочного сотрудничества.
Если с начала 1960-х гг. арендовались сотни или тысячи гектаров, то сегодня речь идет о миллионах: сделки до 10 тыс. га даже не включаются в статистику профильных НКО. Точные данные получить трудно, однако только в Африке минимальная площадь таких «колоний» в 2008 г. оценивалась в 34 млн га, что соответствует территории Финляндии или двум Уругваям. При этом наибольшая концентрация новых сельхозугодий наблюдается к югу от Сахары – в странах, население которых в наибольшей степени подвержено голоду и жажде.
В бассейне крупнейшей африканской реки Нил по предварительно согласованным и анонсированным соглашениям объем иностранной сельскохозяйственной аренды должен увеличиться до 10 млн га в течение ближайших лет. Лидером новой колонизации стала Эфиопия: эфиопское правительство c 2008 г. сдало инвесторам из Индии, Китая, Саудовской Аравии 3,6 млн га под орошаемое земледелие и планирует увеличить эту цифру еще на 7,5 млн га в ближайшие годы. По совокупным объемам ее опережают Судан и Южный Судан: в этих странах 8,3 млн га уже законтрактовано под орошаемое земледелие. Почти 1 млн га намерена дополнительно орошать Уганда. Хотя наличие контрактов не обязывает инвесторов вести хозяйственную деятельность, перспективы полной эксплуатации этих земель минимальны. По оценкам ФАО, ирригационный потенциал Нила не превышает 8 млн га независимо от того, в какие годы будет решено осваивать арендованные земли: очевидно, что даже для пяти стран бассейна (Египта, Судана, Южного Судана, Эфиопии и Уганды), намеренных орошать 8,6 млн га, воды недостаточно – а в бассейне расположено 11 стран. Камерун, Сенегал, Нигер также активно участвуют в конкуренции за иностранных арендаторов. Не отстают и малые страны тропического пояса – всего в масштабную сельхозаренду вовлечено более 40 африканских государств.
Первыми «колонизаторами» стали страны Персидского залива, еще во время нефтяного кризиса 1973 г. оказавшиеся под угрозой зернового эмбарго со стороны США. Однако небольшое население, значительные доходы от экспорта нефти и благоприятная конъюнктура на мировых рынках продовольствия позволяли ограничиться диверсификацией поставщиков. Продовольственный кризис 2008–2010 гг., когда такие крупные экспортеры продовольствия, как Россия, Аргентина, Индия, Вьетнам ввели ограничения на вывоз зерна и других продуктов, обострил вопрос продовольственной безопасности и стал катализатором к масштабной агроэкспансии Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта. Самыми привлекательными для государств Персидского залива оказались страны Африки (в особенности Мозамбик, Судан и ЮАР) и Юго-Восточной Азии (в первую очередь для выращивания риса, фруктов и овощей – Таиланд, Лаос).
Азиатские гиганты, Китай и Индия, пытаясь адаптироваться к растущим запросам своего населения и обостряющемуся дефициту воды, активно включились в колонизацию в 2000-х годах. Хотя обе страны арендуют земли Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и даже Восточной Европе, наибольшие по объемам инвестиции направляются именно в Африку: по данным международной организации GRAIN, речь идет о миллиардных проектах. Активно участвуют в новой колонизации Япония, Корея, Сингапур. Однако развитые страны предпочитают иметь дело со странами, где права собственности больше защищены, и арендуют земли преимущественно в государствах БРИКС: Китае, Бразилии, ЮАР.
По оценкам профессора Дэвида Зетланда из Лейденского университета, сегодня в Африке две трети сделок осуществляют крупные агрохолдинги и треть – финансовые инвесторы и суверенные фонды. Необходимо отметить, что развивающиеся и развитые страны преследуют различные цели: первые стремятся гарантировать продовольственную безопасность, вторые – обеспечить высокую доходность своим вкладчикам. Соответственно для инвесторов, нацеленных на максимизацию прибыли, важен рост цен. После продовольственного кризиса 2008–2010 гг. и сопровождавшего его скачка цен на основные торгуемые продовольственные товары все большую роль в этом сегменте играют западные институциональные инвесторы (в особенности пенсионные фонды).
Для тех же, кто заинтересован в продовольственной безопасности собственной страны, решающим фактором становится объем доступного продовольствия. Поэтому издержки на выращивание такого продовольствия могут даже превышать среднерыночные: главным остается контроль над поставками.
Сегодня на продовольственном рынке господствуют всего четыре компании, и все они находятся в юрисдикции западных стран (и владельцы этих компаний входят в число наиболее влиятельных представителей элиты США и Западной Европы): речь идет о компаниях Archer Daniels Midland,Bunge, Cargill и Louis Dreyfus, контролирующих до 70–90% основных торгуемых продовольственных товаров. Продовольственно-территориальная экспансия развивающихся стран наглядно доказывает их стремление к пересмотру системы, сложившейся на глобальных рынках продовольствия, и к укреплению национального продовольственного суверенитета. Но уже не за счет изъятия ценных ресурсов из национальной экономики (земли, воды и энергии), а через выход на сельхозугодия и водные ресурсы бедных стран-производителей.
Некоторые эксперты напрямую связывают прямые инвестиции развивающихся стран, в первую очередь Китая, в аренду и скупку земель в Африке и Латинской Америке с попыткой бросить вызов гегемонии западных держав в торговле виртуальной водой. Экономическая конкуренция перешла в международно-политическую плоскость: контроль над виртуальной водой становится источником силы и влияния.
Виртуальная вода в промышленности и энергетике. В силу особой важности сельского хозяйства для развивающихся и наименее развитых стран они уделяют меньше внимания торговле виртуальной водой в составе промышленной продукции. Однако добавленная стоимость воды в таком случае значительно выше. При этом водоемкость конкретной отрасли может кратно отличаться в разных странах, а при учете воды, потраченной на производство энергии, разрыв становится еще больше. Отрасли-лидеры по гидрозабору: нефтехимия, металлургия, целлюлозно-бумажное производство и энергетика. В результате доступные источники пресной воды становятся для развивающихся и наименее развитых государств важнейшим ограничителем развития водоемких производств даже несмотря на наличие «профильных» ресурсов.
Актуальный пример того, как вода может стать ресурсным ограничением для экономики, связан с развитием сланцевой газодобычи. Данная технология предполагает использование значительных объемов воды, причем без возможности повторного применения. Именно отсутствие свободных ресурсов пресной воды сегодня расценивается как главное ограничение для добычи сланцевого газа в Китае, и, по оценкам целого ряда специалистов, данный фактор стал одним из неформальных аргументов сторон в ходе переговоров по подписанию газового контракта между Россией и Китаем 21 мая 2014 года.
Очевидно, что торговля виртуальной водой в составе продовольственных или промышленных товаров имеет глобальный характер. На региональном же уровне наибольшее значение имеет виртуальная вода в виде вырабатываемой энергии, причем речь идет не только о гидро-, но и о тепловой и атомной энергии. Строительство плотин для развития гидроэнергетики становится одной из наиболее распространенных причин острых международных конфликтов по водным вопросам, и в то же время именно продажа электроэнергии в третьи страны оказывается наилучшим гарантом стабильного режима водопользования в международном водном бассейне.
Нередки случаи, когда экспорт части энергии с ГЭС, строительство которой резко осуждалось другими странами бассейна, позволял либо полностью нивелировать, либо значительно сгладить конфликтную ситуацию. В частности, именно этой стратегии придерживается Китай на реке Меконг, а единственным примером успешного выстраивания водно-энергетического бартера в Центральной Азии служит покупка Казахстаном гидроэнергии Киргизии (на реках Чу и Талас). Эфиопия, формирующая коалицию по пересмотру квот на водозабор из Нила и намеренная построить самую высокую и мощную плотину в Африке, делает возможность экспорта дешевой электроэнергии в другие страны одним из аргументов в переговорах с соседями. Наличие такого обширного потенциала сотрудничества в сфере энергетики связано с тем, что в таком случае и государство, находящееся вверху по течению, и страна-импортер (расположенная ниже по течению) заинтересованы в определении режима сброса воды и квотировании водозабора.
Строительство плотин дает «верхним» государствам значительный политический ресурс, позволяющий шантажировать соседа ограничением поставок и воды, и электричества, что имеет прямое воздействие уже не только на сельское хозяйство, но и на промышленность и инфраструктуру.
Потенциал использования водных ресурсов для международной стратегии России
Россия – вторая в мире страна по возобновляемым гидроресурсам, на ее территории находится Байкал, крупнейшее пресное озеро в мире. В России протекает более 120 тыс. рек длиной более 10 км, их совокупная протяженность составляет 2,3 млн километров. Ежегодный объем возобновляемых водных ресурсов оценивается в 4202 км3. 71% этого стока относится к бассейну Северного Ледовитого океана, 14% – Тихого, 10% приходится на Каспийское море и всего 5% – на Черное, Азовское и Балтийское моря вместе взятые. Из-за границы поступает только 185 км3, или 4,5% всех возобновляемых ресурсов России.
Хотя обеспеченность водой в южных и юго-западных районах на порядки меньше, чем в Сибири (2 тыс. м3 и 120–190 тыс. м3/чел./год, соответственно), все равно она почти в два раза превышает подушевую обеспеченность гидроресурсами в бассейне Меконга (около 1–1,1 тыс. м3), в полтора раза – среднемировой уровень (1370 м3). Водная инфраструктура России считается самой протяженной в мире, по числу плотин страна также остается одним из мировых лидеров: в ХХ веке построено более 300 крупных плотин и свыше 3 тыс. малых и средних.
Такие богатства, безусловно, стратегический актив, которым пока мы пользуемся исключительно тактически. Позиция России в международной водной «повестке» практически отсутствует.
В Таблице 1 приведена секторальная структура для стран с наибольшим ежегодным водозабором. Россия эту десятку замыкает. В тройке стран-лидеров – Индия, Китай и США: спрос предъявляют колоссальное население этих стран, 2,9 млрд человек, и ведущие экономики мира (4-е, 2-е и 1-е место, соответственно).
Таблица 1. Секторальная структура для стран с наибольшим ежегодным
водозабором, в среднем за 2000–2012 гг., куб. км на человека в год
|
Страна |
Водо- забор, |
Доля забора |
Водо- забор, |
ЖКХ, % |
Промыш-ленность, % |
С/х, |
Насе- ление, |
$ ВВП/ |
|
Индия |
661 |
45,7 |
575 |
7 |
2 |
91 |
1148 |
1,2 |
|
Китай |
545 |
19,4 |
417 |
10 |
21 |
69 |
1344 |
4,5 |
|
США |
477 |
16,9 |
1605 |
13 |
46 |
41 |
312 |
23,5 |
|
Пакистан |
176 |
72,0 |
1099 |
4 |
2 |
94 |
177 |
0,6 |
|
Иран |
92 |
71,7 |
1313 |
6 |
1 |
93 |
75 |
1,4 |
|
Япония |
90 |
20,9 |
706 |
19 |
18 |
63 |
128 |
55,7 |
|
Индонезия |
113 |
5,6 |
496 |
12 |
7 |
82 |
242 |
2,1 |
|
Мексика |
77 |
18,9 |
719 |
14 |
9 |
77 |
115 |
8,6 |
|
Филиппины |
80 |
16,7 |
931 |
8 |
10 |
83 |
95 |
1,5 |
|
Россия |
66 |
1,5 |
461 |
20 |
60 |
20 |
143 |
5,7 |
Источник: Worldwater.org, databank.worldbank.org, FAO AQUASTAT
Ежегодный водозабор России составляет 66 млн км3, при этом задействуется лишь 1,5% от совокупных возобновляемых ресурсов. Наша страна отличается нестандартной секторальной структурой водозабора: хотя на промышленность приходится 60%, из них почти 80% (30,5 млн км3) остается в энергетике, преимущественно атомной, на сельское хозяйство расходуется только 20% (поскольку в большинстве регионов не применяется орошаемое земледелие и новые технологии) и еще столько же идет на муниципальное водоснабжение – по этому показателю Россия лидирует в десятке главных потребителей воды и опережает даже Японию (у которой 19%).
Если говорить о «доходности» воды в экономике, или сколько долларов ВВП приносит каждый использованный кубометр воды, картина выглядит следующим образом. Японская экономика использует воду наиболее продуктивно: каждый кубометр приносит 55,7 доллара. Второе место принадлежит США (23,5 доллара). Показатели остальных стран колеблются от 0,6 (Пакистан) до 8,6 доллара (Мексика). В России каждый кубометр в 2000-е гг. приносил 5,7 доллара. Доходность воды в Китае лишь незначительно уступает российской (4,5 доллара), притом что объем гидрозабора больше в восемь раз. Однако резервы для повышения эффективности использования воды в российской экономике имеют не только финансовое, но и товарное измерение.
В отношении производительности сельского хозяйства (и, соответственно, воды в сельском хозяйстве) пока существуют значительные возможности роста: по оценкам La Via Campesina,международного фермерского движения, если производительность российских малых частных хозяйств распространить на всю отрасль, то ежегодная производительность сельского хозяйства вырастет в шесть (!) раз. Для сравнения, в Кении такая экстраполяция позволит лишь удвоить выпуск, а в Венгрии – повысить его на 30%. Высокий водозабор в муниципальном секторе связан с неэффективностью устаревших систем и высоким уровнем потерь. Для преодоления такой отсталости с 2009 г. запущен ряд государственных инициатив, направленных на модернизацию систем водоснабжения и водоочистки, однако предложенные программы пока не достигли поставленных целей, хотя и на федеральном, и на региональном уровне работа ведется. Постепенно интерес к отрасли проявляют иностранцы, однако их деятельность в значительной мере ограничена институциональными барьерами, непрозрачностью схемы определения тарифов и неэффективностью управления существующей системой водоканалов.
Парадоксально, но Россия – одна из немногих стран, где водный фактор пока не ощущается обществом как структурный. Как результат – место России на глобальном рынке виртуальной воды непропорционально мало по сравнению с имеющимися возможностями. Если среднегодовой чистый экспорт виртуальной воды России составляет 4,2 млрд м3, то аналогичный показатель Канады, схожей по климатическим и гидрологическим характеристикам, больше в 12,5 раза – 52,5 млрд м3.
Большая часть российского чистого экспорта идет на Ближний Восток и в страны Северной Африки. Только на этих рынках, куда традиционно экспортируется российское зерно, Россия играет заметную роль как гарант продовольственной безопасности региона, а в ряде случаев – и политической. Уже упомянутое эмбарго 2010 г. стало одной из причин «арабской весны» в Египте.
Между тем существуют перспективы получения аналогичного влияния и в странах АТР: в импорте продовольствия заинтересованы Китай, страны АСЕАН (чья зависимость от Китая растет) и развитые страны Азии – Япония, Корея. Запрос на внешние источники продовольственной безопасности существует во всех странах региона: соответствующие меры были приняты в Китае, АСЕАН, Японии, Корее.
В Китае в 2014 г. опубликован так называемый Центральный документ № 1, в котором ЦК КПК провозгласил приоритетом укрепление национальной продовольственной безопасности и поддержку сельского хозяйства в ухудшающейся экологической обстановке. В АСЕАН с 2009 г. действует четырехлетний план обеспечения продовольственной безопасности, существуют Концепция интегрированной продовольственной безопасности АСЕАН и Стратегический план мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности в регионе АСЕАН. Японский кабинет министров в 2010 г. принял Новый базовый план по продовольствию, сельскому хозяйству и сельской местности, в котором поставлена цель повышения самостоятельного обеспечения продовольствием с 40 до 50% к 2020 году. Корея, импортирующая более 90% продовольствия, делает ставку на агроколонизацию: страна арендует более 1 млн га, или почти половину пахотных земель Мадагаскара, более 300 тыс. га в Монголии – всего корейские конгломераты, импортирующие продовольствие, действуют в 16 странах.
Однако сегодня Россия выступает как чистый импортер виртуальной воды в виде продовольствия из АТР (импорт превышает экспорт в четыре раза и составляет 5277 млн м3 по девяти крупнейшим торговым партнерам), и даже учет промышленной продукции позволяет компенсировать баланс торговли виртуальной водой только с некоторыми из указанных стран. Так, Россия – чистый импортер виртуальной воды в составе продуктов питания из Китая, Таиланда, Малайзии, Индонезии. Экспортер – для Индии, Японии, Кореи и Филиппин.
Россия может качественно изменить свое положение в АТР, выступив в роли гаранта продовольственной и водной безопасности региона. За постсоветский период площади орошаемого земледелия сократились более чем на 1/5, а с учетом возможности введения новых территорий под высокотехнологичное сельское хозяйство сегодня можно говорить, что более 30 млн га используются в России нецелевым образом. И это притом что за это же время среднемировая площадь пахотных земель на душу населения сократилась на 50%.
Региональные рынки торговли гидроэнергией пока также относительно мало освоены Россией, хотя именно их развитие может стать площадкой для сотрудничества в международных бассейнах, особенно с Китаем. Речь не идет о реанимации идеи масштабного советско-китайского проекта 1960-х гг. на Амуре, однако наращивание экспорта гидроэнергии в Китай представляется необходимым шагом для эффективного управления общим международным бассейном.
Ограничения для предложенных инициатив очевидны – малая заселенность территорий к востоку от Урала (где и имеет смысл производить экспортные водоемкие товары для азиатского рынка), слаборазвитая инфраструктура, сложная климатическая ситуация (большая часть этих территорий – на Крайнем Севере). Однако для развития высокотехнологичного сельского хозяйства и энергетики достаточно размещения перерабатывающих производств на благоприятных для проживания юге Сибири и Дальнем Востоке. В данном случае целесообразно использование опыта таких стран, как Канада и Австралия, которые, имея большую территорию (2-е и 6-е место в мире) и сравнительно немногочисленное население, сумели построить высокотехнологичные экономики, в основе которых лежит доступ к уникальным природным ресурсам.
* * *
Стратегические возможности России находятся именно на рынке глобальной и региональной торговли водоемкой продукцией, уже в силу того что на фоне усугубляющегося дефицита воды, пахотных земель и энергии как в развитых, так и в развивающихся странах Россия обладает наибольшим потенциалом и в сельском хозяйстве, и в водоемких производствах.
В этой связи целесообразно ориентировать государственную политику на привлечение в отдельные регионы стратегических иностранных инвесторов, способных и готовых внедрять в сельское хозяйство новейшие технологии, а не останавливаться на выращивании первичного сырья для переработки за рубежом. Пока данная схема применяется относительно эффективно только в европейской части России. При этом обязательным условием эффективного развития водоемких производств в Сибири и на Дальнем Востоке является экспорт в несколько стран АТР – тогда можно говорить об использовании водных ресурсов как стратегического политического ресурса. В противном случае это будет примитивный экспорт минимальной степени переработки, в интересах одного покупателя и на невыгодных России условиях.

Совещание по вопросу развития производства и потребления редкоземельных металлов.
Владимир Путин провёл в Великом Новгороде совещание с участием членов экономического блока Правительства и представителей бизнеса по вопросу развития производства и потребления редкоземельных металлов.
Перед началом совещания глава государства принял участие в запуске производства редкоземельных металлов компании «Акрон» и ознакомился с основными промышленными процессами на предприятии.
* * *
Начало совещания по вопросу развития производства и потребления редкоземельных металлов
В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!
Мы с вами сегодня обсудим состояние и задачи по развитию отечественной промышленности редкоземельных металлов.
Почему вас попросил сегодня собраться здесь: во–первых, здесь находится наше практически первое производство; во–вторых, я очень хорошо помню дискуссию, которая у нас шла несколько лет назад, и в ней принимали участие мои коллеги, в том числе часть из них находится сейчас в этом зале.
Тогда, помню, мнения разделились: одни выступали за то, чтобы приобрести некоторые активы за рубежом, конечно, потом использовать здесь, в России; другие были категорически против – и не только потому, что нужно было истратить фактически бюджетные деньги, или государственные во всяком случае – из резервов; говорили о том, что у нас есть все шансы начать производство редкоземельных металлов в стране.
Мне бы очень хотелось сегодня с вами поговорить на тему о том, где мы находимся. При этом в начале нашей встречи хотел бы отметить, что по объёму запасов редкоземельных металлов Россия занимает второе место в мире – это, я так понимаю, по разведанным и подтверждённым запасам. На самом деле ещё неизвестно, может быть, первое, имея в виду размеры наших территорий и возможности поиска и подтверждения новых запасов.
Производство в России редкоземельных металлов составляет лишь около двух процентов мирового – мы на втором месте по подтверждённым запасам, а производство – всего два процента. Потребление в виде конечной продукции до сих пор в основном покрывается за счёт импорта. Доля импорта – около 90 процентов.
При этом спектр применения редкоземельных металлов весьма широк – мы только что с коллегами об этом вспоминали. Это нефтехимия и энергетика, судостроение и автопром, электроника и строительная индустрия. Кроме того, их производство критически важно для обеспечения обороноспособности страны, для выпуска современных систем вооружения и военной техники. Словом, решение многих задач в экономике, в сфере безопасности связано с эффективной работой промышленности редкоземельных металлов.
Учитывая такую значимость отрасли, для её поддержки в 2013 году запущена специальная подпрограмма в рамках государственной программы развития промышленности. В текущем году завершается её первый этап, итогом которого должен стать научно-технический задел – патенты, ноу-хау и технологии, прошедшие опытную отработку и готовые к коммерциализации. За четыре года на эти цели из федерального бюджета выделено более 4,2 миллиарда рублей, ещё 4,6 миллиарда привлечены из внебюджетных источников.
Прошу сегодня доложить, каких результатов удалось добиться за это время, насколько востребованы научные разработки, прежде всего со стороны отечественных производителей, и насколько они перспективны с точки зрения потребителей. Знаю, конечно, что планировалось запустить крупные инвестиционные проекты на основе проведённых НИОКРов, создать в России производства с полной технологической цепочкой – от добычи руды до выпуска чистых металлов.
Сейчас, конечно, – и мы с Вячеславом Владимировичем [Кантором] только что говорили об этом – ситуация на глобальном рынке редкоземельных металлов кардинально отличается от той, которая была в 2012 году, перед началом этой программы. В частности, кардинально поменялась ценовая конъюнктура рынка, стабилизировался и объём предложений.
Если средний уровень цен по редкоземельным металлам с пиковыми значениями в 2011 году был 140 долларов за килограмм, то эта цена упала к началу 2016 года до 20 долларов за килограмм. И мировой рынок редкоземельных металлов оценивается примерно в 130 тысяч тонн в год. Всё это, конечно, влияет на инвестиционные планы предприятия, понятное дело.
Вместе с тем и в этих условиях на рынке открываются дополнительные возможности, появляются новые области применения редкоземельных металлов, в российской экономике запускаются процессы импортозамещения. Важно учитывать, конечно, и эти тенденции, оценивать перспективы отрасли на горизонте в пять – десять и более лет, отталкиваясь от этого, формировать инвестиционные программы. Нужно определить приоритетные сегменты для бизнеса в сфере редкоземельных металлов – где российские предприятия могут быть в полной мере конкурентоспособными и успешными.
В нашей встрече участвуют представители отечественных производителей, потребителей редкоземельных металлов. Предлагаю обсудить, какие нормативные, организационные решения нужны для обеспечения роста и укрепления отрасли.
Давайте начнём работать. Слово – Министру [промышленности и торговли] Денису Валентиновичу Мантурову.
Д.Мантуров: Спасибо большое, Владимир Владимирович.
Мы подготовили презентацию, для того чтобы проиллюстрировать результаты реализации программы. Но, прежде чем доложить о результатах, хотел поподробнее описать картину с учётом того старта, который был дан в 2012 году при принятии решения.
В то время сегмент редкоземельных металлов по всему миру показывал существенный рост, увеличивалась стоимость редкоземельных металлов, прогнозировалось также дальнейшее наращивание их потребления. И вместе с тем в России в отрасли наблюдалось значительное технологическое отставание, в отличие от Китая – по сути, крупнейшего производителя, – США и ряда других стран, что являлось фактором риска для национальной безопасности, особенно учитывая, что эти металлы используются в продукции и тяжело заменимы в высокотехнологичных отраслях.
Что я имею в виду? В первую очередь это постоянные магниты, сплавы, катализаторы, люминофоры, керамика и ряд других важных позиций. Именно на этом фоне была сформирована отдельная программа развития отрасли, в рамках её первого этапа мы получаем необходимый научно-технический задел для обеспечения извлечения РЗМ из сырья, разделения концентратов на индивидуальные оксиды и производства продукции на основе этих металлов. Из запланированных НИОКРов 13 работ уже полностью выполнены, оставшиеся 27 будут закончены до конца этого года.
Второй этап программы, который начинается со следующего года, предполагает внедрение разработанных технологий в промышленное производство российскими предприятиями. Но сразу должен сказать, что мы столкнулись, действительно, на сегодняшний день с несколькими проблемами. Одна из них – это сохраняющийся низкий уровень потребления редкоземельных металлов в виде конечной продукции в нашей стране. Он, к сожалению, оценивается сегодня в пределах 1000–1100 тонн по году, что не даёт предприятиям мотивации для масштабного развития проектов. В нашей работе мы учитываем и те изменения на мировом рынке по редкозёмам, о которых Вы уже сказали.
Всё это привело к существенному ухудшению финансового положения крупнейших игроков за пределами нашей страны, в частности в Китайской Народной Республике, и банкротству той самой компании, о которой Вы упомянули, в Америке (это Molycorp), которую на пике цен на РЗМ в 2011 году предлагалось приобрести, в том числе с целью ускоренного трансфера тех технологий, которые у нас отсутствовали на тот момент.
С другой стороны, изменение ситуации на мировом рынке действительно сыграло нам на руку. Мы своевременно воспользовались возникшей паузой в динамике потребления редкоземельных металлов, сумев через госинвестиции нарастить собственные технологические компетенции. Рассчитываем, что эта пауза будет непродолжительна, спрос, цены должны постепенно пойти вверх, что позволит в полной мере реализовать накопленный за это время потенциал.
Сегодня основным производителем карбонатов редкоземельных металлов в нашей стране является Соликамский магниевый завод (Пермский край), получающий сырьё с Ловозерского ГОКа (Мурманская область). «Ростех» и группа компаний «ИСТ» реализуют флагманский для отрасли проект освоения Томторского месторождения, и сегодня коллеги подробно расскажут о его выполнении.
В создании производств в сфере РЗМ также активно участвуют компания «Акрон», где мы находимся, компания «Уралхим», «ФосАгро», «Скайград» в Подмосковье и гидрометаллургический завод в городе Лермонтов (Ставропольский край).
По каким–то проектам, учитывая сегодняшнюю ситуацию, возможно, будут несущественно сдвинуты сроки реализации. Господдержку этим проектам мы обеспечим в рамках существующих механизмов через субсидирование процентных ставок, а также через Фонд развития промышленности.
В целях стимулирования потребления российских редкоземельных металлов мы считаем целесообразным дополнить постановление Правительства №719, которое прописывает критерии страны происхождения в части редкоземельных металлов. Это позволит выдвигать требования по использованию отечественных редкозёмов при производстве высокотехнологичной продукции.
В целом я считаю, что программа была начата очень своевременно. Проекты, которые сегодня запускаются, технологии, которые уже есть, позволят к 2020 году реализовать те задачи, которые перед нами Вы поставили в 2012 году.
Спасибо за внимание.

ГУБЕРНАТОР ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО ПРОЕКТ КОМБИНАТА ДОЛЖЕН БЫТЬ МАКСИМАЛЬНО ЭКОЛОГИЧНЫМ.
На аппаратном совещании губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что после ряда публикаций появилось неверное понимание его позиции по проекту Томинского ГОКа. Глава региона подчеркнул, что рекомендации экоаудита должны быть выполнены, и в этом состоит его принципиальная позиция. Борис Дубровский подчеркнул важность мероприятий, которые были озвучены по итогам экологического аудита Томинского ГОКа. Глава региона заявил, что нужно устранить дефекты и минимизировать экологические риски.
— Первое — отказаться от гидрометаллургии. Второе — это использование Коркинского разреза для размещения отходов, что позволит существенно сократить нагрузку на территорию, потому что не нужны будут тысячи гектаров для размещения шламов. Здесь достаточно серьезная сложность, но эту дорогу нужно пройти совместно с федеральным министерством энергетики, совместно с Челябинской угольной компанией, и конечно, Русской медной компанией. Этот путь требует времени, серьезного изменения проекта, это, собственно, непременное условие. Хорошая идея, она мне нравится, я заявляю об этом громко и точно, — сказал Борис Дубровский.
Также губернатор подчеркнул, что нужно использовать экологичные технологии не только в производстве, но и при транспортировке. В частности, к таковым Дубровский отнес применение в работе ретро-приводов, конвейеров, скиперных подъемников для транспортировки горных пород.
— Это значит, что будет снижено количество выхлопных газов от тяжелой техники. Это я и называю лучшими доступными технологиями. Вот, собственно, тот перечень мероприятий, по которым необходимо принять решение и кардинально изменить архитектуру этого проекта. Вот это я поддерживаю. Я обозначил свое мнение по этому поводу, и двигаться вправо-влево, искать какие-то другие компромиссы вокруг этого решения я не буду точно. Считаю очень важным это сказать, — подытожил Борис Дубровский.
Напомним, по итогам экоаудита замгубернатора Олег Климов заявил, что параллельно будут осуществляться две задачи: реализация проекта Томинского ГОКа и рекультивация Коркинского разреза. РМК не может взять на себя рекультивацию в полном объеме, так как она обойдется в 26 миллиардов рублей, поэтому правительство Челябинской области будет искать источники для финансирования. Возможно, будут привлечены средства из федерального бюджета. Также на пресс-конференции по итогам аудита представители РМК заявили, что откажутся от гидрометаллургии на Томинском ГОКе.

Гибридно-янтарная война
Мимо государственной казны Украины проходят миллиарды долларов
Яна Сергеева, Киев
Киев в войне с «янтарной мафией», наконец, перешел в активное наступление. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в четверг уволил прокурора Ровенской области Анатолия Ковальчука. Кроме того, по подозрению в организации преступной группировки по добыче янтаря был задержан заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик, а также ряд представителей криминального «квазигосударства», давно и прочно сформировавшегося на территориях залежей «солнечного камня».
Нелегальная добыча янтаря в лесах Житомирщины, Ровенщины и Волыни считается отлаженным годами бизнесом с миллиардными оборотами, который покрывает местная власть и правоохранители. На Украине - огромные залежи этого камня. Одни из самых богатых в мире. Но разрабатывают их в основном нелегалы и самыми варварскими для природы методами. При этом в стране нет ни одного месторождения, которое бы разрабатывалось законно, поскольку у депутатов Рады «не хватает» времени, чтобы поставить на голосование элементарный закон о легализации добычи янтаря.
Тем временем, в прессе постоянно публикуются громкие журналистские расследования и репортажи с места событий, где перестрелки и убийства охотников за ценным минералом стали обыденностью. На войне, как на войне. Последние два года бои Киева с местными мафиями велись с переменным успехом. При этом грабеж украинских недр продолжал успешно расти, а его адвокаты в высоких кабинетах пытались успокоить гражданских активистов тем, что, мол, «там же простые, несчастные люди, которые моют янтарь, зарабатывая себе на кусок хлеба».
По оценкам экспертов, всего на Украине ежегодно добывают 150 тонн янтаря, что составляет около полмиллиарда американских долларов. При этом на официальную часть приходится лишь 3-4 тонны камня. Маржа идет местным жителям-добытчикам, уголовным картелям, которые контролируют их деятельность, а также правоохранительным органам, которые покрывают беззаконие.
Ради прибыли от 400 до 5,5 тыс. долл. (столько стоит килограмм янтаря в зависимости от его качества) они прибегают к убийственному для леса методу добычи. Сначала над залежами уничтожают деревья, затем экскаватором выкапывают ров, по которому из ближайшего водоема пускают воду. Вокруг канала выкапываются небольшие ямы, куда насосами качают воду. Поток размывает песок и легкий янтарь выносит на поверхность, после чего его ловят обычными сачками.
По правилам добывать янтарь нужно «всухую», а для промывания почвы, где залегает порода, использовать специальное оборудование. Правильную технологию используют на единственном предприятии, которое принадлежит государству. Называется оно «Янтарь Украины», расположено в селе Клесов Ровенской области и официально добывает всего 2 тонны янтаря в год. При этом эксперты указывают, что даже по расположению карьера понятно, что реальные объемы добычи должны быть выше задекларированных.
Если посчитать объемы грунта, которые перерабатываются госпредприятием, оказывается, что добыча должна достигать не менее 10 тонн в год - то есть в 5 раз больше официального показателя. Так что деятельность «Янтаря Украины» уже многие годы вызывала больше вопросов, чем ответов. В апреле СБУ возбудила уголовное дело по подозрению в искусственном доведении предприятия до банкротства.
Местные активисты неоднократно рассказывали журналистам о коррупционной системе, связанной с силовиками в районных центрах. В нее входит местное представительство СБУ, прокуратура, милиция, суды. Если кто-то решает идти копать янтарь, он выходит на прикрытие из числа силовиков, которые дают «добро» и сообщают, в какой части леса можно работать. С каждой помпы добытчики-нелегалы платят «крыше» по 500 долларов. И о происходящем знают в стране все, включая президента.
Во время своей поездки во Львов 2 июля Петр Порошенко заявил: «Ни один участок, ни одна артель не работают без милицейского, прокурорского крышевания и крышевания СБУ и на уровне райгосадминистрации. И в дальнейшем мириться с этим я не собираюсь. Подъеду без кортежа в одну из трех областей - в Ровно, Житомир или на Волынь - и вам покажу, кто там крышует и каким образом». После чего он дал две недели силовикам на то, чтобы решить проблему.
И уже 5 июля полиция сообщила, что задержан криминальный авторитет по кличке «Ушастый», который подозревается в контроле над нелегальной добычей янтаря в Ровенской области. Днем ранее был задержан заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик по подозрению в организации преступной группировки. По информации генпрокуратуры, в состав группировки входили работники правоохранительных органов региона, а возглавляли схему, кроме Боровика, заместитель прокурора Ровенской области, подполковник контрразведки местного управления СБУ, два бывших начальника райотделов полиции, а также председатели райгосадминистраций, руководители районных прокуратур, руководители лесхозов, а также представители криминалитета. Всего 32 человека.
Тем не менее шансы власти на победу в янтарной войне гражданские активисты оценивают как мизерные. После гневной речи главы государства, а также задержаний, старатели просто временно залегли на дно, утверждают активисты из Ровно.
В Верховной Раде лежат под сукном два законопроекта, которые предлагают варианты решений. Но до их рассмотрения дело никак не доходит. А ведь для начала нужно принять закон, который бы позволял просто легализовать добычу янтаря, чтобы она приносила деньги в государственный или местный бюджеты.

«Россия слишком велика, чтобы зависеть от иностранных инвестиций»
Глава Deutsche Вank в России о главных проблемах в экономике
Российская промышленность, население и банки адаптируются к новой реальности после кризисного шока, но структура бюджета остается прежней. О том, почему нашей стране сейчас не приходится рассчитывать на масштабные иностранные инвестиции и как позаботиться о внутренних, рассказал в интервью глава Deutsche Вank в России Павел Теплухин.
Теперь всем надо переосмысливать свое поведение
— Повестка дискуссии, в том числе на ПМЭФ, выглядит немного тревожной. Много экзистенциальных вопросов, чувствуется кризис. Что Россия сейчас вообще может предложить, на ваш взгляд, иностранным инвесторам? Куда двигаться из этой точки, где мы сейчас находимся?
— Основная тема повестки: жизнь после кризиса. С моей точки зрения, как раз это является позитивным. Мы сейчас имеем то, что имеем: набор внешних санкций, неблагоприятную экономическую конъюнктуру с точки зрения цен на основные экспортные товары. Это доминировало в повестке дня последние полтора года на всех дискуссиях, в том числе на форуме в прошлом году.
По сути, был шок, и всем экономическим агентам было необходимо переосмысливать свое поведение, бизнес-модели и процессы в рамках новых реальностей. Сейчас как раз этот вопрос закрыт, в том смысле, что экономика в целом адаптировалась к новой ситуации.
Потребители тоже научились жить в новых экономических условиях.
— Вы считаете, что научились уже?
— Да, я считаю, что адаптация завершилась. Изначально, безусловно, у всех был шок из-за скачков курса, инфляции и санкций — все это повлияло негативно. Население пыталось восстановить утраченные сбережения, и у нас резко подскочила норма накопления в стране в ущерб текущему потреблению.
В таких условиях очень сложно говорить об экономическом росте, но сейчас в целом население выдержало этот первый шок и оправилось. Мы видим ростки потребительского спроса, а норма накопления немножко снизилась, вновь пошло потребительское кредитование.
С точки зрения индустрии произошло то же самое.
Наши основные товаропроизводители сейчас завершили адаптацию к шоку, и мы, скорее всего, по итогам этого года увидим или нулевой показатель, или небольшой рост промышленного производства.
Металлургия и угольная промышленность показывают довольно качественные экономические результаты.
Банковская среда — самый прозрачный индикатор, потому что по банкам мы имеем больше информации, чем по другим секторам экономики. Я считаю, что банковская среда продемонстрировала свою устойчивость в рамках экономической конъюнктуры: банки восстановили и даже нарастили ресурсную базу, депозиты населения.
— Банковский рынок заметно сузился за последние годы. Многие уходили с рынка…
— Это правда. Если мы говорим про вычистку банковской системы от, может быть, не очень устойчивых игроков, которые не могут справиться, — это положительный процесс.
Единственная часть экономики, которая пока еще нуждается в адаптации к сегодняшним реалиям, — это, конечно, государство и прежде всего государственный бюджет. И тут есть о чем говорить, размышлять.
Структура бюджета сейчас в основном отражает наши докризисные реалии. Мы по-прежнему тратим много денег, по всей совокупности статей, а налогов собираем очевидно меньше. Нужно улучшение администрирования доходной части и определенная оптимизация расходов — это всегда сложно, потому что затрагивает большое количество социальных программ.
Приоритеты меняются в пользу реформ
— Вы ожидаете в ближайшее время каких-то кардинальных изменений?
— В этом разница нынешнего форума с предыдущим годом, как раз разговор начался о том, что будет после кризиса.
— А ответы появились?
— Набор институциональных реформ достаточно стандартен. Мы все говорим об увеличении объема несырьевого экспорта, улучшении экономических и политических институтов. Это и раньше было, только не в качестве приоритетной программы, поэтому на это не хватало, как правило, времени. Сейчас ситуация изменилась.
Долгосрочная задача — удвоить объем российского несырьевого экспорта, который сейчас составляет около $150 млрд, или примерно 40% от всего объема экспорта. Остальное — это минеральное сырье. Это интересная задача, потому что это значит кого-то потеснить на этих мировых рынках.
Как мы этого будем достигать, путем более качественной продукции, или более дешевой, или более дешевой и более качественной, и какие такие прорывные точки, которые могут дать такой значимый прирост, — это сама по себе достаточно содержательная дискуссия.
— У вас есть какие-то свои собственные взгляды на этот счет?
— Сто лет назад Россия была крупнейшим поставщиком продовольствия на мировой рынок, и сейчас мы боремся за то, чтобы выйти в лидеры по некоторым позициям, ну, например, по зерну. Какой-то очевидный прогресс есть, мы это наблюдаем. Ну, наверное, недостаточный, потому что за сто лет нас подвинули на этом рынке довольно существенно.
В машиностроении нам тяжело соревноваться, но какие-то отдельные сегменты должны присутствовать. В том числе МС-21, про который мы писали и говорили. Я считаю, что это качественно другой продукт, даже чем «Суперджет», потому что в основном это локальное производство, включая двигатели, не только планер.
Нет фондового рынка — нет и инвестиций
— Кажется, что вы оптимистично смотрите на перспективы российского рынка, но тем не менее Deutsche Вank достаточно серьезно оптимизировал свою деятельность в прошлом году, и известно, что вы сами покидаете свой пост 1 августа. Это связано с сокращением видов деятельности банка?
— Безусловно, это связано. Deutsche Вank действительно оптимизирует свои ресурсы во многих странах мира, в том числе в России. Это связано с новой стратегией банка, который, с одной стороны, хочет сохранить свое глобальное присутствие, а с другой — оптимизировать многие бизнес-процессы, в том числе связанные с более рискованными продуктами, или капиталоемкими продуктами.
В рамках этой глобальной стратегии было принято решение о том, что Deutsche Вank в России сконцентрируется прежде всего на коммерческих банковских услугах. Нашими клиентами являются почти все крупные корпорации, в том числе некоторые российские клиенты с глобальными амбициями.
Но инвестиционные банковские услуги, связанные с торговлей ценными бумагами и некоторыми другими операциями, будут переведены в наши хабы: в Лондон, во Франкфурт, отчасти в Соединенные Штаты Америки, где будут предоставляться эти услуги, в том числе, российским клиентам.
— Это отражает пессимистичный взгляд руководства на российский рынок, а на какую перспективу?
— Это вопрос не совсем к Deutsche Вank, это — к России.
Конечно, Россия прошла огромный путь. И тот факт, что у нас есть фондовый рынок, в отличие от многих других посткоммунистических экономик, — это, конечно, плюс. Но при этом, конечно, этот рынок все еще маловат по своему размеру. Это очевидная реальность.
Рынок капитала в России сузился за последнее время — это факт. Торговые обороты на торговых площадках и акции, облигации тоже снизились. Конечно, банку разумнее оптимизировать свое присутствие (в России) и сфокусироваться на тех рынках, которые по-прежнему активны.
Прежде всего надо снизить инфляцию
— Какие направления инвестиций в Россию могли бы сейчас послужить драйвером?
— Главной проблемой российской экономики остается высокая инфляция, на это постоянно указывает глава ЦБ, и я не могу не согласиться с этим утверждением, потому что никакой инвестиционный проект не может быть аккуратно просчитан, как-то спланирован в условиях высокой инфляции: все цифры остаются недостоверными.
И российские, и иностранные инвесторы хотят с кем-то поделить этот риск неопределенности. И в этом смысле работа Российского фонда прямых инвестиций очень своевременна: они выполняют функцию института, который готов взять на себя часть рисков.
В целом я считаю, что нас с вами должны волновать в большей степени внутренние инвестиции. Российская экономика слишком велика для того, чтобы находиться в сколько-нибудь значимой зависимости от иностранных инвесторов.
Хороший результат будет, если внутренний инвестиционный спрос воспрянет, но он в первую очередь ориентирован на внутреннюю инфляцию, которая, к сожалению, совсем непривлекательна сейчас.
Вторая тема — это институты. Мы смотрим, как пухнут балансы многих банков от депозитов, но их нельзя использовать для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов, так как они имеют более короткий срок.
У нас есть институт под названием Пенсионный фонд, это как раз один из каналов конвертации накоплений в инвестиции. Но решение текущих бюджетных проблем приводит к тому, что уже в который раз мы видим заморозку пенсионных накоплений. Нам надо, наверное, более аккуратно относиться к расходам, снижать дефицит бюджета, чтобы не трогать этот инвестиционный канал.
— Вы в этом году ожидаете от чиновников каких-то решений в этом направлении?
— Мы с вами знаем про бюджетный цикл, он трехлетний. Поэтому любые процессы, которые сейчас запускаются, дадут эффект только через два-три года. И любые документы, которые сейчас рассматриваются в Государственной думе, связанные с фискальной сферой, они уже на 2017 год, на 2018 год, вот тогда начнут работать.
Елена Малышева

Совещание об инновационном развитии промышленности строительных материалов.
Перед совещанием Дмитрий Медведев посетил завод компании «СТЭС-Владимир», занимающейся производством инновационных стройматериалов.
В конце 2014 года компанией введён в эксплуатацию завод по производству теплоизоляционной продукции из пеностекла, получившего торговую марку НЕОПОРМ. Мощность предприятия – около 70 тыс. куб. м продукции в год. На заводе работает более 300 человек.
Теплоизоляционное пеностекло может эффективно применяться в строительстве и ЖКХ, в энергетике и атомной промышленности, на объектах военной инфраструктуры.
Совещание об инновационном развитии промышленности строительных материалов.
Стенограмма:
Д.Медведев: У нас одно из отраслевых совещаний, которое проходит во Владимире и посвящено промышленности строительных материалов. Все, кто здесь присутствует, так или иначе связаны с отраслью.
Мы знаем, что в строительстве технологии шагнули существенным образом вперёд. То, что вчера ещё было совсем эксклюзивным и считалось сверхинновационным, сегодня, по сути, находит уже массовое применение. Материалы, которые используются, становятся надёжнее, легче, экологически чище. Строить из них становится и проще (а стало быть, и себестоимость строительства в этом смысле падает), и быстрее. Жить в домах из таких материалов действительно комфортнее и безопаснее. Хотя это вопрос традиции, потому что в России, скажем, тоже есть свои традиции восприятия строительных материалов – чему можно верить, чему нельзя.
Наша задача – создать условия для того, чтобы новейшие материалы применялись в нашей стране наиболее активно и, конечно, чтобы они просто производились у нас, чтобы эта ниша развивалась динамично, отвечала запросам нашего строительного рынка и постепенно, по мере возможности, отвоёвывала себе место и на международном рынке.
За последнее десятилетие прошла масштабная модернизация отрасли, введены технологические линии новые, созданы новые производства. В целом ситуация в промышленности отечественных стройматериалов выглядит уже достаточно неплохо. Застройщики используют действительно в основном продукцию российского производителя – не так, как это было лет 15–20 назад. Доля импорта (в среднем по отрасли, подчёркиваю) оценивается в среднем в 5%. Казалось бы, в общем, совсем немного, и она продолжает снижаться.
Но вместе с тем есть отдельные позиции, по которым мы всё ещё заметно ориентированы на зарубежных производителей. Это прежде всего отделочные материалы, некоторые виды химического сырья. Одна из очень сложных частей цикла, критических таких областей – это машиностроительная продукция для отрасли. Здесь ситуация ровно противоположная. Подавляющее большинство современных строительных материалов производится на импортном оборудовании – это приблизительно 80% производства. С пуском нового производства на зарубежных станках, на зарубежных мощностях, оборудовании эта зависимость, естественно, сохраняется, она даже может расширяться, причём на протяжении всего жизненного цикла оборудования, не говоря уже о колоссальных расходах на закупку запасных частей, инжиниринговых услуг, за которые приходится расплачиваться валютой в условиях достаточно слабого рубля.
Конечно, продукция тех компаний, которые ведут работу по импортозамещению, появляется, но ей непросто бывает конкурировать с зарубежными аналогами, которые уже присутствуют на рынке. Для этого есть ряд причин, и объективных, и субъективных. Где-то сказывается удалённость от производств, а где-то, скажем прямо, и недоверие к российскому качеству ещё, где-то – сложившиеся кооперационные связи, на которых все пытаются зарабатывать.
Кредиты для дальнейшего развития непросто получить – условия их предоставления, конечно, не всегда приемлемы для предприятий, особенно, ещё раз подчёркиваю, в условиях девальвации. Тем не менее работу по замещению импорта в соответствии с нашими планами необходимо продолжать. У нас сохраняется немало позиций, по которым мы способны заметным образом эти показатели улучшить. В долгосрочной перспективе это, по сути, единственный нормальный, правильный путь, потому как именно сейчас такие решения и должны приниматься.
Строительные компании в этом вопросе также должны занимать более активную позицию, ведь именно они формируют спрос на инновационную продукцию. В конечном счёте от них зависит, какие материалы, какие технологии будут применяться.
Компании с государственным участием, как мы и договаривались, начали включать российские аналоги в свои программы по импортозамещению. Мы сейчас на одном из производств были, это видели. Развивается это по линии наших крупных государственных компаний. Но, надо признаться, эта работа могла бы продвигаться быстрее.
Очевидно, что для успешного развития отрасли необходимо определить приоритеты, которые всем понятны, – и приоритеты производителей материалов, и приоритеты строителей. Напомню, месяц назад я утвердил Стратегию развития промышленности стройматериалов. В ней сформулированы планы по дальнейшей работе вплоть до создания новых элементов структуры производства стройматериалов к 2030 году. В ближайшее время нам предстоит разработать реестр инновационных материалов и технологий их производств. После того как мы это сделаем, институтам развития будет проще оказывать им адресную поддержку. А такая поддержка нужна, институты развития для этого как раз и были созданы. Предприятие «СТЭС-Владимир», на котором мы были, как раз было основано при использовании кредитного ресурса государственного института развития – ВЭБа. Здесь есть всегда и плюсы, и минусы определённые, но в любом случае эта система поддержки должна развиваться.
Важно, чтобы производители не замыкались внутри российского рынка, по мере возможности наращивали экспорт – это ещё одно направление нашей работы, лучший способ, конечно, обезопасить себя от падения внутреннего спроса. Спрос всё равно будет носить циклический характер, так мир устроен, в какой-то период будет расти, в какой-то падать.
Условия для того, чтобы наращивать экспорт, есть. Именно в нынешних экономических условиях мы научились делать качественную и конкурентоспособную продукцию, активно развивать кооперацию с иностранными компаниями, которым сейчас экономически выгодно покупать нашу продукцию, локализовывать производство ближе к рынку сбыта. Конечно, ещё раз подчеркну, здесь не последнюю роль пока играет и снижение курса рубля. Этот экспортный потенциал необходимо реализовать именно сейчас, поэтому обращаюсь к присутствующим с предложением обсудить все эти вопросы.
Хотел бы услышать, каково мнение присутствующих производственников, строительных компаний, какие сложности вы испытываете в настоящий момент? Они нам в общем более или менее понятны, тем не менее всегда есть и некоторая отраслевая специфика. У нас есть проект протокольного решения, его тоже можно будет обсудить. Требуются ли ещё какие-либо решения по линии Правительства, которые мы могли бы принять?
Вот повестка дня нашего совещания. Передаю слово Министру промышленности. Денис Валентинович, пожалуйста.
Д.Мантуров: Развитие отрасли стройматериалов, которое отражено в недавно утверждённой стратегии, подразумевает три связанных вектора: совершенствование технологий производства, создание новых видов продукции и формирование условий для расширения её применения на внутреннем рынке и освоения внешних рынков.
По упомянутой Вами, Дмитрий Анатольевич, проблеме, связанной с импортозависимостью в части оборудования, работа ведётся в рамках специально созданного научно-технического совета. Производители стройматериалов вместе с российскими машиностроителями уже прорабатывают возможности выпуска в нашей стране наиболее востребованных видов оборудования, которые войдут в разрабатываемый план импортозамещения.
Для дальнейшего повышения технологического уровня предприятий и создания новых производств задействованы общепромышленные инструменты, которые после передачи отрасли в ведение Минпромторга начали использовать предприятия этого сектора. Это и субсидии на комплексные инвестиционные проекты, это и Фонд развития промышленности, и НИОКР на разработку новых технологий.
Учитывая большое количество средних и малых предприятий в отрасли, мы рассчитываем, что в финансировании инновационных проектов по стройматериалам также будет активно принимать участие корпорация МСП.
Одним из критериев отбора поддерживаемых проектов будет их соответствие принципам наилучших доступных технологий. Для четырёх сегментов (в частности, производство керамики, стекольной и цементной продукции, а также извести) справочники НДТ уже разработаны.
Кроме того, в процессе создания новых высокотехнологичных производств мы будем решать, пожалуй, самую актуальную проблему отрасли. Это на сегодняшний день неравномерное распределение мощностей по территории страны. Что касается конкурентоспособности выпускаемых отраслью стройматериалов, в подавляющем большинстве из 26 основных продуктовых направлений доля импорта действительно находится на низком уровне и только по трём сегментам выше 5%. Но и здесь отечественные компании теснят зарубежных коллег. Например, флоат-технология выпуска листового стекла освоена уже большинством наших заводов. В сегменте лакокрасочных и отделочных материалов уровень импортозависимости за последние три года сократился на 20%, и в текущем году в этой нише запускается ещё пять новых проектов.
Однако для дальнейшего развития самой отрасли и стройиндустрии необходимо создать принципиально новые виды материалов. Все они так или иначе сосредоточены в перспективных нишах, которые напрямую связаны с подведомственными Минпромторгу отраслями. Одним из таких инновационных направлений является использование в строительстве композиционных материалов и изделий из них. Почти половина поддержанных нами проектов, которые реализуются в рамках подпрограммы по композитам, ориентирована именно на гражданское строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. Этап НИОКР по этим проектам завершается,и в следующем году предприятия уже перейдут к выпуску готовой продукции. При этом регуляторные предпосылки для выхода новых изделий на рынок уже подготовлены, разработано 49 стандартов в части композиционных стройматериалов, а также соответствующий свод правил, сметные нормативы и классификаторы.
Ещё одним важнейшим направлением в развитии стройиндустрии является расширение использования изделий и конструкций из древесины. К примеру, Евросоюз планирует довести долю деревянного домостроения до 80% во вновь вводимом малоэтажном жилье. В США и Канаде большинство индивидуальных домов и таунхаусов также строят из дерева. У нас в некоторых субъектах Федерации также приняты соответствующие программы, способствующие развитию деревянного домостроительства. Наиболее перспективные технологии, такие как применение клеёного бруса и несущих конструкций из клеёных панелей с утеплителем, активно осваиваются. По прогнозам экспертов, среднегодовые темпы роста до 2020 года в данном сегменте российского рынка могут составить порядка 10–12%.
Чтобы использовать эти возможности, необходимо предусмотреть в ведомственных и региональных программах строительства соответствующие квоты на использование продукции деревянного домостроения. Увеличению спроса со стороны населения могло бы способствовать льготное ипотечное кредитование именно на покупку деревянных домов.
Увеличению спроса со стороны населения могло бы способствовать льготное ипотечное кредитование именно на покупку деревянных домов. Также в русле тенденции возведения многоэтажных конструкций из дерева, которое быстро развивается за рубежом, нужно внести изменения в нормы проектирования зданий более трёх этажей с применением новых материалов из древесины.
И в этой части хотели к Вам обратиться, Дмитрий Анатольевич, дать соответствующее поручение заинтересованным ведомствам и субъектам Федерации, чтобы внести в программы строительства приоритеты и определённые квоты на деревянное домостроение, это будет стимулировать.
Д.Медведев: А что в нормах нужно менять? Там что-то не позволяет строить из дерева или что?
Д.Мантуров: Нет, просто на сегодняшний день нет таких стимулирующих, соответственно, решений. С одной стороны, в ипотечном кредитовании нет отдельно норм, связанных с кредитованием по деревянному домостроению, так что такие решения будут мотивировать население покупать именно деревянные дома. И чтобы это было на уровне субъектов, особенно тех, где расположены сами заводы, – активнее в свои программы строительные включать именно деревянное домостроение.
И второе, то, что касается строительных правил, больше трёх этажей – сделать решение по включению деревянных домов именно в этот перечень.
Ещё одно новое направление в стройиндустрии, сформировавшееся на стыке с металлургией, – это возведение сооружений с применением лёгких стальных конструкций. Соответствующий свод правил для их широкого применения должен быть принят уже в ближайшее время на техническом комитете. Мы как раз с Михаилом Александровичем говорили на эту тему, в ближайшее время это будет принято.
Есть и другие современные технологии. Недавно, Дмитрий Анатольевич, Вы запускали один из заводов в Лысьве, в Пермской области, – это металлопрокат с полимерным покрытием, тоже для применения в строительстве. Кроме того, металлурги могут предложить более широкое использование цветных металлов глубокой переработки для строительства и отделки зданий. Вам это также докладывали на прошлой неделе в «Русале» в Иркутске, когда демонстрировали новые решения в этой части.
Новые материалы позволят пересмотреть и традиционные взгляды на индустриальное домостроение. Это уже не только панельное традиционное строительство в привычном для нас понимании, а возможность ускорить возведение монолитов благодаря высокой степени сборки конструктивов заранее, в заводских условиях, и уменьшению объёма работ непосредственно на стройплощадке. При этом существенно ускоряются темпы строительства и снижается себестоимость квадратного метра, что в свою очередь поддержит дополнительный спрос со стороны населения.
Отдельно стоит упомянуть о возможностях использования технологии переработки промышленных и бытовых отходов, так как индустрия стройматериалов – это один из основных утилизаторов во всём мире. Сегодня как раз на предприятии мы смотрели, как происходит дробление стекла из отходов. В этой части необходимо, чтобы экологический сбор стал реальным источником финансирования региональных программ в области обращения с отходами. При этом Минпромторг должен участвовать в утверждении территориальных схем размещения перерабатывающих мощностей. В действующих нормативных актах это, к сожалению, не предусмотрено. Кроме того, необходимо расширить практику вовлечения отходов производства в дорожное строительство.
Таким образом, у нас есть значительные резервы по увеличению производства и применения новых строительных материалов на внутреннем рынке, и все они так или иначе связаны с расшивкой регуляторных в первую очередь ограничений.
В частности, в системе ценообразования и сметного нормирования необходимо учитывать, что современные стройматериалы должны обеспечивать более длительный межремонтный период и снижение затрат на эксплуатацию зданий и сооружений. То есть вопрос всегда в жизненный цикл упирается – что дешевле: сегодня дешевле купить и через три года это выкинуть либо взять более дорогой на входе, но более дешёвый в эксплуатации в течение жизненного цикла материал?
В этом же ключе должно работать нормативное закрепление определения инновационных строительных материалов после создания их реестра. Подобный постоянно обновляемый и общедоступный перечень требуется и в целях продвижения на внешние рынки, о чём мы сегодня сказали. У нас уже разрабатывается продукция, не имеющая аналогов, например вспененная керамика компании «Керапен», наноцемент компании «Мортон». Это будет востребовано за рубежом.
В завершение хотел бы от имени производителей стройматериалов обратиться с просьбой дать поручение проработать вопрос по внедрению системы компенсации части затрат на гармонизацию и сертификацию материалов за рубежом, для того чтобы компенсировать часть затрат на продвижение этой продукции. Я думаю, что это обеспечит в том числе и балансы производства. Сегодня коллега говорил, как поставляют продукцию в Испанию. Здесь многие присутствуют, кто поставляет на экспорт. Но для того, чтобы это более интенсивным было, нам необходимо, как и по другим отраслям, внести соответствующие изменения.
Д.Медведев: Михаил Александрович, у вас есть какие-то дополнения к тому, что прозвучало по вашей линии? Пожалуйста.
М.Мень: Хочу сказать по сводам правил. Мы сегодня на основе госзадания осуществляем разработку новых сводов правил и актуализацию действующих сводов правил. В 2015 году в рамках этой работы разработано и актуализировано порядка 140 сводов правил, и примерно столько же мы планируем ежегодно актуализировать и утверждать новых сводов правил. Но необходимо подтверждение пригодности материалов на период между утверждением сводов правил и ГОСТов. В Европейском союзе подтверждение пригодности взаимопоставляемых странами ЕС инновационных материалов и изделий для строительства при отсутствии на них европейских стандартов осуществляется на основании соответствующей директивы, а у нас подтверждение пригодности изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве осуществляется в соответствии с постановлением Правительства №1636. Там учитывается опыт европейских стран. Это позволяет в достаточно оперативные сроки, порядка трёх месяцев, установить на пути внедрения новых материалов, в период отсутствия ГОСТов и сводов правил на новые материалы, соответствующее разрешение. Для примера: в 2015 году выдано 315 технических свидетельств о пригодности для применения в строительстве новой продукции. Коротко о структуре этих выданных свидетельств: 30% – это фасадные системы, 20% – это различные виды крепежа, 22% – плитные, отделочные, конструктивные материалы, 9% – теплоизоляция, 6% – строительные смеси, лакокрасочные покрытия, 13% – это как раз композитные материалы, о которых сегодня идёт речь.
Теперь коротко о предложениях по деревянному домостроению. Мы предлагаем ещё посмотреть госзадания и муниципальные задания в рамках наших планов по типовому проектированию. По проектам повторного применения мы уже обратились к ряду производителей деревянного домостроения, чтобы в наш реестр типовых проектов включили свои предложения, готовые типовые проекты. Это касается школы, детского сада, ФАПа, больницы и так далее. В этом случае гораздо проще будет нам усиливать эти позиции и применять деревянное домостроение.
И ещё одна просьба, Дмитрий Анатольевич, мы сейчас с Денисом Валентиновичем проговорили. Подготовка заключений для подтверждения пригодности для применения в строительстве новой продукции, требования в которой не регламентированы нормативными документами полностью или частично и от которых зависит безопасность и надёжность зданий и сооружений, отсутствует в перечне госуслуг. Просьба тоже рассмотреть возможность включения в перечень поручений (здесь Минэкономики должны быть основными, и мы уже соисполнителями с Денисом Валентиновичем), чтобы эта тема попала в перечень государственных услуг.
С.Колесников (президент корпорации «Технониколь»): Компания «Технониколь» – это частная компания, работающая в шести странах – в России, Украине, Белоруссии, Литве, Италии и Чехии.
Экспорт за последние четыре года у нас вырос почти в четыре раза, и также выросла география: если раньше мы поставляли в 30 стран мира, то теперь в 79, включая азиатские страны, Китай и Индию.
По поводу развития экспорта поддержу Дениса Валентиновича (Д.Мантурова): расходы, связанные с сертификацией нашей продукции, выросли существенно в связи с тем, что мы проводим сертификацию в огромном количестве стран. Мы оплачиваем приезд иностранных специалистов к нам на предприятие, и, соответственно, эти расходы выросли более чем в два раза, если мерить в рублях, поэтому очень большая просьба включить те субсидии, которые были обещаны.
Вторая проблема. Смотрите, какая ситуация: мы имеем всё большее количество дебиторской задолженности. Мы её страхуем в ЭКСАРе, в «Кофасе» и в «Гермесе». Пётр Фрадков работает замечательно, и если мы страхуем в ЭКСАРе и дебиторка не погашена, 85% мы получаем. Но приходит валютный контроль и говорит: а всё равно 100% отдайте, если вы страхуете в других компаниях. Получается, что если мы страхуем дебиторку в «Кофасе» или «Гермесе», даже если нам страховая компания возмещает 85% от неоплаченной дебиторки, всё равно по валютному контролю мы попадаем на 100%. Это серьёзный тормоз для увеличения экспорта. Соответственно, очень большая просьба привести это в соответствие с европейской практикой. У нас европейские контракты, мы из Италии грузим, «Кофас» если страхует, у нас валютного контроля в Италии такого нет.
Третья проблема: летом и весной дороги закрываются (губернаторы это прекрасно знают), и нагрузка на ось – 3–4 т. Это означает, что даже пустой грузовик с массой 8 т не может проехать по дорогам. Фактически мы в апреле – мае останавливаем наше производство, и, по нашим подсчётам, недоплачиваем бюджету порядка 300 млн одних налогов. Баланс плюсов и минусов, конечно, сложно посчитать, но наше производство в апреле резко снижает нагрузку, поэтому есть предложение выйти со средней нормой по всей России, которая позволяла хотя бы ввозить 10 т полезных грузов. Сейчас у нас по федеральному закону 38 т общая масса автопоезда, 20 т из которых – полезный груз. Предлагаю хотя бы 10 т разрешить для перевозки. Пусть это будет дороже, но нельзя останавливать производственный цикл, потому что фактически мы только железной дорогой можем грузить.
М.Дудко (генеральный директор ЗАО «Компания СТЭС-Владимир»): Рассматривая утверждённую стратегию, надо сказать, что в этом базовом документе практически учтены все те проблемы, которые есть сегодня при инновационном развитии промышленности строительных материалов, – и проблемы, и задачи. Но я хотел бы всё же остановиться на нескольких из них.
Первое. Большое внимание уделяется созданию инновационных энергосберегающих материалов и технологий строительства. В то же время до сих пор нет такого показателя для строителей, как межремонтный период. Он обязательно должен быть. Написано «не менее 20 лет», ну хорошо, но тогда должен быть и норматив подтверждающий, чтобы строители были заинтересованы в достижении этого – хотя бы этого – периода. Это первое.
Второе – это проблема внедрения новых продуктов. Сегодня нет вот этих нормативов и нет материальной и гарантийной ответственности у строителей за построенное сооружение, поэтому всё это ложится потом на муниципальные власти и в конечном счёте на проживающего человека, так что сегодня нет и интереса во внедрении новых материалов.
Третье – это импортозамещение. Да, импортозамещение очень интенсивно развивается, но вот если конкретно сказать о нас, то даже такие крупные корпорации, как «Газпром», «Транснефть», продолжают сегодня при наличии российской продукции, ни в чём не уступающей зарубежной, закупать американскую продукцию под торговой маркой Foamglas.
И четвёртое – это, конечно, недоступность кредитных ресурсов для инноваций, потому что кредитные ресурсы – мы сегодня говорили с Андреем Юрьевичем (А.Сапелиным, первым заместителем председателя Внешэкономбанка) – практически являются коммерческими кредитами. За счёт коммерческих кредитов развивать инновации очень сложно, практически невозможно. Бо?льшая часть предприятий, которые в 2011–2014 годах пошли по инновационному пути развития, сегодня являются фактически банкротами, которые, попросту говоря, выживают, не говоря уже о каком-то развитии. Для примера: мы взяли кредит во Внешэкономбанке – 4,15 млрд рублей, сегодня за счёт курсовой разницы это уже 7,3 млрд. Поэтому, Дмитрий Анатольевич, большая просьба к Вам: посмотреть, что можно сделать, чтобы компания выжила.
Д.Медведев: Нужно сделать всё, чтобы наши крупнейшие компании, крупные компании, у которых есть довольно значительный ресурс по закупкам наших материалов, этим правом воспользовались в полном объёме. Я хотел бы, чтобы это было зафиксировано в результатах нашего совещания. Хорошо, что они начинают закупать наши материалы, но очевидно, что здесь ресурс ещё очень большой. Возможности для приобретения наших материалов у крупнейших компаний, будь то и «Газпром», и «Транснефть», и другие компании, ещё очень-очень значительные. Надо подумать, может быть, даже дать поручение наблюдательным советам, во всяком случае нашим государственным представителям в наблюдательных советах этих крупных государственных компаний ещё раз проинвентаризировать, что происходит с закупкой у наших производителей и в области строительных материалов, и в других областях. Предлагаю это тоже отразить в материалах сегодняшнего совещания, в протокольном решении, ещё раз обратить их внимание на то, чтобы они взглянули на собственных производителей.

Встреча с главой РАН Владимиром Фортовым и главой ФАНО России Михаилом Котюковым.
Владимир Путин провёл встречу с президентом Российской академии наук Владимиром Фортовым и руководителем Федерального агентства научных организаций Михаилом Котюковым.
В.Путин: Владимир Евгеньевич! Михаил Михайлович!
Мы хотели с вами поговорить о том, как налажено взаимодействие между Академией наук и ФАНО, как идёт работа, какие есть, может быть, ещё нерешённые вопросы, на которых нужно сосредоточиться. И потом мы должны, конечно, отдельно поговорить о приближающейся кампании выборов в Академию.
В.Фортов: Владимир Владимирович, большое спасибо, что нашли время при Вашей загрузке. Хотел бы подарить Вам очередную книжку, которая вышла.
Там есть две закладки, которые показывают, как развивалась цивилизация, и некая теория роста народонаселения. Есть некие непростые взгляды на эту вещь, поэтому сделали вместе с Сергеем Петровичем Капицей.
В.Путин: Спасибо большое.
Кто начнёт?
В.Фортов: Владимир Владимирович, ситуация такая. Прошло два с половиной года реформы. Это уже и возраст, и срок, как говорит Жванецкий. Нам можно подводить какие–то итоги и смотреть, как это всё развивается.
Считаю, что очень многое удалось сделать. Главное – выполнить Ваше указание о том, что этот переход должен быть плавным. Это совсем нетривиально было сделать, потому что эта реформа – самая масштабная, самая трудная за всю историю сотрудничества. Считаю, что эту часть мы прошли.
Сейчас перед нами задача – продемонстрировать пользу от этой реформы для реального учёного, реального специалиста. Это тоже очень непростая задача. Я бы ещё отметил в качестве положительных моментов то, что мы объединили три академии, и удалось нам это сделать бесконфликтно.
В.Путин: Это очень хорошо.
В.Фортов: Очень немногие верили, что это возможно.
В.Путин: Опасений было много.
В.Фортов: У меня тоже. Во всяком случае, эту часть мы прошли. Тут есть понимание.
Сегодня мы работаем над объединением. Мы провели годичное собрание, посвящённое лекарствам. Сейчас готовим – в октябре будет – годичное собрание Академии наук – тематическое, посвящённое уже сельскому хозяйству.
Мы запустили несколько проектов по Вашему указанию. Это проекты по «северам», проекты по медицине, проекты по математическому моделированию и оборонный проект. Это дополнительно к тому, что мы делаем и так, это вместе.
Кроме того, фактически готова программа по физике в медицине. По нашему мнению, это очень интересная программа. Опять–таки она объединяет по крайней мере две крупные бывшие академии. И, кроме того, готова программа, посвящённая сельскому хозяйству. Мы хотели бы на эту тему поговорить отдельно – когда у Вас появится время, потому что это большой разговор, – как её лучше организовать.
Тем не менее я был бы неискренним, если я сказал бы Вам, что у нас всё идёт без сучка без задоринки, и уже вечнозелёная проблема реформы, Вы про это говорили с самого начала, – это разделение компетенций. Помните, два ключа.
И сегодня фактически всё, что было записано в законе о реформе, мы так или иначе выполнили. Мы приняли новый устав, мы объединили академии, как я говорил, мы держим с Вашей помощью оборону против приватизации и вывода институтов. Это сложная вещь.
Тем не менее проблемы есть. Эти проблемы можно сейчас перечислить. Я не готов их обсуждать, вернее, я готов, но вряд ли это стоит делать. Это проблема опять–таки разграничения полномочий.
Если раньше правило двух ключей в течение года-полутора срабатывало, и довольно хорошо, сейчас мы считаем в Академии, и это мнение общего собрания, которое было в марте, что нам надо многое сделать, для того чтобы компетенции были разделены. Только в этом случае мы получим действенный механизм развития науки, а не конфликтные ситуации, которые возникают. Может быть, это неизбежно, но допускать это, с нашей точки зрения, нельзя.
Кроме того, хотел бы Вам рассказать о том, как идёт подготовка к общему собранию в октябре по поводу выборов. Я хотел доложить Вам по Вашему поручению о новой системе для нас – это профессор РАН. Мы выбрали около 500 молодых докторов наук и сразу почувствовали пользу от этого. То есть динамика добавилась очень сильная. А если говорить о выборах, то сегодня уже дедлайн прошёл, и очень много людей. Конкурс в среднем три-четыре человека на место. Это очень большой конкурс. Причём мы эту процедуру делаем с учётом омоложения, о чём я Вам докладывал, я про это тоже расскажу.
Кроме того, у нас прошло, как я говорил, общее собрание, где мы подвели итоги года. Вот подвели мы эти итоги года и подготовили этот доклад на имя Президента и Правительства, я Вам его сейчас вручу, где первая часть – это состояние науки и рекомендации по её финансированию. Это в законе теперь записано, это наша обязанность, второе достижение на сегодня, которое нам кажется интересным, и это тоже проблема.
Кроме того, хотел бы Вам рассказать о неких работах, которые сегодня из этого большого списка мы бы хотели выделить. Если говорить об этой части, чтобы не возвращаться, тут мы хорошо видим, что у нас как перевёрнутая пирамида. Государство даёт 70 процентов всех денег, которые идут на фундаментальные исследования, 30 даёт частный сектор, бизнес. Во всех странах она перевёрнутая, а тут ровно наоборот.
Я бы считал, что задача всего научного блока состоит в том, чтобы перевернуть эту пирамиду. Она непросто переворачивается, потому что какого–то общего рецепта нет. В Америке – одно, Вы знаете, в Японии – другое, во Франции – третье, в Германии – четвёртое.
Собственно говоря, такой круг вопросов.
В.Путин: Михаил Михайлович, пожалуйста.
М.Котюков: Уважаемый Владимир Владимирович!
Мы действительно по всем ключевым вопросам с Владимиром Евгеньевичем всегда находим чёткое взаимопонимание. Все вопросы, связанные с разграничением деятельности, мы на бумагу положили. В этом году мы этот процесс фактически завершили.
Сейчас стоит задача эти бумаги сделать реальными рабочими документами и для наших специалистов, и для сотрудников президиума Академии наук, чтобы мы этим документам следовали. Все ключевые вопросы там очень чётко прописаны – кто за что отвечает и в какие сроки, какие решения должны приниматься.
Для нас всегда общей задачей было обеспечение развития кадрового потенциала научных исследований и очень рациональное использование научной инфраструктуры. По этим двум направлениям можно уже сегодня сказать, что организована работа по выборам директоров научных организаций.
Принят соответствующий закон, который установил возрастные ограничения. Было много опасений, что мы не сможем найти достойных кандидатов. Могу сказать, что сегодня уже более 170 институтов прошли через процедуру выбора, коллективы сделали свой выбор.
В.Путин: Избирая руководителей?
М.Котюков: Избирая руководителей, конечно. И именно коллектив принимает окончательное решение.
Могу сказать, что по самым крупным институтам директорами сегодня избраны люди в возрасте 50 лет и младше. Поэтому у нас оказался серьёзный кадровый потенциал, по крайней мере в этих ситуациях. И думаю, что мы дальше эту совместную работу сможем продолжить.
Важная тенденция – это увеличение доли молодых учёных среди исследователей. Тут по разным областям науки ситуация разная, но, например, в таких отраслях, как химия, технология, металлургия, материаловедение, аэродинамика доля молодых уже приближается к 50 процентам, то есть обеспечен серьёзный задел для будущего развития технологий по этим ключевым направлениям.
Благодаря поддержке Правительства по итогам 2015 года средняя заработная плата научных сотрудников в наших организациях составила более 148 процентов от средней по соответствующим регионам. Здесь, конечно, нужно сказать, что работа ещё не завершена. У нас пока показатели «дорожных карт» лишь в 250 организациях выполнены, остальным ещё нужно предпринять соответствующие усилия. Сегодня некоторые предложения мы Вам доложим, у нас есть здесь согласованная позиция, как нам действовать дальше.
Очень важный вопрос – это научная инфраструктура. Мы эту работу сделали вместе с членами Российской академии наук. Проинвентаризировано всё научное оборудование, включая уникальные приборы и установки, определён список таких приборов. Мы смогли организационными усилиями увеличить доступ к этому оборудованию примерно вдвое, то есть раньше были нередки случаи, к сожалению, когда прибор находился в одном институте, и учёным из других организаций было очень сложно туда попасть для работы.
Один из ярких примеров – это научный флот. Вы знаете, было много сложностей в прошлые годы. Спасибо Вам, Вы давали соответствующие поручения…
В.Путин: …использовать по назначению в этой сложной ситуации.
М.Котюков: Мы провели работы вместе с Академией наук, подготовлены серьёзные предложения о формировании центра коллективного пользования, фактически оптимизации ресурсов. Правительство поддержало нашу просьбу. Выделены дополнительные средства, и уже сейчас могу сказать, что подготовлена единая экспедиционная программа для работы на этих кораблях. Это сделано впервые за многие годы. Сегодня мы приступили к её практической реализации.
Могу сказать, что только за два последних года количество публикаций, которые выполнены с использованием такого уникального оборудования, выросло в два с половиной раза только в нашей системе.
В.Путин: Я посмотрю.
М.Котюков: Очень сложен процесс реструктуризации. Мы к нему достаточно долго готовились, и каждый шаг совершаем вместе, очень внимательно изучая каждый проект. Сегодня можно сказать, что у нас только за последний год, с июня по июнь, количество организаций, которые инициативно входят в этот процесс, удвоилось и сегодня уже составляет 40 процентов от общего количества институтов, которые находятся у нас в ведении.
Уже создано 15 новых центров, которые могут сегодня формировать серьёзные научные заделы, в том числе по тем направлениям, о которых говорил Владимир Евгеньевич: медицина, агропромышленный комплекс, вопросы обороны и безопасности.
Можно выделить несколько примеров. На базе Института растениеводства мы фактически смогли воссоединить уникальную коллекцию генетических ресурсов растений, которые собирал ещё Вавилов. Эта коллекция – по разным оценкам, четвёртая, может быть, даже третья в мире по общему объёму – была распределена в более чем десяти различных организациях. Сейчас мы проводим инвентаризацию, в каком она состоянии находится. То есть это даёт возможность сделать серьёзные заделы по линии развития науки в агропромышленном комплексе.
Кроме процессов непосредственного объединения институтов нашими учёными инициировано ещё несколько направлений кооперации и взаимодействия. Коллеги из разных институтов, даже из разных регионов объединяют свои усилия, для того чтобы, обменявшись компетенциями, повысить общий свой научный потенциал и быстрее найти в том числе представителей заказчиков для будущего внедрения своих наработок.
Такие комплексные планы научных исследований не требуют от нас дополнительных средств. Они требуют только предоставить возможность площадки для такой беседы. Могу сказать, что уже сегодня этой работой фактически руководят члены Российской академии наук, вовлечены наши институты, университеты, и проявили реальный интерес предприятия реального сектора экономики. Это материаловедение, робототехнические технологии в медицине, вопросы развития медицинских направлений и энергетики по различным блокам.
В развитие того, о чём сказал Владимир Евгеньевич: подготовлено несколько программ, где как раз заделы фундаментальной науки могут серьёзно проявиться в медицине, агропромышленном комплексе, вопросах обороны и безопасности. Есть конкретные примеры.
В.Путин: Чтобы трансформировать их в прикладные исследования?
М.Котюков: Фактически да, Владимир Владимирович. Мы здесь пользуемся уникальной возможностью, предоставленной реформой, когда в одном ведомстве есть фундаментальная наука самая передовая, клинические мощности наших учреждений, которые были в Академии медицинских наук, и ресурсы агропромышленного комплекса, которые были в организациях Академии сельскохозяйственных наук.
И вот как раз объединяя сейчас усилия, нам уже за эти два с половиной года удалось выйти на конкретные результаты работы. Если раньше фактически межведомственные барьеры могли мешать внедрению результатов, то сегодня мы можем первые шаги совершать в нашей системе и уже потом, отработав первоначальные вопросы, переходить к общению с внешним заказчиком.

Рабочая встреча с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым.
Глава региона информировал Президента об экономической ситуации в Калужской области. В частности, обсуждалось текущее положение дел в промышленности, сельском хозяйстве, фармкластере и сфере туризма и отдыха.
В.Путин: Добрый день, Анатолий Дмитриевич! Чем порадуете? У Вас, как обычно, всё хорошо?
А.Артамонов: Владимир Владимирович, наверное, не бывает ни у кого, чтобы всё хорошо, но в принципе ситуацию контролируем, она довольно устойчивая.
В.Путин: А что беспокоит? Сейчас мы поговорим о том, что сделано. Давайте начнём с того, что хотелось бы обсудить, – вопросы, требующие особого внимания.
А.Артамонов: Наверное, если говорить о нашем регионе, то, конечно, особенностью является падение рынка автомобилей.
Автопром занял в нашей экономике достаточно серьёзное место: 29 предприятий, которые работали на автопром и работают. Но сейчас ситуация начинает выравниваться, и в целом по четырём месяцам мы уже 1,5 процента хотя бы, но рост имеем по промышленности.
В.Путин: Подросли?
А.Артамонов: Да. И не только, кстати, в автопроме. У нас большое количество предприятий, которые работают на железной дороге. Мы делаем локомотивы, делаем комплексы, которые строят и обслуживают железные дороги, и здесь тоже почти в три раза упали заказы.
Такая же ситуация по телевизорам. Например, 40 процентов телевизоров, которые продаются в нашей стране, сделаны в Калужской области, завод «Самсунг», – в три раза упали объёмы.
Если бы не рост в других секторах, например в фармации, в металлургии и во многих других, агропром очень хорошо подрастает, то, конечно, падение было бы значительно более существенным.
В.Путин: А в этих отраслях уже наблюдаются положительные тенденции?
А.Артамонов: Да, там хорошие показатели – рост. Что касается, допустим, металлургии, то там более 20 процентов. Что касается фармации – более 10 процентов рост, причём ежегодный. Мы вводим новые и новые мощности. В нашем фармкластере почти 60 участников.
В.Путин: Я был несколько лет назад, ещё в 2011 году, по–моему, там уже планы эти смотрелись.
А.Артамонов: Сейчас у нас не только то, что касается собственно производства и упаковки готовых лекарственных форм, но, что важно, наука в этой области работает очень хорошо. Наш фармкластер победил в конкурсе, который на федеральном уровне проводился среди инновационных кластеров.
Сейчас мы и инжиниринговый центр создали, и «Парк активных молекул» ребята свой создали, [делаем] субстанции, которые в том числе поставляются и иностранным производителям, радиофармпрепараты очень хорошо сейчас развиваются. В том числе мы сейчас запускаем и центр нейтрон-захватной терапии, что очень важно. Мы давно над этим проектом работали, поэтому здесь всё неплохо.
Особенно радуют успехи в сельском хозяйстве. Здесь, конечно, не без тех мер, которые были приняты по контрсанкциям, что говорить, рынок более свободным стал, но и не только. Приходят инвесторы в этот сектор, причём практически в очереди стоят на выделение земельных участков. Переговоры по заключению инвестконтрактов в сельском хозяйстве каждый год, причём результативные – и наши, отечественные, и зарубежные компании, которые тоже хотят работать на нашем рынке.
Для нашей области, конечно, в первую очередь это молоко и мясо говядины. Не исключаем мы и птицеводство, тоже занимаемся, немного свиноводство, но в большей степени, конечно, молоко. В прошлом году то, что касается молока, мы дали самые большие темпы прироста в стране – 15 процентов, и в этом году уже 11 процентов есть. В целом по сельскому хозяйству – 10 процентов поголовья. И эта тенденция будет продолжаться.
Я свою программу, не увлекаюсь никогда этим, но в данном случае посчитал нужным, объявил: «Сто роботизированных ферм». Мы сейчас активно строим эти роботизированные фермы. Они дают продукцию, по своему качеству на порядок превосходящую продукцию высшего сорта.
Это очень хорошо, полезно для больных людей, для детей, потому что молоко без всякой термообработки может храниться без холодильника на кухне четверо-пятеро суток, не скисает за счёт идеальной чистоты. Уже почти 150 роботов работает у нас в области, в прошлом году ввели самую большую в Европе роботизированную ферму на 2200 голов, и маленькие фермы есть – на 120 голов, на 130.
В.Путин: Собираетесь ещё туризмом заниматься?
А.Артамонов: Владимир Владимирович, буквально за три года в 2,5 раза у нас увеличилось количество туристов: 2,5 миллиона туристов мы уже приняли. Причём я скажу, что те тенденции, которые сейчас есть (всё–таки, наверное, не всем по карману поехать за рубеж), люди стали больше открывать свою страну.
Тут же на это отозвался бизнес, который занимается индустрией гостеприимства, стало больше строиться гостиниц, причём хороших гостиниц. Зимой у нас работает хороший горнолыжный комплекс, несмотря на то, что, вроде бы, гор у нас нет, но умудрились сделать, и очень популярный.
В.Путин: А что у вас за проект по развлекательному комплексу?
А.Артамонов: Вы знаете, я даже сам боюсь сглазить, что называется, но есть такой проект семейного отдыха, своего рода «Диснейленд», который мы хотим осуществить в своей области на границе с Московской областью. Выбрали хорошее место между автомобильной дорогой, железной дорогой и рядом с аэропортом – он действующий, сегодня двойного базирования: внутренние войска и по «ЮТэйр» постановление Правительства принималось.
Самое главное, там очень хорошая полоса, и мы свои государственные земли зарезервировали. Уже подписали инвестиционное соглашение с компанией и выделили 220 гектаров. Проект уникальный, мы предполагаем его реализовать. Вот здесь его содержание. (Презентация проекта.)
Комплекс [«Волшебный мир России»] состоит из нескольких зон, в том числе где дети могут заниматься интерактивом, обучающими программами; будут гостиницы, будет самый большой в мире аквапарк. То есть можно провести практически отпуск в этом комплексе, много чего узнать и о России, и о том, что есть в мире.
Я просто сейчас не хочу занимать Ваше время тем, чтобы перечислять все эти возможности, но одну страницу, которая посвящена Петербургу, открою. От Адмиралтейства до Сенатской площади, Невский проспект и всё то, что есть в Санкт-Петербурге, – это под крышей.
В.Путин: Любопытно. А сколько, как Вы предполагаете, там инвестиции должны быть?
А.Артамонов: Стоимость этого проекта оценивается в четыре миллиарда долларов.
В.Путин: Немало.
А.Артамонов: Причём инвесторы не спрашивают у нас участия государства, они просто хотели бы быть уверенными в том, что этот проект одобряется. Мы, со своей стороны, конечно же, его одобрили. И если Вы поддержите, то у них будет больше уверенности.
В.Путин: Конечно, с удовольствием.
А.Артамонов: Спасибо большое.

Новейшие сварочные технологии представили в Санкт-Петербурге.
Более 150 компаний из Бельгии, Венгрии, Германии, Индии, КНР, США, Франции, Чешской Республики, Швейцарии, Эстонии, а также 56 регионов России продемонстрировали инновационные разработки, оборудование и материалы для всех видов сварки, резки и наплавки на 17-й Международной выставке «Сварка/Welding», которая прошла с 17 по 20 мая в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».
Выступая на церемонии открытия, заместитель директора департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Олег Токарев отметил, что сварочная отрасль в России сейчас активно развивается, и показатель этого – интерес, который проявили к выставке и профильные предприятия, и потенциальные потребители оборудования: «Экспозиция в полной мере демонстрирует инновационные технологии, направленные на выход отрасли на мировой уровень».
В этом году на площади более 9 тыс. кв. м свою продукцию представили лидеры в производстве сварочной техники и материалов. Особое внимание было уделено российским компаниям и вопросам импортозамещения. Так, специалисты НТО «ИРЭ-Полюс» и ЗАО «Уралтермосвар» представили совместную разработку – оборудование для лазерной сварки труб большого диаметра, не имеющее мировых аналогов.
Ключевым событием конгрессной программы стало пленарное заседание «Актуальные проблемы повышения эффективности сварочного производства», которое прошло при поддержке Минпромторга России и Национального агентства контроля сварки. Эксперты и представители органов власти обсудили основные проблемы и пути повышения эффективности сварочного производства в новых экономических реалиях.
В ходе Международной научно-практической конференции «Современные технологии сварки, оборудование и материалы для строительства магистральных трубопроводов», организованной при содействии ПАО «Газпром», главные сварщики и руководители отраслевых подразделений нефтегазовых компаний представили проекты эффективного внедрения инноваций в сварочное производство и новые отечественные решения, уверенно конкурирующие с ведущими мировыми компаниями.
В рамках выставки также состоялся IV Молодежный форум сварщиков, конкурс дипломных проектов выпускников петербургских вузов и финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования «сварочное производство».
Справочно
«Сварка/Welding» – ведущий форум передовых сварочных технологий в России и крупнейшая отраслевая площадка для конструктивного диалога власти, бизнеса и научного сообщества по вопросам развития сварочной индустрии. В этом году выставка впервые прошла в новом конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», ее посетили около 6 тыс. специалистов отрасли.

В Минпромторге прошло итоговое заседание коллегии, посвященное итогам работы ведомства в 2015 году и планам на будущее.
Сегодня, 27 мая 2016 года, прошло итоговое заседание коллегии Минпромторга по вопросу «Об итогах работы в 2015 году и основных направлениях деятельности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в 2016 году и в последующие годы». Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров представил комплексный доклад, где отразил цели и задачи Минпромторга России на 2016 год и основные результаты деятельности прошлого года.
Открыв заседание, Денис Мантуров предоставил слово министру Российской Федерации Михаилу Абызову, ответственному за организацию работы правительственной комиссии по координации деятельности «Открытого правительства». Михаил Абызов отметил, что коллегия Минпромторга стала первой среди других федеральных ведомств площадкой для эффективной коммуникации, на которой участники могут получить ответы на свои вопросы, заданные федеральным министрам и вице-премьерам, которые участвуют в коллегии.
Вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович подчеркнул, что Минпромторг в своей деятельности активно сотрудничает с регионами в реализации промышленной политики. «Министерство сегодня играет ключевую роль в реализации направлений нашей экономической политики, объявленной правительством РФ и поддержанной президентом России», – отметил он.
По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, опережающему развитию российского оборонно-промышленного комплекса, разработке новых российских вооружений активно способствует активное межведомственное взаимодействие, где важную роль играет участие Минпромторга. Так, сегодня сформирована новая законодательная основа, которая позволила взглянуть по-новому на механизмы ценообразования. «В частности, по инициативе Минобороны и Минпромторга была резко сокращена цепочка бюрократических процедур, и благодаря этому удалось добиться многого», – отметил Дмитрий Рогозин.
Также он сообщил, что за 2015 год объемы производства в ОПК увеличились на 13%. Вырос и экспорт продукции военного назначения, который составил 14,5 млрд долларов. Новых контрактов Россия заключила на 26 млрд долларов. Эти показатели сделали Россию «устойчивым серебряным призером» в рейтинге ведущих мировых экспортеров оружия и военной техники.
Говоря о гражданских отраслях, Дмитрий Рогозин особое внимание уделил современным знаниям и материальным основам для движения вперед, в частности новому подходу к конструкторским бюро. В целях достижения более эффективного управления в промышленности, по его словам, необходимо начать с облегчения процедуры принятия решений, доступа конструкторов заводов к центрам принятия решений в государственных ведомствах.
Глава Минкомсвязи России Николай Никифоров в своем выступлении особо отметил роль для российской промышленности темы развития отечественного программного обеспечения. «В 2015 году на уровне межведомственных рабочих групп мы с коллегами из Минпромторга произвели настоящий рывок в этом направлении», – подчеркнул он.
В основной части программы заседания коллегии Минпромторга министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров представил доклад «О целях и задачах Минпромторга России на 2016 год и основных результатах деятельности в 2015 году». Он отметил, что в 2015 году в деятельности Минпромторга осознанно был сделан акцент на работе с регионами. Со всеми субъектами РФ были заключены соглашения о сотрудничестве.
«Основным результатом регионального взаимодействия стала реализация системного подхода в политике импортозамещения. Были сформированы 20 отраслевых планов, с которыми синхронизируются региональные планы по выпуску импортозамещающей продукции», – отметил Денис Мантуров. В числе приоритетов глава Минпромторга назвал совершенствование кадрового обеспечения российской промышленности в регионах. Для вновь назначенных руководителей, отвечающих за промышленную политику, действует программа стажировок, которая основана на инструментарии, разработанном ведомством.
По словам Дениса Мантурова, реализация антикризисного плана правительства была основана на данных оперативного мониторинга на предприятиях страны. В эти работы были вовлечены все субъекты РФ посредством Государственной информационной системы промышленности. Благодаря этому удалось предупредить и избежать кризисных ситуаций на предприятиях страны, особенно в моногородах. Важным направлением работы он назвал диверсификацию производств, привлекая возможности Фонда поддержки моногородов.
Также глава Минпромторга отметил, что опережающее развитие ОПК оказало положительное влияние на смежные отрасли, в частности на радиоэлектронную промышленность. В данном секторе производительность труда выросла более чем на 20%.
В судостроении рост превысил 16%. Кроме того, в этих отраслях применяется государственная поддержка лизинговых продаж. Благодаря использованию субсидий сегодня строятся 89 судов для транспортных компаний, пароходств и рыбохозяйств. В 2016 году будет использован новый инструмент поддержки – судовые утилизационные гранты.
Денис Мантуров подчеркнул, что большинство отраслей машиностроения наращивают темпы производства, используя преимущества девальвации. Это в первую очередь энергомашиностроение, производство оборудования для нефтегазового комплекса, тяжелого машиностроения.
В химической отрасли рост составил 6%. На 12 площадках открыты новые для России производства. Денис Мантуров сообщил, что согласно отраслевым планам предполагается реализация 30 инвестиционных проектов.
В области фармпроизводства в 2015 году за счет господдержки появилось 29 новых лекарств и 17 медизделий.
В целях поддержки отечественной промышленности в 2016 году правительством РФ утверждены 4 новые программы и увеличен объем финансирования. «Минпромторг должен обеспечить максимально эффективное использование этих средств», – подчеркнул глава ведомства.
Что касается планов на 2016 год, то в качестве наиболее перспективных направлений стимулирования для последующего развития Денис Мантуров назвал производства, ориентированные на внутренний инвестиционный и потребительский спрос. Такими отраслями являются черная и цветная металлургия, лесопромышленный комплекс, химическая, нефтехимическая, пищевая, автомобильная промышленность. В долгосрочной перспективе приоритетными станут сектора, ориентированные на глобальную конкурентоспособность и обладающие значительным экспортным потенциалом.
В качестве важного шага в направлении становления этих отраслей глава Минпромторга обозначил разработку Стратегии развития промышленности до 2030 года, разрабатываемой как основной документ стратегического планирования в сфере промышленности. Стратегия будет описывать целевое состояние отечественной промышленности в долгосрочной перспективе и обеспечивать последующую взаимоувязку отраслевых стратегий, проектов Национальной технологической инициативы, стратегий социально-экономического и научно-технического развития.
Также он отметил, что практически закончено формирование Агентства по технологическому развитию, подготовлен проект нового варианта государственной программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», успешно реализуется план действий правительства РФ, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития страны в 2016 году и планы мероприятий поддержки отдельных отраслей промышленности, в частности автопрома, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, легкой промышленности.
В завершение программы итогового заседания коллегии Денис Мантуров вручил государственные награды руководителям промышленных предприятий, представителям регионов РФ и работникам Минпромторга.

Сергей Шатиров: "Перевыполнять план в угольной отрасли опасно"
Владимир Нестеров
В гостях у "Вестника Кавказа" заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров. В верхней палате российского парламента он представляет Кемеровскую область. Тема беседы - угольная промышленность и безопасность в этой крупнейшей отрасли.
- После трагедии на шахте «Распадская» многое было сделано для обеспечения безопасности шахтеров, но все равно инциденты происходят. Что является основным фактором подобных аварий?
- Горная отрасль - древнейшее ремесло. Когда мы говорим об угольной промышленности, о рудной промышленности, о добыче полезных ископаемых, это не только наука, но и искусство, которое базируется на опыте. Тысячелетняя история горного дела всегда была сопряжена с трудностями, с опасностями, с чрезвычайными происшествиями. Правила и нормативы, которыми мы сегодня пользуемся, прописаны, отталкиваясь от истории прежних аварий и катастроф. А важно, чтобы они были современны, адекватны сегодняшнему уровню развития, сегодняшним задачам, стоящим перед горной отраслью. Главная причина аварий в сфере горного производства - отступление от принятых правил, норм, инструкций и технических, технологических параметров производства.
Более опытные должны корректировать работу менее опытного звена. Раньше в угольной отрасли была пятизвенная система проверки. Развитие горных работ разрабатывалось на шахте, на разрезе, на обогатительной фабрике. Дальше передавалось в компанию или угольное объединение. Дальше эта компания защищала свой проект в министерстве. Эта пятизвенная система проверки давала результат. Сегодня все упростилось, сегодня больше ответственности лежит на горных предприятиях.
Контроль за безопасным ведением работ в промышленности остается за государством. Есть законы, которые надо твердо выполнять, где расписано, какие есть опасные предприятия, как за ними следить, а какие предприятия менее опасны. Эта градация контроля сегодня существенно обновлена. Но происходило это, к сожалению, после крупнейших катастроф в угольной отрасли.
- Какие институциональные изменения были внесены?
- Во-первых, государственный контроль в сфере промышленности был обновлен, сегодня он выведен из состава непрофильного министерства. Раньше орган, который контролировал 16-18 отраслей промышленности, находился в составе Министерства природных ресурсов, вопросы, связанные с горным делом или с недропользованием, входили в компетенцию этого министерства. Эта связь была разрезана, и Ростехнадзор - главный контрольный орган страны - переподчинен непосредственно правительству РФ.
Во-вторых, изменен контроль за минимизацией последствий аварии в горном деле. Важно, чтобы специалисты приезжали в считанные минуты. Скорость - это и минимизация человеческих жертв, и быстрое восстановление предприятий. Люди, занимающиеся этим, или военизированные горноспасательные части, были акционерным обществом, и подчинялись Росимуществу. Но в Росимуществе недостаточно профессионалов, которые могут корректировать работу столь важной военизированной организации. Поэтому было принято решение ее переподчинить профильному МЧС.
Кроме того, "перетряхнули" основные нормы, правила и инструкции. Каш комитет Совета Федерации постоянно работает над этим. У нас большая поддержка от Валентины Ивановны Матвиенко. И последняя законодательная инициатива после ее посещения Кемеровской области сегодня реализуется в рамках проекта федерального закона о внесении изменений в 8 законодательных актов, где затрагивается очень важный институциональный вопрос, который связан с безопасностью в угольной отрасли. Сегодня этот закон находится в Госдуме, он прошел первое чтение. Надеемся, что наши коллеги поддержат предложение принять его во втором, третьем чтении, после внесения соответствующих поправок, чтобы мы его успели получить как законодательный акт в весеннюю сессию.
Мы решили вопросы профессионального отбора на должности в этой отрасли. Удалось получить отдельную главу в Трудовом кодексе РФ, где это прописано для всех горных работ в сверхопасных условиях.
Когда в 2007 году произошли аварии на шахтах "Юбилейная" и "Ульяновская", мы подготовили законодательный акт о том, что опасные объемы метана, находящиеся в угольном пласте, должны быть извлечены. Когда разрушается одна тонна угля — выделяется 28 кубометров газа метана. А при концентрации от 4 до 12% он просто взрывается. Достаточно малейшей искры, малейшей инициации — и происходит взрыв. Метан — это детонатор, он создает волну, которая идет в замкнутом пространстве по туннелям, по штрекам, по горным выработкам…
- Получается эффект пистолета?
- Совершенно верно. Эта волна движется, поднимает угольную пыль, а угольная пыль, кроме всего прочего, сама по себе при определенной концентрации взрывается. А тут еще температура, тут еще концентрация давления. И происходит серия взрывов. Это самое страшное в угольной отрасли. Нам удалось внести изменения в шесть законодательных актов и провести "закон о дегазации".
Благодаря тому, что государственный надзор вышел на совершенно другой уровень, мы в первый период столкнулись с большим количеством остановок работ, которого никогда не было в истории угольной промышленности. Пока приводили в порядок
предприятия, на десятки дней останавливались крупнейшие шахты.
Кроме того, появилась система доступа к отчетности, система доступа к той телеметрической информации о газовоздушной среде. Например, в Сибирской энергетической компании создана общая диспетчерская для всех шахт, куда сходится информация по принципу светофора: красный, зеленый или желтый свет в соответствии ситуацией на том или ином предприятии. При необходимости немедленно принимаются меры. Все резко изменило обстановку – число опасных ситуацией снизилось.
Стоит сказать, что хотя в советское время были приняты серьезные институциональные решения, травматизм оставался высоким. Если есть такой некорректный показатель "количество погибших на миллион тонн". В прошлом их было до 1,5 человек на миллион тонн, сегодня - 0,02.
Угольщики совершенно поменяли концепцию работы. Если раньше угольная промышленность строилась благодаря максимальному развитию Донбасса (украинского и ростовского), Воркуты, то теперь развитие Сибири позволило развивать открытые высокоэффективные горные работы. Производительность выросла в десятки раз. Сейчас порядка 65% российского угля добывается на открытых горных работах.
Новое оборудование, новые технологии, новая система подготовки шахт позволила говорить о том, что у нас в десятки раз выросла производительность труда, а численность тех, кто занят на опасных горных работах, снизилась практически в пять раз.
Есть прекрасное оборудование, есть системы телеметрии. Сегодня на большинстве наших шахт, когда любой человек спустился под землю, диспетчер на поверхности видит, где он находится, все его передвижения. Позиционирование людей в шахте крайне важно и в текущей рабочей обстановке, и в случае чрезвычайного происшествия. У каждого в головной светильник, который надевается на шахтерскую каску, встроен прибор, который анализирует количество метана. Если газ повышается, он начинает мигать, сразу становится ясно, что есть опасность. Все это передается на поверхность диспетчеру. Есть методы борьбы и с угольной пылью - осланцевание, смыв, постоянный контроль. Инспекторы спускаются в шахту. Тогда почему же происходят аварии? Все равно человеческий фактор сохраняется и остается. Это и о тех лоцманы, которые ведут под землей горные работы, это и главный инженер, и главный геолог, и главный маркшейдер. От них зависит правильное решение, куда двигаться под землей, как развивать добычу полезного ископаемого.
Подготовлен проект, есть оборудование, есть средства контроля, есть средства безопасности, есть люди, которые контролируют безопасность, но происходят аварии. Почему? В великолепно подготовленных выработках вдруг концентрируется газ метан, да еще на протяжении рабочей смены. Это субъективный фактор. Объективно же есть все, чтоб таких аварий не происходило. Соблюдай режимы, не дави на кнопки, не добывай уголь сверх того, что можно. Систему безопасности в шахте нужно строго соблюдать. Мы это вывели на федеральный уровень, а дальше уже отвечают за исполнители. Нужно смотреть, чтобы не была сговора между исполнителем и инженерно-техническим работником.
- А в чем смысл таких сговоров? Больше добыть угля?
- Разные бывают причины. Раньше заработная плата шахтера зависела от выработки. Но сегодня на законодательном уровне уже сказано, что 70% человек спускаясь в шахту, уже получил, а дальше работай так, чтобы выполнить норму. В эти оставшиеся 30% нужно выполнять план. Перевыполнять план не нужно.
- Чтобы не нарушать меры безопасности?
- Не только. Россия устойчиво занимает третье место по объему продаж на внешнем рынке. Мы сегодня продаем от 150 млн тонн в год угля на внешнем рынке. Больше нас продают только Австралия и Индонезия. На внешнем рынке избыток угля сегодня составляет, по оценкам экспертов, около 100 млн тонн. Сегодня очень жесткая конкуренция. Конечно, нельзя терять занятые ниши, но и лишнего не нужно.
Например, Япония, приостановив атомную энергетику, развивает угольную или тепловую генерацию. Мы всего на 17% присутствуем на японском рынке, но больше уже не втолкнешь. Есть дефицитные марки, которые имеют устойчивый спрос и на внутреннем, и на внешнем рынке, а сеть марки, которые лежат на складе и имеют трудный сбыт.
К сожалению, и внутренний рынок угля сужается, это связано и с газификацией и с альтернативными источниками электроэнергии. Лоббирование угольной отрасли, конечно, продолжается в здоровом смысле слова, но мы должны понимать, что погоня за лишними тоннами сегодня не нужна ни на внешнем, ни на внутреннем рынке. Хотя есть марки угля, которые находятся на грани дефицита, особенно после выхода из строя шахты "Северная", которая добывала уникальную марку жирных углей, коксующихся.
Но желание дать сверх того, что положено по паспорту места проведения работ, по паспорту добычи, по паспорту проведения выработок, нет необходимости. Мы работаем в увязке с профсоюзной организацией "Росугольпрофом". Они полезной работой занимаются. Сегодня совершенствуется и форма, и содержание тех коллективных договоров, которые заключаются между трудовым коллективом и работодателем.
Еще очень интересный фактор – в 1990-х произошли события, которые привели к серьезным изменениям в государстве. Тогда шахтеров использовали в политических целях, когда они выходили на площади…. А в 2008 год наступил глобальный экономический кризис - замедлилось производство, реальный сектор (угледобыча, производство черных металлов, металлургия). Мы остановились очень резко, были снижены зарплаты, люди отпущены в отпуска, сокращена рабочая неделя, казалось, что мог появиться конфликт, но этого не случилось. Просто тогда уже поняли, что нельзя разрушать производство, нельзя разрушать то, на чем ты зарабатываешь. Собственники, менеджмент угольных предприятий, коллективы объединились, и благодаря этому этот кризисный пик мы прошли вполне удачно.

В Пекине состоялась Десятая конференция российских соотечественников, проживающих в Китае
19-20 мая в Пекине прошла Десятая конференция российских соотечественников, проживающих в Китае. Тема юбилейной конференции: «Консолидирующая роль Координационного совета соотечественников в Китае (КССК): опыт, достижения, перспективы».
В первый день конференции в Посольстве России состоялось объединенное заседание представителей Российских клубов из более чем десяти городов Китая. С приветственным словом в адрес соотечественников выступил Посол России в Китае Андрей Денисов. Он подчеркнул, что за десять лет работы КССК стал серьезным инструментом решения задач по защите прав соотечественников в Китае, развитию и укреплению позиций русского языка и продвижению культуры России, начал играть важную роль в объединении соотечественников на позиции сохранения единого культурного и исторического пространства с Россией.
В выступлении председателя Всемирного координационного совета соотечественников Михаила Дроздова также была дана высокая оценка динамики развития КССК. Он особо поблагодарил объединения соотечественников в Китае за мероприятия, связанные с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и впервые проведенной в Китае в 2016 году акции «Бессмертный полк», при активном участии представительства Россотрудничества.
В ходе выступлений представителей Русских клубов подведены итоги деятельности объединений соотечественников за истекший период, проведен обмен мнениями, обсуждены перспективы развития движения российских соотечественников в Китае. Выступавшие участники давали высокую оценку работе Посольства России в КНР и представительства Россотрудничества в Китае. Послу России Андрею Денисову и руководителю представительства Россотрудничества Виктору Коннову вручены памятные медали КССК. В свою очередь Посол наградил наиболее активных соотечественников почетными грамотами Правительственной комиссии по делам соотечественников, проживающих за рубежом.
Второй день конференции прошел на площадке представительства Россотрудничества в Китае. Здесь принята итоговая декларация, которая наметила дальнейшие ориентиры на активизацию работы объединений соотечественников в Китае.
В работе конференции приняли участие более пятидесяти членов КССК, российских дипломатов, бизнесменов, преподавателей вузов, священнослужителей, представителей Русских клубов из Пекина, Шанхая, Шэньяна, Харбина, Гуанчжоу, Урумчи, Хуньчуня, Гонконга, Макао, Чэнду и других городов Китая.

Георгий Каламанов: в странах АСЕАН есть интерес к российскому авиапрому.
Перед началом форума России и стран АСЕАН в Сочи заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов рассказал об интересе стран ассоциации в российских промышленных технологиях, о том, что уже сделано и что только станет очередным витком международного промышленного сотрудничества между государствами.
— Георгий Владимирович, расскажите, как идет работа по продвижению российских технологий в промышленности в странах АСЕАН. Есть ли интерес к продукции российского автопрома, авиапрома, машиностроительной технике?
— Индонезия стала практически первой страной Юго-Восточной Азии, куда были поставлены пассажирские самолеты SSJ100. Другие российские авиастроители также заинтересованы в поставках своей продукции на индонезийский рынок. В первую очередь это касается возможных поставок перспективного самолета МС-21. В октябре 2015 года представители ПАО «Корпорация «Иркут» провели презентации и консультации по проекту МС-21 с руководством аэрокосмической компании PT Dirgantara Indonesia в Бандунге и государственной АК Garuda Indonesia в Джакарте.
В целом интерес к продукции российского авиапрома в странах АСЕАН имеется. В качестве потенциальных заказчиков пассажирского самолета SSJ100 рассматриваются авиакомпании Камбоджи, Мьянмы, Таиланда. В частности, уже успешно реализуется контракт по поставке в Таиланд двух самолетов SSJ100 в версии ВИП (самолеты будут поставлены до конца 2016 года). Дополнительно заключен контракт еще на одно воздушное судно.
Объединенная авиастроительная корпорация рассматривает рынок Камбоджи как перспективный для поставок SSJ100, в связи с чем в настоящее время проводит работу по выстраиванию контактов с камбоджийскими партнерами.
Российская сторона также заинтересована в активизации совместной работы по продвижению на рынок Мьянмы и Сингапура самолетов SSJ100, МС-21, а также организации центра послепродажной поддержки эксплуатации поставляемых самолетов. Ведутся переговоры с минобороны Мьянмы по поставке SSJ100 для перевозки руководящего состава.
— Какие проекты интересны в автопроме?
— Что касается автомобилестроения, то, в частности, рынок Вьетнама остается для КАМАЗа одним из стратегически важных направлений деятельности за рубежом. С 2003 года ПАО «КАМАЗ» ведет работу с одной из крупнейших государственных корпораций Вьетнама — «Винакомин», в стратегическом партнерстве с которой был создан сборочный завод автомобилей КАМАЗ.
Кроме того, есть заинтересованность в расширении нашего присутствия на рынке Таиланда. Как вы наверняка знаете, в этой стране левостороннее дорожное движение, и ОАО «КАМАЗ» готово обеспечить потребности внутреннего рынка за счет поставок в праворульном исполнении самосвалов (колесной формулы 6х4), седельных тягачей (6х4) и полноприводных автомобилей двойного назначения (4х4, 6х6), а также организовать сбытовую сеть и сервисную базу по обслуживанию своей техники.
Имеются хорошие перспективы для развития отношений в области машиностроения и металлургии. Так, АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» заинтересовано в налаживании взаимодействия с Индонезией в области энергетики.
ООО «УГМК Рудгормаш-Воронеж» предлагает рассмотреть возможности поставки бурового оборудования для промышленности Индонезии.
АО «ВО «Тяжпромэкспорт» осуществляет строительство чугуноплавильного завода по технологии «Ромелт» в Мьянме. Строительство чугуноплавильного завода включено в перечень приоритетных проектов в принятой руководством Республики Союз Мьянма программе создания собственной металлургической промышленности.
— РФ и Индонезия обсуждают совместный проект по нефтедобыче в Сибири — о каком именно проекте идет речь, какие российские нефтяные компании в него вовлечены?
— Данное направление находится в компетенции Минэнерго России. При этом по линии Минпромторга России ведется работа по содействию ПАО «ОМЗ» в осуществлении поставок в Индонезию оборудования тяжелого машиностроения для перекачки, транспортировки и хранения газа и нефти, нефтегазопереработки и сжижения газа. ПАО «ОМЗ» были направлены предложения по перспективным совместным двусторонним проектам с индонезийской стороной. В частности, ПАО «Криогенмаш» заинтересовано в поставках оборудования мини-СПГ: от ожижителей природного газа до заводов СПГ под ключ. Данный проект подразумевает разработку, изготовление, монтаж комплекса оборудования СПГ, предназначенного для производства, доставки и использования СПГ в удаленных инфраструктурных объектах и населенных пунктах.
— Индонезия проявляет интерес к сотрудничеству с ЕАЭС, сейчас наши страны изучают целесообразность создания ЗСТ. Существует ли на данный момент реальная необходимость создания зоны свободной торговли между РФ и Индонезией? Ведутся ли еще с кем-то из членов блока АСЕАН переговоры о возможности создания ЗСТ?
— Ранее государства-члены ЕАЭС по инициативе Белоруссии рассмотрели целесообразность заключения соглашения о свободной торговле с Индонезией. В рамках проработки данного вопроса был проведен ряд встреч на площадке Евразийской экономической комиссии, также проведен анализ сотрудничества государств-членов ЕАЭС с Индонезией и выделены возможные перспективы развития отношений. В настоящее время государствами-членами ЕАЭС ведется работа по определению оптимального формата торгового сотрудничества со странами АСЕАН, в частности с Индонезией и Сингапуром.
Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом было подписано 29 мая 2015 года. Сторонами было проведено восемь раундов переговоров, а также ряд дополнительных консультаций по вопросу заключения соглашения. Представители Минпромторга России принимали активное участие в работе над соглашением. Заключение соглашения будет являться важным инструментом для углубления и усиления двусторонних отношений с Вьетнамом в сфере торговли и инвестиций, будет способствовать не только росту взаимного товарооборота, но и позволит решить задачу подключения России и Евразийского экономического союза в целом к динамично развивающимся интеграционным процессам на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона.
7 сентября 2015 года посольство Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации сообщило, что вьетнамская сторона завершила необходимые процедуры для вступления в силу соглашения.
Первым проектом двустороннего сотрудничества в развитии данного соглашения является проект по организации производства автомобилей на территории Вьетнама.
Реализация уже достигнутых договоренностей принесет ощутимую пользу экономике Вьетнама — позволит стране уже через три года стать экспортером автомобилей с достаточно высоким уровнем локализации, минимум 40%.
Камбоджа и Сингапур также рассматривают возможность заключения соглашения о свободной торговле с ЕАЭС. Они уже подали заявки в Евразийскую экономическую комиссию с прошением о рассмотрении целесообразности заключения таких соглашений.
В случае поступления соответствующего обращения Таиланда в Евразийскую экономическую комиссию, готовы поддержать инициативу этой страны о заключении соглашения о свободной торговле ЕАЭС — Таиланд и, соответственно, запуске первого этапа, необходимого для запуска переговорного процесса, — начале деятельности совместной исследовательской группы ЕАЭС — Таиланд.
— Что в настоящее время делается Россией для наращивания работы с Китаем? Какие проводили и будете проводить мероприятия, встречи, переговоры? Есть ли уже какие-то ощутимые результаты?
— Ведется активная работа по укреплению и развитию промышленного сотрудничества с Китайской Народной Республикой.
17 декабря 2015 года в Пекине, на полях 20-й регулярной встречи России и Китая, было объявлено о создании подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности, комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Полагаем, что данный формат станет действенным механизмом мониторинга хода промышленной кооперации между Россией и Китаем, а также будет служить идеальной площадкой для реализации стратегически важных проектов промышленного, торгово-экономического и инвестиционного характера.
Касательно совместных проектов с Китаем стоит отметить работу по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (ШФДМС) и тяжелого вертолета. В настоящее время ведутся переговоры по согласованию межправительственных соглашений по данным проектам.
Активно прорабатывается возможность поставок российского самолета SSJ100 в Китай. Постепенно увеличивается доля машинно-технической продукции в российском экспорте, растут поставки высокотехнологичных инновационных товаров. Существенная активизация наблюдается в торговле сельскохозяйственной и пищевой продукцией.
Важным направлением видится работа по сопряжению Евразийского союза и Экономического пояса Шелкового пути. Безусловно, это сотрудничество направлено на перспективу. Очевиден потенциал сотрудничества по проектам в агропромышленном комплексе — Дальний Восток России предоставляет уникальную возможность китайским компаниям заработать на производстве и поставках экологически чистого продовольствия в Россию, Китай и в другие страны Азии.
— Какова динамика товарооборота между Россией и Китаем? Есть ли какие-то качественные изменения, улучшения? Какие товары преобладают с той и с другой стороны?
— Китай является одним из крупнейших торговых партнеров России. По сравнению с 2014 годом (88,27 млрд долларов) товарооборот между двумя странами за 2015 год сократился на 28%, что в абсолютном выражении составило 63,4 млрд долларов.
По оценкам российских и китайских экспертов, замедление динамики взаимной торговли в 2014-2015 годах было обусловлено рядом объективных факторов.
Во-первых, общая геополитическая напряженность, осложнение ситуации на Украине, введение западными странами экономических санкций в отношении России, ухудшение мировых внешнеторговых условий, в том числе снижение спроса на зарубежных товарных рынках.
Во-вторых, замедление темпов экономического роста как в России, так и в Китае.
В-третьих, падение мировых цен на энергоносители и сырьевые товары, которые составляют более 70% российского экспорта в Китай.
Большая часть российского экспорта в Китай (более 70%) приходится на углеводородные и сырьевые товары, но стоит отметить значительное увеличение доли экспорта машинотехнической продукции в Китай, доля которой в совокупном экспорте увеличилась.
Зафиксировано увеличение поставок энергетического оборудования на 83,6%, до 390,68 млн долларов, летательных аппаратов — на 4,3%, до 107,24 млн долларов и электрического оборудования — на 18,2%, до 50,74 млн долларов.
Что касается российского импорта в 2015 году, он показал значительное сокращение по сравнению с 2014 годом, причиной такого снижения стала девальвация и неустойчивый обменный курс российской валюты. В условиях повышенных валютных рисков китайские экспортеры стали проявлять осторожность при заключении внешнеторговых контрактов, а российские импортеры из-за снижения покупательской способности потребителей вынуждены были ограничивать импорт продукции широкого потребления (одежда, обувь, трикотажные изделия, игрушки).
С другой стороны, текущая экономическая ситуация в определенной степени дала импульс для активизации взаимовыгодного сотрудничества в ряде областей. Так, снижение курса российской валюты сделало российские товары и услуги более доступными и привлекательными для заинтересованных иностранных партнеров. Почти в два раза увеличился туристический поток в Россию из Китая.
— На ваш взгляд, на какой стадии сейчас находится развитие деловых отношений с Китаем? Есть ли уже сейчас ощутимые результаты? Если нет, то когда они могут появиться? Каков объем двусторонних инвестиций?
— Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китай в 2014 году заявил, что РФ и КНР к 2020 году планируют достичь товарооборота в 200 млрд долларов.
Задача довольно-таки амбициозная, но вполне выполнимая.
В ближайшие годы будут запущены крупные инвестпроекты в различных областях, которые добавят десятки миллиардов долларов к нашей торговле. Существует большой потенциал в области сельского хозяйства, высоких технологий.
Уровень развития российско-китайского инвестиционного сотрудничества в настоящее время не в полной мере отвечает уровню сложившихся политических и торговых отношений двух стран. В прошедшем году, по данным минкоммерции КНР, наблюдалось существенное увеличение притока китайских прямых инвестиций в Россию.
Главными направлениями инвестиционной деятельности КНР в России по-прежнему являлись разработка полезных ископаемых, лесное хозяйство, энергетика, торговля, бытовая электротехника, связь, строительство и сфера услуг.
Крупнейшими вложениями китайских компаний в российские активы стали: покупка Китайской национальной нефтегазовой корпорацией 20% акций в проекте «Ямал-СПГ» у компании «Новатэк» (оценивается в 810 млн долларов); вложение Китайской международной инженерно-строительной компанией цветной металлургии (NFC) в совместный проект с корпорацией «Металлы Восточной Сибири» в Республике Бурятия (оценивается в 750 млн долларов); инвестиции Государственной электросетевой корпорации Китая в совместные проекты с российской ГК «Синтез» (оценивается в 1,1 млрд долларов); приобретение Китайской инвестиционной корпорацией 5,4% акций Московской биржи (оценивается в 100 млн долларов); приобретение Строительным банком Китая 2% акций банка ВТБ (оценивается в 100 млн долларов).
Российские прямые инвестиции в Китае традиционно характеризуются весьма скромными показателями, но также имеют определенный потенциал.
Основными направлениями российских инвестиций в Китае являются производственная отрасль, строительство, транспортные перевозки.
Общее количество российских проектов с прямыми инвестициями в Китае достигло порядка 2500, что свидетельствует о довольно высоком уровне инвестиционной активности в Китае российского среднего и малого бизнеса. Низкие показатели суммарных вложений российского капитала в китайскую экономику связаны еще и с тем, что зачастую денежные средства поступают из России в Китай не напрямую, а через аффилированные компании, зарегистрированные в Гонконге или других юрисдикциях с льготным налогообложением.
— Россия предложила координировать деятельность на рынке алюминия Саудовской Аравии и Китаю в рамках рабочей группы, которая работает в Армении, Катаре и ОАЭ. Получила ли эта инициатива отклик в этих странах?
— В прошлом году с некоторыми ключевыми странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива — ОАЭ, Бахрейн, Катар — состоялся ряд заседаний рабочих групп по сотрудничеству в сфере алюминиевой промышленности. Мы с коллегами договорились уделять особое внимание алюминиевой промышленности и разработать политику по стабилизации ситуации на рынке: о сотрудничестве в области обмена информацией о текущих тенденциях на международном рынке алюминия, выразили готовность обсуждать возможности осуществления совместных инвестиций и иных форм сотрудничества в производстве алюминия, включая сотрудничество в области плавки, бокситов и глинозема, а также других видов сырья (в том числе прокаленного нефтяного кокса); реализации совместных социальных проектов и использовании общей инфраструктуры для развития боксито-глиноземных проектов в третьих странах.
Также у нас в планах сформировать аналогичный рабочий орган с Саудовской Аравией.
В рамках созданной с Китайской Народной Республикой подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств включена также рабочая группа по сырьевым материалам. Мы работаем над вопросом проведения первого заседания данной рабочей группы в самое ближайшее время.

Большие гонки
Догнал ли Китай Америку по комплексной мощи?
В.Я. Портяков – доктор экономических наук, заместитель директора Института Дальнего Востока РАН.
Резюме Вряд ли уже можно утверждать, что Китай превзошел США по комплексной мощи. Но главное в том, что китайские представители уже декларируют достижения паритета. К этому стоит отнестись серьезно.
Когда в 2010 г. Китайская Народная Республика опередила Японию по объему валового внутреннего продукта, это привлекло внимание международного сообщества и породило многочисленные отклики и комментарии в мировых средствах массовой информации. Между тем событие не меньшего значения, возможно, случившееся несколькими годами позже, пока остается почти незамеченным.
Речь идет о том, что, согласно расчетам известного китайского ученого-экономиста Ху Аньгана, по итогам 2013 г. Китай по комплексной мощи опередил США: соотношение «твердой» (то есть без учета «мягкой силы») совокупной национальной мощи двух государств с 1:1,22 в 2010 г. выросло до 1:0,98 в 2013 году. Эти расчеты Ху Аньган опубликовал в начале 2015 г. в «Вестнике Университета Цинхуа», а затем и в качестве отдельной главы «Как Китай догнал и перегнал Америку: взгляд с точки зрения комплексной мощи» в авторской монографии «СверхКитай». А в докладе 20 ноября 2015 г. на Шестом форуме мирового китаеведения в Шанхае Ху Аньган огласил и новые оценки за 2014 г., которые свидетельствуют о закреплении и углублении превосходства Китая над Соединенными Штатами: доля КНР в мировой комплексной мощи составила 17,13%, тогда как доля США – 15,25%, а соотношение между ними возросло до 1:0,89.
Значение данного события выходит за рамки эконометрии и затрагивает кардинальные проблемы качественных изменений в общей расстановке сил в мире.
Слагаемые успеха
Собственно, и сам Ху Аньган подчеркивает прежде всего практическое значение нового феномена. По его мнению, именно выход Китая на паритет с Соединенными Штатами по комплексной мощи послужил материальной базой предложения о строительстве нового типа отношений между Китаем и США, впервые выдвинутого лидером КНР Си Цзиньпином в марте 2013 года. Нетрудно увидеть здесь своеобразную перекличку с утверждением американского китаеведа Дэвида Шамбо, что «сегодня США и Китай являются единственными подлинно глобальными акторами на мировой арене».
Каковы же слагаемые достигнутого Китаем успеха? Достаточно подробное описание методологии расчетов комплексной мощи, приведенное Ху Аньганом, позволяет ответить на этот вопрос, а заодно и увидеть сильные и слабые стороны избранной методики.
Отправная посылка Ху Аньгана такова. Коль скоро комплексная мощь государства представляет собой его совокупную способность к целенаправленному достижению намеченных стратегических целей, то ее главным компонентом и материальной основой являются государственные стратегические ресурсы. Для оценки комплексной мощи Китая и Соединенных Штатов были использованы 17 показателей, относящихся к восьми видам стратегических ресурсов и учтенных в соответствии с приданными им весами (экономика, наука и техника – по 0,2; человеческий капитал, природные, военные, международные, правительственные ресурсы и капитал – по 0,1 из общей суммы в 1,0).
Универсальной счетной единицей, позволившей соединить разнородные компоненты, стала процентная доля Китая и США в общемировых показателях по всем восьми частям комплексной мощи (см. Таблицу 1).
Итак, судя по расчетам Ху Аньгана, решающий рывок в погоне за США по комплексной мощи Китай сделал в первое десятилетие XXI века, сократив разрыв с 1:2,77 в 2000 г. до 1:1,22 в 2010 году. При этом особенно значительно сократилось отставание Китая по таким компонентам, как ресурсы капитала, интеллектуальные и технологические ресурсы.
Чтобы понять, насколько корректны и убедительны расчеты китайского ученого, рассмотрим выкладки Ху Аньгана несколько более подробно. Подчеркнем, что цель непременно опровергнуть расчеты и главный вывод китайского экономиста никоим образом не ставится. Скорее, речь идет о более широком контексте анализа того, что Ху Аньган называет «стратегическими ресурсами» Китая, динамики и возможных перспектив их изменения.
В примененной Ху Аньганом методологии экономические ресурсы представлены одним показателем – валовым внутренним продуктом, рассчитанным по паритету покупательной способности национальных валют (ППС), точнее, долей ВВП Китая и США в мировом валовом продукте по ППС. Это, безусловно, один из наиболее выгодных для КНР показателей, характеризующих масштабы его экономики, особенно с учетом того, что в 2014 г. Международный валютный фонд существенно повысил оценки ВВП по ППС ряда развивающихся стран, включая Китай. Здесь позитивная для этой страны динамика, скорее всего, в ближайшие годы сохранится (см. Таблицу 2).
Таблица 2. Прогноз динамики ВВП Китая, США и России до 2020 г.
|
Страна |
Показатель |
Годы |
|||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
||
|
Китай |
ВВП по текущему курсу, млрд долл. |
11 384 |
12 254 |
13 173 |
14 272 |
15 620 |
17 100 |
|
ВВП по ППС, млрд долл. |
19 510 |
20 985 |
22 632 |
24 506 |
26 624 |
28 921 |
|
|
Доля в мировом валовом продукте по ППС, процентов |
17,24 |
17,70 |
18,09 |
18,48 |
18,91 |
19,35 |
|
|
Россия |
ВВП по текущему курсу, млрд долл. |
1 236 |
1 179 |
1 309 |
1 447 |
1 613 |
1 791 |
|
ВВП по ППС, млрд долл. |
3 473 |
3 493 |
3 589 |
3 718 |
3 856 |
3 998 |
|
|
Доля в мировом валовом продукте по ППС, процентов |
3,07 |
2,95 |
2,89 |
2,80 |
2,74 |
2,67 |
|
|
США |
ВВП по текущему курсу, млрд долл. |
17 968 |
18 698 |
19 555 |
20 493 |
21 404 |
22 294 |
|
ВВП по ППС, млрд долл. |
17 968 |
18 698 |
19 555 |
20 493 |
21 404 |
22 294 |
|
|
Доля в мировом валовом продукте по ППС, процентов |
15,88 |
15,77 |
15,63 |
15,45 |
15,20 |
14,92 |
|
Источник: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2015.
Так, по оценке МВФ, доля Китая в мировом валовом продукте (по ППС) вырастет с 17,24% в 2015 г. до 19,35% в 2020 г., тогда как доля США, напротив, сократится с 15,88% до 14,92%. Соответственно, соотношение между ними по этому показателю снизится с 0,92:1 до 0,77:1.
Какие-то принципиальные возражения или как минимум сомнения в этой картине могут быть двух видов. Первый, наиболее очевидный, состоит в том, что хотя показатель ВВП по паритету покупательной способности ныне весьма популярен, главным и основным показателем экономической иерархии государств остается ВВП, выраженный в долларах по рыночному курсу национальных валют. Здесь, по прогнозу МВФ, США сохранят к концу нынешнего десятилетия уверенное преимущество над Китаем, хотя китайский ВВП и вырастет с 63,3% от американского в 2015 г. до 76,7% в 2020 году.
Кризис модели?
Сомнения второго рода порождены очевидными сложностями, с которыми сталкивается идущий ныне процесс трансформации модели экономического роста в Китае. Выход на «новую нормальность», сопряженный с серьезными подвижками в структуре экономики, дается Пекину явно болезненнее, чем это виделось еще два-три года назад. Не исключено, что темпы роста, а с ними и динамика наращивания комплексной мощи, уже в ближайшей перспективе заметно снизятся.
Ресурсы человеческого капитала определяются как произведение численности населения страны в трудоспособном возрасте (от 15 до 64 лет) на средний уровень образования (среднее число лет обучения). Этот ресурс остается одним из главных сравнительных преимуществ Китая, стабильность и устойчивость ему в последние четверть столетия во многом обеспечил рост среднего срока обучения трудоспособного населения с 6,43 лет в 1990 г. до 9,35 лет в 2013 году. Несмотря на высокий образовательный уровень американского населения (в среднем 12,23 года в 1990 г. и 13,3 года в 2013 г.), Китай благодаря многонаселенности имеет наибольший перевес над Америкой именно по ресурсам человеческого капитала: 2,39 раза в 1990 г. и 3,31 раза в 2013 году. Представляется, что примерно такой разрыв в пользу КНР сохранится в данной сфере и на обозримую перспективу. Скорее всего, достаточно массовый переход китайцев от однодетной семьи на разрешенную отныне модель двухдетной семьи позволит через 15–20 лет компенсировать сокращение рабочих рук из-за нарастающего старения населения.
Показатель природных ресурсов составлен Ху Аньганом из субпоказателей посевных площадей под сельхозкультурами, объема пресноводных ресурсов и объема коммерчески используемых энергоресурсов (по одной трети от каждого). Доля Китая и Америки в мировых ресурсах пресной воды неизменна – соответственно, 5,8 и 5,09%. Сокращение же доли КНР в мировых посевных площадях примерно с 15,8% в 1990 г. до 8% в 2013 г. (у США – 11,8 и 11,47%) в общем показателе природных ресурсов оказалось компенсировано опережающим ростом доли Китая в мировых показателях коммерческого использования энергоресурсов с 10,07% до 22,4%. Это позволило Китаю несколько опередить Соединенные Штаты по общей доле в мировых природных ресурсах. Однако, как подчеркивает сам Ху Аньган, подушевые показатели КНР в этой сфере намного меньше среднемировых, и страна заинтересована в значительном импорте природных ресурсов, в том числе из Америки. Кстати говоря, крупномасштабный импорт основных видов топлива и сырья сохранился и в 2015 г., когда Китай импортировал 335 млн т нефти и 952 млн т железной руды (в 2014 г. – соответственно, 308 и 932 млн тонн).
В целом, на наш взгляд, у Китая мало шансов сколько-нибудь заметно улучшить позиции в мире по данному компоненту комплексной мощи. Более того, общепризнанно, что нехватка посевных площадей и пресной воды может стать ахиллесовой пятой страны.
Ресурсы капитала Ху Аньган определяет как производное от объема внутренних инвестиций, рыночной стоимости акций и чистых прямых зарубежных инвестиций, учитываемых в текущих долларах США по рыночному курсу и взятых в пропорции 0,4; 0,3 и 0,3.
По показателю внутренних инвестиций (доля в мировом объеме) Китай, отстававший от Соединенных Штатов в 3,2 раза еще в 2005 г., уже в 2010 г. впервые опередил их. В 2013 г. его доля достигла здесь 23,77%, тогда как доля США составила 17,12%.
В рыночной стоимости акций существенный перевес (в 2013 г. – 4,32 раза) остается за американцами. В то же время по чистому объему использованных прямых иностранных инвестиций Китай в последние годы опережал Соединенные Штаты (в 2013 г. их доли в общемировых показателях составили 24,2 и 16,4%). В целом же по ресурсам капитала США с долей в 22% несколько опережают КНР (19,14%).
Представляется, что трактовка Ху Аньганом ресурсов капитала как важного компонента комплексной мощи имеет уязвимые места. В первую очередь это касается рыночной стоимости акций. В комментариях зарубежных экспертов, последовавших за двукратным обвалом рынка акций в КНР в первой декаде 2016 г., стоимость акций в стране была единодушно признана завышенной.
В период правления председателя КНР Ху Цзиньтао и премьера Вэнь Цзябао наращивание объема инвестиций в Китае явно вышло за рамки разумного и способствовало созданию избыточных производственных мощностей, которые сегодня являются скорее слабостью, нежели силой. Особенно показателен пример черной металлургии. По оценке журнала The Economist, Китай в 2014 г. выплавил лишние 441 млн т стали, то есть половину общего объема ее производства в 2014 г. (822 млн тонн).
Бег по многим дорожкам
В наращивании интеллектуальных и технологических ресурсов Китай благодаря целенаправленной финансовой и научно-технической политике продемонстрировал особенно впечатляющие результаты, увеличив долю в совокупных мировых параметрах данной сферы с 0,86% в 1990 г. до 23,5% в 2014 г. и опередив таким образом США с их долей в 19,3% (см. Таблицу 3).
Из четырех показателей, формирующих в равных долях суммарный показатель интеллектуальных и технологических ресурсов, Китай опережает США по числу пользователей Интернета и по заявкам на патенты и изобретения. Это, в общем-то, вполне естественно, учитывая более чем четырехкратную разницу в численности населения. Пока еще отставая по общим затратам на НИОКР и числу научных публикаций, Китай заметно подтянулся к американскому уровню. Немалую роль сыграла в этом и сама Америка, пропустив через свои университеты десятки, если не сотни тысяч китайских студентов.
В обозримой перспективе Китай сохранит ставку на всемерное наращивание интеллектуальных и технологических ресурсов, поскольку, как считает Ху Аньган, научно-техническое новаторство и распространение более эффективных технологий и техники являются самым важным путем увеличения комплексной мощи страны. В то же время вероятно, что вслед за долей Соединенных Штатов вскоре начнет снижаться и доля КНР в сводных мировых показателях научно-технической мощи, прежде всего из-за ее опережающего наращивания в остальном мире.
Правительственные ресурсы представлены одним показателем: финансовыми расходами центрального правительства. Они характеризуют общие возможности государства по мобилизации и использованию своего потенциала. Как и в большинстве других случаев, Ху Аньган использовал данные Всемирного банка. Можно добавить, что в последние годы в популярных международных индексах нередко фигурируют те или иные показатели качества управления в разных странах, оценки деятельности их правительств и т.п., где Китай занимает, как правило, невысокие места (так, в британском Индексе процветания Legatum КНР в 2015 г. была ранжирована 52-й, но по качеству управления заняла лишь 67-е место).
Военные ресурсы как фактор комплексной мощи государства в исследовании Ху Аньгана определяются численностью вооруженных сил и военными расходами (приданные веса – соответственно 0,4 и 0,6). Позиции Китая в мире по двум этим компонентам менялись разнонаправлено: по численности вооруженных сил доля КНР снизилась с 16,21% в 1990 г. до 10,63% в 2013 г., а по военным расходам, напротив, выросла с 2,87% до 13,85%. В целом же Соединенные Штаты по военным ресурсам опережают Китай в 1,45 раза. Следует подчеркнуть, что это – минимальная оценка разрыва между США и КНР по военной мощи. Впрочем, сам Ху Аньган оговаривается, что сопоставление военных ресурсов двух государств нуждается в более детальном специальном исследовании.
Международные ресурсы представлены взятыми в равных долях показателями экспорта и импорта товаров и услуг. Внешнеторговый бум, который пережил Китай после вступления во Всемирную торговую организацию, обеспечил ему выход на первое место по объему мировой торговли товарами и их экспорту. Однако с учетом торговли услугами лидером мировой торговли, хотя и с небольшим перевесом, остаются США (см. Таблицу 4).
В 2013 г. доля КНР в мировом экспорте товаров и услуг достигла 10,36% по сравнению с 3,5% в 2000 г., а в импорте товаров и услуг – соответственно, 9,67% и 2,13%. Однако дальнейший прогресс в этой сфере, похоже, будет даваться Китаю все тяжелее. В 2014 г. объем его внешней торговли товарами вырос всего на 3,4%, а в 2015 г. сократился на 8% при снижении экспорта на 2% и импорта на 14,1%.
Соперничество КНР и США в данной сфере грозит выйти на новый, можно сказать, всеобъемлющий уровень, коль скоро Пекин и Вашингтон выступают ныне в роли неформальных лидеров двух глобальных проектов международного экономического сотрудничества – нового сухопутного и морского Шелкового пути и Транстихоокеанского партнерства.
Впрочем, соперничество между двумя, без сомнения, ведущими мировыми державами прямо или косвенно идет и по всем остальным компонентам «твердой» комплексной мощи. Пытается Китай подтянуться к американскому уровню и по «мягкой силе». Лет семь-восемь назад китайские ученые оценивали «мягкую силу» КНР примерно в треть от американской. С той поры проделана огромная работа по популяризации в мире китайского языка и культуры, формированию положительного образа Китая. Однако зарубежные оценки «мягкой силы» Китая все еще остаются невысокими. Так, британский Soft Power Index поставил КНР лишь на 30-е место в мире.
Так что сегодня вряд ли можно безоговорочно утверждать, что Китай превзошел Соединенные Штаты по комплексной мощи. Сравнительное исследование комплексной мощи Китая и США нуждается в продолжении и углублении, ведь от него в немалой степени зависит общая конструкция грядущего миропорядка. Конечно, в интересных расчетах и привлекательной методологии профессора Ху Аньгана есть небесспорные места. И все же главное, на мой взгляд, состоит в самой декларации достижения Китаем паритета с США по комплексной мощи. К этому стоит отнестись вполне серьезно.
Таблица 1. Процентные доли комплексной мощи Китая и США в общемировых показателях
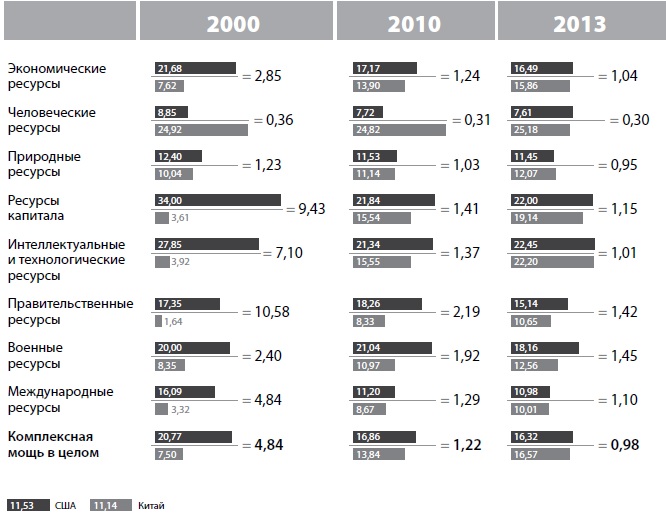
Источник: Ху Аньган. СверхКитай (Hu Angang. Chaoji Zhongguo). Пекин. 2015. С. 216–217.
Таблица 3. Доля Китая и США в мировой научно-технической мощи (%)

Источник: Hu Angang. “Shier wu shiqi jingji shehui fazhan pingjia” [Оценка социально-экономического развития в период «двенадцатой пятилетки»]. – Презентация Ху Аньгана 20 ноября 2015 г. в Шанхае на Шестом форуме мирового китаеведения.
Таблица 4. Внешняя торговля Китая и США в 2014 г. (млрд долл.)

Источник: World Trade Organization Press Release, 14 April 2015.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

























