Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Опыт Москвы поможет решить транспортные проблемы в других городах России
Речь идет о внедрении комплексных схем организации движения и запуске системы фотовидеофиксации нарушений.
Московский опыт может помочь решить проблемы в сфере транспорта в других городах России — такой вывод сделали участники панельной дискуссии, которая прошла 6 июля в рамках Московского урбанистического форума — 2017. Прежде всего речь идет о внедрении комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД) и запуске системы фотовидеофиксации (ФВФ) нарушений.
«Городская застройка и дорожная сеть часто находятся в конфликтных отношениях. Однако существующую дорожную систему можно оптимизировать за счет проектирования и реализации комплексной схемы организации дорожного движения. Внедрение КСОДД в Москве позволило значительно повысить среднюю скорость движения на дорогах, пропускную способность улиц и безопасность», — сказал директор МосгортрансНИИпроекта Александр Поляков.
В обсуждении участвовали эксперты транспортного комплекса Москвы и бизнес-сообщества, а также мэры и представители городских администраций Махачкалы, Ульяновска, Ярославля и Тулы.
Мэр Ярославля Владимир Слепцов рассказал о работе автоматизированной системы управления дорожным движением и перспективах фотовидеофиксации в городе. Московский транспортный комплекс поддержал инициативу Ярославля по внедрению ФВФ.
Благодаря этому в самой столице за последние шесть лет количество ДТП снизилось почти в два раза — на 46 процентов: с 609 тысяч в 2010 году до 329 тысяч в 2016-м.
Участники дискуссии также согласились, что реализация региональной информационно-навигационной системы на базе ГЛОНАСС поможет наладить работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Она позволит определить участки, где больше всего требуется обеспечить приоритетный проезд общественного транспорта.
ЮНЕСКО ТРЕБУЕТ ПРОВЕСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ ВЛИЯНИЯ МОНГОЛЬСКИХ ГЭС НА БАЙКАЛ
ЮНЕСКО настаивает на проведении совместной российско-монгольской трансграничной стратегической экологической оценки для любых проектов ГЭС в бассейне Селенги.
Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО на своей 41 сессии, проходящей в Кракове (Польша), поддержал принятые ранее решения, касающиеся планов строительства Монголией гидроэлектростанций в бассейне Селенги — крупнейшего притока объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал», сообщает международная экологическая коалиция «Реки без границ».
В принятой резолюции ЮНЕСКО настаивает на проведении совместной российско-монгольской трансграничной стратегической экологической оценки (СЭО) для любых проектов в области гидроэнергетики и использования водных ресурсов, которые могут оказать потенциальное воздействие на озеро Байкал.
В решении особо подчеркивается, что такая СЭО должна предшествовать и служить ориентиром для более детальных оценок воздействия на окружающую среду (ОВОС) любых конкретных проектов в области гидроэнергетики и инфраструктуры, в том числе ОВОС проектов Шурэнской ГЭС и Орхонской ГЭС вместе с водоотводным каналом «Орхон-Гоби».
«Напомню, что Монголии предписано не одобрять ни один из проектов селенгинских ГЭС до тех пор, пока их ОВОС и оценки кумулятивного воздействия не будут рассмотрены Центром Всемирного Наследия и Международным союзом охраны природы, — подчеркивает руководитель международной экологической коалиции „Реки без границ“ Евгений Симонов, находящийся сейчас на сессии в Кракове. — Теперь же, перед тем как приступить к ОВОС, от Монголии затребовано провести сначала стратегическую экологическую оценку, причем совместно с Россией — страной местонахождения Байкальского объекта всемирного наследия, который может испытать на себе все негативные последствия от строительства монгольских ГЭС в бассейне Селенги».
«Важно отметить, что в отношении монгольских ГЭС все решения предшествующих 39 и 40 сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО остаются в силе вплоть до их исполнения, решения текущей 41 сессии лишь их дополняют, — отмечает российский координатор международной экологической коалиции „Реки без границ“ Александр Колотов. — Поэтому, в частности, требования к ОВОС Эгийнгольской ГЭС также остаются неизменными: она должна включать в себя оценку потенциального воздействия не только на гидрологические, но и на экологические процессы и биоразнообразие озера Байкал».
Отчет о выполнении своих рекомендаций ЮНЕСКО просит предоставить к 1 февраля 2018 года для их рассмотрения на следующей, 42 сессии Комитета Всемирного наследия.
7 июля Русская община республики Молдова при поддержке представительства Россотрудничества отметила сразу два праздника – День дружбы и единения славян и День семьи, любви и верности.
В живописном пригороде Кишинева на берегу Днестра собрались представители славянских общин республики – русской, белорусской, украинской и польской. Программа праздника была подготовлена Русской общиной и Управлением культуры поселка Ваду луй Водэ и составлена с учетом обычаев и традиций, характерных для празднования Иванова дня – общего для славян праздника, известного как праздник Солнца и зрелости лета.
По традиции торжество открыло прибытие Ярилы на коне и его свиты. Их встречали бурными аплодисментами. Затем для гостей праздника были подготовлены различные конкурсы и обряды, связанные с водой, огнем и травами: "Купальская викторина", "Бог солнца", "Дерево желаний", "Хоровод с бубном", "Танцы под скакалкой" и другие. В конкурсах приняли активное участие семьи соотечественников. Победителям были вручены сувениры и книги от Российского центра науки и культуры.
Творческие коллективы всех общин продемонстрировали свои таланты – русские, белорусские, украинские песни сменяли друг друга, вовлекая присутствующих в дружные хороводы, а самые смелые отважились прыгать через традиционный ритуальный костер.
В заключение мероприятия председатель Русской общины Людмила Лащенова отметила: «Этот праздник проводится уже третий год, он символизирует не только единство и дружбу, в которой на протяжении веков жили все народы на древней молдавской земле, но и связь и преемственность поколений и семейных ценностей, ведь в нем принимают участие люди разных национальностей и возрастов».
Песков: Вопросы международного сотрудничества в сфере энергетики нельзя решать политическим путем.
Песков отметил, что в Евросоюзе нет энергетической монополии.
«Все это решает рынок. Это нельзя решать политически», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа, который в ходе своего визита в Польшу заявил, что намерен нарушить энергетическую монополию РФ в Европе.
Кроме того, Песков отметил, что в Евросоюзе нет энергетической монополии, а присутствуют различного рода игроки на рынке.
«Во-первых, в Европе нет энергетической монополии. В Европе есть главные игроки, второстепенные игроки, экономически целесообразные игроки и нецелесообразные игроки», — сказал представитель Кремля.
По итогам января-июня 2017 г., экспорт грузинского вина достиг $70,5 млн. Это на 59% больше, чем за аналогичный период 2016 г., сообщило Национальное агентство вина Грузии. Китай стал вторым по объему закупщиком грузинского вина.
За первую половину текущего года КНР купила 3,8 млн бутылок грузинского вина. Это на 104% больше, чем годом ранее.
На третьем месте среди импортеров указанной продукции находится Украина. За январь-июнь 2017 г. эта страна приобрела 2,9 млн бутылок грузинского вина с приростом на 30% в годовом сопоставлении.
На первом месте находится Россия, которая за первые шесть месяцев текущего года импортировала 19,31 млн бутылок грузинского вина. Данный показатель вырос на 89% в годовом сопоставлении.
В первую пятерку основных импортеров грузинского вина также вошли Польша и Казахстан. Экспорт в каждую из этих стран составил около 1,2 млн бутылок вина.
За январь-июнь 2017 г. Грузия поставила вино в 44 страны мира.
Банковская зачистка – ждать ли новой волны?
Елена Гостева, редактор Банкир.Ру
Нужна ли была активная стадия расчистки банковской системы или можно было, не пресекая активный вывод из страны капитала, банковской системе расти естественным путем? Ответа нет, но жить нам приходится именно в период массовой зачистки сектора. Любая неурядица может начать новый процесс зачистки.
На XXII Санкт-Петербургской международной банковской конференции банковские эксперты обсудили результаты зачистки банковской системы. Как обычно, мнения о роли ЦБ в зачистке и о том, нужно ли было массово отзывать лицензии у банков, разошлись кардинально.
Михаил Шлемов, исполнительный директор UBS считает, что российский регулятор идет в мировом тренде, так как банковский бизнес становится более зарегулированным везде. Но при этом российская система находится в прыжке с Базеля 1 на Базель 2,5. ЦБ пытается держать жесткие рамки, чтобы ускорить оздоровление системы. «Но мы забываем, что процесс отзыва лицензий наложился на спад кредитного цикла, что придало мрачности отзывам лицензий», - считает Шлемов.
Россия еще долго будет находиться в ситуации положительных реальных и довольно высоких процентных ставок. Это значит, что основной товар, которыми торгуют банки - деньги - имеют положительную стоимость. «Этой ситуации позавидуют банки многих стран», - отметил эксперт. При этом до кризиса 2008 года банковская система росла в ситуации низких процентных ставок, но при попустительстве в регулировании, а сейчас Россия одна из самых последних стран вошла в стадию кредитного роста – только сейчас. В то время как, например, в Польше, кредитный рост начался еще в 2011 году.
Иностранным банкам в России тяжело – у них два регулятора. И требования по капиталу к материнским банкам этих «дочек» были подняты, и аппетиты к риску западных банков в России был ограничен. Поэтому доля международных банков в России упал с 11% до 6%. Но рентабельность российских «дочек» до сих пор самая высокая среди всех регионов присутствия. Причины такого положения – положительные ставки на рынке и не очень большие, по сравнению с Европой, отчисления в резервы. «Поэтому мы никогда не слышим жалоб от европейских менеджеров на работу свои «дочек» в России», - сообщил Шлемов.
Старший аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что первыми в состояние структурного профицита пришли небольшие региональные банки. Все сливки снижения инфляции и учетной ставки ЦБ уже реализовались в стоимости фондирования. Ставки по депозитам физических лиц близки к уровню официальной инфляции – 4-5%. При этом ставки фондирования, которые банки получают от юридических лиц на 2 п.п. выше, чем уровень доходности по депозитам населения. Снижение этих ставок приведет к небольшому снижению стоимости фондирования, но вот и все потенциалы удешевления стоимости денег для банков.
В итоге получается, что 2015-2016 годы прошли для банков в ситуации широкой маржи, но сейчас способность банков покрывать свои издержки будет сокращаться, в ситуации, что стоимость депозитов снижаться уже не будет.
И те банки, которые не будут иметь доступа к дешевым деньгам, будут вынуждены выбирать – или уйти с рынка, или выходить в рисковый сегмент и снова копить проблемы, считает Порывай.
Но население уже не несет деньги на депозиты, и скорее всего, мы будем в ближайшее время наблюдать отток депозитов. Основная причина такой ситуации – население беднеет. Доходы в реальном выражении у населения отрицательные, у людей нет средств на сбережения. По опросам, наблюдаемая инфляция, о которой говорит население, равна 10%.
Дмитрий Мирошниченко, ведущий эксперт института «Центр развития» НИУ ВШЭ, считает, что если говорить о кейсах отзыва лицензий у банков, то в большинстве случаев собственники и менеджеры банков деньги клиентов переводили в «нужном направлении». Уникальный случай - это Внешпромбанк, который сочетал в себе все – воровство менеджеров и акционеров, бездействие регулятора, и уверенность кредиторов, что все будет замечательно, и что «эти люди и банка» всегда расплатятся по обязательствам.
«Удивительная особенность русских людей - доверять деньги людям, а не компаниям», - усмехнулся Мирошниченко. При это он считает, что при отзыве лицензий меньше всего причинами были ошибки руководства. Их был допущен минимум, так как кризис 2008 года отрезвил тех, кто в этой среде работает. Черный лебедь, который может прилететь в нашей банковской системе в любой момент, – это вся наша экономика, считает эксперт. Пик отзыва лицензий пришелся на прошлый год, потому что сразу реализовались все риски. Если вы выдаете кредиты не очень надежным заемщикам, то рано или поздно их не вернут, и в ситуации кризиса эти невозвраты идут косяками.
Кроме того, сказался накопленный эффект. Под 80% основания для отзыва лицензий, согласно сообщениям ЦБ, это вывод активов, а 50% - сомнительные операции. То есть и деньги акционеры и менеджеры банков мыли, и активы выводили.
Если раньше от момента возникновения проблем в банке и до первых неплатежей в банке проходило 9 месяцев, то к концу 2016 года этот период сократился примерно до 3.
Сейчас экономика России отскочила, и малообъяснимый, но рост есть. Мы перешли к профицитовой ликвидности, денег стало больше, и банкам стало проще маскировать дыры – стало легче продлевать жизнь банкам и ретушировать проблемы. Поэтому новая волна стагнации или внутренние потрясения, или же отказ от кредитования в ЦБ приведут к новой воле отзыва лицензий.
6 июля 2017 года в г. Женева (Швейцария) в рамках 16-й сессии Межправительственной группы экспертов (МГЭ) по политике и законодательству в области конкуренции Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) прошел круглый стол «Усиление международного сотрудничества при рассмотрении трансграничных дел: инструменты и процедуры». Данный вопрос был внесен в повестку МГЭ ЮНКТАД по инициативе ФАС России в октябре 2016 года.
Ключевым спикером на данном мероприятии стал руководитель ФАС России Игорь Артемьев. В своем докладе он отметил, что в настоящее время тенденции глобализации, цифровизации и появления новых рынков требуют от конкурентных ведомств принципиально новых подходов к сотрудничеству, поскольку нарушения конкурентного законодательства в настоящих условиях носит, подчас, глобальный характер. Он особо отметил деятельность крупных транснациональных корпораций, которые, наряду с положительными практиками решения глобальных проблем, развития и распространения технологий, часто являют собой нарушителей конкурентного законодательства, чья деятельность может привести к углублению технологического разрыва, снижению благосостояния населения и замедлению темпов роста экономик.
«В условиях развития цифровых рынков, нарушения конкурентного законодательства, как и информация, распространяются со скоростью света. И скорость антимонопольного реагирования должна быть соответствующей», - отметил Игорь Артемьев.
В продолжение доклада были приведены примеры успешного взаимодействия ФАС России с конкурентными ведомствами БРИКС, СНГ и ЕАЭС. В настоящее время функционируют Международные рабочие группы по фармацевтике, информационно-коммуникационным технологиям, глобальным продовольственным цепочкам, автопрому. Данные рынки имеют социальную важность для всех стран мира, и в данном формате идет активная работа по обсуждению подходов к решению общих проблем.
Вместе с этим, Игорь Артемьев отметил, что существующих инструментов сотрудничества конкурентных ведомств не достаточно для противодействия глобальным нарушениям. Мировое конкурентное сообщество в последнее время сталкивается с ситуацией, когда расследования против определенных глобальных компаний открыты по всему миру, однако конкурентные ведомства не способны осуществлять эффективное сотрудничество. В данном контексте ФАС России полагает, что на глобальной площадке, которой является ЮНКТАД, должен быть принят международный Инструментарий по международному сотрудничеству конкурентных ведомств по противодействию ограничительным деловым практикам крупных ТНК. Проект Инструментария уже подготовлен ФАС России и доступен для публичного обсуждения.
В целях проработки текста Инструментария предлагается создать специальную группу на площадке ЮНКТАД, куда могут войти все заинтересованные стороны. Инструментарий может стать приложением к Секции F («Международные меры») Комплекса ООН согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительными деловыми практиками и быть принят в рамках Конференции по пересмотру Комплекса в 2020 году.
Спикерами данной сессии стали представители Конкурентных ведомств Франции, Перу, Японии, США и Организации общего рынка Восточной и Южной Африки (COMESA). В рамках интерактивного обсуждения во второй части сессии представители конкурентных ведомств Бразилии, ЮАР, Австрии, Беларуси, Казахстана, Аргентины, Мексики, Киргизии, Армении, США и Италии, а также Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выразили поддержку инициативе ФАС России. Кроме того, поддержку данному проекту и готовность внести вклад в доработку Инструментария высказал г-н Фредерик Женни, председатель Комитета по конкуренции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
CEPI: в 2016 г. потребление бумаги и картона в Европе выросло на 0,3%
Потребление бумаги и картона в странах-членах Европейской конфедерации бумажной промышленности (The Confederation of European Paper Industries; CEPI) в 2016 г. увеличилось на 0,3%, говорится в полученном Lesprom Network пресс-релизе.
Этому способствовал рост спроса на определенные категории бумажной продукции — в основном, упаковку и санитарно-гигиенические изделия.
Импорт бумаги и картона в страны CEPI по итогам прошлого года увеличился на 4,5%. Кроме того, на 1% увеличились объемы сбора макулатуры, ее экспорт — на 5,6%, главным образом из-за роста спроса на азиатских рынках.
Членами Европейской конфедерации бумажной промышленности являются Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция.
Общевропейский урожай озимого ячменя снизится по сравнению с прошлым годом
Общеевропейский урожай озимого ячменя составит около 58 млн. тонн. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на агн. Reuters. Это на 1,6 млн. тонн меньше, чем ожидалось в мае и на 2 млн. тонн меньше, чем было собрано в прошлом году. Основная причина снижения – падение производства в Испании.
Во Франции между тем убрано уже 60-65% урожая ячменя. Всего должно быть собрано 9,5 млн. тонн, что больше официального прогноза 9,3 млн. тонн и производства прошлого года 8,2 млн. тонн. Качество озимого ячменя – хорошее.
В Испании заморозки, а затем засуха нанесли ущерб урожаю озимого ячменя. Страна может рассчитывать на 4,9 млн. тонн, что на 47% меньше производства прошлого года.
В Германии производство озимого ячменя, который идет преимущественно на фуражное потребление, снизится на 0,4% до 8,92 млн. тонн. И, наоборот, производство ярового ячменя вырастет на 4,3% до 1,84 млн. тонн в связи с расширением посевных площадей.
В Польше пока дожди тормозят уборку. Но сбор озимого ячменя может вырасти на 35% по сравнению с прошлым годом до 850 тыс. тонн. Производство ярового ячменя снизится на 3% до 2,65 млн. тонн.
С 4 по 6 июля в ФНС России прошел семинар ОЭСР по обмену налоговой информацией, на котором иностранные эксперты и российские налоговики обсудили лучшие мировые практики по международному обмену налоговой информацией по запросу и в автоматическом режиме.
Открывая семинар, заместитель руководителя ФНС России А.Л. Оверчук, подчеркнул роль Глобального форума ОЭСР по прозрачности и обмену информацией в создании единых стандартов и правил игры, которые обеспечивают более высокое качество и скорость международного информационного обмена, а также способствуют мобилизации внутренних ресурсов и потенциала налоговых органов. «Эти стандарты призваны гарантировать уважение прав налогоплательщиков и жесткие правила конфиденциальности для передаваемой информации», - отметил представитель ФНС России.
Особое внимание в рамках семинара было уделено практическим вопросам подготовки запросов на получение информации от иностранных налоговых органов. Эксперты ОЭСР обратили внимание, что в зависимости от специфики налоговых проверок (трансфертное ценообразование, поиск конечного бенефициара, внутригрупповые займы и др.) определяется порядок направления и обработки запросов. «Необходимо тщательно и всесторонне анализировать предполагаемую значимость каждого вопроса, который вы хотите задать», – подчеркнула аналитик ОЭСР Анжела Седель.
Представители российских налоговых органов также получили рекомендации экспертов ОЭСР по специфике направления групповых запросов.
В рамках мероприятия состоялись отдельные дискуссии по вопросам мировой судебной практики в сфере информационного обмена между налоговыми органами. Также обсудили возможности, которые предоставляет Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам. В частности, она стала правовой базой для обмена с такими оффшорными юрисдикциями как Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Каймановы острова и Аруба. Для Российской Федерации положения Конвенции применяются в отношении налоговых периодов после 2016 года.
В рамках семинара сотрудники ФНС России на конкретных примерах отрабатывали порядок составления запросов в иностранный налоговый орган, чтобы затем наиболее эффективно доказать схему ухода от налогообложения.
На данный момент Глобальный форум ОЭСР является крупнейшей международной площадкой в налоговой сфере – в его состав входят 142 юрисдикции и расширение продолжается.
Эх, яблочко, откуда катишься?
Максим Башкеев, спецкор «Труда»
Россия продлила продовольственное эмбарго. Нелегальный бизнес времени даром не терял
В среду правительство России продлило продовольственное эмбарго против стран, которые ввели против нас экономические санкции. Минсельхоз приветствовал это решение, расценив его как существенную поддержку отечественных производителей. Однако не факт, что российские аграрники сумеют воспользоваться конкурентными преимуществами. Нелегальный бизнес тоже не терял времени даром. Он изобретает все новые и новые способы контрабанды санкционных продуктов, пересекающих нашу границу по документам самых экзотических стран.
О том, что экономический эффект от антисанкций может быть сведен на нет стараниями контрабандистов, заявила Федеральная таможенная служба. По данным ведомства, только за пять месяцев контролерами было изъято 2736 тонн товаров, запрещенных к ввозу в РФ, — это на 79% больше, чем за аналогичный период прошлого года. То есть поток контрабанды нарастает, хотя официальный импорт продовольствия продолжает сокращаться.
В самой ФТС признают, что многие поставщики рассматривают режим продовольственного эмбарго как персональный вызов и пытаются разными способами обойти заслоны на границе. И это нередко удается. Если первое время европейские овощи и фрукты выдавались, как правило, за белорусские (появилось даже расхожее выражение «белорусские бананы», «креветки», «устрицы» и далее по списку), то теперь импортеры пытаются доказать их африканское происхождение. По статистике Федеральной таможенной службы, которая проводила выборочные проверки, в 54% случаев подтвердить эту информацию не удалось. В результате крупные партии плодоовощной продукции, поставлявшиеся через сопредельные страны Евразийского союза, были изъяты и уничтожены.
Может быть, инспекторы ФТС слишком дотошно проверяли документы, в которых оказались досадные неточности? Ничуть. В африканских странах, которые вдруг наращивают поставки овощей и фруктов в Россию, аграрного бума не наблюдается. Цитрусовые, финики, бананы — это их обычный импорт, а все остальное продовольствие туда традиционно завозится. После начала санкционного противостояния России и Запада в Северной Африке не стало больше теплиц, ягодников или фруктовых садов. Легальные поставки такого рода плодоовощной продукции с Черного континента случаются, но они носят разовый характер. А подавляющее большинство поступающих по таким документам яблок, груш, слив и помидоров — это почти наверняка контрабанда.
Кроме того, устойчивые каналы поставок продовольствия из Центральной, Южной и Западной Европы проложены через Грузию, Белоруссию, Казахстан, Сербию. То есть для транзита используются страны, которые не попали под действие российских антисанкций.
По словам главного аналитика Национального плодоовощного союза Кирилла Лашина, реэкспорт европейских продуктов приносит хорошие доходы, несмотря на определенные риски. Резко выросшие внутренние цены на целый ряд категорий плодоовощной продукции сделали поставки в Россию польских яблок или итальянского сыра еще более выгодными с экономической точки зрения, чем до введения продуктового эмбарго. Расходы окупаются даже с учетом роста затрат на логистику.
Под напором санкционных товаров ФТС изменила тактику мобильных групп, действующих на границах со странами Евросоюза. Если раньше они стояли в засадах на проселочных дорогах и останавливали фуры, то теперь делают упор на сбор оперативной информации и контроль над местами перевалки, обработки и сортировки грузов. Практика показала, что заслоны на внешних границах неэффективны. А бороться с контрабандой внутри РФ, не нарушая межгосударственных соглашений Евразийского союза, можно с помощью мобильных групп, в состав которых помимо таможенников входят сотрудники Россельхознадзора, Ространснадзора, Роспотребнадзора, ГИБДД и Пограничной службы ФСБ. На данный момент в штате ФТС создано 35 таких групп, и их количество будет увеличиваться.
За пять месяцев в сопредельных с Белоруссией областях против контрабандистов заведено 61 дело об административных правонарушениях (годом раньше их было в шесть раз меньше).
Спор с Мафусаилом
незнание или враньё достопочтенных граждан?
Владимир Бушин
4 июля умер Даниил Гранин. Незадолго до этого Владимир Сергеевич Бушин передал в редакцию новый материал, в котором, в том числе, разбирает некоторые высказывания о Великой Отечественной войне почившего писателя. Мы публикуем данную статью, ибо воистину «это нужно - не мёртвым! это надо – живым!».
Если читатель помнит, академик безопасности Гутионов Павел Семёнович, о котором я недавно писал, предпринял в новой газете "За правду-матку!" в марте 2017 года попытку переплюнуть академика словесности Солженицына Александра Исаевича, девизом которого всю жизнь было "Главное — плюнуть первым!". А в мае, в связи с годовщиной Дня Победы, в той же прекрасной газете была напечатана большая беседа журналистки Елены Лукьяновой с Героем социалистического труда Даниилом Александровичем Граниным, почётным гражданином Петербурга.
В годы войны и вскоре после неё было создано много разного рода художественных произведений о войне, в том числе появилась и целая литература о Великой Отечественной. В военной биографии Гранина, надо полагать, были и яркие, и драматические страницы, но он, видимо, сознавая недостаточность своего фронтового опыта (дальше читатель увидит это), не решался писать о войне, а писал сперва о героях Парижской коммуны, потом главным образом об учёных, как говорится в его биографии, — "о молодых физиках, влюблённых в науку", "о трудном пути новаторов", о ядерщике И.Курчатове, генетике Н. Тимофееве Ресовском, о французском астрономе ХVIII века Ф. Араго и т.д.
Но минуло много лет, осталось мало участников войны, в том числе писателей-фронтовиков, а живые уже так состарились, что даже ничего и не читают. И тут Гранин развернулся, заговорил о войне — в статьях, фильмах, интервью… Причём по всему видно, что ему не знакомы серьёзные книги о войне, и он мудрствует там, где всё ясно.
Вот сейчас мы услышали от него: "Были два важнейших очага сопротивления в истории войны: Сталинград и Ленинград. Сталинград — это военное сопротивление, а Ленинград — духовное". Вот такая классификация.
Но, во-первых, Сталинград — это не только героическое сопротивление, но и великая победа. А что, это одна только голая военная сила, лишённая всякой духовности? Гранин много путешествовал, исколесил весь белый свет, бывал и в Англии, в Лондоне. Вот зашёл бы в редакцию газеты "Дейли телеграф". Там, достав из архива, ему могли бы показать номер, вышедший 28 сентября 1942 года, в разгар Сталинградской битвы, и статью в нём — "Сталинград — триумф моральной стойкости", в которой он мог бы прочитать: "В Сталинграде действует нечто большее, чем материальные условия, нечто превосходящее простую механику войны" (цит. по ак. А.М. Самсонову. Сталинградская битва. М., 1983. С. 246). То, что 75 лет тому назад понимали на своём далёком острове честные англичане, не может уразуметь сейчас в России писатель — участник той войны.
Во-вторых, и Ленинград — не только сопротивление, и там, в конце концов, немцы были разбиты и отброшены. Какое надуманное разделение! И зачем? Но Гранин настаивает на нём: "В Сталинграде — стойкость армии, в Ленинграде — стойкость населения". И опять пальцем в небо! В защите Сталинграда участвовало и население города. Там был создан Городской комитет обороны во главе с секретарём горкома А.С. Чуяновым. Приведу лишь несколько цифр, характеризующих работу комитета. Под его руководством не войсками, а населением было отрыто 66 километров щелей, в которых могли укрыться от бомбёжек 130 тысяч человек из 445 тысяч всего населения города, и оборудовано в подвалах 237 бомбоубежищ для 33 тысяч человек (там же, с.79). Не зря и недаром на Мамаевом кургане рядом с маршалом В.И. Чуйковым и генерал-полковником М.С. Шумиловым похоронен и А.С. Чуянов.
С другой стороны, Ленинград — не только "духовное сопротивление" горожан, его оборонял целый фронт в составе многих дивизий, а в окончательной ликвидации блокады участвовал и Волховский фронт. Но Гранин, упрямо шествуя по выдуманной им меже между военной и духовной силами, однажды заявил, что и вообще-то в войне победил народ, а не армия. Словно армия наша была не плоть от плоти народа, не лучшая его часть, а какая-то наёмная, что ли, которая при первой бомбёжке разбежалась.
Да и память, как видно, тоже стала подводить теоретика. Иначе чем объяснить его комическое возмущение тем, что-де медаль "За победу над Германией" фронтовики получили только через двадцать лет после войны. Да ведь Указ о медали был опубликован 9 мая 1945 года. И миллионы фронтовиков уже в 45-м вернулись домой с медалью. Я лично получил её в Сталинском райвоенкомате Москвы в январе 46-го. 15 миллионов получили медаль сразу, а дать ли её Гранину — почему-то размышляли двадцать лет. Может, были основания?
В другой раз он негодовал по поводу того, что Сталин, мол, за всю войну ни разу не помянул погибших. Ну как не совестно старику! Да все приказы Сталина кончались словами "Вечная слава героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины!". Все вплоть до последнего — от 3 сентября 1945 года в связи с победой над Японией. Правда, как иногда и в других случаях, в несколько иной редакции: "Вечная слава героям, павшим в боях за ЧЕСТЬ И ПОБЕДУ нашей Родины!".
Прошло много времени, но он и сейчас твердит об этом, придумав несколько другой вариант: "Был факт, который всех нас поразил. Сталин ни разу не произнёс какого-то тоста — "царствие небесное", "спасибо тем, кто отдал свою жизнь" — в память о погибших… И на приёме после победы он не произнёс ничего о них. Не помянул. Не выпил. Не было тоста! Это непростительно!". В таком возрасте непростительно врать. "На приёме…" На каком? Ведь приём был не один. И Гранин ни на одном не присутствовал. А стенограммы или кинохроники приёмов не существует. Известно только выступление Сталина на приёме командующих 24 мая 1945 года. Он начал так: "Товарищи, разрешите мне поднять ещё один, последний тост". Из этих слов видно, что тостов было много. И для нормального человека естественно думать, что был там и памятный тост как естественное продолжение высоких скорбных слов сталинских приказов. Может быть, прозвучали в Георгиевском зале слова и о царствии небесном, ибо на приёме 24 мая присутствовал и патриарх.
День Победы — великий всенародный праздник, а не что-нибудь иное. Ещё в тяжкую пору войны Сталин сказал: "Будет и на нашей улице праздник!". И вот народ отметил его уже в 72-й раз. Разумеется, при этом мы тоже не могли забыть тех, кто пал за победу. Выступление президента на параде было прервано минутой молчания; потом по площади прошёл "Бессмертный полк", и мы воочию видели прекрасные лица и павших героев, и ушедших от нас позже; а после полудня, когда весь народ сел за праздничные столы, у многих очень скромные, первая рюмка была за Победу, а вторая, не чокаясь, уж непременно — памятная о них. А мы, девяностолетние с гаком фронтовики, в некий миг ощутили то, о чём сказал наш всеобщий однополчанин Александр Твардовский:
Я знаю: никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они, кто старше, кто моложе,
Остались там. И не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь.
Речь не о том.
Но всё же, всё же, всё же…
Но в беседе Гранина с журналисткой газеты Е.Лукьяновой не оказалось ничего праздничного, одно сплошное да ещё и лживое нытьё, какое-то замогильное чревовещание о войне.
У писателя, разумеется, не вызвала никакого сомнения гутионовская цифра наших потерь в 42-52 миллиона! Но он присовокупил: "Эта война отличается тем, что она сопровождалась ложью".
Война была невиданно огромной и ужасной, и в ходе её были ошибки, промахи, незнание и безвестность каких-то обстоятельств и фактов, была сознательная дезинформация противника, случалось и так, что какие-то данные было нецелесообразно и даже невозможно, опасно опубликовать… Хранят же до сих пор англичане — 76 лет! — обстоятельства, связанные с прилётом к ним в мае 1941 года Гесса. Однако с первого дня мы нарекли войну Отечественной и Священной. А для маститого писателя главное — уличить кого-то, сказать о лжи, как о спутнице войны за спасение Родины. Да вспомнил бы хоть, сколь беспощадна была правда сталинского приказа №227.
Но, конечно, звучала иногда и ложь, неправда, причем порой даже сознательно. Когда Сталин в первом выступлении по радио сказал, что немцы хотят восстановить власть помещиков и капиталистов, — это была неправда. Сталин знал, что немцы хотели истребить миллионы, а остальных обратить в рабство. Но поверить в это широким массам, всему народу было трудно, даже невозможно. А что такое власть помещиков и капиталистов — многие ещё помнили, да и молодые знали о ней по книгам классиков, по фильмам, по рассказам родителей. Поэтому Сталин и сказал понятную людям и нужную в той обстановке неправду. Гранин негодует и усмехается: "Сталин ещё в начале войны сказал, сколько миллионов немцев мы разгромили, убили. Такую цифру назвал, что мы не поняли: а почему они ещё перед нами стоят?". Стоят!.. Да, в докладе 6 ноября он сказал, что за четыре месяца мы потеряли 350 тысяч убитыми и пропавшими без вести и более миллиона ранеными, а немцы — 4 миллиона убитыми, ранеными и пленными. И это была неправда. Неужели фронтовику надо объяснять её природу? Хотя бы то, откуда тогда могли быть точные донесения, достоверные сведения? Конечно, всё, как говорится, на глазок. А глаза-то наши были залиты кровью… Правда же — слишком важная вещь, чтобы подходить к ней всегда с одним рецептом, с одним ключом.
"Ложь считалась необходимостью от разочарования". В чём? В Победе! В чём же ещё? Они хотят превратить наш День Победы в День ритуальных услуг.
"Что такое 42 миллиона? — вопрошает Гранин. — Это не цифра. Для тех, кто остался в живых, это одиночество. Мне годовщину победы встречать не с кем, у меня никого не осталось из моих школьных и студенческих друзей, из моих однополчан". Мафусаил тоже, вероятно, мучился одиночеством, и некого было ему пригласить из школьных друзей на своё 450-летие.
"Но и это не всё! — продолжает друг правды об утратах. — Мы не считаем нищету, бедность, разруху, которые преодолевались десятилетиями. Это всё от войны". Где он жил после войны? Во-первых, почему не считаем? Это вы не считаете и не желаете считать, и ваши друзья только скулят, почему в советское время не было двадцати пяти сортов колбасы, а мы всё в своё время подсчитали. Загляните, любезный, хотя бы в 4-й том восьмитомника "Нюрнбергский процесс" (М., 1990). Там всё подсчитано — по республикам, городам, сёлам: сколько разрушено заводов и фабрик, школ и больниц, театров и музеев… Но я же говорю, что он таких книг не читает, ему достаточно Астафьева да Радзинского. А колбаса, — заметил бы Мафусаил, — в Советском Союзе действительно была сортов пяти-семи, но какая! Приносили домой грамм двести — и вся квартира наполнялась благоуханием… А сейчас принеси хоть десять батонов разных сортов — даже кошка усом не ведёт". Так сказал бы Мафусаил.
Во-вторых, мне кажется, что у него память была лучше, и он возразил бы: "Нет, коллега, бедность и разруху "от войны" советские люди под руководством большевиков ликвидировали в пять-шесть лет. Напомню хотя бы, что в 1948 году было принято решение построить на Ленинских горах грандиозное высотное здание Московского университета, и 1 сентября 1953 года он распахнул двери перед студентами. Как сейчас помню! А через два года большевики подарили Варшаве тоже грандиозный Дворец культуры и науки. Такие здания от нищеты не сооружаются, такие подарки от нищеты не делаются. А вот та нищета и та разруха, что "от реформ", действительно продолжаются несколько десятилетий, и ликвидацией их никто не озабочен. Вы путаете эпохи, брат мой. Ведь я за 489 лет жизни всего насмотрелся".
"Вместе с погибшими на войне погибла часть моей юности, моей жизни…", — говорит Гранин. Увы, сударь, что делать! Юность, молодость и вся жизнь уходят и без такого скорбного сопровождения. Поэт сказал:
Не жалею, не зову, не плачу…
Всё пройдёт, как с белых яблонь дым.
Увяданья золотом охваченный,
Я не буду больше молодым…
А было тогда поэту всего 25 лет, моложе вас ровно в четыре раза, но всё понимал, не жалел, не плакал и даже не злоупотреблял свободой слова, как вы.
Но в любом возрасте тяжко слушать: "У нас история войны обросла враньём… Мы уродуем свою историю, мы лишаем её человечности". Это кто же так лихо постарался? Кто эти изверги, антипатриоты и мизантропы? Шолохов врал о войне в романе "Они сражались за родину", в рассказе "Судьба человека" и в статье "Наука ненависти"? Толстой лишал человечности историю войны в "Рассказах Ивана Сударева и в "Русском характере"? Тихонов занимался тем и другим в поэме "Киров с нами"? Фадеев — в "Молодой гвардии"? Леонов — в пьесах "Нашествие" и "Взятие Великошумска"? Эренбург — в пламенной и почти ежедневной публицистике? Твардовский — в "Василии Тёркине"? Светлов — хотя бы в стихотворении "Итальянец"? Вера Инбер — в "Пулковском меридиане"? Антокольский — в поэме "Сын"? Соболев — в "Морской душе"? Пастернак — в цикле стихов о войне? Корнейчук — в пьесе "Фронт"? Симонов — в сталинградской повести "Дни и ночи", в двухтомнике военных дневников?
Или Некрасов — "В окопах Сталинграда"? Бондарев — в "Горячем снеге" и в "Батальоны просят огня"? Сергей Смирнов — в "Брестской крепости"? Константин Воробьёв — в повестях "Убиты под Москвой" и "Это мы, Господи!", Гудзенко, Павел Шубин или Юрий Белаш — в стихах? Или врали Герои, дважды и трижды Герои Советского Союза Ковпак, Фёдоров, Медведев, Вершигора и Покрышкин в своих воспоминаниях "От Путивля до Карпат", "Подпольный обком действует", "Это было под Ровно", "Сильные духом", "Люди с чистой совестью" и "Небо войны"? Или Полевой выдумал свою "Повесть о настоящем человеке"?.. Или врали Шостакович в Седьмой симфонии, Калатозов в фильме "Летят журавли", Чухрай в "Балладе о солдате"? Или лакировали войну художники Корин и Дейнека, Пластов и Кривоногов? Ну, назвал бы хоть одно имечко! Надо же отвечать за свои слова. Некоторые из перечисленных имён и произведений Гранин упомянул в "Блокадной книге" с почтением и уважением. Так это же в Советское время. А теперь всё подряд — враньё, мизантропия?
Попытки сказать правду, говорит, были, но — вот, мол, характернейший пример: "Жукову не дали в воспоминаниях написать, что был момент, когда реально появилась опасность, что Москву не удастся отстоять. Симонов его спросил: "Было у вас такое ощущение?" Он сказал: "Да, был момент, когда это было возможно". Историки долго не могли смириться с этим, цензура — тем более". Гранина интересует не реальная обстановка, не факты, а ощущения, и даже те, которые посетили Жукова, по его же словам, на какой-то момент. Писателю хоть бы этим поживиться!
А на самом деле Г.К. Жуков сказал Симонову, согласно его записи, вот что: "Последнее наступление немцев (на Москву) началось 15-16 ноября. К его началу на главном направлении Волоколамск-Нара, на своём левом фланге они имели 25-27 дивизий, из них примерно 18 танковых и моторизованных. Но в ходе боёв их силы оказались на пределе. И когда они уже подошли к каналу Москва-Волга, к Крюкову, стало ясно, что они не рассчитали, шли на последнем дыхании. Подошли. А в резерве — ни одной дивизии (куда они подевались, Даниил Александрович? — В.Б.). К 3-4 декабря у них в дивизиях оставалось примерно по 30-35 танков из 300. Чтобы выиграть сражение, им нужно было иметь на направлении главного удара во втором эшелоне дивизий 10-12, т.е. с самого начала нужно было иметь не 27, а 40 дивизий. Тогда они могли бы прорваться к Москве. Но у них этого не было. (Куда они подевались, Даниил Александрович? — В.Б.). Они уже истратили всё, что было, потому что не рассчитали силу нашего сопротивления" (Откуда она взялась, Даниил Александрович? — В.Б.). Это маршал сказал Симонову во время съёмок фильма "Если дорог тебе твой дом", и это вошло в фильм.
Всем известный В.Познер, король ночного эфира и комендант Лысой Горы, накануне ещё 65-летия Победы тоже ужасно негодовал, что фильм был готов в 1966 году (может, в декабре), а на экран вышел… какое зверство цензуры!.. только в 1967-м (может, в январе). Кроме того, он уверял, божился, клялся памятью своего отца, что беседы маршала с писателем в фильме нет.
Это почему же такая ужасная задержка и такое бесцеремонное изъятие? Потому, оказывается, что "там упоминались маршалы Тухачевский, Блюхер, Егоров, Якир, Уборевич". Прекрасно. Однако, во-первых, Якир и Уборевич не маршалы. Во-вторых, а что, все эти имена невозможно было тогда произнести, они оказались под запретом? Да как же в таком случае хотя бы именно Жукову именно в ту пору в своих воспоминаниях, вышедших в 1969 году, удалось неоднократно упомянуть этих людей, причём безо всяких критических оценок? Но это не имеет значения для Познера, он исходит из презумпции универсального негодяйства советского времени. И продолжает твердить, что большое интервью Симонова с маршалом Жуковым "было приказано смыть", ибо маршал ещё и раскрыл какую-то ужасающую тайну, сказал убийственную правду о войне. Что именно? Может, Сталин дал взятку фельдмаршалу Боку? Похоже…
Но не перевелись ещё на Руси бесстрашные воители за правду-матку: "Мой отец Владимир Александрович сохранил это интервью", то есть дерзко наплевал на страшный приказ. А кто он был, родитель-то? Как же, — говорит, — создатель Экспериментальной творческой киностудии. Ну, это не совсем так. В.А. Познер был человеком деловым, но не столь уж выдающимся, а создателем студии и главной фигурой там был режиссёр Григорий Чухрай. Этот Познер, объявив того Познера создателем, о Чухрае и не упомянул. Создатель, говорит, "выкрал плёнку, смонтировал интервью и сдал на другую студию". На какую? Тайна… Познер заключил вступление к показу интервью словами: "То, что вы сейчас увидите, не было никогда и нигде показано по телевидению. Это уникальное интервью великого маршала о великой войне". Вероятно, ожидал за это орден Андрея Первозванного, но…
Как известно, лучшие сорта лжи фабрикуются из полуправды. По телевидению интервью, возможно, не показывали. Но Познер в самом конце передачи, уже после демонстрации, ещё раз повторил: "Интервью с маршалом Жуковым было приказано уничтожить. Только по одной причине: Жуков говорил правду. Все, кто участвовал в войне, — ветераны, их близкие, дети — имеют право знать правду о войне. И сегодняшняя передача — это шаг в сторону правды". Вот, мол, она. Мы с папой даём её вам накануне юбилея Победы. Как видите, мы к ней тоже причастны.
Но тут приходится напомнить Познеру, что телевидение — не единственное средство массовой информации. Существуют, например, кино, книги, журналы. Так вот, в 1969-м я сам видел это интервью на экране в Центральном доме литераторов. Факт показа подтвердил в "Литературной газете" и критик Владимир Огнев, тогда — главный редактор Экспериментальной студии. Конечно, это лишь несколько сот зрителей, однако тут есть что добавить. В 1965 и 1968 годах в издательстве "Московский рабочий" вышла книга "Битва за Москву". Там была и большая (35 страниц) статья Г.К. Жукова. В ней более обстоятельно и широко рассказано о том, что Георгий Константинович сказал в интервью Симонову. Было кое-что и сверх того — например, такое признание о тогдашнем положении дел: "Сплошного фронта обороны на Западном направлении не было. Образовались зияющие бреши, которые закрыть было, фактически, нечем… Главная опасность заключалась в том, что пути на Москву были почти ничем не прикрыты. Слабое прикрытие на Можайской линии обороны не могло гарантировать от внезапного появления перед Москвой бронированных войск противника" (с.65). А также — о положении в конце ноября: "Фронт нашей обороны выгибался, образовались очень слабые места. Казалось, вот-вот случится непоправимое… 28 ноября в районе Яхромы танковые части противника прорвались за канал Москва—Волга" (с.79). Увы, пути на Москву были почти не прикрыты, но и шагать по этим путям было уже некому.
Почему, Даниил Александрович? А когда в мае 45-го оказались открыты пути на Берлин, то у нас нашлось много охотников шагать по ним дальше. Почему?
Книга "Битва за Москву" вышла двумя изданиями тиражом по 100 и 75 тысяч экземпляров. Это тебе уже не ЦДЛ… А в 1985 году тиражом 300 тысяч экз. вышел 10-й том собрания сочинений Константина Симонова. И там имеется глава "История одного киноинтервью". Статья написана в 1978 году и тогда же была напечатана в майском номере журнала "Дружба народов". Я тогда работал в этом журнале и помню, как Симонов приходил к нам в наш одноэтажный кривенький флигелёк во дворе дома Ростовых на улице Воровского. В статье-главе Симонов целиком, слово в слово привёл это самое киноинтервью. В 1988 году тиражом в 200 тысяч вышел сборник воспоминаний "Маршал Жуков. Каким мы его помним". И там опять это симоновское интервью в полном виде, и не раз издавалось ещё.
Что ж получается в итоге? То, что было издано многотысячными массовыми тиражами и что советские люди могли читать и знать ещё почти полвека тому назад, Познер подал как жареную сенсацию, как свежайшую новинку, изобличающую-де коммунистов. А Герой труда без труда подхватывает её и тащит дальше. Но ведь могли бы они с Познером представить себе и такую картину. После знаменитого совета в Филях 9 сентября 1812 года, допустим, Василий Андреевич Жуковский, певец во стане русских воинов, берёт интервью у Михаила Илларионовича Кутузова и спрашивает: "Ваше сиятельство, а как с Москвой?" И главнокомандующий отвечает: "Во имя сохранения армии Первопрестольную решено оставить". И ведь оставили! Мало того — сожгли Первопрестольную-то. Интересно, что сказали бы об этом Гранин, Познер и Мафусаил, кто из них решился бы опубликовать интервью Кутузова?
3-4 июля 2017 года в г. Женеве прошло 2-е заседание Межправительственной группы экспертов по законодательству и политике в сфере защиты прав потребителей (далее - МГЭ), образованной в соответствии с резолюцией Организации Объединенных Наций (ООН), утвердившей в декабре 2015 года пересмотренные Руководящие принципы ООН для защиты интересов потребителей.
Российскую Федерацию на заседании представляли должностные лица Роспотребнадзора, как координатора по взаимодействию с ЮНКТАД по данному направлению работы. Кроме того, в заседании приняли участие представители Евразийской экономической комиссии.
Основными темами, рассмотренными в рамках 2-го заседания МГЭ, стали:
- защита прав уязвимых потребителей и потребителей, находящихся в неблагоприятном положении,
- защита прав потребителей в контексте электронной коммерции,
- имплементация положений пересмотренных Руководящих принципов в национальные юрисдикции,
- наращивание потенциала органов, осуществляющих защиту прав потребителей,
- обсуждение предложения Аргентины о вынесении на утверждение Генеральной Ассамблеи ООН декларации об утверждении Всемирной недели защиты потребителей (2-я неделя марта или неделя, на которую выпадает 15 марта).
В рамках Круглого стола по вопросам защиты уязвимых потребителей были представлены соответствующие доклады Секретариата МГЭ, а также Португалии, Египта, Замбии, Индии, Испании, Китая, Сальвадора, Алжира и др.
Российская делегация также представила участникам заседания информацию о мерах, предпринимаемых для защиты данной категории граждан на национальном уровне, отметив, что данный вопрос наряду с другими актуальными аспектами защиты прав потребителей в апреле 2017 года предметно рассматривался на уровне Президента Российской Федерации (на заседании президиума Госсовета). При этом было подчеркнуто, что определенный уровень правовой защищенности уязвимых категорий потребителей в России в настоящее время уже гарантирован целым рядом законодательных актов, в частности, в области защиты детей от информационной продукции, причиняющей вред их здоровью, и в сфере туризма.
На Круглом столе по вопросам защиты потребителей в контексте электронной коммерции выступили представители Франции, Гонконга, США, Мексики, Коста-Рики, Марокко, Индии, Германии, Беларуси, Кореи и др., а также Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирной организации по защите потребителей (Consumers International).
Практически всеми выступающими подчеркивалась важность выработки эффективных механизмов противодействия недобросовестным практикам в этой области, актуальность защиты персональных данных (личной информации), проблемность обеспечения безопасности товаров, реализуемых онлайн, их возврата продавцу и др.
Российская Федерация представила содержательную информацию о развитии данного направления защиты прав потребителей на национальном уровне, в том числе о законопроекте в отношении регулирования деятельности платформ, агрегирующих информацию о товарах или услугах. Россия также проанонсировала практические инициативы, разработанные для их реализации на площадки «Группы двадцати» в партнерстве с ОЭСР/ЮНКТАД, в том числе касающиеся перспективы создания единого глобального портала для потребителей.
В рамках обсуждения всеми делегатами подчеркивалась важность рассмотрения данного вопроса на международных площадках, в том числе ЮНКТАД, а также необходимость межгосударственного действенного взаимодействия, особенно в контексте трансграничного сегмента электронной коммерции и сопутствующих ему проблематик.
При рассмотрении предложения Аргентины о вынесении на Генеральную Ассамблею ООН декларации об утверждении Всемирной недели защиты потребителей подавляющее большинство делегатов, в том числе Россия, поддержали данную инициативу. В результате по итогам обсуждения преимущественным консенсусом было принято решение о подготовке соответствующего проекта декларации на основе текста, представленного Аргентиной, с дальнейшим обсуждением этого вопроса в рамках сентябрьского заседания Совета по торговле и развитию ЮНКТАД.
В заключении своей работы участники МГЭ приняли итоговую резолюцию и утвердили в качестве основных тем для обсуждения на очередном заседании, запланированном на июль 2018 года, - вопросы урегулирования споров и выплаты потребителям соответствующих возмещений, а также обеспечения безопасности реализуемой потребителям продукции.
В интервью ИА «Рейтер» Александр Новак подробно рассказал о ходе реализации соглашения ОПЕК+.
В интервью ИА «Рейтер» Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак подробно рассказал о ходе реализации соглашения об ограничении добычи между странами ОПЕК и не-ОПЕК.
Министр отметил, что от продления соглашения наблюдается положительный эффект, несмотря на моментное незначительное снижение цены. «Без соглашения мы бы видели увеличение мировых запасов и очень низкие цены, сокращения еще больших объемов инвестиций, соответственно, влияние на экономики многих стран. По нашим расчетам, рынок к 1 апреля следующего года будет гораздо лучше с точки зрения запасов. Мы ожидаем, что запасы в странах ОЭСР вернутся к уровням пятилетних значений в течение следующих 9 месяцев действия этого соглашения», - пояснил Александр Новак.
При этом глава Минэнерго России отметил, что выход из сделки, которая действует до 1 апреля 2018 года, должен быть плавным, чтобы не нарушить баланс спроса и предложения.
«Мы заинтересованы в сбалансированном выходе с тем, чтобы не обрушить сразу баланс спроса и предложения. Это отдельная тема, которая будет стоять на повестке в скором времени. То, что это будет плавный выход, - скорее всего, это так, в течение какого времени – мы обсудим отдельно. Предварительно, без деталей, другие участники ОПЕК также подтвердили заинтересованность в выходе из сделки так, чтобы предложение росло по мере роста спроса в течение второго-третьего квартала", - сказал Александр Новак.
Министр уверен, что рост спроса, который начнется во втором квартале следующего года, еще более стабилизирует ситуацию, и это позволит плавно выйти из сделки.
В течение трёх дней представители конкурентных ведомств и эксперты ЮНКТАД в различных форматах обсудят актуальные вопросы конкурентной политики.
5 июля 2017 года делегация ФАС России приняла участие в открытии 16-ой сессии Межправительственной группы экспертов по конкурентному законодательству и политике Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
По традиции, в начале мероприятия состоялись выборы председателя 16-ой сессии, которым была избрана Мона Эльграф, руководитель конкурентного ведомства Египта. С приветствием к участникам 16-й сессии выступили заместитель генерального секретаря ЮНКТАД Изабель Дюран и глава департамента по конкурентной и потребительской политике ЮНКТАД Тереза Морейра.
В первый рабочий день участники 16-й сессии обсудили вопросы повышения компетенций и технического сотрудничества в области конкурентной политики и законодательству. В частности, секретариатам ЮНКТАД была сделана презентация по указанной тематике, участие в подготовке которой принимала ФАС России. Российское антимонопольное ведомство имеет значительный опыт оказания технической помощи конкурентным ведомствам государств-участников СНГ и ряда других стран.
«Повышение компетенций требует значительных инвестиций в человеческий капитал и инфраструктуру. Важный шаг в этом направлении сделала Россия, открыв в 2012 году в г. Казани Учебно-методический центр ФАС России, обучение в котором прошли специалисты антимонопольных органов не только соседних государств, но и зарубежных конкурентных ведомств от Финляндии до ЮАР и от Индонезии до Эквадора. При создании центра мы использовали опыт функционирующих к этому времени двух центров ОЭСР - в Сеуле и Венгрии. В 2013 году решением глав правительств СНГ центру присвоен статус Базовой организации по обучению специалистов стран СНГ в антимонопольной сфере. Капитальные вложения в человеческий потенциал и инфраструктуру является важным элементом в решении такой важной задачи, как повышение компетенций», - отметил выступая в рамках первого рабочего дня 16-й сессии экспертов по конкуренции ЮНКТАД заместитель главы ФАС России Андрей Цыганов.
Накануне саммита G20 в Гамбурге западные СМИ активно высказывают предположения о том, как пройдет мероприятие, в том числе один из его ключевых моментов — первая личная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина.
Немецкие СМИ пишут, что саммит будет интересен в первую очередь из-за сложной ситуации на международной арене и "личных особенностей" участников. Журналисты Sueddeutsche Zeitung отмечают, что особое внимание привлекает президент США Дональд Трамп, который впервые встретится со своими коллегами в рамках такого формата. Издание указывает на два основных фактора, которые повлияют на атмосферу саммита: новый виток соперничества между Китаем и США и обещание Трампа выстроить "особые отношения" с Путиным, данное в ходе предвыборной кампании.
В то же время немецкая пресса предлагает не возлагать больших надежд на переговоры президентов в Гамбурге. Встреча скорее станет способом выяснить, какие отношения в дальнейшем сложатся между главами мировых держав. Bild подчеркивает, что даже если американский президент захочет поспособствовать улучшению отношений с Россией, у него будут связаны руки.
"Малейший шаг навстречу Москве навлечет на Трампа большие подозрения даже в его собственной Республиканской партии", — говорится в статье.
В то же время, как отмечает Bild, большое значение может иметь выбранный формат переговоров. Если состоится официальная встреча, это станет признаком того, что отношения России и США возвращаются в правильное русло. Если все ограничится неофициальной и символической беседой, это будет означать, что обе стороны мало заинтересованы в налаживании контакта.
"Встреча сыграет роль "пробного шара", и речь здесь пойдет о том, чтобы произвести лучшее впечатление. Мир будет наблюдать за предстоящим рукопожатием. Всего несколько минут решат, кто окажется "сильнейшим" в ходе этого саммита", — пишет издание.
Die Welt также обращает внимание на ограниченность возможностей Трампа в отношении России. В США на президента оказывается сильное давление, и американские политики будут следить за каждым его жестом в Гамбурге. Американский минфин не так давно расширил санкционный список против Москвы, а сенаторы от обеих партий договорились о принятии закона, лишающего президента права отменять антироссийские меры, напоминает издание. Таким образом, у Трампа почти нет шансов сделать что-либо для улучшения отношений с Москвой, считают журналисты.
Американские СМИ также обсуждают предстоящую встречу российского и американского президентов. Как отмечает Newsweek, решимость Путина столкнется с привычкой Трампа превращать каждое рукопожатие с мировым лидером в "проверку" как символической, так и физической силы.
CNN цитирует бывшего чиновника администрации Барака Обамы Дерека Чолле, который "ожидает олимпийского уровня демонстрации собственного превосходства от обоих лидеров". Журналисты телеканала сомневаются в том, что американский президент "одержит победу". "Трамп оказался в невыгодном положении. Он ослаблен внутри страны, самонадеянно бросается из одной политической бури в другую, оставляя крайне мало пространства для маневров во внешней политике", — говорится в статье.
CNN отмечает, что встреча имеет особое стратегическое значение, поскольку именно сейчас страны переживают самый опасный этап двусторонних отношений со времен холодной войны.
Корреспондент Блумберг Майкл Макки обращает внимание на то, что, хотя президент США собирается на встречу без какого-либо конкретного плана, он сможет "противостоять Путину, который имеет репутацию жесткого переговорщика и очень сильного лидера". "Итак, Трамп докажет, что он непотопляем, а Путин получит дополнительную рекламу, которая повысит его рейтинг внутри страны, показав, что он может дать отпор американскому президенту и донести до него свою точку зрения", — резюмирует он.
В другом материале агентство отмечает, что Трампу может не хватить знаний для обсуждения глобальных проблем по сравнению с российским лидером, который имеет в подобных вопросах большой опыт.
The Wall Street Journal больше склонна верить в успех американского президента, который, по мнению журналистов, должен продемонстрировать, что какие-либо уступки со стороны США возможны только после того, как Москва изменит политическую линию.
"Трамп считает, что он прекрасно разбирается в людях и мастерски заключает сделки, и это может оказаться опасным сочетанием, когда президент впервые встретится с Путиным в пятницу во время саммита G20 в Германии", — пишет издание.
По мнению журналиста The Guardian Джулиана Борджера, предстоящая встреча может стать сложным испытанием для Трампа в первую очередь из-за того, что во время переговоров его слова, мимика и жесты будут "скрупулезно анализироваться" на предмет "российского влияния". Журналист отмечает, что Москва, скорее всего, хорошо подготовилась к встрече, тщательно оценив ситуацию и наметив желаемые цели. Кроме того, у Путина будут и другие преимущества при встрече с Трампом, поскольку российский лидер имеет больше влияния в собственной стране, в том числе и по внешнеполитическим вопросам.
Даже несмотря на то, что встречи Трампа с Ангелой Меркель и Си Цзиньпином совершенно точно не будут легкими, диалог американского президента с Путиным должен стать "кульминацией" визита лидера Соединенных Штатов на саммит G20, пишет бельгийская La Libre.
При первой встрече Дональд Трамп и Владимир Путин смогут "помериться силами", утверждает французская газета Le Monde. Кроме того, сложная обстановка, усугубленная недавними северокорейскими испытаниями, вынуждает американского президента искать союзников. Ни его визит в Польшу, ни диалог с китайским лидером Си Цзиньпином не будут иметь для Трампа значения, сопоставимого со встречей с Владимиром Путиным, подчеркивает издание.
Что касается повестки дня саммита, то, по мнению журналистов, главными темами обсуждения станут ситуация на Ближнем Востоке, сирийский кризис, Украина и санкции в отношении Москвы, а также "российское вмешательство" в президентские выборы в США в 2016 году.
Нынешний президент США знает куда ехать и что говорить. Понятно, почему он перед G20 приехал в Варшаву — Польша является лидером той Европы, которая говорит с Трампом на одном языке "национального суверенитета". Той Европы, которая поможет Трампу в его конфликте с глобалистским Брюсселем, Берлином и, возможно, Парижем (если Макрон не "переобуется"). Трампу нужны симпатии населения этой Европы.
Польский бальзам
Однако их нужно завоевать — так, согласно опросу Pew, уровень одобрения трамповской внешней политики в Польше составляет лишь 23% (против 58%, которые были у Обамы). Поэтому понятно, почему, прибыв в Польшу, Трамп стал расточать комплименты хозяевам, восторгаться польской нацией, ее историческими достижениями и даже географическим положением. За одно только "Польша — это сердце Европы" поляки, переживающие сейчас всплеск великопольского национализма и противостояние с брюссельским "сердцем" и берлинским "мозгом", будут носить его на руках.
Следуя этой же логике, Трамп искажал исторические факты в угоду польскому видению истории. Рассказывал истории про то, что в 1920 году поляки сдержали большевистскую армию на пути к завоеванию Европы (хотя началось все именно с желания армии восстановленной Польши присоединить к себе лакомые кусочки украинских и белорусских земель), и про то, что в 1939 году "на вас еще раз напали — нацистская Германия с запада и СССР с востока" (но и Польша до этого делила с Германией поверженную Чехословакию, которую, кстати, сдали фашистам европейские державы).
"Я не исключаю, что речь для Трампа подготовил кто-то из этнических поляков в его администрации. Очень уж нетипично столь хорошее знание польских исторических болевых точек и слишком уж точное попадание", — говорит РИА Новости доцент Высшей школы экономики Дмитрий Офицеров-Бельский.
Среди этих точных попаданий была и польская версия истории Варшавского восстания. "В 1944 году советская и нацистская армии готовились к битве здесь, в Варшаве. В таких условиях жители Варшавы восстали. <…> Более 150 тысяч поляков погибли во время этой отчаянной борьбы против захватчика. С другой стороны реки Вооруженные силы Советской России стояли и ждали, смотрели, как нацисты уничтожают город, убивая мужчин, женщин и детей", — говорил Трамп.
Полная полуправда
Как правило, ложь заключается в половине правды. Советская и нацистская армия готовились к битве в Варшаве. В таких условиях жители Варшавы восстали. Но восстали почему? Не потому, что проснулась гордость, иначе бы они стояли плечом к плечу с евреями во время героической обороны еврейского гетто в 1943 году. Польские активисты в городе восстали потому, что сидящее в Лондоне эмигрантское правительство решило усилить свои позиции в переговорах о будущем Польши.
"Инициатива и выбор времени исходили, разумеется, от эмиграционного правительства и при активном участии британского правительства. Они хотели поставить СССР перед фактом освобождения Варшавы и предотвратить тем самым передачу власти в Польше правительству, сформированному из сторонников СССР. В каком-то смысле это была реакция на формирование в Москве 21 июля 1944 года Польского комитета национального освобождения, которое 31 декабря будет преобразовано во Временное правительство Республики Польши", — отмечает Дмитрий Офицеров-Бельский. Для этого нужно было поднять бунт в городе после того, как из него уйдут немцы, и до того, как туда войдут советские войска. Просчет повстанцев был в том, что немцы по инициативе командующего группой "Центр" Вальтера Моделя в конечном итоге уходить отказались и, наоборот, усилили гарнизон.
Что же касается помощи Советской России, то да, как говорит Трамп, с "другой стороны реки Вооруженные силы Советской России стояли и смотрели". Но что им еще оставалось делать?
"Форсирование Вислы могло осуществляться только в рамках широкой и хорошо подготовленной операции, каковой и стала Висло-Одерская операция в январе 1945 года. Раньше ее провести было невозможно. Любой, кто хорошо знаком с военным делом, скажет, что предыдущее наступление советских войск в рамках операции "Багратион" было слишком быстрым — белорусские железные дороги были разрушены партизанами во время операции "Концерт" в 1943 году, и требовалось время, чтобы подтянуть резервы и вооружения к линии фронта, ушедшей далеко на запад. Основной задачей советского командования на тот момент было избежать контрудара, и тем более в планы совершенно не входило бросать войска в котел на левом берегу Вислы", — поясняет Офицеров-Бельский.
Однако советское командование все-таки помогало. "В 2014 году Федеральное архивное агентство России опубликовало подборку документов, показывающих, что попытки помощи советской стороны восстанию были регулярными и существенными. С 24 сентября штаб 1-го Белорусского фронта находился на связи с главными очагами восстания. Координировались сбросы грузов, корректировался огонь артиллерии. Советские летчики совершили 4821 самолетовылет в район Варшавы, из них 2435 — на сброс грузов, 100 — на подавление гитлеровских ПВО, 1361 — на бомбометание и обстрел войск противника по просьбам повстанцев. Пилоты 925 вылетов имели задачу с воздуха прикрывать районы, занятые повстанцами, вести разведку в их интересах", — рассказал РИА Новости российский историк, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков.
Более того, соединения генерала Зыгмунта Берлинга (командующего 1-й армией просоветского Войска Польского в составе 1-го Белорусского фронта) предприняли попытку форсирования Вислы в сентябре 1944 года. Более трех тысяч солдат из этого десанта, желавшего спасти жизни жителей Варшавы, погибли из-за авантюры Лондона и эмигрантского польского правительства.
Однако историческая правда бизнесмену Трампу не нужна — ему нужно впечатление. И оно создано. "Польша пребывает в восторге, и в стране сравнивают речь Трампа с речью Иоанна Павла II во время его первого официального визита в Польшу", — говорит Дмитрий Офицеров-Бельский. Так что уедет он соврамши, но зато с улучшенным рейтингом.
Хроники Финтеха. Выпуск 29. В Фейсбуке — уже 2 000 000 000 блоггеров
Антон Арнаутов, директор АНО «Финтех Лаб»
Финтехи становятся банками, китайцы и за рубежом предпочитают мобильные платежи, mBank предоставляет банковскую платформу как сервис, и другие новости финтеха от «Финтех Лаб».
ФИНАНСОВЫЕ СЕРВИСЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Мобильные банковские транзакции должны удвоится в Великобритании к 2022, а число посещений физических отделений банка должно упасть в среднем до двух посещений в год. Аналитики обращают внимание на то, что посещения отделений не упадут до нуля, следовательно, отделения продолжат играть существенную роль. В мобильных платежах в пять раз должна вырасти доля тех, кто сегодня предпочитает отделения, — пожилых людей и клиентов с низким доходом.
Finextra, 28.06.2017
Банк Chase (США) в партнерстве с GE проводит кампанию по сокращению затрат на электричество в отделениях банка. Система будет включать в себя ПО, сенсоры, управляемые выключатели. Экономия должна составить до 15%. Также будет проведен эксперимент по установке солнечных батарей в отделениях банка в Калифорнии.
Finextra, 29.06.2017
Число пользователей Facebook достигло 2 млрд. человек, оно выросло вдвое с 2012 г. Доля пользователей Facebook из США, Канады и Европы снизилась за три года с 38% до 30%.
PYMNTS, 28.06.2017
Польский mBank получил лицензию на предоставление своей банковской технологии как сервиса. В лицензию на модель банкинга от mBank входят электронная платформа, продукты, процессы и ноу-хау в продажах. Первым покупателем лицензии стал французский La Banque Postale.
Finextra, 26.06.2017
Израильский Bank Leumi запустил отдельный мобильный банк с собственным брендом, который получил название Pepper. Клиенты мобильного банка смогут пользоваться онлайн практически всем комплексом банковских услуг — от платежей и переводов до кредитов и депозитов. В Pepper используются технологии искусственного интеллекта для мониторинга финансового поведения клиентов. Поддержка будет доступна в видео чате, мессенджере или по телефону.
Finextra, 27.06.2017
Сингапур меняет банковское регулирование, чтобы банки смогли заниматься нефинансовыми видами бизнеса, такими как электронная коммерция. Теперь банки получат право заниматься теми видами бизнеса, которые расцениваются как дополняющие их основной бизнес, либо инвестировать в них. Например, банки теперь смогут выступать операторами платформ — маркетплейсов, которые будут соединять продавцов и покупателей в различных сферах бизнеса.
Finextra, 28.06.2017
В придачу к ипотечному кредиту клиенты будут целый месяц получать от финтех стартапа SoFi (США) к завтраку тосты с авокадо, столь популярные среди американских миллениалов.
BankInnovation, 30.06.2017
Руководители IBM выступили с рядом заявлений, в которых они пытаются развеять страхи по поводу угроз, якобы исходящих от технологий искусственного интеллекта. В компании считают, что, напротив, катастрофой стало бы игнорирование этих технологий. IBM призывает правительства сконцентрироваться на подготовке трудовых ресурсов с квалификацией, которая позволила бы сотрудничать с ИИ.
PYMNTS, 28.06.2017
Одна из крупнейших финтех компаний Европы Adyen (Голландия) получила общеевропейскую банковскую лицензию. Adyen является крупнейшим провайдером платежей в онлайне, она обслуживает 9 из 10 ведущих компаний в е-коммерсе, таких как Airbnb, Booking.com, Spotify и Facebook. Компания заявляет, что банковская лицензия нужна ей для обслуживания платежей, в том числе — трансграничных. Не так давно лицензию получила другая известная европейская финтех компания Klarna.
Reuters, 26.06.2017
Один из ведущих китайских экспертов в области искусственного интеллекта Кай-Фу Ли (Kai-Fu Lee) заявил, что Китай и США также могут пострадать от сокращения рабочих мест в результате распространения технологий искусственного интеллекта. Но, по мнению эксперта, поскольку две страны являются лидерами в области ИИ, они станут главными бенефициарами новой технологической революции, которая может превратить Америку и США в супердержавы в области искусственного интеллекта.
MIT Technology Review, 27.06.2017
API
Mastercard представил очередной набор API для внешних разработчиков. В новые API входят доступ к сервису платежей через QR код и доступ к платежам в чатботе. Теперь платформа API от Mastercard включает более сорока продуктов и сервисов.
Financial IT, 28.06.2017
ПЛАТЕЖИ
Общая сумма платежей в британской системе моментальных платежей CHAPS выросла в 2016 г. на 10,5% и достигла 75,6 триллионов фунтов стерлингов. Число транзакций составило 39 млн. Рост был обеспечен за счет перевода платежей из международных платежных систем во внутреннюю систему.
Finextra, 28.06.2017
Голландский ABN Amro создал носимое платежное устройство в виде ювелирного кольца.
PYMNTS, 26.06.2017
Англиканская церковь Великобритании объявила о планах по тестированию бесконтактной технологии платежей для сбора пожертвований. Этим летом ручными терминалами для пожертвований будут оборудованы 40 церквей, в следующем терминалы должны появится во всех английских церквях. Необходимость применения бесконтактных терминалов вызвана тем, что молодые прихожане часто не имеют с собой наличных денег.
Finextra, 26.06.2017
Число китайских туристов, побывавших за рубежом достигло в 2016 г. 122 млн. человек. В своих путешествиях китайские туристы потратили 109,8 млрд. долларов. Предпочтительным методом оплаты для китайских туристов являются мобильные платежи - Alipay или WeChat Pay. Китайцы предпочитают мобильные платежи при покупке одежды, косметики, еды и напитков, оплаты отелей и т.д.
ThePaypers, 30.06.2017
БЕЗОПАСНОСТЬ
Британский парламент подвергся интенсивной атаке, целью которой стал поиск слабого пароля для электронной почты. Для предотвращения атаки служба безопасности парламента вынуждена была полностью закрыть удаленный доступ к информационным системам, в том числе — к электронной почте.
PYMNTS, 26.06.2017
РЕГУЛИРОВАНИЕ
В Вашингтоне собираются ограничить китайские инвестиции в США. И администрация президента Трампа, и законодатели обеспокоены потенциальной угрозой для национальной безопасности, которую создают китайские инвестиции в американские технологические компании. В 2016 г. инвестиции Китая в США утроились по сравнению с предыдущим годом и составили 46 млрд. долларов. В этом году свою озабоченность по поводу китайских инвестиций в экономику США уже выражал Пентагон.
New York Times, 29.06.2017
БЛОКЧЕЙН
Семь крупных европейских банков (Deutsche Bank, HSBC, Natixis, Rabobank, Societe Generale и Unicredit) создают блокчейн консорциум для изучения возможностей использования блокчейн для работы с СМБ, в частности для внутренних и трансграничных платежей малых предприятий. Консорциум будет использовать для своей платформы облачную блокчейн технологию от IBM.
PYMNTS, 29.06.2017
Компания LG заявила, что увеличит свои инвестиции в финансово-информационные технологии, в том числе – в блокчейн. LG представило блокчейн платформу для финансовых сервисов, основывающуюся на технологическом решении Corda блокчейн консорциума R3. В компании планируют создать в этом году цифровой финансовый центр, численность сотрудников которого должна составить к 2018 г. 200 человек.
Business Korea, 28.06.2017
Народный банк Китая открыл новую исследовательскую лабораторию в области технологии блокчейна. Сейчас ведется подбор персонала в лабораторию на вакансии, связанные с разработкой цифровых валют и электронными деньгами.
Coindesk, 30.06.2017
Немецкий автопроизводитель Daimler AG провел первое тестовое размещение корпоративного бонда на 100 млн. евро в рамках пилотного блокчейн проекта. В проекте участвовала самая большая банковская группа Германии Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), а также тр сберегательных банка.
Coindesk, 28.06.2017
СТАРТАПЫ
В Гонконге создана Ассоциация Финтеха. Ассоциация представляет собой общественное некоммерческое объединение участников рынка. В рамках Ассоциации будут сформированы тематические комитеты по наиболее актуальным областям финтеха: блокчейну, Большим данным, платежам, регтеху и финансовой грамотности.
Finextra, 28.06.2017
В Ирландии создан фонд в 500 000 евро для привлечения в страну 10 стартап проектов, каждый из которых получит инвестиции в 50 000 евро, офисное пространство и нематериальную поддержку по развитию бизнеса.
Finextra, 30.06.2017
В Европе создана Ассоциация регтеха, в которую вошли компании/стартапы из разных стран, работающие в этой области финтеха. Ассоциация зарегистрирована в Швейцарии.
Finextra, 29.06.2017
Биржа Deutsche Börse создала финтех хаб во Франкфурте. Хаб находится в центре города, он включает в себя коворкинг, офисное пространство и зал для проведения ивентов, общая площадь офиса – 450 кв.м. При Deutsche Börse действует сеть стартапов Deutsche Börse Venture Network, которая включает в себя более 400 участников из разных стран Европы.
Fintech Ranking, 29.06.2017
Трамп хочет изменить европейский энергорынок.
Саммит «Инициативы трех морей», который проходит в Варшаве, может изменить ситуацию на энергетическом рынке.
Президент США Дональд Трамп считает, что саммит «Инициативы трех морей», который проходит в Варшаве, может изменить ситуацию на энергетическом рынке.
«Мы используем эту историческую встречу для того, чтобы дать ход новому будущему - открытому, справедливому и доступному энергетическому рынку, который привнесет благополучие и безопасность всем нашим гражданам. Мы (США) обладаем значительными энергетическими запасами и являемся экспортерами энергоресурсов», – сказал сегодня президент США Дональд Трамп на этом саммите, пошутив, что «если вам (европейцам) будет нужна энергия, вы лишь позвоните нам».
«Мы поддерживаем ваше стремление к большему благополучию и безопасности. Мы ценим ваши инициативы по расширению инфраструктуры, мы это приветствуем – это возможность для углубления экономического сотрудничества с вашим регионом, – отметил президент США. – Инициатива трех морей» изменит и перестроит весь регион и обеспечит соответствие вашей инфраструктуры европейской и само собой западной», – подчеркнул Трамп.
«Инициатива трех морей» (Балтика-Адриатика-Черное море) объединяет 12 государств Центральной и Восточной Европы.
Дуда: Польша решила стать газовым хабом.
Вопрос обсуждался в ходе переговоров Дональда Трампа и президента Польши Анджея Дуда.
Страна может стать хабом для доставки сжиженного природного газа из США, этот вопрос обсуждался в ходе сегодняшних переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, заявил президент Польши Анджей Дуда на пресс-конференции в Варшаве.
«Отвечая на вопрос о том, можем ли мы стать хабом, через который СПГ из США поступал бы в страны Центрально-Восточной Европы, я уверен, что да. Я уверен, что так, и мы об этом сегодня разговаривали», – сказал он.
В апреле текущего года Польша подписала контракт на разовую поставку из США сжиженного природного газа, объемы контракта не уточнялись.
Польша ежегодно потребляет около 15 млрд кубометров газа, из которых 10 млрд поставляет «Газпром». В 2015 году на северо-западе Польши в городе Свиноуйсьце был запущен СПГ-терминал мощностью 5 млрд кубометров в год. В июне 2016 года правительство Польши озвучивало планы, в соответствии с которыми СПГ-терминал в Свиноуйсьце, а также газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит Польше независимость от поставок газа «с востока» до 2022 года.
Польша о танке нового поколения и российской угрозе.
После вторжения России на территорию Украины в 2014 году восточные страны НАТО стали уделять больше внимания своей обороне, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (4 июля).
В частности, Польша объявила о планах увеличения военных расходов с 2% ВВП сегодня до 2,5% к 2030 году, заявил заместитель министра обороны этой страны Томаш Сатковски (Tomasz Szatkowski). Польша продолжает реализацию программ по закупке систем ПРО, высокоточных боеприпасов, самоходной артиллерии и ракет. Сатковски также сообщил, что Варшава думает о танке нового поколения как о возможном совместном проекте с европейскими союзниками по НАТО. По его словам, данный проект, если он начнет реализовываться, должен быть сбалансированным и учитывать все возможности для промышленного сотрудничества.
Польша уделят большое внимание развитию потенциала своей ударной и транспортной вертолетной авиации, беспилотных систем, где также во главу угла ставится широкая вовлеченность польской оборонной промышленности.
На вопрос издания Defense News, считает ли он достаточным количество американских войск на восточном фланге НАТО для предотвращения российской агрессии, Сатковски заявил, что это присутствие достаточно для послания согнала Москве, но недостаточно "для количественного баланса". По его мнению, по-прежнему наблюдается дисбаланс сил альянса на восточных рубежах. Когда Путин пришел к власти в 2000 году Россия начала увеличивать военные расходы. 10 лет назад началась крупномасштабное перевооружение российских войск, хотя и не обошлось без издержек и задержек. Сейчас эта страна готовится провести крупные учения "Запад", которые "иногда создают условия для агрессивных действий". Мы контролируем ситуацию вместе с союзниками, заявил Сатковски.
На вопрос, улучшатся ли отношения с Россией в ближайшие годы, польский замминистра обороны ответил, что на это очень мало шансов. Экспансионизм всегда был частью российской политики на протяжении веков, он также служит способом решения некоторых внутренних проблем, и мы это хорошо знаем, заявил польский чиновник.
В Воронежской области появится завод компании Bionorica SE
В середине июля будет запущено строительство завода компании Bionorica SE в Воронежской области. Об этом сообщил глава департамента экономического развития Воронежской области Анатолий Букреев, пишут «Известия».
Предполагается, что проектная мощность производства составит 120 млн блистеров в год с увеличением к 2020 году до 200 млн блистеров. Планируемый срок запуска объекта — 2018 год, объем инвестиций составит порядка 2,5 млрд руб. Открытие фармпредприятия позволит создать 116 новых рабочих мест, а к 2020 году это количество вырастет до 189 мест.
Bionorica SE — ведущая фармацевтическая компания по производству фитопрепаратов, основанная в 1933 году. Ее представительства открыты в Германии, Австрии, Испании, США, Китае, Польше, Великобритании, в России и на Украине.
В Париже представили заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025»
Торговый представитель России во Франции Александр Туров принял участие в заседании 161-ой сессии Генеральной ассамблеи Международного бюро выставок (МБВ) в Париже в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития. Он стал одним из официальных делегатов МБВ от Российской Федерации и принял участие в голосовании для принятия решения, какая из трех стран, желающих провести на своей территории выставку в 2022/2023 годах, будет продолжать конкурсную гонку. Среди стран-претендентов: Польша «Лодзь - 2022», США «Минеаполис - 2023», Аргентина «Буэнос Айрэс - 2023». В результате голосования 89 присутствующих стран-членов МБВ приняли решение оставить все три страны-претендента для продолжения гонки, несмотря на то, что Генеральный секретариат МБВ дал отрицательное заключение для Минеаполиса.
Кроме того, российская делегация официально представила заявку города Екатеринбурга на проведение Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2025». Во время презентации свердловская делегация сделала акцент на том, что Екатеринбург принимал саммиты ШОС и БРИКС, Россия - ЕС, крупные культурные и спортивные события. В этом году столица Урала примет Первый всемирный конгресс для людей с ограниченными возможностями здоровья, а в 2018 году - матчи Чемпионата мира по футболу.
«Презентация прошла ярко и была встречена с большим интересом», - рассказал Александр Туров. Он отметил, что Екатеринбург уже имеет опыт участия в борьбе за право проведения Всемирной универсальной выставки - ранее уральская столица претендовала на проведение ЭКСПО-2020.
Нынешняя презентация - лишь первый этап продолжительного процесса рассмотрения заявок в структурах МБВ. «Сейчас будет составляться досье, и эксперты МБВ займутся всесторонним анализом выдвинутых кандидатур. Нас ждет период интенсивной работы. Окончательное решение о столице ЭКСПО-2025 будет принято на ассамблее МБВ в Париже в ноябре 2018 года», - добавил торгпред.
В ближайшее время будет сформирован заявочный комитет, который займется продвижением Екатеринбурга в качестве кандидата на право поведения ЭКСПО-2025.
Помимо Екатеринбурга на проведение выставки ЭКСПО-2025 претендуют Франция (Большой Париж), Япония (Осака) и Азербайджан (Баку). Планируется, что ЭКСПО-2025 будет проходить со 2 мая по 2 ноября 2025 года.
Всемирные универсальные выставки проводятся один раз в пять лет. Предыдущая ЭКСПО-2015 проходила в Италии (Милан), следующая выставка пройдет с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Дубае (ОАЭ). Екатеринбург в 2013 году также претендовал на проведение ЭКСПО-2020, однако занял второе место, уступив Дубаю.
Представитель Минприроды России потребовал от компании «Норд стрим 2 АГ» учесть все замечания и требования защитников Кургальского заказника на слушаниях по проекту «Северный поток 2».
В Кингисеппе в Ленинградской области прошли общественные слушания по проекту газопровода «Северный поток 2».
Представители компании «Норд стрим 2 АГ» и их эксперты ещё раз попытались доказать, что выбранный ими маршрут через Нарвский залив Кургальского заказника экологичнее и безопаснее остальных, а материалы, представленные на слушания, соответствуют российским и международным требованиям. Эксперты и представители общественности опровергли эти заявления.
Разработчики проекта газопровода уверяли, что вариант прохождения через Нарвский залив лучше, потому что он более короткий, а значит, будет меньше проблем со строительством: «при таком варианте более удобные условия на дне — требуется меньше дноуглубительных работ; меньшие риски аварий».
Представители Ботанического института, «Мониторинга Балтийской трубопроводной системы», Балтийского Фонда Природы, «Биологов за охрану природы» и коалиции «Чистая Балтика» изучили представленные материалы и установили, что в них представлено неполное и недостоверное описание природных комплексов и объектов, которые могут пострадать от строительства. Недостоверно и описание возможных видов воздействия строительства на окружающую среду.
Такой подход к составлению документации не соответствует требованиям Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Многие данные, а, следовательно, и выводы, содержащиеся в проектных материалах «Норд стрим 2 АГ», не соответствуют действительности.
К примеру, участки Кургальского заказника, где «Норд Стрим 2 АГ» планирует проложить трубу «Северного потока 2», официально признаны авторами комплексного экологического обследования заказника (МКЭО) особо ценными природными комплексами. Труба пройдёт через болото Кадер и другие места обитания редких видов растений и животных. В зоне влияния газопровода обитают растения почти ста видов, занесённых в Красные книги России и Ленинградской области (семь видов обнаружено непосредственно в полосе отвода газопровода), 59 видов редких видов птиц.
В проектных материалах «Норд стрим 2 АГ» содержится утверждение, что маршрут «Нарвский залив» окажет воздействие на меньшее число важных экосистем и сообществ» чем в случае прохождения по альтернативному маршруту через заказник «Котельский» и мыс Колганпя. В частности, говорится, что будет нанесён меньший ущерб редким видам тюленей.
На самом деле трасса газопровода по варианту через Нарвский залив проложена в трёх километрах от острова Малый Тютерс, где есть лёжки нерпы и серого тюленя. В материалах компании «Норд стрим 2 АГ» не указано, что редчайшая балтийская нерпа размножается в Нарвском заливе. Здесь в 2014 году нашли её «щенную нору». Это было обнаружено в рамках научной работы, которую поддерживала компания.
В работе «Авиаучет балтийской кольчатой нерпы (Pusa hispida botnica) в российской акватории Финского залива» сказано: «за последние десять лет популяция уменьшилась почти в три раза и приблизилась к критически низкому уровню. Из-за того, что в заливе обитает изолированная популяция нерпы, возникла реальная угроза исчезновения балтийского подвида из отечественной фауны». Один из авторов публикации — Михаил Веревкин — готовил материалы для компании «Норд Стрим 2 АГ».
«Компания обходит вниманием тот факт, что строительство газопровода запрещено режимом Кургальского заказника. Компания не учитывает то, что вся его территория является водно-болотным угодьем международного значения, подпадающим под действие Рамсарской конвенции», — говорит руководитель программы Гринпис России по особо охраняемым природным территориям Михаил Крейндлин.
Опираясь на эти факты, выступавшие на слушаниях учёные и экологические активисты доказали, что выбранный вариант маршрута газопровода не имеет обоснования. «Норд Стрим 2 АГ» опиралась на недостоверные данные, поэтому в апреле Минприроды России направило участвующим в проекте странам — Дании, Германии, Латвии, Литве, Польше, Эстонии, Швеции и Финляндии — документацию для проведения слушаний, которая не соответствует требованиям Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте.
Гринпис России, другие общественные организации, независимые специалисты требуют изменения маршрута трассы газопровода. К этому требованию уже присоединилось более 33 000 граждан России, которые направили соответствующие обращения в Минприроды России и компанию «Норд Стрим 2 АГ».
Об участии ФГБУ «ВНИИКР» в заседании Рабочей группы ЕОКЗР по фитосанитарным регламентациям.
В июне 2017 года в г. Гданьск (Польша) состоялось 55-е заседание Рабочей группы Европейской и Средиземноморской организации по карантину и защите растений (ЕОКЗР) по фитосанитарным регламентациям.
В заседании приняли участие представители стран региона, Еврокомиссии, МСХ США и НОКЗР Республики Польша.
Также в мерпориятии приняли участие представители подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений» (ФГБУ «ВНИИКР»).
На заседании были рассмотрены итоги деятельности организации за прошедший год и план работы на 2018 год и состоялось обсуждение результатов работы экспертных и рабочих групп ЕОКЗР, проведенных заседаний, семинаров и конференций.
Обсуждался отчет секретариата ЕОКЗР о результатах работы организации за год по основным направлениям: диагностике, анализу фитосанитарного риска и фитосанитарных мер, фитосанитарных процедур, инвазионных иноземных растений, биологическому методу защиты растений, лесному карантину, информационной службе. В отчете содержатся сведения о международных связях ЕОКЗР с другими международными и региональными организациями, в частности, с секретариатом Международной конвенции по карантину и защите растений (МККЗР), Европейским агентством по безопасности продовольствия (EFSA), Еврокомиссией (ЕС) и Евразийской комиссией (ЕАК). Большое внимание традиционно уделяется информации об исследовательских проектах: Q-bank (база данных фитосанитарной службы Голландии), DROPSA (вредители и патогены плодов), LIFE (инвазионные растения), XF-ACTORS (Xylellafastidiosa), Euphresco (координация научных исследований в регионе). Отдельно рассматривались результаты совместного проекта (ЕОКЗР и Еврокомиссия) по регулируемым некарантинным вредным организмам (РНВО), имеющего большое значение и для России. Особый интерес представляла презентация представителя Еврокомиссии по разработке нового фитосанитарного регламента Евросоюза.
В ходе заседания рассмотрены проекты стандартов серий РМ 3 (фитосанитарные инспекции), РМ 6 (безопасное использование агентов биологической борьбы), РМ 7 (диагностические протоколы), РМ 9 (национальные системы фитосанитарного контроля), РМ 10 (фитосанитарные обработки), рекомендуемые для утверждения после консультаций со странами-членами; спецификации для разработки новых стандартов; результаты анализов фитосанитарного риска, проведенных экспертными рабочими группами и национальными организациями по карантину и защите растений. Определены приоритетные для проведения оценки риска виды организмов: усач Радде Massicus raddei, вирус покраснения листьев винограда Grapevine red blotch-associated virus, вирус розеточности розы Rose rosette virus.
Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Польшу в среду вечером. Самолет американского лидера приземлился на военном аэродроме возле Варшавы.
Официальные мероприятия, связанные с визитом, состоятся в четверг. В пятницу утром начнется серия встреч Трампа с руководством Польши. Откроет это мероприятие церемония официального приветствия президентом Польши Анджеем Дудой, после чего состоится разговор президентов в формате (один на один), а после переговоры в составе делегаций.
Вслед за этим Трамп примет участие в саммите стран Трехморья, присутствие на котором подтвердили 10 руководителей стран Центральной Европы, Балтии и Балкан. Заключительным мероприятием визита станет выступление Трампа на площади Красиньских возле памятника Варшавского восстания.
Польские чиновники не скрывают, что один из главных вопросов, который они хотели бы поднять в ходе встреч с американским лидером, касается безопасности, в частности присутствия на территории страны войск НАТО и США.
В настоящее время на территории Польши в рамках двусторонних договоренностей присутствуют несколько тысяч американских солдат. Официальная Варшава надеется, что американский контингент останется надолго, заявляя, что таким образом гарантируется защита страны от "агрессии с востока".
Визит Трампа пройдет на фоне продолжающегося российско-польского газового спора. Польская нефтегазовая компания PGNiG подала в феврале 2016 года иск против компаний "Газпром" и "Газпром экспорт". Польская компания требует снижения цен на газ, реализуемый в Польше по контракту от 25 сентября 1996 года, и ожидает в ноябре решения суда в Стокгольме по данному иску.
Польское руководство в последнее время регулярно повторяет, что ищет варианты диверсификации поставок. Серьезная надежда при этом возлагается на сжиженный сланцевый газ из США. PGNiG даже заключила пробный контракт на поставку в Польшу одного танкера с газом.
По мнению министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского, "значением газового контракта с Соединенными Штатами была бы политическая стабильность". По его словам, одной из тем предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом будет энергетическое сотрудничество.
Несмотря на нередкое присутствие в Варшаве лидеров различных стран, нынешние меры безопасности, связанные с визитом Трампа, можно назвать беспрецедентными. С центральных улиц исчезли мусорные контейнеры и бетонные клумбы с цветами. Что касается контейнеров для мусора, то во многих домах их закатили внутрь дворов за несколько дней до визита Трампа, что вызывает недовольство жителей. Также на центральных улицах за несколько дней опечатали канализационные люки и входы в вентиляционные коммуникации.
В среду и четверг жители Варшавы вынуждены будут мириться с закрытыми улицами, запретами остановки автомобилей и изменениями маршрутов общественного транспорта.
МИД Украины вызывал посла Польши Яна Пекло в связи с высказыванием главы польского внешнеполитического ведомства Витольда Ващиковского про Степана Бандеру, сообщила в среду пресс-служба МИД.
Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wSieci заявил, что Украина не попадет в Евросоюз "с Бандерой". Глава польского МИД отметил, что экономическое сотрудничество Польши с Украиной выглядит не очень хорошо, но "хуже всего, конечно, в вопросах исторических". При этом Ващиковский добавил, что не видит большой воли украинского руководства решить насущные проблемы страны.
"Пятого июля 2017 года посол Польши на Украине Ян Пекло был приглашен в МИД Украины в связи с высказываниями министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского по Украине в интервью еженедельника wSieci, — говорится в комментарии МИД, опубликованном на сайте ведомства.
Как отмечается, МИД обратил внимание посла на необходимость более сдержанного подхода Ващиковского к историческим вопросам. "Со стороны МИД Украины была подтверждена готовность к дальнейшему развитию равноправного и конструктивного взаимодействия с Польшей в духе взаимного понимания и уважения", — добавили в украинском ведомстве.
Степан Бандера (1909-1959) был лидером ОУН, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии* (УПА*, запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Украинский президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* (запрещена в РФ) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.
Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Радикальной партии", сын руководителя запрещенной в РФ "Организации украинских националистов – Украинской повстанческой армии"* (ОУН-УПА*) Юрий Шухевич заявил, что поляки не вправе указывать Украине, кто является ее героями.
Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wSieci заявил, что Украина не попадет в Евросоюз "с Бандерой" (Степан Бандера был лидером ОУН*). Глава польского МИД отметил, что экономическое сотрудничество Польши с Украиной выглядит не очень хорошо, но "хуже всего, конечно, в вопросах исторических". При этом глава польского МИД добавил, что не видит большой воли украинского руководства решить насущные проблемы страны.
"Зачем такие партнеры? Они такие партнеры, которые хотят, чтобы мы танцевали под их дудку. В конце концов, кто такие поляки, должны нам определять, кто для нас герой, а кто не герой, кто заслужил перед Украиной, а кто не заслужил?" – цитирует слова Шухевича сайт украинского телеканала "Эспрессо".
Он считает, что Украине следует перестать "боятся" подобных заявлений в свой адрес. "Выход? Знаете что? Я бы плюнул полякам в морду, и вся ситуация. Потому что из-за того, что мы прогибается перед каждым голодранцем, то мы так и выглядим. А что в Москве скажут, а в Варшаве скажут, а в Берлине скажут, а в Брюсселе скажут? В конце концов, а в Киеве, что скажут? А в Киеве ничего не будут говорить, потому что боятся, как испуганная мышь, которая не знает, куда броситься", — заявил Шухевич.
Степан Бандера (1909-1959) был лидером ОУН*, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА*, запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Украинский президент Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА (запрещена в РФ) статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии.
Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* (запрещена в РФ) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Польша работает над долгосрочным контрактом на поставку СПГ из США.
На переговорах польского президента с Трампом будет обсуждаться вопрос энергетической безопасности.
В Варшаву прибывает президент США Дональд Трамп. По словам главы Польши Анджея Дуды, на переговорах с Трампом будет обсуждаться «вопрос энергетической безопасности, а также будущий контракт с каким-то субъектом из США, с поставщиком газа LNG».
«Первая поставка уже была проведена, и это имело такой характер теста. Она дошла, была доведена до нашего терминала LNG, так что это возможно, и в данный момент ведутся действия, направленные на то, чтобы долгосрочный контракт был заключен», — сказал он.
Недавно Польша закупила в Соединенных Штатах первый пробный танкер со сжиженным газом. Корабль уже прибыл на польский газовый терминал.

До основания, а затем…
Алексей Арбатов
Устарел ли контроль над ядерными вооружениями?
Алексей Арбатов – академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской Академии наук, в прошлом участник переговоров по Договору СНВ-1 (1990 г.), заместитель председателя Комитета по обороне Государственной думы (1994–2003 гг.).
Резюме Если откажемся от наработанных за полвека норм и инструментов контроля над ядерным оружием, останемся у разбитого корыта. Необходимо срочно спасать эту сложную и бесценную конструкцию и, опираясь на такой фундамент, продуманно ее совершенствовать.
Противостояние России и Запада и начало нового цикла гонки вооружений вернули проблемы ядерного оружия на авансцену мировой политики после двадцати лет забвения. Администрация Дональда Трампа не считает приоритетом прогресс в контроле над ядерным оружием, что по идее должно послужить стимулом для Москвы к существенному пересмотру курса в данной области. Но в какую сторону? Этот вопрос остается открытым.
Ядерный романтизм в консервативную эпоху
На Валдайском форуме в октябре 2016 г. президент России Владимир Путин заявил: «Ядерное оружие является фактором сдерживания и фактором обеспечения мира и безопасности во всем мире», его нельзя «рассматривать как фактор какой бы то ни было потенциальной агрессии». Следует отметить, что столь положительная и в чем-то даже романтическая оценка роли ядерного оружия высказывается у нас на самом высоком государственном уровне впервые – такого не было ни во времена СССР, ни в демократической России.
Впрочем, многое зависит от интерпретации. Если эти слова – пожелание того, как должно быть, пока ядерное оружие существует в качестве объективной реальности, на это нечего возразить. Возможно, имелось в виду, что ядерное оружие должно быть предназначено только для ответного удара, и этой возможностью следует сдерживать агрессора от нападения («фактор сдерживания»). И что его недопустимо применять в первом ударе («как фактор потенциальной агрессии»). В таком случае мы имеем дело с одним из вариантов формулировки концепции стратегической стабильности как состояния стратегических взаимоотношений сторон, при котором сводится к минимуму вероятность ядерной войны, во всяком случае – между двумя сверхдержавами.
Однако если приведенное высказывание отражает представление о существующем порядке вещей, то с ним нельзя согласиться без существенных оговорок.
Фактор агрессии или ее сдерживания?
Первая оговорка состоит в том, что все девять нынешних государств, имеющих ядерное оружие, в своих официальных военных доктринах или по умолчанию допускают применение его первыми.
До недавнего времени КНР и Индия были единственными двумя странами, принявшими обязательство о неприменении ядерного оружия первыми. Но в Китае идет дискуссия об отказе от этого принципа ввиду растущей возможности США поражать китайские ядерные средства высокоточными неядерными системами большой дальности. А Индия, судя по всему, изменила свое прежнее обязательство, заявив, что оно распространяется только на неядерные государства, и это сближает ее стратегию с доктринами России и Соединенных Штатов.
Американские союзники по НАТО – Великобритания и Франция – всегда доктринально допускали применение ядерного оружия первыми, хотя их ядерные силы в сокращенном составе технически более всего соответствуют концепции сугубо ответного удара, во всяком случае в отношении России (а до того – СССР).
Пакистан открыто и безоговорочно придерживается концепции первого применения ядерного оружия (как оперативно-тактического, так и средней дальности) против Индии, имеющей большое превосходство по силам общего назначения.
Израиль не признает и не отрицает наличия у него ядерного оружия. Но ввиду специфики его геополитического окружения ни у кого нет сомнений, что Тель-Авив негласно придерживается концепции первого ядерного удара.
У Северной Кореи вместо доктрины – идеологические декларации с угрозами применения ядерного оружия. В свете малочисленности и уязвимости ее ядерных средств в противоборстве с ядерной сверхдержавой в лице США первый удар – единственный способ применить ядерное оружие (и после этого погибнуть).
Тем более сказанное выше относится к двум ведущим ядерным державам. Российская официальная военная доктрина недвусмысленно предусматривает не только ответный ядерный удар (в качестве реакции на нападение на РФ и ее союзников с использованием ядерного и других видов оружия массового уничтожения, ОМУ), но также и первый ядерный удар: «Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие… в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». В таком случае ядерный удар будет иметь целью «нанесение неприемлемого ущерба агрессору в любых условиях обстановки».
В военной политике Соединенных Штатов тоже всегда допускалась возможность использования ядерного оружия первыми, как гласит американская ядерная доктрина от 2010 г., «для узкого набора сценариев». Обеспечивая гарантии безопасности союзникам в Европе и Азии, США имеют варианты ядерного ответа на нападение на них с использованием обычного оружия или других видов ОМУ и потому «не готовы в настоящее время принять безоговорочную политику сдерживания ядерного нападения как единственного предназначения ядерного оружия…».
Таким образом, Россия, Соединенные Штаты и другие государства, обладающие ядерным оружием, допускают, помимо ответного удара, те или иные варианты применения ядерного оружия первыми (т.е. как «фактор агрессии»). Такие варианты включены в их понимание ядерного сдерживания (т.е. «фактора обеспечения мира и безопасности во всем мире»). Объясняется этот доктринальный симбиоз тем, что все они без исключения считают «фактором агрессии» только первый ядерный удар вероятного противника. А сами намерены применить ядерное оружие первыми исключительно в ответ на агрессию с использованием других видов ОМУ или обычных вооружений.
В связи с этим следует подчеркнуть, что исторически во многих войнах, особенно после 1945 г., каждая сторона считала, что, даже ведя наступательные операции, она обороняется, отражая реальную или неминуемо грозящую агрессию. Это влекло за собой или могло повлечь эскалацию конфликта. Карибский ракетный кризис октября 1962 г. наглядно продемонстрировал возможность ядерной войны из-за потери контроля над событиями, а не в результате спланированной агрессии. Несколько раз чистое везение спасало мир от ядерной катастрофы, хотя тогда уже существовало взаимное ядерное сдерживание (пусть асимметричное) и ни одна из сторон не хотела прямого конфликта.
Похожие, хотя и не столь опасные ситуации эскалации взаимных оборонительных действий имели место во время берлинского кризиса 1961 г., в ходе вьетнамской (1964–1972 гг.), афганской (1979–1989 гг.) и первой иракской войн (1990 г.). То же можно сказать о четырех ближневосточных войнах (1957, 1967, 1973 и 1983 гг.), фолклендском конфликте (1982 г.), индо-пакистанской и ирано-иракской войнах (1971 и 1980–1988 гг.) и ряде других событий такого рода. Причем некоторым из них сопутствовали открытые угрозы применения ядерного оружия и повышение уровней его готовности ведущими государствами.
Нынешняя конфронтация России и НАТО в Европе, многосторонний характер кризисов на Ближнем Востоке в сочетании с развитием новейших ядерных и обычных высокоточных вооружений и изощренных информационно-управляющих систем порождают угрозу быстрой непреднамеренной эскалации обычного (даже локального) конфликта между великими державами к ядерной войне. Эта угроза усугубляется «новаторскими» концепциями применения ядерного оружия в стратегиях ведущих государств.
Опасные новации
Во времена прошлой холодной войны вероятность быстрой (и даже изначальной) эскалации крупного вооруженного конфликта в Европе к применению ядерного оружия со стороны НАТО и Варшавского договора принималась как данность (а на континенте было развернуто в общей сложности до 17 тыс. единиц тактических ядерных средств). После окончания холодной войны тактические ядерные силы сторон были многократно сокращены, а апокалипсические сценарии были на четверть века забыты.
Но кризис вокруг Украины и наращивание вооруженных сил по обе стороны новых границ между Россией и НАТО вернули прежние страхи в европейскую политику. Масштабные военные учения сторон стали регулярно проводиться с имитацией применения тактических ядерных средств. Оружие такого класса в количестве нескольких сотен единиц все еще размещено вместе с силами общего назначения на передовых базах России и в американских хранилищах на территории стран НАТО.
Однако есть и новшества, чреватые не меньшей опасностью: концепции избирательного применения стратегических ядерных вооружений. Соединенные Штаты с начала 1960-х гг. экспериментировали со стратегией контрсиловых ядерных ударов – поражения стратегических сил и других военных объектов СССР, избегая разрушения городов (во всяком случае, на первых этапах войны). Но все эти планы разбивались о вероятность массированного ядерного ответа другой стороны.
Перемены начались много лет спустя: в 2003 г. в официальных российских документах появились планы «деэскалации агрессии... угрозой нанесения или непосредственно осуществлением ударов различного масштаба с использованием обычных и/или ядерных средств поражения». Причем предполагалась возможность «дозированного боевого применения отдельных компонентов Стратегических сил сдерживания».
С тех пор издания военной доктрины РФ не упоминали подобных концепций, и на время они ушли в тень. Но в условиях нынешнего обострения напряженности в профессиональную печать стали периодически просачиваться сходные идеи, возможно, отражая закрытые стратегические изыскания уполномоченных организаций. Можно в связи с этим предположить, что в России, США (и, видимо, в КНР) прорабатываются концепции избирательного применения стратегического ядерного оружия.
Например, военные профессионалы из закрытых институтов Минобороны РФ подчеркивают «…ограниченный характер первого ядерного воздействия, которое призвано не ожесточить, а отрезвить агрессора, заставить его прекратить нападение и перейти к переговорам. При отсутствии желательной реакции предусматривается нарастающее массирование использования ядерного оружия как в количественном отношении, так и по энерговыделению. Поэтому… первое ядерное воздействие Российской Федерации может носить ограниченный характер. Реакция противника просчитывается в форме как массированного, так и ограниченного ядерного удара. Более вероятным, на наш взгляд, можно считать второй вариант. В его пользу говорит тот факт, что США являются страной, где родилась концепция ограниченной ядерной войны». В качестве возможных средств таких действий рассматриваются, в частности, новые тяжелые наземные ракеты шахтного базирования типа «Сармат», поскольку уязвимость пусковых установок не позволяет полагаться на них для осуществления ответного удара в случае массированной контрсиловой атаки США.
Судя по всему, и Соединенные Штаты, в свою очередь, реанимируют концепции ограниченной стратегической ядерной войны в виде «подогнанных (tailored) ядерных опций». Как оружие таких ударов обсуждаются, например, перспективные ядерные авиационные крылатые ракеты большой дальности (LRSO – long-range stand-off missile) и управляемые авиабомбы с вариативной мощностью заряда (В-61-12).
Чаще всего в России подобные избирательные удары предлагаются как ответ на массированную неядерную «воздушно-космическую агрессию» США и НАТО (вроде многократно расширенного варианта налетов на Югославию, Афганистан или Ирак). А в США такие «опции» прорабатываются как реакция на ограниченное «ядерное воздействие» со стороны России (а также имея в виду Китай). В реальности Соединенные Штаты не имеют ни планов, ни достаточных средств для неядерной «воздушно-космической агрессии» против России, особенно если речь идет об ударе по ее стратегическим ракетным силам. Эти сценарии существуют в воображении российских стратегов. Однако взаимная разработка планов избирательных стратегических ударов угрожает молниеносно перевести на глобальный уровень любое локальное (и даже случайное) вооруженное столкновение двух сверхдержав.
Хотелось бы спросить авторов российской концепции: почему они думают, что Соединенные Штаты в ходе обмена ограниченными ударами, в конце концов, первыми дадут «задний ход»? Видимо, подсознательно здесь присутствует стереотип: в США живут богаче и ценят жизнь выше, а патриотизм – ниже, чем в России. Возможно, применительно к большой и долгой обычной войне это не лишено оснований (достаточно сравнить отношение общества двух стран к войнам во Вьетнаме и Афганистане). Однако упускается из вида, что ядерное оружие и в этом смысле является «великим уравнителем»: и богатым, и бедным одинаково не хочется, чтобы они сами, их дети и внуки превратились в «радиоактивную пыль». Во всяком случае, исторический опыт кризисов холодной войны не подтверждает представления о трусливости американцев, а с тех пор уровень жизни в России и на Западе стал менее контрастным.
Сопутствующая идея, набирающая ныне обороты, состоит в том, что после большого сокращения ядерных арсеналов за прошедшие четверть века ядерная война снова стала возможна и не повлечет глобальной катастрофы. Вот один из образчиков такого прогнозирования: «Решившись на контрсиловой превентивный удар по России… США имеют основания рассчитывать на успех… В итоге до 90 процентов российского ядерного потенциала уничтожается до старта. А суммарная мощность ядерных взрывов составит около 50–60 мегатонн… Гибель миллионов американцев, потеря экономического потенциала будут перенесены относительно легко. Это умеренная плата за мировое господство, которое обретут заокеанская или транснациональная элиты, уничтожив Россию…» В качестве спасительной меры, утверждает автор, создание 40–50 «боеприпасов (в 100 МТ) в качестве боеголовок для тяжелых МБР или сверхдальних торпед гарантирует доведение до критически опасных геофизических зон на территории США (Йеллоустонский супервулкан, разломы тихоокеанского побережья США)... Они гарантированно уничтожат США как государство и практически всю транснациональную элиту».
Можно было бы отмахнуться от таких идей как не составляющих предмет стратегического анализа и требующих услуг специалистов другого профиля, но не все так просто. Их автор (Константин Сивков) много лет служил в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ и принимал участие в разработке военно-доктринальных документов государства. В других работах этого специалиста, как и в публикациях упомянутых выше экспертов, вопреки официальной линии Москвы, приводятся вполне убедительные расчеты невозможности массированного поражения не только российских ракетных шахт, но и значительной части промышленности высокоточным неядерным оружием. Также следует напомнить, как пару лет назад один из центральных каналов российского телевидения в репортаже о заседании военно-политического руководства самого высокого уровня как бы «случайно» показал картинку именно такой суперторпеды, вызвав немалый ажиотаж на Западе.
Приведенные примеры не позволяют безоговорочно принять тезис известного российского политолога Сергея Караганова: «Наличие ядерного оружия с имманентно присущей ему теоретической способностью уничтожения стран и континентов, если не всего человечества, изменяло мышление, “цивилизовало”, делало более ответственными правящие элиты ядерных держав. Из этих элит вымывались или не подпускались к сферам, связанным с национальной безопасностью, люди и политические группы, взгляды которых могли бы привести к ядерному столкновению». И дело не в том, что до «ядерной кнопки» могут добраться экстремисты или умалишенные, а в том, что замкнутые институты имеют склонность генерировать узко технико-оперативный образ мышления, совершенно оторванный от реальности и чреватый чудовищными последствиями в случае его практической имплементации.
Так или иначе, приведенные концепции насколько искусственны, настолько и опасны. Россия и США уже второй год не могут договориться о координации обычных авиаударов даже по общему противнику в Сирии, а что уж говорить о негласном взаимопонимании «правил» обмена избирательными ядерными ударами друг по другу! Касательно приемлемости ядерной войны при сокращенных потенциалах, даже если принять крайне спорные прогнозы минимального ответного удара России мощностью в 70 мегатонн (10% выживших средств), надо обладать экзотическим мышлением для вывода, что российский ответ (5 тыс. «хиросим») не будет означать полного уничтожения Cоединенных Штатов и их союзников вместе со всеми элитами.
В реальности нет никаких оснований полагать, что ядерное оружие теперь и в будущем может стать рациональным инструментом войны и ее завершения на выгодных условиях. Однако есть риск (особенно после смены руководства США), что государственные руководители, не владея темой, не имея доступа к альтернативным оценкам и тем более не ведая истории опаснейших кризисов времен холодной войны, поверят в реализуемость подобных концепций. Тогда в острой международной ситуации, стремясь не показать «слабину», они могут принять роковое решение и запустить процесс неконтролируемой эскалации к всеобщей катастрофе.
Банализация и рационализация ядерного оружия и самой ядерной войны, безответственная бравада на эти запретные ранее темы – опаснейшая тенденция современности. Парадоксально, что отмеченные стратегические новации выдвинуты в условиях сохранения солидного запаса прочности паритета и стабильности ядерного баланса России и США. Похоже, что даже классическое двустороннее ядерное сдерживание в отношениях двух сверхдержав (не говоря уже о других ядерных государствах) «поедает» само себя изнутри. Впредь едва ли можно надеяться только на него как на «фактор обеспечения мира и безопасности».
Нельзя не признать, что традиционные концепции и методы укрепления стратегической стабильности не способны устранить данную опасность. Для этого нужны новые принципы стратегических отношений великих держав и механизмы обоюдного отказа от опасных стратегических новаций. Но их невозможно создать в условиях распада контроля над ядерным оружием и неограниченной гонки вооружений.
Спасло ли мир ядерное сдерживание?
Вторая оговорка в отношении упомянутой в начале статьи «валдайской формулы» заключается в том, что ядерный «фактор сдерживания» реализуется исключительно в рамках системы и процесса контроля над вооружениями и их нераспространения – и никак иначе. Сейчас, на кураже ниспровержения прежних истин, по этому поводу высказываются сомнения. Например, цитировавшийся выше Сергей Караганов пишет, что «…баланс полезности и вредности контроля над вооружениями подвести крайне трудно». Тем не менее это сделать легко – при всей сложности проблематики ядерных вооружений.
До начала практического контроля над вооружениями (ведя отсчет с Договора 1963 г. о частичном запрещении ядерных испытаний) мир неоднократно приближался к грани ядерной войны. Характерно, что упомянутый выше самый опасный эпизод – Карибский кризис – помимо конфликта СССР и США из-за Кубы, был главным образом вызван именно динамикой ядерного сдерживания. Отвечая на большой блеф советского лидера Никиты Хрущева о ракетном превосходстве после запуска спутника в 1957 г., Соединенные Штаты начали форсированное наращивание ракетно-ядерных вооружений. Администрация Джона Кеннеди, придя к власти в 1961 г., унаследовала от предшественников 12 старых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и две первые атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (БРПЛ). Однако уже в 1967 г. американские стратегические ядерные силы (СЯС) увеличились по числу ракет в 40 раз (!). Поняв, куда идут процессы, Хрущев санкционировал переброску ракет средней дальности на Кубу, чтобы хоть замедлить быстро растущее отставание от США. Остальное хорошо известно.
Так ядерное сдерживание чуть не привело к ядерной войне. Можно до бесконечности спорить, спасло ли мир ядерное оружие или нет. И то и другое недоказуемо, поскольку, слава Богу, ядерной войны в те годы не случилось. Но в течение ста лет после битвы при Ватерлоо и до августа 1914-го большой войны в Европе тоже не произошло, хотя ядерного оружия не было, как и на протяжении полутора веков между Тридцатилетней войной и наполеоновским нашествием. А малых войн случалось множество, как и в годы холодной войны, причем через своих клиентов великие державы воевали и друг с другом.
После Договора 1963 г. в течение последующего полувека была создана обширная система ограничения и нераспространения ядерного оружия. Последний кризис холодной войны произошел осенью 1983 г., причем тоже из-за динамики ядерного сдерживания: развертывания новых ракет средней дальности СССР, а в ответ и аналогичных ракет США и провала переговоров по ограничению ядерных вооружений. Вывод очевиден: международные конфликты на фоне неограниченной гонки ядерных вооружений периодически подводят мир к грани ядерного Армагеддона. А в условиях процесса и режимов контроля над вооружениями – нет.
Отрицать прямую и обратную корреляцию мира и контроля над вооружениями можно, только если не желать признавать очевидного. Именно соглашения об ограничении и сокращении ядерного оружия стабилизировали военный баланс на пониженных уровнях и сыграли решающую роль в спасении мира от глобальной войны. Точно так же четко прослеживается взаимосвязь успехов и провалов диалога великих держав по ядерному разоружению и соответственно – прогресса или регресса режима нераспространения ядерного оружия.
Тем не менее, если исходить из того, что сдерживание, наряду с соглашениями великих держав, явилось одним из факторов спасения мира от ядерной войны в прошлом, то это отнюдь не значит, что так будет продолжаться в будущем. Отношения стабильного стратегического паритета сложились исключительно между СССР/Россией и США, хотя и здесь сейчас нарастают возмущающие факторы. Но нет оснований рассчитывать на тот же эффект в отношениях других ядерных государств, например, Индии и Пакистана. Тем более это относится к Северной Корее и возможным будущим обладателям ядерного оружия, если продолжится его распространение, что неизбежно в случае провала переговоров по дальнейшему сокращению ядерных арсеналов.
А через новые ядерные государства это оружие или оружейные материалы и экспертиза неизбежно рано или поздно попадут в руки террористов, что положит катастрофический конец роли ядерного оружия как «фактора обеспечения мира и безопасности». Ядерное сдерживание, согласно вечным законам гегелевской диалектики, убьет само себя. Это тем более так, поскольку в настоящее время разворачивается беспрецедентный кризис системы контроля над ядерным оружием.
Распад системы: есть ли повод для волнения?
Впервые за более чем полвека переговоров и соглашений по ядерному оружию (после Договора 1963 г.) мир оказался перед перспективой потери уже в ближайшее время договорно-правового контроля над самым разрушительным оружием в истории человечества.
Наиболее слабым звеном в системе контроля над ядерным оружием является Договор РСМД между СССР и США от 1987 года. Стороны уже несколько лет обвиняют друг друга в нарушении Договора, и после смены администрации в Вашингтоне в обозримом будущем он может быть денонсирован. В России к этому соглашению относятся скептически, что регулярно проявляется в высказываниях государственных руководителей. Еще более настораживает, что в новой «Концепции внешней политики» от 2016 г. он даже не упомянут в числе договоров, которым привержена Москва.
Обычно в вину Договору РСМД вменяется, что согласно его положениям было ликвидировано в два с лишним раза больше советских, чем американских ракет (соответственно 1836 и 859), и этой арифметикой до сих пор возмущаются многие российские эксперты в погонах и без. Но дело не просто в том, что советских ракет было развернуто намного больше и соответственно до «нуля» пришлось больше их сокращать. Еще важнее, что по высшей стратегической математике СССР все равно остался в выигрыше по качеству. Ведь для него был устранен, по сути, элемент стратегической ядерной угрозы, особенно ракеты «Першинг-2», способные с коротким подлетным временем (7 минут) наносить точные удары по подземным командным центрам высшего военно-политического руководства в Московском регионе. А непосредственно для американской территории Договор никак угрозу не уменьшил, поскольку советские ракеты средней дальности ее по определению не достигали.
Другой аргумент против Договора состоит в том, что ракеты средней дальности нужны России для ударов по базам ПРО США в Европе. Между тем все непредвзятые оценки показывают, что эти системы не способны перехватить российские МБР ни на разгонном участке, ни вдогонку. Кстати и президент Путин заявлял, что новые системы РФ могут преодолеть любую ПРО США.
Довод о том, что нужно отвечать на ядерные ракеты средней дальности третьих стран, не участвующих в Договоре, тоже неубедителен. Поскольку Великобритания и Франция не имеют ракет такого класса, из пяти остальных ядерных государств КНР и Индия – стратегические союзники России, Пакистан нацеливает ракеты только на Индию, Израиль – на исламских соседей, а КНДР – на американских дальневосточных союзников, а в перспективе – на США.
В любом случае Россия обладает большим количеством достратегических ядерных средств для сдерживания третьих стран, помимо стратегического потенциала для сдерживания Соединенных Штатов, часть которого может быть нацелена по любым другим азимутам. И уж если этой огромной мощи недостаточно для сдерживания третьих ядерных государств, то дополнительное развертывание наземных баллистических и крылатых ракет средней дальности делу не поможет. Придется рассчитывать на противоракетную оборону в составе модернизированной Московской ПРО А-235, новейших систем С-500 и последующих поколений подобных средств. А заодно пересмотреть позицию о необходимости отказа от систем ПРО или их жесткого ограничения.
Вопреки критике Договора при современном геополитическом положении России он намного важнее для ее безопасности, чем 30 лет назад. В случае его краха и в ответ на развертывание ныне запрещенных российских систем оружия возобновится размещение американских ракет средней дальности, причем не в Западной Европе, как раньше, а на передовых рубежах – в Польше, Балтии, Румынии, откуда они смогут простреливать российскую территорию за Урал. Это заставит Москву с огромными затратами повышать живучесть ядерных сил и их информационно-управляющей системы.
Кризис контроля над ядерным оружием проявляется и в том, что вот уже шесть лет не ведется переговоров России и США по следующему договору СНВ – самая затянувшаяся пауза за 47 лет таких переговоров. В 2021 г. истечет срок текущего Договора СНВ, и в контроле над стратегическими вооружениями возникнет вакуум. Времени для заключения нового договора, в свете глубины разногласий сторон по системам ПРО и высокоточным неядерным вооружениям, все меньше. При этом новая администрация Белого дома не проявляет заинтересованности в заключении нового договора СНВ до 2021 г. или в его продлении до 2026 года.
Именно с середины 2020-х гг. Соединенные Штаты приступят к широкой программе обновления своего стратегического ядерного арсенала (стоимостью до 900 млрд долл.), а также, вероятно, расширят программу ПРО, на что Россия будет вынуждена отвечать. Причем в отличие от периода холодной войны эта ракетно-ядерная гонка будет дополнена соперничеством по наступательным и оборонительным стратегическим вооружениям в неядерном оснащении, а также развитием космического оружия и средств кибервойны. Новейшие системы оружия особенно опасны тем, что размывают прежние технические и оперативные разграничения между ядерными и обычными, наступательными и оборонительными, региональными и глобальными вооружениями.
К тому же гонка вооружений станет многосторонней, вовлекая, помимо США и России, также КНР, страны НАТО, Индию и Пакистан, Северную и Южную Кореи, Японию и другие государства. Геополитическое положение России обуславливает ее особую уязвимость в такой обстановке.
Уже два десятилетия по вине Вашингтона в законную силу не вступает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По их же вине недавно «заморожено» соглашение о ликвидации избыточного запаса плутония. Переговоры по запрещению производства разделяющихся материалов (оружейного урана и плутония) в военных целях (ДЗПРМ) много лет стоят в тупике на Конференции по разоружению в Женеве. По российской инициативе за последние три года прекратилось сотрудничество РФ и США по программам безопасной утилизации, физической сохранности и защите ядерных вооружений, материалов и объектов.
Конференция по рассмотрению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2015 г. закончилась провалом. Северная Корея, которая вышла из ДНЯО в 2003 г., продолжает испытания ядерного оружия и баллистических ракет. В апреле 2017 г. от нее дистанцировался даже главный покровитель – Китай. Настрой новой администрации и Конгресса против многостороннего соглашения об ограничении иранской ядерной программы от 2015 г. может нанести окончательный удар по ДНЯО. Дальнейшее распространение ядерного оружия будет происходить главным образом рядом с российскими границами (Иран, Турция, Египет, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония).
Если и когда это оружие попадет в руки террористов, Россия – с недавнего времени лидер в борьбе с международным терроризмом – может стать одним из первых объектов их мщения, тем более в свете уязвимости ее геополитического положения и проницаемости южных границ.
Рецепты летального исхода
Традиционный контроль над ядерным оружием зиждился на ярко выраженной биполярности миропорядка, примерном равновесии сил сторон и согласовании классов и типов оружия в качестве предмета переговоров. Ныне миропорядок стал многополярным, равновесие асимметричным, а новые системы оружия размывают прежние разграничения. Контроль над вооружениями и предотвращение ядерной войны необходимо своевременно адаптировать к меняющимся условиям. Но надстраивать здание нужно на твердом и испытанном фундаменте – таково элементарное правило любой реконструкции.
В упоминавшейся выше статье Сергей Караганов пишет о необходимости выработки «новых схем ограничения вооружений». В качестве таковых он предлагает «не традиционные переговоры по сокращению (ликвидации) ядерного оружия... Пора и в расчетах, и в переговорах, если их все-таки вести, отходить от бессмысленного принципа численного паритета… Вместо этого стоит начать диалог всех ядерных держав (в том числе, возможно, даже Израиля и Северной Кореи…) по укреплению международной стратегической стабильности. Сопредседателями диалога могут быть Россия, США и Китай. Цель – предотвращение глобальной войны, использования ядерного оружия. Он должен быть направлен именно на повышение стабильности, предсказуемости, донесения друг до друга опасений, предотвращения новых дестабилизирующих направлений гонки вооружений. Особенно основанных на новых принципах средств противоракетной обороны в динамическом взаимодействии с наступательными вооружениями. Естественно, диалог должен включать и обсуждение неядерных, но де-факто стратегических вооружений. А также средств кибервойны… Таким образом, – пишет этот авторитетный специалист, – цель диалога – не собственно сокращение арсеналов, а предотвращение войны через обмен информацией, разъяснение позиций, в том числе причин развертывания тех или иных систем, доктринальных установок, укрепление доверия или по крайней мере уменьшения подозрений».
Прежде всего по поводу приведенного подхода следует отметить, что у Москвы и Вашингтона уже есть совместная концепция стратегической стабильности, предметно согласованная в первый и, к сожалению, последний раз в 1990 году. Ее суть (состояние стратегических отношений, устраняющее стимулы для первого удара) вполне актуальна. Что касается конкретных способов укрепления стабильности (взаимоприемлемое соотношение наступательных и оборонительных средств, снижение концентрации боезарядов на носителях и акцент на высокоживучие системы оружия), они, безусловно, требуют обсуждения и дополнения. Нужно учесть появление новейших наступательных и оборонительных вооружений, затронутые выше опасные концепции их применения, киберугрозы, распространение ядерного и ракетного оружия. Но расширение круга участников таких переговоров преждевременно. В обозримом будущем было бы величайшим успехом достичь взаимопонимания хотя бы в двустороннем формате, а уже затем думать о его расширении.
Кроме того, отвлеченное обсуждение стратегической стабильности сродни популярным в Средние века схоластическим диспутам. Это не приведет к конкретному результату, вроде упомянутого Карагановым «предотвращения новых дестабилизирующих направлений гонки вооружений». Едва ли можно рассчитывать, что оппоненты просто силой аргументов убедят друг друга отказаться от вызывающих беспокойство программ – без достижения взаимных компромиссов в виде ограничения и сокращения конкретных вооружений. А раз так, то и «численному паритету» нет альтернативы: ни одна из сторон не согласится юридически закрепить свое отставание.
Это суждение подтверждает практический опыт. Ведущиеся в течение последних лет американо-китайские консультации по стратегической стабильности при неравенстве потенциалов не породили ничего (кроме совместного словаря военных терминов). Та же участь постигла переговоры «большой ядерной пятерки», начавшиеся с 2009 г.: ничего конкретного, кроме общих благих пожеланий, согласовать не удалось. Наконец, есть опыт диалога России и Соединенных Штатов, который шел до 2012 г. по системам ПРО в контексте стратегической стабильности. Интеллектуальное взаимодействие потерпело фиаско, поскольку США не соглашались ни на какие ограничения ПРО, а Россия их и не предлагала, требуя «гарантий ненаправленности».
Если бы удалось организовать предлагаемый Сергеем Карагановым форум «девятки» по стратегической стабильности, он в лучшем случае вылился бы в бесплодный дискуссионный клуб, а в худшем – в площадку для взаимной ругани (тем более с участием таких своеобразных стран, как Израиль и КНДР).
Единственное содержательное определение стабильности от 1990 г. потому и состоялось, что согласовывалось в рамках переговоров о Договоре СНВ-1 и нашло воплощение в его статьях и обширнейшей интрузивной системе верификации и мер доверия. Поэтому паритет, количественные уровни, подуровни и качественные ограничения являются самым оптимальным и доказавшим свою практичность фундаментом соглашений по укреплению стабильности. В достигнутых с начала 1970-х гг. девяти стратегических договорах сокращение и ограничение вооружений, меры доверия и предсказуемости – отнюдь не самоцель, а способ практического (в отличие от теоретического) приближения к главной цели – предотвращению ядерной войны.
Разрушить существующую систему контроля над вооружениями проще простого, для этого даже не надо ничего делать – без постоянных усилий по ее укреплению она сама разрушается под давлением политических конфликтов и военно-технического развития. А вот создать на ее обломках нечто новое невозможно, тем более если предлагается привлечь скопом все ядерные государства и говорить одновременно обо всех насущных проблемах.
Об интересах России
После смены власти в Вашингтоне сохранение и совершенствование режимов контроля над ядерным оружием впредь могла бы обеспечить только Россия. Конечно, в том случае, если бы она этого захотела. Однако ни на США, ни на КНР или НАТО/Евросоюз рассчитывать не приходится. Помимо ответственности России как великой державы и ядерной сверхдержавы за эту кардинальную область международной безопасности, побудительным мотивом могут быть и другие соображения. При трезвом анализе ситуации, избавленном от политических обид и «ядерного романтизма», Москва должна быть больше всех заинтересована в этом с точки зрения национальной безопасности.
Во-первых, потому что гонку ядерных вооружений теперь намерены возглавить Соединенные Штаты, так зачем предоставлять им свободу рук? В интересах России понизить стратегические «потолки», загнать под них гиперзвуковые средства, вернуться к вопросу согласования параметров и мер доверия применительно к системам ПРО. Тем более что РФ интенсивно строит такую систему в рамках большой программы Воздушно-космической обороны (ВКО).
Другой мотив в том, что, как отмечалось выше, Россия находится в куда более уязвимом геостратегическом положении, чем США и страны НАТО, не имеет союзных ядерных держав и вообще не богата верными военно-политическими союзниками. Соответственно, продуманные и энергичные меры контроля над вооружениями способны устранить многие опасности, которые нельзя снять на путях гонки вооружений.
И, наконец, последнее: новое военное соперничество потребует колоссальных затрат, тогда как российская экономика сегодня явно не на подъеме (в этом году грядет серьезное сокращение российского военного бюджета). Ограничение стратегических сил и другие меры позволят сэкономить изрядные средства и обратить их на другие нужды страны.
Тот факт, что от Вашингтона впредь не следует ждать новых предложений или готовности с энтузиазмом принять российские инициативы, должен рассматриваться как дополнительный аргумент в пользу активизации политики РФ на данном треке. Если со стороны России поступят серьезные предложения (но не такие, как в случае с утилизацией плутония), от них не получится просто так отмахнуться. Более того, с учетом трудностей в отношениях двух ядерных сверхдержав на других направлениях (Украина, Сирия, Иран, Северная Корея), указанная сфера способна быстро стать триггером возобновления их взаимодействия, о котором много говорил Дональд Трамп в ходе избирательной кампании. К тому же он сможет поставить себе в заслугу достижение успеха там, где прежнего президента постигла неудача. (В истории были прецеденты: Никсон и Джонсон, Рейган и Картер.)
Возобновление активных усилий Москвы в данной сфере, безусловно, вызовет поддержку всех стран «Старой Европы», Китая, Японии, мира нейтральных и неприсоединившихся стран, широких общественных движений (вроде кампании за запрещение ядерного оружия, ведущейся в ООН), а также среди либеральных кругов США, в основном настроенных ныне против России. В известном смысле наша дипломатия в сфере контроля над ядерным оружием может стать важнейшим направлением использования «мягкой силы» в российской политике расширения своего глобального влияния.
Первоочередной задачей является спасение Договора РСМД. Вместо бесплодного обмена обвинениями сторонам следует совместно выработать дополнительные меры проверки, чтобы устранить взаимные подозрения. Разумеется, это возможно, только если Россия сама для себя признает ключевое значение Договора в обеспечении собственной безопасности и отбросит недальновидные взгляды на это соглашение.
Затем – заключение следующего договора СНВ на период после 2021 г. и на этой основе – согласование мер в области систем ПРО и новых стратегических вооружений в обычном оснащении. Далее – шаги к закреплению практического эффекта, а затем и вступлению в законную силу ДВЗЯИ. Потом – прогресс по линии ДЗПРМ и утилизации плутония, возобновление сотрудничества России и других стран по физической защите ядерных объектов и сохранности ядерных материалов. Параллельно – укрепление ДНЯО и режима контроля над ракетными технологиями. После этого – ограничение достратегического ядерного оружия и в этом контексте поэтапное и избирательное придание процессу сокращения ядерного оружия многостороннего характера.
* * *
Как показал исторический опыт нашей страны в других общественных сферах, в реальной жизни (в отличие от идеальной) не удастся до основания снести старое, а затем на чистом месте воздвигнуть нечто новое и прекрасное. На деле, если откажемся от наработанных за предшествующие полвека норм и инструментов контроля над ядерным оружием, то в итоге останемся «у разбитого корыта». Вместо этого необходимо срочно спасать эту сложную и бесценную конструкцию и, опираясь на такой фундамент, продуманно совершенствовать систему, приспосабливая к новым вызовам и угрозам российской и международной безопасности. Как сказал великий русский историк академик Василий Ключевский, «где нет тропы, надо часто оглядываться назад, чтобы прямо идти вперед».

НАТО в мире переоценки
Как вернуть альянсу смысл и перспективу
Станислав Белень – профессор Института международных отношений Варшавского университета, специалист по внешней политике России. В 1999–2014 гг. главный редактор журнала Stosunki Mi?dzynarodowe-International Relations.
Резюме Странам НАТО следует задуматься, быть ли альянсу наступательным оружием в глобальной идеологической войне (под лозунгом «тотальной демократии») или выполнять региональные (трансатлантические) оборонительные функции, для которых он и был создан.
Западное геополитическое и цивилизационное сообщество переживает сложную фазу переоценки своей роли в международной системе. Запад по-прежнему обладает мощью, чтобы жить хорошо, но у него больше нет сил, чтобы назидательно рассказать другим, как жить – такая точка зрения означает, что динамика цивилизационной экспансии утрачена, приоритет – защита своих активов, а не вычерчивание геополитической карты мира. На фоне кризиса западных ценностей стоит задуматься о том, выдержит ли сообщество испытание конфронтацией с реальностью. В конце концов десуверенизация Западной Европы произошла именно в рамках НАТО – главного альянса Запада. Европейские союзники США потеряли геополитическую субъектность. Их роль в международных отношениях деградировала до уровня пешек на глобальной шахматной доске. Все ходы определяются более сильным игроком из-за океана.
Западноевропейские союзники находятся в комфортной безопасности не только благодаря тесным связям с Соединенными Штатами и размещению американских войск на своей территории. Горячие точки и угрозы потенциального агрессора далеко. Страны же, расположенные на восточной границе Североатлантического блока, ощущают большую уязвимость и имеют меньше гарантий безопасности. Такое разделение нелогично и опасно для стабильности.
Страны Центральной и Восточной Европы безоговорочно поддерживали Америку во всех вмешательствах (в Югославии, Афганистане, Ираке), итог которых оказался противоположен заявленным целям. Стремление американцев к мировой гегемонии не только привело к катастрофе в Ираке и Ливии, но и подорвало веру в способность Запада и его институтов обеспечивать международный порядок. Под именем «гуманитарных интервенций» имело место самоуверенное применение силы, чтобы «потушить пожары», которые спровоцировал сам Запад.
При этом путь к полному преодолению противоречий, которые являлись смыслом существования двух основных военно-политических блоков во время холодной войны, так и не был найден. Не удалось создать единую систему международной безопасности. После того как Организация Варшавского договора прекратила существование, Запад взялся расширять свое геополитическое доминирование, ступив на территорию бывшего восточного блока. Это раздражало Россию, которая, вернувшись в игру, стала серьезным препятствием для Североатлантического альянса, стремившегося к дальнейшей экспансии, на этот раз на постсоветском пространстве. Россия продемонстрировала решимость защищать интересы своей безопасности силой – примером стали конфликты в Грузии и на Украине. Москва заявляет, что США вместе с европейскими союзниками нарушили обещание, данное Михаилу Горбачёву во время переговоров об объединении Германии: Североатлантический альянс не будет претендовать на страны Центральной и Восточной Европы. И рассекреченные документы из американских дипломатических архивов подтверждают версию России.
Саммит НАТО в Варшаве в июле 2016 г. дал пищу для размышлений по поводу функций альянса в современном мире. Из-за негативного опыта американской гегемонии и роста внутренних противоречий, парализующих принятие решений в блоке, многие страны-члены не настроены поддерживать свои обязательства в существующем объеме и даже хотят их сократить. На фоне обострения террористической угрозы и смены акцентов с военной безопасности на миграционную растут изоляционистские настроения, причем в первую очередь они исходят от Америки. Ее президент, еще будучи кандидатом, ставил под вопрос целесообразность участия США в дорогостоящем альянсе и призывал вернуться к традициям обособления, а, вступив в должность, совершенно смутил союзников своими противоречивыми заявлениями.
Трудно сказать, являются ли эти тенденции естественным результатом разрушения «старого альянса» или следствием близорукости и популизма политических лидеров, теряющих инстинкт самосохранения и неспособных отличать угрозы стратегического характера от воздействия постоянных террористических атак. Страх и паника, вызванные терактами, могут иметь более серьезные последствия для оборонных стратегий уязвимых государств, чем угроза ядерной атаки со стороны недружественных стран.
Проблема идентичности в альянсе
После окончания холодной войны Североатлантический альянс постепенно отходил от своей главной роли – оборонительного блока. Будучи региональной организацией коллективной безопасности, основанной на принципе «один за всех и все за одного», НАТО подчинилась глобальным интересам американского гегемона, стала инструментом укрепления глобального доминирования США за счет европейских союзников. Не все поддерживали интервенции, выходящие за территорию альянса и даже за рамки обязательств, записанных в статье 5 Вашингтонского договора (так, Франция выступила против ударов по Югославии в 1999 г., а вместе с Германией и Бельгией была против американского вторжения в Ирак в 2003 г.). Конфликт между ключевыми членами альянса парализовал процесс принятия решений, в результате произошло ослабление всей коалиции.
Причиной проблем Североатлантического альянса стало, с одной стороны, размывание общности стратегических целей из-за навязывания односторонней политики безопасности Соединенных Штатов и игнорирование существующих механизмов координации и консультаций (например, формирование так называемых «коалиций доброй воли»). С другой стороны, на единстве и эффективности блока негативно сказалось расширение НАТО. Чрезмерное количество участников создает проблемы координации и умножает противоречия и конфликты. В конечном итоге чем больше альянс, тем менее важным выглядит вклад отдельных, особенно небольших государств. Падает и значимость обязательств каждого участника.
Все это соответствует известному правилу, что оборонительные возможности не являются простой суммой слагаемых, т.е. потенциалов стран-участниц. Конечно, высокая степень интеграции, особенно в военной сфере (общая стратегическая доктрина, командование, механизмы коммуникации, схожесть оснащения, одинаковая военная структура, согласованная огневая мощь боевых подразделений, сочетаемость подготовки, совместные учения и т.д.), обеспечивает значительное качественное увеличение мощи и потенциала блока в целом по сравнению с арифметической суммой вкладов отдельных стран. Из-за несопоставимости возможностей лидера организации и ее новых членов, не имевших значения с чисто военной точки зрения, в НАТО естественным образом стала доминировать держава-гегемон. Соединенные Штаты провозгласили себя не только полностью ответственными за эффективность альянса, но и бесспорным лидером Запада, продвигающим свои идеологические ценности на новых геополитических пространствах.
Это привело к возражениям извне (в основном со стороны России) и разногласиям внутри альянса (критика Франции, Германии и некоторых стран Центральной Европы). Оказалось, что общая идеология, безусловно, укрепляющая внутреннюю коммуникацию и единообразие оценок, может вызвать напряженность и непонимание, если участники несоразмерны, а их связи асимметричны.
Пример НАТО показывает, что, вопреки широко распространенному убеждению, расширение союзнического взаимодействия не происходит автоматически. Дебаты по поводу легитимности запуска механизма, предусмотренного статьей 5 Вашингтонского договора, после атак «Аль-Каиды» на США в 2001 г. доказали, что обстоятельства, когда может быть востребована помощь союзников, неоднозначны. И положений, прописанных в учредительном договоре, недостаточно. Нужна воля стран выполнить взятые на себя обязательства.
Яркими примерами слабости системы принятия решений в НАТО можно назвать споры о безопасности Турции в случае вторжения в Ирак и отсутствие реакции на реальную угрозу энергетической безопасности во время российско-украинского газового конфликта в конце 2008 – начале 2009 годов. Следует, однако, признать, что благодаря инерции НАТО удалось избежать необдуманных шагов после аннексии Крыма и вспышки сепаратизма на востоке Украины в 2014 году. Разница в восприятии рисков, которые этот конфликт несет для альянса, еще раз продемонстрировала, что евроатлантическое сообщество путает реального врага с источниками других угроз (сепаратизм, реваншизм, терроризм, восстания).
До недавнего времени казалось, что после холодной войны конфликты между странами или их коалициями перейдут на другой уровень («межцивилизационные войны», по выражению Сэмюэла Хантингтона). На самом деле это лишь отвлекало внимание от реальных явлений, требующих нового определения противника. На смену старым экспансионистским тоталитарным державам пришли гибридные структуры – псевдогосударства, несостоявшиеся государства и страны-изгои. Столкнувшись с такими противниками, которые скрываются, например, под лозунгами джихадизма, действуют изнутри и извне, на неизученных пространствах, самый мощный западный альянс обнаружил необходимость новых стратегий и новых методов определения реальных угроз.
Странам НАТО следует задуматься, быть ли альянсу наступательным оружием в глобальной идеологической войне (под лозунгом «тотальной демократии») или выполнять региональные (трансатлантические) оборонительные функции, для которых он и был создан. В конце концов демократизация не является фундаментальной целью Североатлантического блока.
Наивная убежденность американских неоконсерваторов и интервенционистов в том, что делегитимация авторитарных режимов принесет человечеству счастье посредством переноса универсальных демократических моделей, к сожалению, ведет к усугублению хаоса и конфликтов. Это показали последствия «арабской весны» и различных «цветных революций». Даже если авторитарные режимы в Москве или Пекине утратят легитимность, им на смену необязательно придут демократии. Потому что демократия не является в современном мире универсальной ценностью или единственной политической моделью. Геополитически она также не предопределена.
Многие азиатские страны доказали возможность постепенных преобразований, которые не всегда ведут к воспроизведению западных образцов, но способствуют эволюционному восстановлению политических отношений и обретению властью новых форм социальной легитимности (как в Японии, Южной Корее, Малайзии, Индонезии, Турции, на Тайване и Филиппинах). В некоторых регионах, например в Латинской Америке, волны демократизации часто вызывали активное противодействие. Экономические кризисы и политические противоречия, сопровождающие системные преобразования, показывают, что население многих стран еще долго будет воспринимать демократию через призму страха перед обрушением уровня жизни, а также негативного опыта самих западных держав, переживающих экономические, демографические или миграционные кризисы.
Уклоняясь от определения своего цивилизационного противника (терроризм – лишь его инструмент), Запад совершает серьезную ошибку, и воспроизводит стратегическую нацеленность на Россию. Фактов, подтверждающих, что Москва намерена объявить войну Западу, нет. Россия, безусловно, не откажется от своего геополитического статуса и будет решительно защищать интересы безопасности. Тот, кто не хочет этого понимать, выбирает бессмысленную конфронтацию с Москвой. Руководствуясь старыми предрассудками, Североатлантический альянс под влиянием Вашингтона предпочел расширение на восток, вступив в борьбу за постсоветское пространство. Это вызвало антагонизм России по отношению к Европе и, что еще хуже, дестабилизировало и ослабило способность эффективно противодействовать угрозам цивилизационного характера.
Время идеологических крестовых походов во имя демократии и прав человека заканчивается. Неолиберальная доктрина на спаде, капитализм вступил в стадию повторяющихся кризисов и отсутствия перспектив, особенно с точки зрения тех, кто отвергнут или исключен. Понимание ценностного многообразия и признание системных различий – первый шаг для членов НАТО на пути к строительству modus vivendi с такими странами, как Россия или Китай. От мирных отношений с ними зависит стабильность мирового порядка. Нужно отказаться от наступательных стратегий на постсоветском пространстве и принять идею нового добрососедства между государствами на восточной границе НАТО и России. Стороны должны рационально развивать и свой потенциал сдерживания, чтобы избежать соблазна совершить неожиданное нападение, но это не означает отказа от совместного решения многочисленных общих проблем путем диалога и компромиссов.
Такая политика потребует от НАТО глубокой, кардинальной переоценки, и в первую очередь отказа от дальнейшей экспансии на восток. Для Польши и стран Балтии, выбравших конфронтацию с Россией, это станет сложно преодолимым психологическим барьером, особенно после того как эти государства встали на сторону Украины в конфликте с Россией, лишив себя пространства для маневра, которое понадобится в случае смены приоритетов. Но когда восприятие угрозы в Европе изменится, возможно, им удастся приспособиться к новым условиям без истерии, как это было в период разрядки. Пока для таких изменений нет эмоциональных и личностных оснований, но усугубление миграционного кризиса и проблем энергетической безопасности очень скоро потребует адекватных мер.
Сейчас время работает против НАТО, потому что альянс не в состоянии пересмотреть свой ошибочный анализ источников угроз. Пропагандистские тезисы, что «Путин играет мускулами» и «агрессивность России растет», лишь повышают градус эмоций и ведут к эскалации напряженности. Такая ситуация отвечает интересам США, стремящихся сохранить глобальную гегемонию, основанную на догме времен холодной войны о необходимости защищать «свободный» мир от произвольно выбранных противников. Это отвлекает внимание от поражений Соединенных Штатов в разных уголках мира, пока Вашингтон пытается сдерживать амбиции России и Китая и контролировать мировую торговлю энергоресурсами. Но в итоге Запад окажется в конфронтации со многими потенциальными союзниками в противодействии угрозам экстремистов.
После деструктивного опыта нарушения международного права самими Соединенными Штатами НАТО нужно заняться переоценкой ключевых стандартов, лежащих в основе мирового порядка. В первую очередь восстановить веру в верховенство международного права, которое подразумевает обязательства каждого государства соблюдать обычные и договорные нормы, в особенности императивные нормы и принципы Устава ООН.
Один из ключевых принципов – невмешательство во внутренние дела, подразумевающее уважение компетенций власти и автономности принятия решений отдельных стран, в особенности когда речь идет об их юрисдикции. Однако в рамках альянса непонятно, как отделить национальные политические интересы от союзнической солидарности и контроля. Когда и как позволительно давать инструкции другим государствам по поводу внутреннего политического выбора и необходимых реформ? Интервенции в любой форме нарушают классический принцип суверенного равенства государств. Поэтому союзники не имеют права оказывать давление с целью подчинить своим интересам суверенные страны. Они также не правомочны использовать прямое или косвенное содействие (террористического, подрывного, дискредитирующего или иного характера) для свержения политических режимов. В конце концов «цветные революции» не входят в число инструментов оборонительного альянса, а геополитическая экспансия ограничена интересами безопасности других участников международных отношений.
Угроза ослабления альянса
Заключая союзы, страны расширяют возможности реализовывать свои внешнеполитические и военные цели. Уровень безопасности повышается, как и уверенность в том, что в случае прямой угрозы их не бросят. Но чтобы защита союзников была эффективной, необходима общность интересов. В первую очередь речь идет об одинаковом восприятии источников угроз и уверенности в том, что жизненно важные интересы участников будут отстаиваться коллективными усилиями. Однако общность внутриблоковых интересов подрывается большим числом участников и многообразием их ожиданий. Адам Бромке сформулировал это следующим образом: союзники с разным статусом «хотят извлечь максимальную выгоду, заплатив минимальную цену. Слабый партнер нацелен на получение максимальных гарантий безопасности, минимизировав ограничения своей свободы в реализации собственной политики. Сильная страна стремится взять на себя минимальные обязательства по отношению к слабому партнеру, максимально контролируя его действия». Компромисс между двумя противоречащими тенденциями определяет характер альянса – будет ли он тесным и длительным или непрочным.
Безопасность небольших государств всегда зависит от гарантий, предоставляемых крупными державами. Последние способны обходиться без союзников, но для небольших стран единственная возможность защитить свои ключевые интересы – заключить союз с сильными. Они хотят непосредственного военного присутствия защитников, которое становится стимулом для их армий и политиков, позволяя участвовать в совместных учениях или консультациях по различным вопросам.
Страны, вносящие реальный вклад в эффективное функционирование альянса, называются его опорами. Те, кто пользуется защитой патронов, – просто клиенты. Чем прочнее связи между патронами и клиентами, основанные на общности угроз, тем эффективнее альянс. Но если восприятие угроз патроном и клиентом различаются, возможны два сценария. Клиент, ощущающий угрозу, становится все более зависимым от патрона. Или неуверенный, ощущающий угрозу патрон может потерять контроль над клиентом, несмотря на предоставленную помощь. Такая ситуация чревата распадом или перераспределением сил в альянсе (скажем, двустороннем), как случилось с Египтом в 1970-е годы. Интересен вариант Румынии в бывшем восточном блоке – несмотря на серьезную зависимость от СССР, страна пользовалась определенной свободой и проводила собственную политику по многим вопросам, например, в отношениях с Израилем, арабскими странами или Движением неприсоединения. Поведение Израиля, в свою очередь, показывает, что помощь, полученная от Вашингтона (по двусторонним договоренностям), не мешала ему предпринимать собственные инициативы. Об этом примере стоит помнить, учитывая частые сравнения Израиля и Польши, которая, мол, призвана выполнять роль форпоста в отношениях с Россией, как Израиль – в отношениях с арабскими странами и Ираном.
Лидеры альянса требуют абсолютной лояльности и преданности от небольших государств в обмен на свою помощь и защиту. История альянсов в Европе, с покупкой расположения патронов и нередко циничного культивирования чувства благодарности у более слабых, доказывает значимость экономической взаимозависимости как рычага для повышения эффективности. Можно сказать, что именно по этим причинам Западная Европа, чтобы сохранить высокий уровень жизни и экономический рост, отказалась от геополитической субъектности. Иерархический характер союза с Америкой и суперподчинение лидеру позволили снять ответственность за международную безопасность с плеч европейских политиков.
Качество руководства альянса всегда зависит от способности и решимости лидера защищать общие интересы. Богатая держава оказывает помощь союзникам и берет на себя ответственность за поддержание готовности к выполнению боевых задач коалиции без ущерба для собственного развития, в то время как слабеющая держава старается переложить затраты на небольшие государства. Как отмечалось выше, падение престижа и ослабление мощи Соединенных Штатов начинают негативно сказываться на других участниках НАТО и блока в целом. Поэтому во время недавней президентской кампании в США так много говорилось о необходимости восстановить волю к действию и чувство уверенности. Ослабление лидера требует консолидации против четко определенного противника. Поэтому Владимир Путин служит главным объектом пропаганды, хотя возникают угрозы совсем иного характера. Но чтобы сопротивляться «путинофобии», сегодня необходима особая интеллектуальная смелость. А между тем наиболее серьезную опасность представляют не стабильные автократии, а несостоявшиеся государства, на территории которых разрастаются явления, несущие угрозу всему цивилизованному миру (системные патологии, террористические армии, массовый исход населения).
Более важная тема, чем интервенции во имя распространения демократии и защиты прав человека, – ответственность за восстановление разрушенных государств, чтобы смягчить радикальные настроения среди обездоленных. Важно уменьшить миграционную нагрузку, подрывающую стабильность евроатлантической зоны. НАТО не угрожает агрессия. Опасность со стороны России скорее обусловлена неправильным восприятием и навязчивой идеей о «бандитском» поведении Путина. Главная проблема связана с отсутствием эффективной защиты западных культурных и цивилизационных достижений и необходимостью создать условия для реализации стратегических целей сотрудничества между членами сообщества.
Пример конфликта на Украине в 2013–2014 гг. и продолжающаяся деградация украинской государственности показывают, что НАТО концептуально и логистически не готова предотвращать кризисные ситуации вблизи своих границ, сдерживать конфликты, угрожающие перерасти в войну, или стабилизировать обстановку после конфликта. Лозунги о необходимости сочетать политические и военные шаги, которые провозглашались много лет, забыты, а идея сотрудничества в целях безопасности, предполагающая контакты со странами и организациями, даже если они занимают иную позицию, канула в Лету. Осенью 2013 г. превентивные дипломатические шаги закончились провалом – Запад решил воспользоваться ситуацией и ускорить вовлечение Украины в сферу Евросоюза. То, что такие действия вызовут недовольство России, можно было прогнозировать, но, как видим, США действительно были настроены на негативный сценарий. Был создан противник, чтобы консолидировать НАТО и вдохнуть в нее новую жизнь.
В любом альянсе есть две ловушки – слабого и сильного союзника. Первая подразумевает риск для крупных держав, прежде всего для лидера блока, оказаться втянутыми в конфликты из-за безответственной политики небольших государств. В НАТО такой непокорной сейчас стала Турция, амбиции которой на Ближнем Востоке (конфликты с региональными соперниками – Ираном, Саудовской Аравией, Израилем и особенно с Россией) опасны возможностью эскалации напряженности, которая затронет весь альянс. Точно так же антироссийские фобии в Польше и прибалтийских государствах и их стремление к размещению баз НАТО на своей территории чреваты вовлечением крупных держав альянса, прежде всего Германии и Франции, в конфронтацию с Россией.
Ловушка сильного союзника касается стран-клиентов, зависящих от флагмана альянса. Небольшие страны часто становятся жертвами иллюзорной уверенности в наличии «особых» отношений с государством-лидером, что якобы делает их равноправными партнерами. Но на самом деле асимметрия интересов и существенное различие потенциалов ведет к тому, что более сильный продвигает собственные цели за счет слабых. Если у слабых хватает смелости и решимости, они могут призвать сильного союзника пойти на уступки, рискуя быть обвиненными в отсутствии лояльности и преданности. Страх перед подобными упреками парализует волю политиков, считающих потерю расположения могущественного защитника самым главным риском, в том числе для себя лично.
В качестве примера можно привести польско-американские отношения после 1989 года. Ни одна правящая группа не решилась назвать цену, которую Варшава заплатила за безусловную поддержку Вашингтона. Польские политики, независимо от идеологической принадлежности, стали заложниками убеждения, что любое выступление против США будет означать возвращение к аффилированности с Россией. В политических кругах и СМИ была создана такая атмосфера, что у Польши просто не осталось пространства для маневра в отношениях с Соединенными Штатами. К примеру, польские правительства долгое время клали под сукно вопрос о смягчении визовых требований для граждан Польши, отправляющихся в США, что можно считать проявлением глубокой неравновесности в отношениях. Правящая элита не сумела побороть комплекс неполноценности и не понимает, что требуются прагматические, а не идеологические аргументы.
Запад и его крупнейший альянс нуждаются в обновлении лидерства. В свете нынешних и будущих угроз международной безопасности НАТО нужна новая стратегия, которая позволит отказаться от максималистских задач идеологического характера и даст возможность сосредоточиться на стабилизационных операциях. Североатлантический блок не сможет восстановить свою оборонительную роль, не прекратив повсеместно защищать интересы державы-гегемона. Не удастся сочетать функции оборонительного альянса с территориально ограниченными обязательствами и задачи института глобальной безопасности с экспансионистскими амбициями.
На фоне кризиса западных ценностей стоит задуматься, выдержит ли евроатлантическое сообщество испытание быстро меняющимися международными реалиями. Пока члены НАТО действуют как клиенты лидера-гегемона и не могут сообща выступить против его идей об устройстве мира, альянс будет оставаться инструментом экспансионистской и милитаристской политики, находясь в зависимости от большого капитала и оружейного лобби за океаном. Пора вернуться к уважению исторического суверенитета и геополитической идентичности соседних стран. НАТО не может оказывать давление на государства, не готовые сделать осознанный выбор своей принадлежности к кому-то на международной арене. Пример Украины особенно показателен. Многочисленные пороки в политической и экономической сферах (кумовство, кланово-феодальные связи, политическое покровительство, откаты, отчуждение общественных институтов, клептократия) ведут к предательству ценностей, проповедуемых Западом, а не приближают к ним. Чем быстрее Запад осознает необходимость пересмотра существующей стратегии, тем быстрее мир освободится от призрака глобальной катастрофы.

Не от ума, а от сердца
Русский консерватизм и государство в XIX веке и далее
Дмитрий Андреев – кандидат исторических наук, заместитель декана Исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Резюме Особенность нашего консерватизма – его способность выстраиваться в цельное мировоззрение, но не за счет стройной организации пространства логоса, а через задействование эмоций, для которых слова важны с точки зрения не смыслов, а порождаемых ими чувств.
Можно до бесконечности, до хрипоты и исступления спорить, насколько нам – живущим в России второго десятилетия XXI века – близки или напротив чужды ценности западного либерализма, до какой степени все мы (даже те, кто, вроде бы, публично позиционирует себя завзятым космополитом) являемся консерваторами – онтологически и уже по самому факту рождения в России или же все-таки ситуативно, в зависимости от конъюнктуры и более или менее четко сформулированного запроса. Однако всякий раз интеллектуальный пинг-понг подобного рода оставляет чувство неудовлетворения. Оно может быть сильнее или слабее, но возникает непременно после любой медийной или сетевой баталии – вне зависимости от ее исхода. (Хотя и исход-то всегда, как правило, вполне прогнозируем: участники остаются при своих мнениях, а сторонние наблюдатели в очередной раз констатируют непреодолимый раскол общества.)
Дело тут вот в чем. Понятно, что такого рода идейные споры у нас искони ведутся не от ума, а от сердца, от души, от чувства, от вкуса в конце концов. Причем со стороны не только консерваторов – с традиционно слабой рациональной аргументацией, апелляцией не к логическим обоснованиям, а к собственной картине мира, оправдываемой исключительно субъективными пристрастиями и жизненным опытом, – но и либералов, у которых весь здравый смысл и якобы неколебимый объективизм сводятся к упертому киванию на Запад и не терпящему возражения аргументу: «Ну ведь у них же всё получается!»
Да, действительно, на протяжении вот уже двух веков эта полемика ведется не в плоскости верифицируемого научного знания, но представляет собой столкновение двух символов веры. А посему ее значение именно как академического спора или пусть даже всего-навсего безобидного – но при этом претендующего на конструктивность – обмена мнениями стремится к нулю. Быть консерватором или либералом-реформатором – это значит прежде всего и главным образом иметь определенную идентичность, сложносоставной, но вместе с тем легко раскрываемый индивидуальный поведенческий код, позволяющий на уровне интуиции, буквально какого-то звериного нюха разделять соотечественников на «своих» и «чужих», держаться в орбите первых и противопоставлять себя вторым. Партийность (разумеется, не в смысле членства в дореволюционных или постсоветских организациях, создаваемых в обоих случаях сугубо на электоральную потребу) – наша вторая натура как минимум с начала XIX века, сердцевинное качество той стороны личностной самости, которую мы изо всех сил демонстрируем вовне, urbi et orbi, а главное – российскому обществу, которое никогда не воспринимается как нечто цельное, но всегда – как поле боя, как пространство конкуренции «нашей» правды с «их» кривдой.
Но в том-то и дело, что с некоторых пор эта специфическая политизированность стала перерождаться буквально на глазах. Мы оказались не уникальными, а вполне вписывающимися в общемировой тренд последних десятилетий, капитулировав перед тоталитарным насаждением оценочного релятивизма. В результате наша партийность подверглась девальвации, превратившись из символа веры в банальное стилевое своеобразие – не более чем атрибут медийного кастинга. Граница между консерватизмом и либерализмом стала предельно проницаемой, вывелась целая популяция идейных мутантов – «консервативных либералов» и «либеральных консерваторов», в то время как упертость и неистовость в отстаивании чистоты той или другой идейной ориентации были объявлены уделом нерукопожатных маргиналов. Отсюда и неизбежно возникающая у любого искушенного наблюдателя неудовлетворенность и даже раздраженность имитациями партийных размежеваний.
И сколько ни сетовать по поводу исчезновения из политического пространства старого доброго партийного натурализма, с этой новой реальностью, похоже, придется смириться. Более того, анализ самих нынешних партийных суррогатов – дозированно добавленных в их состав смысловых «ароматизаторов», «подсластителей», «подкислителей» и прочих «красителей» – позволит лучше понять, что собой представляли оригиналы и, соответственно, какие из их свойств гипертрофированно представлены в сегодняшних копиях – а значит, наиболее востребованы, пусть и в непропорциональном соотношении. Но будет совершенно справедливым и обратный ход в духе фукианской «археологии знания»: от присущих современным подделкам диспропорций прорыть «шурфы» к тем текстам, которые перетолковывались на протяжении десятилетий, обретали разные, порой взаимоисключающие интерпретационные оттенки, но вместе с тем продолжали жить какой-то независимой жизнью и благодаря этому после очистки от смысловых наростов и напластований могут быть поняты в их первозданном значении.
Мировоззрение эмоций
В этой оптике прежде всего следует разобраться с консерватизмом.
Во-первых, потому что в отличие от либерализма – доморощенного, имеющего мало общего со своими западными аналогами, но при этом всё же обладающего сформулированной программой, сводящейся к всеобъемлющей переделке России на манер этих аналогов, понятых, правда, весьма специфическим образом, – консерватизм крайне невнятен в части конкретных предложений. Его адепты всегда четко знают, чего России ни в коем случае делать не надо, но относительно того, что ей делать надо, имеют несопоставимо более расплывчатые и путанные представления. (Но это обстоятельство никоим образом не мешает всегда безошибочно узнавать приверженцев консерватизма – достаточно им произнести несколько слов.)
Во-вторых, после катастрофы девяностых, которую ее организаторы и исполнители почему-то представили торжеством либерализма, последний обречен надолго – если не навсегда – оставаться для нашего национального сознания персоной нон грата.
В-третьих, консерватизм в настоящее время явно в моде, причем не только у нас, но и на Западе, столь волнительно значимом для нас. Естественно, феномены, называемые одним понятием здесь и там, в действительности имеют мало общего друг с другом, однако харизма уже самого слова делает для нас разницу между содержательным наполнением обоих консерватизмов не такой уж и непреодолимой. Во всяком случае, если смотреть не оттуда, а отсюда.
Как уже было сказано, бросающаяся в глаза особенность нашего консерватизма – его способность выстраиваться в довольно цельное мировоззрение, но не за счет стройной организации пространства логоса или писаного слова, а через задействование эмоций, для которых слова важны с точки зрения не содержащихся в них смыслов, а порождаемых ими чувств. В наибольшей степени указанная специфика консерватизма проявляется при обозревании с этой идейной позиции дел внутренних.
Взять, к примеру, такой хрестоматийный пример русского консервативного мировосприятия, как гоголевские «Выбранные места из переписки с друзьями» с их стенаниями о том, как «пустынны, грустны и безлюдны наши пространства», как все в России «бесприютно и неприветливо», – точно на почтовой станции, «какой-то холодной, занесенной вьюгой», «где видится один ко всему равнодушный станционный смотритель с черствым ответом: “Нет лошадей!”» И ведь главное, прочитаешь такое – и сразу все понятно: и про мздоимство, и про чиновничий беспредел, и про остальные наши извечные беды. А всего-то иносказательно брошено – «бесприютно» да «неприветливо».
Точно так же общо и по большей части прочувствованно, не обуздывая свои душевные порывы, но повинуясь им, рисовали наши консерваторы свои политические идеалы. Как, скажем, Николай Карамзин, воспринимавший самодержавие как «палладиум России» и убежденный в том, что стране нужны прежде всего «хорошие губернаторы» и «хорошие священники», ибо «без прочего обойдемся и не будем никому завидовать в Европе».
При этом размытость и предельная аморфность представлений о чаемом будущем – вовсе не ловкий способ обмануть цензуру, обойти острые углы, размышляя о внутренних нестроениях, но мировоззренческая специфика консерватизма, результат его явного нежелания зарываться в мелочи и частности, предпочитая земной и повседневной конкретике чуть ли не эсхатологическую проблематику с присущими ей языком и образностью.
Незаменимое антизападничество
На этом фоне внешнеполитические воззрения, оцениваемые в качестве консервативных, традиционно выглядели в России гораздо более определенными: по-видимому, фокусировка в данном случае происходила за счет присущей нашему сознанию острой потребности в негативной идентичности, то есть в обосновании собственной самости от противного, путем ее сравнения с тем, чем она по определению не является и в принципе являться не может. То есть антизападничество неизбывно для консервативного мировоззрения не по причине какого-то устойчивого и непреодолимого желания дистанцироваться от «неправильного» Запада, а всего лишь из-за элементарного и понятного желания разобраться в себе самом – хотя бы по минимуму, в самых основополагающих чертах. Убери антизападничество, лиши нашего консерватора этого краеугольного камня его сознания – и у него мгновенно наступит мотивационная дезориентация. Поэтому консервативный западник – это для нашей культуры оксюморон, нонсенс. Переиначив известное высказывание классиков советской литературы, можно заключить, что антизападничество для русского консерватора – это не роскошь и не какой-то изыск его образа, а самое главное, центральное и незаменимое условие и одновременно оправдание его существования.
И вот тут как раз впору коснуться, наверное, самой интересной черты русского консерватизма, которая проявляется всякий раз, когда взгляд нацелен не внутрь России, не на ее собственные проблемы – неинтересные для консерватора в силу указанных выше причин, – а вовне: прежде всего на тот же Запад, на восприятие себя и своей страны на фоне Запада, ну и заодно остальных частей света. В этом случае рассеянное медитирующее консервативное сознание мигом сосредоточивается, обретает осмысленность, а главное – буквально зашкаливающий градус мнительности в отношении пособников Запада внутри России – подлинных и выдуманных, – и начинает ревностно оберегать национальную идентичность от каких бы то ни было внешних воздействий. Причем наибольшие подозрения у русских консерваторов вызывают… власти предержащие.
Опора режима?
У нас почему-то по умолчанию считается, что консерватор – это априори опора режима, в том числе его персонифицированного олицетворения вместе с окружающей такое олицетворение элитой. На самом деле все если не совсем наоборот, то, по меньшей мере, не столь однозначно. Консерваторы как люди, живущие не умом, а эмоциями, исключительно чуткие. И буквально с самого начала XIX века они стали ощущать: что-то в стране происходит не так, как-то странно ведет себя власть и ее присные – точно они хотят понравиться Западу. Проблему впервые – как всегда, просто, ясно и предельно метко – сформулировал Александр Пушкин, назвавший в письме к Петру Чаадаеву власть (в оригинале – «правительство») «все еще единственным европейцем в России», то есть единственной силой, способной противостоять хтонической дремучести всей остальной страны, в том числе и ее образованного общества. Кстати, примерно о том же чуть позже скажет и Николай Гоголь в приведенном выше отрывке из «Выбранных мест»: дескать, Петр I хотя и «прочистил нам глаза чистилищем просвещенья европейского», а также «дал в руки нам все средства и орудья для дела», да только всё без толку. Словом, власть в России, ко всему прочему, еще и культуртрегер, поскольку несет в себе европейское начало.
Ну и как после осознания этой истины следовало вести себя русскому консерватору? Сначала с мыслью, что и власть, и ее окружение являются на самом деле культурно, всем своим естеством связанными с Западом, следовало просто свыкнуться. Когда же свыкнулись, пытались не замечать западнической сущности самодержцев, обрушившись на их сановное окружение, обвиняя его в космополитизме, заискивании перед Западом, презрении к национальным интересам и в иных пороках, непростительных для консервативного сознания. Весьма характерны с этой точки зрения хлесткие обличения чиновной верхушки Фёдором Тютчевым: «Почему эти жалкие посредственности, самые худшие, самые отсталые из всего класса ученики, эти люди, стоящие настолько ниже даже нашего общего, кстати, очень невысокого уровня, – почему эти выродки находятся и удерживаются во главе страны? <…> Паразитические элементы органически присущи Святой Руси <…> это нечто такое в организме, что существует за его счет, но при этом живет своей собственной жизнью, логической, последовательной и, так сказать, нормальной в своем пагубно разрушительном действии».
И это не о каких-то там нигилистах, а о вполне респектабельных министрах внутренних дел Петре Валуеве, Александре Тимашеве, шефе жандармов Петре Шувалове, которых и современники, и впоследствии историки нескольких поколений ничтоже сумняшеся причисляли к консерваторам, столпам режима, стойким и последовательным противникам либеральной бюрократии, подготовившей и осуществившей Великие реформы. То есть, особо себя не утруждая, раздавали оценки, следуя примитивной логике: если не либерал, то, значит, консерватор. Между тем для Тютчева – действительного, последовательного и убежденного консерватора – это были главные идейные враги, «отбросы русского общества», «антирусское отродье», которые шли на «сознательную измену», ибо «когда перестают быть русскими, чтобы стать космополитами», на самом деле «вместо этого неизбежно, фатально становятся поляками» (в данном случае поляки для Тютчева после восстания 1863–1864 гг. в наибольшей степени олицетворяли враждебную внешнюю силу).
Ненавистный для русского консервативного сознания западник непременно виделся либералом – опять же, в смысле не европейском, а вполне себе нашем, то есть примитивным фрондером, мечтающим быть принятым на Западе именно в качестве либерала, а потому неистово крушащим все то, что не соответствовало его доморощенным представлениям о европейском либерализме. Когда таким западником оказывался тот или иной представитель общественности, это не вызывало у консерваторов особой тревоги. Зато их не могло не волновать стремительное распространение моды на либерализм среди правящей элиты, то есть лиц, непосредственно влиявших на судьбу России.
Это сообщество претерпело в третьей четверти XIX века впечатляющую идейную мутацию. Из внешне лояльных и внутренне стерильно-безыдейных чиновников николаевской эпохи элита во время Великих реформ постепенно превращалась в силу, объективно оппозиционную традиционному самодержавию. Безусловно, ее оппозиционность была по большей части непроявленной, сводившейся в крайнем случае к фиге в кармане – пусть и нарочито нескрываемой, но из кармана всё же не доставаемой. Чем-то обычным и естественным становилось циничное двурушничество: внешне демонстрируемая верноподданность – и многозначительные улыбки авгуров для своего круга. Те немногие, для кого такое поведение было неприемлемым, становились в этой среде чуть ли не изгоями. Очень показательны слова, сказанные Михаилом Лорис-Меликовым одному из таких «негибких» деятелей – Константину Победоносцеву: «Вы оригинально честный человек и требуете невозможного». И еще более наглядно живописует цинизм правительственных верхов фраза Лорис-Меликова, произнесенная им уже после отставки: «Все Романовы гроша не стоят, но необходимы для России». Конечно, Лорис-Меликов, с одной стороны, и Победоносцев, с другой, были двумя крайностями, между которыми располагалось большинство, чьи взгляды было бы правильно назвать латентным конституционализмом. Дескать, трансформация самодержавия во что-то более удобоваримое с точки зрения европейских представлений о том, какой должна быть монархия, неизбежна, но не в данный момент, а в более или менее отдаленной перспективе. Вот Тютчев и припечатывал наотмашь такую элиту:
Напрасный труд – нет, их не вразумишь, –
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,
Вам не снискать признанья от Европы.
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы!
Существует очень устойчивый стереотип: мол, русский консерватизм антиэгалитарен, он не мыслит себе бессословного общества, его идеал – вертикаль с четко очерченным кругом избранной элиты и всеми остальными, тоже не одинаковыми, а ранжированными. И наиболее последовательным идеологом такого элитизма называют Константина Леонтьева, ратовавшего за «благодушный деспотизм» и более всего опасавшегося мещанской уравниловки всех и вся. Верно, Леонтьев действительно считал необходимым поднять элиту на недосягаемую для всех остальных сословий высоту, но при этом надо понимать, что он имел в виду вовсе не обуржуазившуюся и прозападно настроенную правительственную элиту. С этой элитой он намеревался решительно бороться, дабы защитить от нее престол. И для этих целей Леонтьев вынашивал план создания тайной структуры – «иезуитского ордена», – как он ее многозначительно называл.
Миф о Европе
Стоит ли поэтому удивляться, что на фоне всех этих опасений и подозрений, которыми были охвачены русские консерваторы, сама по себе реальная, действительная Европа была для них чем-то второстепенным, воспринимавшимся исключительно сквозь фильтр их незыблемых представлений о противопоказанности для России западных порядков. А потому и осуществлявшееся ими на протяжении десятилетий «похищение Европы», как назвал этот процесс Вадим Цымбурский, то есть восприятие России как Европы подлинной, настоящей, исторической и христианской, имело опосредованное отношение к Европе реальной. «Похищали» и восторгались одним, а опасались совсем другого. И именно Европе настоящей – той, которой так любовались оппоненты консерваторов, – последние в принципе отказывали в праве на целостное бытие в качестве некоего геополитического субъекта, потому что таковой всегда неизбежно будет антироссийским. Отсюда и прагматическая неизбежность, четко сформулированная Тютчевым: «Единственная естественная политика России по отношению к западным державам – это не союз с той или иной из этих держав, а разъединение, разделение их. Ибо они, только когда разъединены между собой, перестают быть нам враждебными – по бессилию». И далее Тютчев вынужденно констатировал: «Эта суровая истина, быть может, покоробит чувствительные души, но в конце концов ведь это закон нашего бытия».
А утонченный эстет Леонтьев вообще боялся осквернить, замарать европейскостью всамделишной, приниженно-бытовой, как чем-то ритуально нечистым, наши мессианские чаяния европейскости идеальной, мистической. (То есть в системе координат Цымбурского вынашивал планы «похищения Европы».) В том, что в 1878 г. мы, находясь совсем рядом с Константинополем, не заняли его и тем самым не осуществили многовековую мечту, Леонтьев усмотрел провиденциальный смысл: если бы тогда нам все же удалось войти в Константинополь, то мы сделали бы это «во французском кепи», а также «с общеевропейской эгалитарностью в сердце и уме». Поэтому к тому моменту, когда перед Россией откроется следующий исторический шанс воздвигнуть крест на Святой Софии, она должна быть внутренне готова к этому – и тогда все непременно удастся: русские войдут в Константинополь «именно в той шапке-мурмолке, над которой так глупо смеялись наши западники», и «с кровавой памятью об ужасном дне 1 марта, когда на улицах нашей европейской столицы либерализм анархический умертвил так безжалостно самого могущественного в мире и поэтому самого искреннего представителя либерализма государственного».
Последнее замечание особенно важно для понимания той степени внутренней свободы, которая была присуща русскому консерватизму: в открытую, практически без всяких намеков Леонтьев прямо говорил, что царь-либерал Александр II оказался недостойным стать освободителем Константинополя. И в этом приговоре явственно чувствуются отзвуки безжалостно-уничижительной оценки Тютчевым отца Александра II – Николая I, – который, в отличие от своего сына, не был либералом, но, являясь по натуре своей западником в петровском применении этого понятия к персоне суверена, как раз потворствовал формированию правящей элиты, ценности которой все дальше и дальше расходились с ценностями самого государя, что – в представлении Тютчева – и привело к крымской катастрофе:
Не Богу ты служил и не России,
Служил лишь суете своей,
И все дела твои, и добрые, и злые, –
Всё было ложь в тебе, всё призраки пустые:
Ты был не царь, а лицедей.
На фоне всего сказанного сегодняшние попытки рационально осмыслить традиционный русский консерватизм и сделать из него своего рода выжимки, которые можно было бы задействовать в идеологическом строительстве, или даже еще смелее – собрать на его основе некую конструктивную программу и внутриполитического развития страны, и ее позиционирования в мире – выглядят более чем наивными. И вовсе не из-за какой-то содержательной несостоятельности этой системы взглядов, а исключительно по причине ее абсолютно недоктринального, не поддающегося логическому структурированию и вследствие этого неспособного лечь в основание того или иного программного документа характера. Консерватизм, как уже говорилось выше, – это скорее силовое поле, в пространстве которого жила и продолжает жить значительная – если не подавляющая – часть нашего общества. Эту особенность национального менталитета непременно следует учитывать, с ней надо обязательно и регулярно сверять любые задумки и начинания в области государственной политики, но при этом относиться к ней именно как к определенной силе притяжения-отталкивания. В конце концов, нельзя не учитывать фактора гравитации, занимаясь проектированием самолетов, но при этом недопустимо весь их разрабатываемый функционал обращать исключительно на оптимизацию преодоления силы земного тяготения – наверное, самой важной проблемы для понимания, почему аппаратам тяжелее воздуха все же удается взлететь, но далеко не единственной для авиаконструкторов.
В свое время Константин Аксаков назвал русских «народом негосударственным» и «не ищущим участия в правлении». Конечно же, мыслитель поторопился выдать желаемое за действительное: буквально сразу после написания этих слов народ начал усиленно демонстрировать обратное – что он как раз «ищущий участия в правлении». Но при этом – и здесь Аксаков оказался абсолютно прав, – даже алкая причастности к власти, народ продолжал оставаться именно «негосударственным», стремившимся, в отличие от прозападных правителей и элит, получить в виде государства не бездушный инструмент господства-подчинения, а средство для реализации своих глубинных, уходящих корнями в далекое, чуть ли не доисторическое, прошлое фантазий. И все это – не от ума, а от сердца. У нас в правилах даже мыслить чувством, что убедительно демонстрирует история того, что принято называть русским консерватизмом. О либерализме можно сказать в принципе все то же самое – но это уже совершенно другой разговор.

До основания, а затем…
Устарел ли контроль над ядерными вооружениями?
Алексей Арбатов – академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской Академии наук, в прошлом участник переговоров по Договору СНВ-1 (1990 г.), заместитель председателя Комитета по обороне Государственной думы (1994–2003 гг.).
Резюме Если откажемся от наработанных за полвека норм и инструментов контроля над ядерным оружием, останемся у разбитого корыта. Необходимо срочно спасать эту сложную и бесценную конструкцию и, опираясь на такой фундамент, продуманно ее совершенствовать.
Противостояние России и Запада и начало нового цикла гонки вооружений вернули проблемы ядерного оружия на авансцену мировой политики после двадцати лет забвения. Администрация Дональда Трампа не считает приоритетом прогресс в контроле над ядерным оружием, что по идее должно послужить стимулом для Москвы к существенному пересмотру курса в данной области. Но в какую сторону? Этот вопрос остается открытым.
Ядерный романтизм в консервативную эпоху
На Валдайском форуме в октябре 2016 г. президент России Владимир Путин заявил: «Ядерное оружие является фактором сдерживания и фактором обеспечения мира и безопасности во всем мире», его нельзя «рассматривать как фактор какой бы то ни было потенциальной агрессии». Следует отметить, что столь положительная и в чем-то даже романтическая оценка роли ядерного оружия высказывается у нас на самом высоком государственном уровне впервые – такого не было ни во времена СССР, ни в демократической России.
Впрочем, многое зависит от интерпретации. Если эти слова – пожелание того, как должно быть, пока ядерное оружие существует в качестве объективной реальности, на это нечего возразить. Возможно, имелось в виду, что ядерное оружие должно быть предназначено только для ответного удара, и этой возможностью следует сдерживать агрессора от нападения («фактор сдерживания»). И что его недопустимо применять в первом ударе («как фактор потенциальной агрессии»). В таком случае мы имеем дело с одним из вариантов формулировки концепции стратегической стабильности как состояния стратегических взаимоотношений сторон, при котором сводится к минимуму вероятность ядерной войны, во всяком случае – между двумя сверхдержавами.
Однако если приведенное высказывание отражает представление о существующем порядке вещей, то с ним нельзя согласиться без существенных оговорок.
Фактор агрессии или ее сдерживания?
Первая оговорка состоит в том, что все девять нынешних государств, имеющих ядерное оружие, в своих официальных военных доктринах или по умолчанию допускают применение его первыми.
До недавнего времени КНР и Индия были единственными двумя странами, принявшими обязательство о неприменении ядерного оружия первыми. Но в Китае идет дискуссия об отказе от этого принципа ввиду растущей возможности США поражать китайские ядерные средства высокоточными неядерными системами большой дальности. А Индия, судя по всему, изменила свое прежнее обязательство, заявив, что оно распространяется только на неядерные государства, и это сближает ее стратегию с доктринами России и Соединенных Штатов.
Американские союзники по НАТО – Великобритания и Франция – всегда доктринально допускали применение ядерного оружия первыми, хотя их ядерные силы в сокращенном составе технически более всего соответствуют концепции сугубо ответного удара, во всяком случае в отношении России (а до того – СССР).
Пакистан открыто и безоговорочно придерживается концепции первого применения ядерного оружия (как оперативно-тактического, так и средней дальности) против Индии, имеющей большое превосходство по силам общего назначения.
Израиль не признает и не отрицает наличия у него ядерного оружия. Но ввиду специфики его геополитического окружения ни у кого нет сомнений, что Тель-Авив негласно придерживается концепции первого ядерного удара.
У Северной Кореи вместо доктрины – идеологические декларации с угрозами применения ядерного оружия. В свете малочисленности и уязвимости ее ядерных средств в противоборстве с ядерной сверхдержавой в лице США первый удар – единственный способ применить ядерное оружие (и после этого погибнуть).
Тем более сказанное выше относится к двум ведущим ядерным державам. Российская официальная военная доктрина недвусмысленно предусматривает не только ответный ядерный удар (в качестве реакции на нападение на РФ и ее союзников с использованием ядерного и других видов оружия массового уничтожения, ОМУ), но также и первый ядерный удар: «Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие… в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства». В таком случае ядерный удар будет иметь целью «нанесение неприемлемого ущерба агрессору в любых условиях обстановки».
В военной политике Соединенных Штатов тоже всегда допускалась возможность использования ядерного оружия первыми, как гласит американская ядерная доктрина от 2010 г., «для узкого набора сценариев». Обеспечивая гарантии безопасности союзникам в Европе и Азии, США имеют варианты ядерного ответа на нападение на них с использованием обычного оружия или других видов ОМУ и потому «не готовы в настоящее время принять безоговорочную политику сдерживания ядерного нападения как единственного предназначения ядерного оружия…».
Таким образом, Россия, Соединенные Штаты и другие государства, обладающие ядерным оружием, допускают, помимо ответного удара, те или иные варианты применения ядерного оружия первыми (т.е. как «фактор агрессии»). Такие варианты включены в их понимание ядерного сдерживания (т.е. «фактора обеспечения мира и безопасности во всем мире»). Объясняется этот доктринальный симбиоз тем, что все они без исключения считают «фактором агрессии» только первый ядерный удар вероятного противника. А сами намерены применить ядерное оружие первыми исключительно в ответ на агрессию с использованием других видов ОМУ или обычных вооружений.
В связи с этим следует подчеркнуть, что исторически во многих войнах, особенно после 1945 г., каждая сторона считала, что, даже ведя наступательные операции, она обороняется, отражая реальную или неминуемо грозящую агрессию. Это влекло за собой или могло повлечь эскалацию конфликта. Карибский ракетный кризис октября 1962 г. наглядно продемонстрировал возможность ядерной войны из-за потери контроля над событиями, а не в результате спланированной агрессии. Несколько раз чистое везение спасало мир от ядерной катастрофы, хотя тогда уже существовало взаимное ядерное сдерживание (пусть асимметричное) и ни одна из сторон не хотела прямого конфликта.
Похожие, хотя и не столь опасные ситуации эскалации взаимных оборонительных действий имели место во время берлинского кризиса 1961 г., в ходе вьетнамской (1964–1972 гг.), афганской (1979–1989 гг.) и первой иракской войн (1990 г.). То же можно сказать о четырех ближневосточных войнах (1957, 1967, 1973 и 1983 гг.), фолклендском конфликте (1982 г.), индо-пакистанской и ирано-иракской войнах (1971 и 1980–1988 гг.) и ряде других событий такого рода. Причем некоторым из них сопутствовали открытые угрозы применения ядерного оружия и повышение уровней его готовности ведущими государствами.
Нынешняя конфронтация России и НАТО в Европе, многосторонний характер кризисов на Ближнем Востоке в сочетании с развитием новейших ядерных и обычных высокоточных вооружений и изощренных информационно-управляющих систем порождают угрозу быстрой непреднамеренной эскалации обычного (даже локального) конфликта между великими державами к ядерной войне. Эта угроза усугубляется «новаторскими» концепциями применения ядерного оружия в стратегиях ведущих государств.
Опасные новации
Во времена прошлой холодной войны вероятность быстрой (и даже изначальной) эскалации крупного вооруженного конфликта в Европе к применению ядерного оружия со стороны НАТО и Варшавского договора принималась как данность (а на континенте было развернуто в общей сложности до 17 тыс. единиц тактических ядерных средств). После окончания холодной войны тактические ядерные силы сторон были многократно сокращены, а апокалипсические сценарии были на четверть века забыты.
Но кризис вокруг Украины и наращивание вооруженных сил по обе стороны новых границ между Россией и НАТО вернули прежние страхи в европейскую политику. Масштабные военные учения сторон стали регулярно проводиться с имитацией применения тактических ядерных средств. Оружие такого класса в количестве нескольких сотен единиц все еще размещено вместе с силами общего назначения на передовых базах России и в американских хранилищах на территории стран НАТО.
Однако есть и новшества, чреватые не меньшей опасностью: концепции избирательного применения стратегических ядерных вооружений. Соединенные Штаты с начала 1960-х гг. экспериментировали со стратегией контрсиловых ядерных ударов – поражения стратегических сил и других военных объектов СССР, избегая разрушения городов (во всяком случае, на первых этапах войны). Но все эти планы разбивались о вероятность массированного ядерного ответа другой стороны.
Перемены начались много лет спустя: в 2003 г. в официальных российских документах появились планы «деэскалации агрессии... угрозой нанесения или непосредственно осуществлением ударов различного масштаба с использованием обычных и/или ядерных средств поражения». Причем предполагалась возможность «дозированного боевого применения отдельных компонентов Стратегических сил сдерживания».
С тех пор издания военной доктрины РФ не упоминали подобных концепций, и на время они ушли в тень. Но в условиях нынешнего обострения напряженности в профессиональную печать стали периодически просачиваться сходные идеи, возможно, отражая закрытые стратегические изыскания уполномоченных организаций. Можно в связи с этим предположить, что в России, США (и, видимо, в КНР) прорабатываются концепции избирательного применения стратегического ядерного оружия.
Например, военные профессионалы из закрытых институтов Минобороны РФ подчеркивают «…ограниченный характер первого ядерного воздействия, которое призвано не ожесточить, а отрезвить агрессора, заставить его прекратить нападение и перейти к переговорам. При отсутствии желательной реакции предусматривается нарастающее массирование использования ядерного оружия как в количественном отношении, так и по энерговыделению. Поэтому… первое ядерное воздействие Российской Федерации может носить ограниченный характер. Реакция противника просчитывается в форме как массированного, так и ограниченного ядерного удара. Более вероятным, на наш взгляд, можно считать второй вариант. В его пользу говорит тот факт, что США являются страной, где родилась концепция ограниченной ядерной войны». В качестве возможных средств таких действий рассматриваются, в частности, новые тяжелые наземные ракеты шахтного базирования типа «Сармат», поскольку уязвимость пусковых установок не позволяет полагаться на них для осуществления ответного удара в случае массированной контрсиловой атаки США.
Судя по всему, и Соединенные Штаты, в свою очередь, реанимируют концепции ограниченной стратегической ядерной войны в виде «подогнанных (tailored) ядерных опций». Как оружие таких ударов обсуждаются, например, перспективные ядерные авиационные крылатые ракеты большой дальности (LRSO – long-range stand-off missile) и управляемые авиабомбы с вариативной мощностью заряда (В-61-12).
Чаще всего в России подобные избирательные удары предлагаются как ответ на массированную неядерную «воздушно-космическую агрессию» США и НАТО (вроде многократно расширенного варианта налетов на Югославию, Афганистан или Ирак). А в США такие «опции» прорабатываются как реакция на ограниченное «ядерное воздействие» со стороны России (а также имея в виду Китай). В реальности Соединенные Штаты не имеют ни планов, ни достаточных средств для неядерной «воздушно-космической агрессии» против России, особенно если речь идет об ударе по ее стратегическим ракетным силам. Эти сценарии существуют в воображении российских стратегов. Однако взаимная разработка планов избирательных стратегических ударов угрожает молниеносно перевести на глобальный уровень любое локальное (и даже случайное) вооруженное столкновение двух сверхдержав.
Хотелось бы спросить авторов российской концепции: почему они думают, что Соединенные Штаты в ходе обмена ограниченными ударами, в конце концов, первыми дадут «задний ход»? Видимо, подсознательно здесь присутствует стереотип: в США живут богаче и ценят жизнь выше, а патриотизм – ниже, чем в России. Возможно, применительно к большой и долгой обычной войне это не лишено оснований (достаточно сравнить отношение общества двух стран к войнам во Вьетнаме и Афганистане). Однако упускается из вида, что ядерное оружие и в этом смысле является «великим уравнителем»: и богатым, и бедным одинаково не хочется, чтобы они сами, их дети и внуки превратились в «радиоактивную пыль». Во всяком случае, исторический опыт кризисов холодной войны не подтверждает представления о трусливости американцев, а с тех пор уровень жизни в России и на Западе стал менее контрастным.
Сопутствующая идея, набирающая ныне обороты, состоит в том, что после большого сокращения ядерных арсеналов за прошедшие четверть века ядерная война снова стала возможна и не повлечет глобальной катастрофы. Вот один из образчиков такого прогнозирования: «Решившись на контрсиловой превентивный удар по России… США имеют основания рассчитывать на успех… В итоге до 90 процентов российского ядерного потенциала уничтожается до старта. А суммарная мощность ядерных взрывов составит около 50–60 мегатонн… Гибель миллионов американцев, потеря экономического потенциала будут перенесены относительно легко. Это умеренная плата за мировое господство, которое обретут заокеанская или транснациональная элиты, уничтожив Россию…» В качестве спасительной меры, утверждает автор, создание 40–50 «боеприпасов (в 100 МТ) в качестве боеголовок для тяжелых МБР или сверхдальних торпед гарантирует доведение до критически опасных геофизических зон на территории США (Йеллоустонский супервулкан, разломы тихоокеанского побережья США)... Они гарантированно уничтожат США как государство и практически всю транснациональную элиту».
Можно было бы отмахнуться от таких идей как не составляющих предмет стратегического анализа и требующих услуг специалистов другого профиля, но не все так просто. Их автор (Константин Сивков) много лет служил в Генеральном штабе Вооруженных сил РФ и принимал участие в разработке военно-доктринальных документов государства. В других работах этого специалиста, как и в публикациях упомянутых выше экспертов, вопреки официальной линии Москвы, приводятся вполне убедительные расчеты невозможности массированного поражения не только российских ракетных шахт, но и значительной части промышленности высокоточным неядерным оружием. Также следует напомнить, как пару лет назад один из центральных каналов российского телевидения в репортаже о заседании военно-политического руководства самого высокого уровня как бы «случайно» показал картинку именно такой суперторпеды, вызвав немалый ажиотаж на Западе.
Приведенные примеры не позволяют безоговорочно принять тезис известного российского политолога Сергея Караганова: «Наличие ядерного оружия с имманентно присущей ему теоретической способностью уничтожения стран и континентов, если не всего человечества, изменяло мышление, “цивилизовало”, делало более ответственными правящие элиты ядерных держав. Из этих элит вымывались или не подпускались к сферам, связанным с национальной безопасностью, люди и политические группы, взгляды которых могли бы привести к ядерному столкновению». И дело не в том, что до «ядерной кнопки» могут добраться экстремисты или умалишенные, а в том, что замкнутые институты имеют склонность генерировать узко технико-оперативный образ мышления, совершенно оторванный от реальности и чреватый чудовищными последствиями в случае его практической имплементации.
Так или иначе, приведенные концепции насколько искусственны, настолько и опасны. Россия и США уже второй год не могут договориться о координации обычных авиаударов даже по общему противнику в Сирии, а что уж говорить о негласном взаимопонимании «правил» обмена избирательными ядерными ударами друг по другу! Касательно приемлемости ядерной войны при сокращенных потенциалах, даже если принять крайне спорные прогнозы минимального ответного удара России мощностью в 70 мегатонн (10% выживших средств), надо обладать экзотическим мышлением для вывода, что российский ответ (5 тыс. «хиросим») не будет означать полного уничтожения Cоединенных Штатов и их союзников вместе со всеми элитами.
В реальности нет никаких оснований полагать, что ядерное оружие теперь и в будущем может стать рациональным инструментом войны и ее завершения на выгодных условиях. Однако есть риск (особенно после смены руководства США), что государственные руководители, не владея темой, не имея доступа к альтернативным оценкам и тем более не ведая истории опаснейших кризисов времен холодной войны, поверят в реализуемость подобных концепций. Тогда в острой международной ситуации, стремясь не показать «слабину», они могут принять роковое решение и запустить процесс неконтролируемой эскалации к всеобщей катастрофе.
Банализация и рационализация ядерного оружия и самой ядерной войны, безответственная бравада на эти запретные ранее темы – опаснейшая тенденция современности. Парадоксально, что отмеченные стратегические новации выдвинуты в условиях сохранения солидного запаса прочности паритета и стабильности ядерного баланса России и США. Похоже, что даже классическое двустороннее ядерное сдерживание в отношениях двух сверхдержав (не говоря уже о других ядерных государствах) «поедает» само себя изнутри. Впредь едва ли можно надеяться только на него как на «фактор обеспечения мира и безопасности».
Нельзя не признать, что традиционные концепции и методы укрепления стратегической стабильности не способны устранить данную опасность. Для этого нужны новые принципы стратегических отношений великих держав и механизмы обоюдного отказа от опасных стратегических новаций. Но их невозможно создать в условиях распада контроля над ядерным оружием и неограниченной гонки вооружений.
Спасло ли мир ядерное сдерживание?
Вторая оговорка в отношении упомянутой в начале статьи «валдайской формулы» заключается в том, что ядерный «фактор сдерживания» реализуется исключительно в рамках системы и процесса контроля над вооружениями и их нераспространения – и никак иначе. Сейчас, на кураже ниспровержения прежних истин, по этому поводу высказываются сомнения. Например, цитировавшийся выше Сергей Караганов пишет, что «…баланс полезности и вредности контроля над вооружениями подвести крайне трудно». Тем не менее это сделать легко – при всей сложности проблематики ядерных вооружений.
До начала практического контроля над вооружениями (ведя отсчет с Договора 1963 г. о частичном запрещении ядерных испытаний) мир неоднократно приближался к грани ядерной войны. Характерно, что упомянутый выше самый опасный эпизод – Карибский кризис – помимо конфликта СССР и США из-за Кубы, был главным образом вызван именно динамикой ядерного сдерживания. Отвечая на большой блеф советского лидера Никиты Хрущева о ракетном превосходстве после запуска спутника в 1957 г., Соединенные Штаты начали форсированное наращивание ракетно-ядерных вооружений. Администрация Джона Кеннеди, придя к власти в 1961 г., унаследовала от предшественников 12 старых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и две первые атомные подводные лодки с баллистическими ракетами (БРПЛ). Однако уже в 1967 г. американские стратегические ядерные силы (СЯС) увеличились по числу ракет в 40 раз (!). Поняв, куда идут процессы, Хрущев санкционировал переброску ракет средней дальности на Кубу, чтобы хоть замедлить быстро растущее отставание от США. Остальное хорошо известно.
Так ядерное сдерживание чуть не привело к ядерной войне. Можно до бесконечности спорить, спасло ли мир ядерное оружие или нет. И то и другое недоказуемо, поскольку, слава Богу, ядерной войны в те годы не случилось. Но в течение ста лет после битвы при Ватерлоо и до августа 1914-го большой войны в Европе тоже не произошло, хотя ядерного оружия не было, как и на протяжении полутора веков между Тридцатилетней войной и наполеоновским нашествием. А малых войн случалось множество, как и в годы холодной войны, причем через своих клиентов великие державы воевали и друг с другом.
После Договора 1963 г. в течение последующего полувека была создана обширная система ограничения и нераспространения ядерного оружия. Последний кризис холодной войны произошел осенью 1983 г., причем тоже из-за динамики ядерного сдерживания: развертывания новых ракет средней дальности СССР, а в ответ и аналогичных ракет США и провала переговоров по ограничению ядерных вооружений. Вывод очевиден: международные конфликты на фоне неограниченной гонки ядерных вооружений периодически подводят мир к грани ядерного Армагеддона. А в условиях процесса и режимов контроля над вооружениями – нет.
Отрицать прямую и обратную корреляцию мира и контроля над вооружениями можно, только если не желать признавать очевидного. Именно соглашения об ограничении и сокращении ядерного оружия стабилизировали военный баланс на пониженных уровнях и сыграли решающую роль в спасении мира от глобальной войны. Точно так же четко прослеживается взаимосвязь успехов и провалов диалога великих держав по ядерному разоружению и соответственно – прогресса или регресса режима нераспространения ядерного оружия.
Тем не менее, если исходить из того, что сдерживание, наряду с соглашениями великих держав, явилось одним из факторов спасения мира от ядерной войны в прошлом, то это отнюдь не значит, что так будет продолжаться в будущем. Отношения стабильного стратегического паритета сложились исключительно между СССР/Россией и США, хотя и здесь сейчас нарастают возмущающие факторы. Но нет оснований рассчитывать на тот же эффект в отношениях других ядерных государств, например, Индии и Пакистана. Тем более это относится к Северной Корее и возможным будущим обладателям ядерного оружия, если продолжится его распространение, что неизбежно в случае провала переговоров по дальнейшему сокращению ядерных арсеналов.
А через новые ядерные государства это оружие или оружейные материалы и экспертиза неизбежно рано или поздно попадут в руки террористов, что положит катастрофический конец роли ядерного оружия как «фактора обеспечения мира и безопасности». Ядерное сдерживание, согласно вечным законам гегелевской диалектики, убьет само себя. Это тем более так, поскольку в настоящее время разворачивается беспрецедентный кризис системы контроля над ядерным оружием.
Распад системы: есть ли повод для волнения?
Впервые за более чем полвека переговоров и соглашений по ядерному оружию (после Договора 1963 г.) мир оказался перед перспективой потери уже в ближайшее время договорно-правового контроля над самым разрушительным оружием в истории человечества.
Наиболее слабым звеном в системе контроля над ядерным оружием является Договор РСМД между СССР и США от 1987 года. Стороны уже несколько лет обвиняют друг друга в нарушении Договора, и после смены администрации в Вашингтоне в обозримом будущем он может быть денонсирован. В России к этому соглашению относятся скептически, что регулярно проявляется в высказываниях государственных руководителей. Еще более настораживает, что в новой «Концепции внешней политики» от 2016 г. он даже не упомянут в числе договоров, которым привержена Москва.
Обычно в вину Договору РСМД вменяется, что согласно его положениям было ликвидировано в два с лишним раза больше советских, чем американских ракет (соответственно 1836 и 859), и этой арифметикой до сих пор возмущаются многие российские эксперты в погонах и без. Но дело не просто в том, что советских ракет было развернуто намного больше и соответственно до «нуля» пришлось больше их сокращать. Еще важнее, что по высшей стратегической математике СССР все равно остался в выигрыше по качеству. Ведь для него был устранен, по сути, элемент стратегической ядерной угрозы, особенно ракеты «Першинг-2», способные с коротким подлетным временем (7 минут) наносить точные удары по подземным командным центрам высшего военно-политического руководства в Московском регионе. А непосредственно для американской территории Договор никак угрозу не уменьшил, поскольку советские ракеты средней дальности ее по определению не достигали.
Другой аргумент против Договора состоит в том, что ракеты средней дальности нужны России для ударов по базам ПРО США в Европе. Между тем все непредвзятые оценки показывают, что эти системы не способны перехватить российские МБР ни на разгонном участке, ни вдогонку. Кстати и президент Путин заявлял, что новые системы РФ могут преодолеть любую ПРО США.
Довод о том, что нужно отвечать на ядерные ракеты средней дальности третьих стран, не участвующих в Договоре, тоже неубедителен. Поскольку Великобритания и Франция не имеют ракет такого класса, из пяти остальных ядерных государств КНР и Индия – стратегические союзники России, Пакистан нацеливает ракеты только на Индию, Израиль – на исламских соседей, а КНДР – на американских дальневосточных союзников, а в перспективе – на США.
В любом случае Россия обладает большим количеством достратегических ядерных средств для сдерживания третьих стран, помимо стратегического потенциала для сдерживания Соединенных Штатов, часть которого может быть нацелена по любым другим азимутам. И уж если этой огромной мощи недостаточно для сдерживания третьих ядерных государств, то дополнительное развертывание наземных баллистических и крылатых ракет средней дальности делу не поможет. Придется рассчитывать на противоракетную оборону в составе модернизированной Московской ПРО А-235, новейших систем С-500 и последующих поколений подобных средств. А заодно пересмотреть позицию о необходимости отказа от систем ПРО или их жесткого ограничения.
Вопреки критике Договора при современном геополитическом положении России он намного важнее для ее безопасности, чем 30 лет назад. В случае его краха и в ответ на развертывание ныне запрещенных российских систем оружия возобновится размещение американских ракет средней дальности, причем не в Западной Европе, как раньше, а на передовых рубежах – в Польше, Балтии, Румынии, откуда они смогут простреливать российскую территорию за Урал. Это заставит Москву с огромными затратами повышать живучесть ядерных сил и их информационно-управляющей системы.
Кризис контроля над ядерным оружием проявляется и в том, что вот уже шесть лет не ведется переговоров России и США по следующему договору СНВ – самая затянувшаяся пауза за 47 лет таких переговоров. В 2021 г. истечет срок текущего Договора СНВ, и в контроле над стратегическими вооружениями возникнет вакуум. Времени для заключения нового договора, в свете глубины разногласий сторон по системам ПРО и высокоточным неядерным вооружениям, все меньше. При этом новая администрация Белого дома не проявляет заинтересованности в заключении нового договора СНВ до 2021 г. или в его продлении до 2026 года.
Именно с середины 2020-х гг. Соединенные Штаты приступят к широкой программе обновления своего стратегического ядерного арсенала (стоимостью до 900 млрд долл.), а также, вероятно, расширят программу ПРО, на что Россия будет вынуждена отвечать. Причем в отличие от периода холодной войны эта ракетно-ядерная гонка будет дополнена соперничеством по наступательным и оборонительным стратегическим вооружениям в неядерном оснащении, а также развитием космического оружия и средств кибервойны. Новейшие системы оружия особенно опасны тем, что размывают прежние технические и оперативные разграничения между ядерными и обычными, наступательными и оборонительными, региональными и глобальными вооружениями.
К тому же гонка вооружений станет многосторонней, вовлекая, помимо США и России, также КНР, страны НАТО, Индию и Пакистан, Северную и Южную Кореи, Японию и другие государства. Геополитическое положение России обуславливает ее особую уязвимость в такой обстановке.
Уже два десятилетия по вине Вашингтона в законную силу не вступает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). По их же вине недавно «заморожено» соглашение о ликвидации избыточного запаса плутония. Переговоры по запрещению производства разделяющихся материалов (оружейного урана и плутония) в военных целях (ДЗПРМ) много лет стоят в тупике на Конференции по разоружению в Женеве. По российской инициативе за последние три года прекратилось сотрудничество РФ и США по программам безопасной утилизации, физической сохранности и защите ядерных вооружений, материалов и объектов.
Конференция по рассмотрению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2015 г. закончилась провалом. Северная Корея, которая вышла из ДНЯО в 2003 г., продолжает испытания ядерного оружия и баллистических ракет. В апреле 2017 г. от нее дистанцировался даже главный покровитель – Китай. Настрой новой администрации и Конгресса против многостороннего соглашения об ограничении иранской ядерной программы от 2015 г. может нанести окончательный удар по ДНЯО. Дальнейшее распространение ядерного оружия будет происходить главным образом рядом с российскими границами (Иран, Турция, Египет, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония).
Если и когда это оружие попадет в руки террористов, Россия – с недавнего времени лидер в борьбе с международным терроризмом – может стать одним из первых объектов их мщения, тем более в свете уязвимости ее геополитического положения и проницаемости южных границ.
Рецепты летального исхода
Традиционный контроль над ядерным оружием зиждился на ярко выраженной биполярности миропорядка, примерном равновесии сил сторон и согласовании классов и типов оружия в качестве предмета переговоров. Ныне миропорядок стал многополярным, равновесие асимметричным, а новые системы оружия размывают прежние разграничения. Контроль над вооружениями и предотвращение ядерной войны необходимо своевременно адаптировать к меняющимся условиям. Но надстраивать здание нужно на твердом и испытанном фундаменте – таково элементарное правило любой реконструкции.
В упоминавшейся выше статье Сергей Караганов пишет о необходимости выработки «новых схем ограничения вооружений». В качестве таковых он предлагает «не традиционные переговоры по сокращению (ликвидации) ядерного оружия... Пора и в расчетах, и в переговорах, если их все-таки вести, отходить от бессмысленного принципа численного паритета… Вместо этого стоит начать диалог всех ядерных держав (в том числе, возможно, даже Израиля и Северной Кореи…) по укреплению международной стратегической стабильности. Сопредседателями диалога могут быть Россия, США и Китай. Цель – предотвращение глобальной войны, использования ядерного оружия. Он должен быть направлен именно на повышение стабильности, предсказуемости, донесения друг до друга опасений, предотвращения новых дестабилизирующих направлений гонки вооружений. Особенно основанных на новых принципах средств противоракетной обороны в динамическом взаимодействии с наступательными вооружениями. Естественно, диалог должен включать и обсуждение неядерных, но де-факто стратегических вооружений. А также средств кибервойны… Таким образом, – пишет этот авторитетный специалист, – цель диалога – не собственно сокращение арсеналов, а предотвращение войны через обмен информацией, разъяснение позиций, в том числе причин развертывания тех или иных систем, доктринальных установок, укрепление доверия или по крайней мере уменьшения подозрений».
Прежде всего по поводу приведенного подхода следует отметить, что у Москвы и Вашингтона уже есть совместная концепция стратегической стабильности, предметно согласованная в первый и, к сожалению, последний раз в 1990 году. Ее суть (состояние стратегических отношений, устраняющее стимулы для первого удара) вполне актуальна. Что касается конкретных способов укрепления стабильности (взаимоприемлемое соотношение наступательных и оборонительных средств, снижение концентрации боезарядов на носителях и акцент на высокоживучие системы оружия), они, безусловно, требуют обсуждения и дополнения. Нужно учесть появление новейших наступательных и оборонительных вооружений, затронутые выше опасные концепции их применения, киберугрозы, распространение ядерного и ракетного оружия. Но расширение круга участников таких переговоров преждевременно. В обозримом будущем было бы величайшим успехом достичь взаимопонимания хотя бы в двустороннем формате, а уже затем думать о его расширении.
Кроме того, отвлеченное обсуждение стратегической стабильности сродни популярным в Средние века схоластическим диспутам. Это не приведет к конкретному результату, вроде упомянутого Карагановым «предотвращения новых дестабилизирующих направлений гонки вооружений». Едва ли можно рассчитывать, что оппоненты просто силой аргументов убедят друг друга отказаться от вызывающих беспокойство программ – без достижения взаимных компромиссов в виде ограничения и сокращения конкретных вооружений. А раз так, то и «численному паритету» нет альтернативы: ни одна из сторон не согласится юридически закрепить свое отставание.
Это суждение подтверждает практический опыт. Ведущиеся в течение последних лет американо-китайские консультации по стратегической стабильности при неравенстве потенциалов не породили ничего (кроме совместного словаря военных терминов). Та же участь постигла переговоры «большой ядерной пятерки», начавшиеся с 2009 г.: ничего конкретного, кроме общих благих пожеланий, согласовать не удалось. Наконец, есть опыт диалога России и Соединенных Штатов, который шел до 2012 г. по системам ПРО в контексте стратегической стабильности. Интеллектуальное взаимодействие потерпело фиаско, поскольку США не соглашались ни на какие ограничения ПРО, а Россия их и не предлагала, требуя «гарантий ненаправленности».
Если бы удалось организовать предлагаемый Сергеем Карагановым форум «девятки» по стратегической стабильности, он в лучшем случае вылился бы в бесплодный дискуссионный клуб, а в худшем – в площадку для взаимной ругани (тем более с участием таких своеобразных стран, как Израиль и КНДР).
Единственное содержательное определение стабильности от 1990 г. потому и состоялось, что согласовывалось в рамках переговоров о Договоре СНВ-1 и нашло воплощение в его статьях и обширнейшей интрузивной системе верификации и мер доверия. Поэтому паритет, количественные уровни, подуровни и качественные ограничения являются самым оптимальным и доказавшим свою практичность фундаментом соглашений по укреплению стабильности. В достигнутых с начала 1970-х гг. девяти стратегических договорах сокращение и ограничение вооружений, меры доверия и предсказуемости – отнюдь не самоцель, а способ практического (в отличие от теоретического) приближения к главной цели – предотвращению ядерной войны.
Разрушить существующую систему контроля над вооружениями проще простого, для этого даже не надо ничего делать – без постоянных усилий по ее укреплению она сама разрушается под давлением политических конфликтов и военно-технического развития. А вот создать на ее обломках нечто новое невозможно, тем более если предлагается привлечь скопом все ядерные государства и говорить одновременно обо всех насущных проблемах.
Об интересах России
После смены власти в Вашингтоне сохранение и совершенствование режимов контроля над ядерным оружием впредь могла бы обеспечить только Россия. Конечно, в том случае, если бы она этого захотела. Однако ни на США, ни на КНР или НАТО/Евросоюз рассчитывать не приходится. Помимо ответственности России как великой державы и ядерной сверхдержавы за эту кардинальную область международной безопасности, побудительным мотивом могут быть и другие соображения. При трезвом анализе ситуации, избавленном от политических обид и «ядерного романтизма», Москва должна быть больше всех заинтересована в этом с точки зрения национальной безопасности.
Во-первых, потому что гонку ядерных вооружений теперь намерены возглавить Соединенные Штаты, так зачем предоставлять им свободу рук? В интересах России понизить стратегические «потолки», загнать под них гиперзвуковые средства, вернуться к вопросу согласования параметров и мер доверия применительно к системам ПРО. Тем более что РФ интенсивно строит такую систему в рамках большой программы Воздушно-космической обороны (ВКО).
Другой мотив в том, что, как отмечалось выше, Россия находится в куда более уязвимом геостратегическом положении, чем США и страны НАТО, не имеет союзных ядерных держав и вообще не богата верными военно-политическими союзниками. Соответственно, продуманные и энергичные меры контроля над вооружениями способны устранить многие опасности, которые нельзя снять на путях гонки вооружений.
И, наконец, последнее: новое военное соперничество потребует колоссальных затрат, тогда как российская экономика сегодня явно не на подъеме (в этом году грядет серьезное сокращение российского военного бюджета). Ограничение стратегических сил и другие меры позволят сэкономить изрядные средства и обратить их на другие нужды страны.
Тот факт, что от Вашингтона впредь не следует ждать новых предложений или готовности с энтузиазмом принять российские инициативы, должен рассматриваться как дополнительный аргумент в пользу активизации политики РФ на данном треке. Если со стороны России поступят серьезные предложения (но не такие, как в случае с утилизацией плутония), от них не получится просто так отмахнуться. Более того, с учетом трудностей в отношениях двух ядерных сверхдержав на других направлениях (Украина, Сирия, Иран, Северная Корея), указанная сфера способна быстро стать триггером возобновления их взаимодействия, о котором много говорил Дональд Трамп в ходе избирательной кампании. К тому же он сможет поставить себе в заслугу достижение успеха там, где прежнего президента постигла неудача. (В истории были прецеденты: Никсон и Джонсон, Рейган и Картер.)
Возобновление активных усилий Москвы в данной сфере, безусловно, вызовет поддержку всех стран «Старой Европы», Китая, Японии, мира нейтральных и неприсоединившихся стран, широких общественных движений (вроде кампании за запрещение ядерного оружия, ведущейся в ООН), а также среди либеральных кругов США, в основном настроенных ныне против России. В известном смысле наша дипломатия в сфере контроля над ядерным оружием может стать важнейшим направлением использования «мягкой силы» в российской политике расширения своего глобального влияния.
Первоочередной задачей является спасение Договора РСМД. Вместо бесплодного обмена обвинениями сторонам следует совместно выработать дополнительные меры проверки, чтобы устранить взаимные подозрения. Разумеется, это возможно, только если Россия сама для себя признает ключевое значение Договора в обеспечении собственной безопасности и отбросит недальновидные взгляды на это соглашение.
Затем – заключение следующего договора СНВ на период после 2021 г. и на этой основе – согласование мер в области систем ПРО и новых стратегических вооружений в обычном оснащении. Далее – шаги к закреплению практического эффекта, а затем и вступлению в законную силу ДВЗЯИ. Потом – прогресс по линии ДЗПРМ и утилизации плутония, возобновление сотрудничества России и других стран по физической защите ядерных объектов и сохранности ядерных материалов. Параллельно – укрепление ДНЯО и режима контроля над ракетными технологиями. После этого – ограничение достратегического ядерного оружия и в этом контексте поэтапное и избирательное придание процессу сокращения ядерного оружия многостороннего характера.
* * *
Как показал исторический опыт нашей страны в других общественных сферах, в реальной жизни (в отличие от идеальной) не удастся до основания снести старое, а затем на чистом месте воздвигнуть нечто новое и прекрасное. На деле, если откажемся от наработанных за предшествующие полвека норм и инструментов контроля над ядерным оружием, то в итоге останемся «у разбитого корыта». Вместо этого необходимо срочно спасать эту сложную и бесценную конструкцию и, опираясь на такой фундамент, продуманно совершенствовать систему, приспосабливая к новым вызовам и угрозам российской и международной безопасности. Как сказал великий русский историк академик Василий Ключевский, «где нет тропы, надо часто оглядываться назад, чтобы прямо идти вперед».
Ко Дню Петра и Февронии в 10 кинотеатрах бесплатно покажут фильмы о семейных ценностях
В программе советские картины «По семейным обстоятельствам», «Дом, в котором я живу», «Мама вышла замуж» и другие.
Ко Дню семьи, любви и верности в 10 кинотеатрах сети «Москино» Департамента культуры бесплатно покажут советские ленты о семейных ценностях. 8 и 9 июля зрители смогут увидеть 14 картин, снятых в 1950–1970-х годах.
«Мы специально составили программу таким образом, чтобы она включала в себя фильмы абсолютно разных жанров. Но при этом все они повествуют о семейных отношениях, о светлых чувствах. Зрители смогут посмотреть и комедии, и мелодрамы, и драмы. К тому же в нашем праздничном репертуаре представлены фильмы разных советских периодов — это и классика оттепели, и конечно — киноленты 1970-х годов. В этот период было снято много картин, посвященных отношениям мужчины и женщины», — рассказали в пресс-службе «Москино».
В субботу, 8 июля, в кинотеатре «Березка» (район Новогиреево, ВАО) состоится показ знаменитой комедии «По семейным обстоятельствам» (1978). В главных ролях —Галина Польских, Марина Дюжева и Евгений Стеблов. В этот же день в кинотеатре «Полет» (район Южное Тушино, СЗАО) зрители смогут увидеть другую комедию на семейную тему — «Обыкновенный человек» (1956). В центре сюжета — интриги в доме известного певца Ладыгина, к которому приехал фронтовой друг — известный ученый, притворяющийся простым кассиром.
В этот же день зрители посмотрят и киноклассику периода оттепели. В кинотеатре «Сатурн» (район Свиблово, СВАО) покажут семейную драму Льва Кулиджанова «Когда деревья были большими» (1961), а в «Космосе» (район Останкинский, СВАО) — «Дом, в котором я живу».
Также 8 июля посетители бесплатных киносеансов смогут увидеть фильмы, где главные герои сюжета — дети. В кинотеатре «Салют» (район Академический, ЮЗАО) зрителям покажут комедийную драму «Дети Дон Кихота» (1966) о чете врачей и их троих сыновьях. А в кинотеатре «Юность» (район Щукино, СЗАО) состоится показ драмы Георгия Данелии «Сережа»(1960) с Сергеем Бондарчуком и Ириной Скобцевой в главных ролях. Лента рассказывает о взаимоотношениях пятилетнего мальчика Сережи и его «нового папы», который стал настоящим другом мальчика.
9 июля в кинотеатре «Сатурн» (район Свиблово, СВАО) можно будет увидеть ленту «Мама вышла замуж» (1969) с Олегом Ефремовым, Николаем Гуляевым и Люсьеной Овчинниковой. Это история о взаимоотношениях матери, сына и отчима.
В кинотеатре «Молодежный» (район Текстильщики, ЮВАО) зрители посмотрят историческую мелодраму Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья» (1975) о судьбах декабристов и их жен.
Также 9 июля в кинотеатре «Салют» (район Академический, ЮЗАО) состоится показ фильма Анатолия Эфроса «Шумный день» (1960) с молодым Олегом Табаковым в главной роли. Фильм рассказывает о разных мировоззрениях членов большой московской семьи.
Картину о взаимоотношениях внутри многочисленного семейства покажут и в кинотеатре «Вымпел» (район Бабушкинский, СВАО). Фильм «Наш дом» (1965) режиссера Виталия Пронина повествует о том, как тяжело родителям смириться с уходом детей из отчего дома в самостоятельную взрослую жизнь.
Всероссийский день семьи, любви и верности появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Они стали образцом крепких семейных отношений еще при жизни. Ежегодно праздник отмечается с 2008 года. Главным его символом считается ромашка — еще на Руси влюбленные гадали на этих цветах и дарили их друг другу.
Расписание кинопоказов
Кинотеатр «Березка»:
— 8 июля, 12:00 — «По семейным обстоятельствам» (режиссер Алексей Коренев, СССР, 1978, 6+).
Кинотеатр «Вымпел»:
— 8 июля, 11:00 — «Большая семья» (режиссер Иосиф Хейфиц, СССР, 1954, 6+);
— 9 июля, 11:00 — «Наш дом» (режиссер Василий Пронин, СССР, 1965, 6+).
Кинотеатр «Искра»:
— 8 июля, 14:00 — «Однажды двадцать лет спустя» (режиссер Юрий Егоров, СССР, 1980, 12+).
Кинотеатр «Космос»:
— 8 июля, 12:00 — «Дом, в котором я живу» (режиссер Лев Кулиджанов, СССР, 1957, 6+).
Кинотеатр «Молодежный»:
— 8 июля, 18:00 — «Старший сын» (режиссер Виталий Мельников, СССР, 1975, 12+);
— 9 июля, 18:00 — «Звезда пленительного счастья» (режиссер Владимир Мотыль, СССР, 1975, 16+).
Кинотеатр «Полет»:
— 8 июля, 19:00 — «Обыкновенный человек» (режиссер Александр Столбов, СССР, 1956, 12+).
Кинотеатр «Салют»:
— 8 июля, 12:00 — «Дети Дон Кихота» (режиссер Евгений Карелов, СССР, 1966, 12+);
— 9 июля, 12:00 — «Шумный день» (режиссер Анатолий Эфрос, СССР, 1960, 0+).
Кинотеатр «Сатурн»:
— 8 июля, 12:00 — «Когда деревья были большими» (режиссер Лев Кулиджанов, СССР, 1961, 0+);
— 9 июля, 16:00 — «Мама вышла замуж» (режиссер Виталий Мельников, СССР, 1969, 16+).
Кинотеатр «Спутник»:
— 8 июля, 13:00 — «Здравствуй и прощай» (режиссер Виталий Мельников, СССР, 1972, 16+).
Кинотеатр «Юность»:
— 8 июля, 11:00 — «Сережа» (режиссер Георгий Данелия, СССР, 1960, 12+).
Власти Эстонии утверждают, что "Северный поток — 2" может навредить тюленям.
Министерство окружающей среды Эстонии утверждает, что взрывные работы при прокладке газопровода "Северный поток — 2" якобы "могут повредить слуховые органы тюленей", обитающих в Финском заливе.
"Результаты анализа показывают, что строительство газопровода, в частности взрывные работы при его прокладке, могут повредить слуховые органы тюленей и нанести им другие травмы. Угроза для морских млекопитающих должна быть сведена к минимуму, тем более что популяция тюленей сокращается", — говорится в сообщении по итогам доклада о влиянии прокладки трубопровода на экологию Балтийского моря.
Ранее премьер-министры Эстонии, Чехии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы подписали письмо председателю Еврокомиссии, выступая против реализации "Северного потока — 2". По их мнению, проект несет в себе риски геополитической дестабилизации.
При этом правительство Германии четко заявляет, что это исключительно экономический проект. Глава МИД ФРГ Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн раскритиковали решение сената США ввести новые санкции против России, которые, в частности, затрагивают проект.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Оператор проекта — Nord Stream 2 AG.
Николай Адашкевич
Трамп планирует упростить поставки американского СПГ в Европу.
Американский лидер объявит об этом на саммите «Три моря» в Варшаве.
США планируют сделать максимально простыми для американских компаний поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Центральную и Восточную Европу и станут использовать быстрорастущий энергетический экспорт в качестве «политического инструмента», чтобы снизить зависимость некоторых стран от России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
Саммит «Три моря», где Трамп сделает заявление, пройдет в Варшаве в этот четверг, 6 июля, в преддверии встречи G20 в Германии.
Группа «Трех морей» включает 12 европейских стран, которые расположены между Адриатическим, Балтийским и Черным морями. Среди них — Польша, Австрия, Венгрия, Латвия и Эстония. Основной повесткой запланированного саммита станет создание «энергетической альтернативы» российским проектам в Европе, развитие энергетической инфраструктуры, терминалов СПГ и газопроводов.
По словам бывшего главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Джеймса Джонса, увеличение экспорта американского газа снизит возможности России в регионе.
Как ранее поясняла исполняющая обязанности спецпосланника и координатора по вопросам энергетических ресурсов Госдепартамента США Мэри Уорлик, энергетическая безопасность в Европе является основным приоритетом, поскольку многие страны ЕС сильно зависят от одного поставщика — России. Она добавила, что 45% газа в 2015 году Европа импортировала из России, а у 13 европейских стран в том же году поставки российского газа составили 75% от общего объема.
США уже поставляют СПГ в Испанию, Португалию и Италию. В июне Вашингтон также начал поставки в Польшу, которые осуществила компания Cheniere Energy. По информации The Washington Post, США планировали стать полноценным экспортером газа в Европу уже в 2017 году, чтобы «бросить вызов доминирующему положению России».
Украина должна потребовать объяснения от Польши за высказывание главы польского внешнеполитического ведомства касательно исторического прошлого страны, считает украинский эксперт-международник, экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.
Ранее министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию wSieci заявил, что Украина не попадет в Евросоюз "с Бандерой". Глава польского МИД отметил, что экономическое сотрудничество Польши с Украиной выглядит не очень хорошо, но "хуже всего, конечно, в вопросах исторических". При этом глава польского МИД отметил, что не видит большой воли украинского руководства решить насущные проблемы страны.
"Высказывания министра иностранных дел Польши Ващиковского являются несвоевременными, недружественными и вредными для двухсторонних украинско-польских отношений. Безусловно, такие слова требуют реакции МИД Украины, и я надеюсь, что наше внешнеполитическое ведомство вызовет посла Польши для того, чтобы получить пояснения по поводу высказываний главы МИД этой страны, или же наш посол в Польше посетит министерство и будет требовать соответствующих объяснений", — сказал Лубкивский во вторник в эфире телеканала "112.Украина".
Лубкивский добавил, что подобные высказывания главы МИД Польши являются "вмешательством во внутренние дела Украины, мы сами будем решать, кто наши герои. Еще один момент — до членства Украины в ЕС еще очень далеко, пройдет много времени и, очевидно, поменяется не один Ващиковский".
Ранее глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что Украина не войдет в Европу в том случае, если продолжит поддерживать культ личности лидера украинских националистов времен Второй мировой Степана Бандеры.
Степан Бандера (1909-1959) был лидером ОУН*, одним из главных инициаторов создания Украинской повстанческой армии (УПА)*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов*. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. Президент Украины Петр Порошенко в мае 2015 года дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам — право на соцгарантии. Киевский городской совет летом 2016 года принял решение о переименовании Московского проспекта в честь Бандеры.
Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. Массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.
Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
В соответствии с Планом научно-практических мероприятий ФМБА России на 2017 год, в целях обмена опытом и повышения профессионального уровня врачей-гематологов и трансфузиологов, специалистов службы крови ФМБА России, 06-07 июня 2017 года в Санкт-Петербурге на базе ФГБУ «Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии ФМБА России» проведена Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы гематологии и трансфузиологии», посвященной 85-летию Российского научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии.
Среди участников конгресса начальник Управления организации службы крови ФМБА России О.В. Эйхлер, заместитель начальника отдела организации деятельности службы крови Управления организации службы крови О.И. Розанова, генеральный директор ФГБУ ГНЦ Минздрава России, главный внештатный гематолог и трансфузиолог РФ академик В.Г. Савченко, директор ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России академик Ю.В. Лобзинссии академик Ю.В,России, ведущие специалисты из различных регионов РФ, Республики Беларусь, Казахстана, Бельгии, Испании, Германии.
Конференцию открыл директор Российского НИИ гематологии и трансфузиологии, профессор А.В. Чечеткин, который поздравил сотрудников института с 85-летним юбилеем и пожелал всем участникам успешной работы. С приветственным словом выступила начальник Управления организации службы крови ФМБА России О.В. Эйхлер, которая отметила, что Российский научно-исследовательский институт гематологии действительно представляет собой ведущее учреждение страны, осуществляющее научно-исследовательскую и организационно-методическую деятельность по проблемам гематологии и службы крови. Ольга Валерьевна зачитала приказ Руководителя Федерального медико-биологического агентства В.В. Уйба о награждении ряда сотрудников ведомственными наградами и почетными грамотами. С приветственным словом и поздравлениями в адрес института выступили – академик В.Г. Савченко, академик Ю.В. Лобзин, директора станций переливания крови с различных регионов РФ.
На конференции рассмотрены: научно-организационные вопросы гематологической помощи (вопросы теоретической и практической гематологии, диагностика и лечение гемобластозов, анемий и депрессий гемопоэза, патология системы гемостаза, иммунологические аспекты в гематологии, трансплантация гемопоэтических стволовых клеток), научно-организационные вопросы службы крови (донорство, заготовка и консервирование крови, ее компонентов, костного мозга, иммунология и служба крови, кровезаменители и препараты крови, безопасность гемотрансфузий, клиническая трансфузиология). В работе конференции приняли участие 337 делегатов из различных регионов России, Республики Белорусь, Испании, Германии и других стран Европы. Программа конференции состояла из 2 пленарных заседаний, 7 секционных заседаний и 2 сателлитных симпозиумов. На пленарных заседаниях с докладами выступили директор Российского НИИ гематологии и трансфузиологии А.В. Чечеткин, генеральный директор ФГБУ ГНЦ Минздрава России, главный внештатный гематолог и трансфузиолог РФ академик В.Г. Савченко, директор института детской гематологии и трансплантологии имени Р.М. Горбачевой Б.В. Афанасьев, заместитель директора по научной работе Российского НИИ гематологии и трансфузиологии С.С. Бессмельцев, директор Института гематологии ФГБУ СЗФМИЦ им. В.А. Алмазова А.Ю. Зарицкий, директор Кировского НИИ гематологии и переливания крови И.В. Парамонов.
А.В. Чечеткин в своем докладе рассказал об истории института, отметил огромный вклад ученых в разработку актуальных вопросов гематологии и трансфузиологии. Особый период истории института связан с тяжелыми испытаниями, выпавшими на долю всего советского народа, во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В труднейших условиях блокады Ленинграда институт обеспечивал бесперебойное снабжение консервированной кровью все лечебные учреждения города, Ленинградского и Волховского фронтов, Балтийского флота. Не прекращалась научная работа. Институт, организованный в 1932 г как Научно-практический институт переливания крови, в последующие годы был реорганизован в Ленинградский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови, а затем – Российский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии. Гематология стала неотъемлемым разделом деятельности института. Наряду с разработкой кровезаменителей полифункционального действия, различных растворов и лечебных препаратов, началось активное изучение этиологии и патогенеза, разработка методов диагностики и лечения заболеваний системы крови. Сотрудниками института решается ряд фундаментальных и прикладных задач. Сегодня в институте большое значение придаётся организации специализированной гематологической помощи населению и организации службы крови, вопросам донорства, заготовки и консервирования крови и её компонентов. В год своего 85-летия Российский НИИ гематологии и трансфузиологии по-прежнему представляет собой одно из ведущих учреждений страны, в котором решаются различные актуальные проблемы гематологии и трансфузиологии.
Академик РАН В.Г. Савченко остановился на диагностике и лечении острых лейкозов. К настоящему времени успехи, достигнутые в лечении лейкозов весьма существенны, что связано с внедрением в клиническую практику новых лекарственных препаратов и новых подходов, основанных на результатах многоцентровых исследований, проведенных, в том числе в России. Однако количество трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток остается крайне низким. Профессор Б.В. Афанасьев говорил о путях преодоления резистентности при аллогенной трансплантации костного мозга при онкогематологических заболеваниях. Профессор С.С. Бессмельцев рассказал о современных подходах к лечению рефрактерных/рецидивирующих форм множественной миеломы. Анализ выживаемости больных, лечившихся в различные годы, убедительно показал, что с 2001 г. отмечается неуклонный рост показателей выживаемости. В своем докладе автор осветил в целом проблему лечения рефрактерных/рецидивирующих форм множественной миеломы. Привел убедительные данные по эффективности нового поколения лекарственных препаратов (карфилзомиб, помалидомид, иксазомиб, моноклональные антитела).
Секционное заседание 1 было посвящено актуальным вопросам службы крови и трансфузиологии». В докладе А.Б. Макеева и соавт. представлены показатели динамики донорства компонентов крови в ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России. Отмечено, что в период с 2007 г. доля доноров резерва выросла с 54%, до 72%, в общем объеме заготовленных эритроцитных компонентов крови доля эритроцитной взвеси увеличилась с 72% в 2007 году до 100% в 2016 году, доля лейкоредуцированных эритроцитных сред – с 32,1% в 2007 году до 100% – в 2015 и 2016 гг., тромбоцитные концентраты заготавливаются в последние два года только на клеточных сепараторах. Т.В. Клестовой (Минск) в своем докладе «Индикаторы качества деятельности службы крови Республики Беларусь» представлены индикаторы деятельности службы крови Республики Беларусь, характеризующие высокие показатели производства безопасных и эффективных компонентов крови. Профессор Е.Б. Жибурт рассказал о трансфузиологической практике Пироговского Центра (Москва), отметив, что доля реципиентов компонентов крови сократилась: эритроцитов – на 37%, плазмы – на 89%. Выросла экономическая эффективность службы кров. Л.А. Скрипай, В.И. Ващенко продемонстрировали показатели эффективности получения компонентов крови с использованием бесцентрифужной фильтрационной системы.
В первом докладе профессора Н.В. Минеевой на секционном заседании «Обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов» рассказала о сложно-диагностируемых случаях определения резус принадлежности крови доноров и реципиентов. Доклад вызвал активный интерес слушателей т.к. данный вопрос является актуальным для практических работников службы крови. Профессор В.Н. Чеботкевич в своем выступлении рассмотрел актуальные вопросы обеспечения инфекционной безопасности гемотрансфузий. Он отметил, что документы по обеспечению бактериального контроля донорской крови устарели и подчеркнул необходимость подготовки методических документов, соответствующих реалиям сегодняшнего дня. Также он коснулся вопросов контроля гемотрансфузионной передачи вирусов гепатита В и С, и подчеркнул, что определение АЛТ сохраняет свое значение. В докладе И.А. Пашковой и О.В. Мазанкиной было рассмотрено влияние аутоантител на результаты скрининга аллоантител в исследуемой крови. Большой интерес у слушателей вызвал доклад Т.А. Туполевой, представленный Д.С. Тихомировым. Он рассказал об эпидемиологических расследованиях случаев трансфузионного гепатита. Показана опасность передачи вирусов гепатитов и необходимость совершенствования методов контроля вирусных гемотрансмиссивных инфекций.
На сателлитном симпозиуме «Новые возможности заготовки компонентов крови» были представлены сообщения о новых исследованиях по изучению эффективности технологий Mirasol для инактивации патогенов в крови и ее компонентах (М. Крамбусанос, Бельгия). В. Де Поттер (Бельгия) рассказал о новых возможностях аппарата Trima Accel, благодаря использованию нового программного обеспечения. Версия 7.0. В хорошо иллюстрированном докладе Х. Р. Позо (Испания) рассмотрены возможности платформы Reveos для автоматической переработки цельной крови на отдельные гемокомпоненты. На сателлитном симпозиуме «Перспективные подходы в гематологии» были представлены данные по эффективности новых лекарственных препаратов, которые в последнее время активно используются в лечении множественной миеломы (карфилзомиб, деносумаб), острого лейкоза (блинатумомаб), иммунной тромбоцитопенической пурпуры (ромиполостим), анемического синдрома (аранесп), нейтропении (неуластим).
На секционном заседании «Донорский регистр и трансплантация гемопоэтических стволовых клеток при опухолевых заболеваниях системы крови» были заслушаны доклады специалистов из Санкт-Петербурга и Москвы. В своем сообщении Л.П. Менделеева (г. Москва) доложила об опыте своего учреждения в применении трансплантации аутологичных гемопоэтических стволовых клеток в лечении больных множественной миеломой. Л.Н. Бубнова (Санкт-Петербург) в докладе о роли иммуногенетических факторов в подборе оптимального донора гемопоэтических стволовых клеток представила данные о значимости различий по генам системы HLA, влиянии несовместимости на уровне аллелей и антигенов на выживаемость после трансплантации, роли неклассических антигенов HLA. Также была представлена роль регистров в поиске и подборе совместимых пар донор-реципиент, и необходимость расширения и объединения этих регистров. Л.А. Кузьмина (г. Москва) сообщила о повторных трансплантациях гемопоэтических стволовых клеток с внутрикостным введением мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток донора, что вызвало большой интерес аудитории. В.И. Воробьев (Москва) представил, как теоретическое обоснование места трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в лечении больных агрессивными неходжкинскими лимфомами, так и опыт выполнения таких трансплантаций. Е.В. Морозова (Санкт-Петербург) сообщила о роли трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в лечении больных первичным миелофиброзом, и об эффективном методе подготовки перед алло ТГСК у пациентов с недостаточным ответом на терапию и выраженной спленомегалией, заключающемся в комбинации ингибиторов Янус-киназ и спленэктомии. А.Д. Кулагин (Санкт-Петербург) в своем докладе рассказал о том, что появление экулизумаба (Солириса), позволяющего предотвращать комплемент-зависимый гемолиз у пациентов с ПНГ, сделало возможным успешное проведение аллогенной трансплантации костного мозга при апластической анемии и пароксизмальной ночной гемоглобинурии. Слушатели задавали вопросы докладчикам, также с интересом были выслушаны комментарии председателей, ведущих данное заседание.
На заседании, посвященном инновационным подходам к диагностике и лечению заболеваний системы крови, было представлено 7 докладов, в которых были отражены основные тенденции в диагностике и лечении заболеваний системы крови. Так Г.Н. Салогуб отразила основные тенденции в диагностике и лечении больных болезнью Гоше. Был сделан акцент на необходимости комплексного обследования при подозрении на данное заболевание, особенно в случае выявления значительной спленомегалии, и своевременном включении больных в регистр орфанных заболеваний. Шилова Е.Р. в своем докладе коснулась проблем диагностики и лечения таких редких заболеваний, связанных с нарушениями в системе комплимента, как пароксизмальная ночная гемоглобинурия, тромботическая тромбоцитопеническая пурпура и гемолитико-уремический синдром. Основное внимание было привлечено к проблемам дифференциальной диагностики и дифференцированного подхода к выбору метода терапии с использованием таргетных препаратов, одним из которых является экулизумаб. Был представлен собственный успешный опыт лечения больных ПНГ экулизумабом. Менделеева Л.П. в своем докладе осветила роль и место иммуномодулятора второго поколения (Помалидомид) в лечении рецидивов и резистентных форм множественной миеломы. Были представлены результаты лечения 10 больных, включенных в кооперативное проспективное исследование, основная часть которых ответила на лечение. В докладе Н.Ю. Семеновой были подняты вопросы морфологической и гистологической вариабельности хронического лимфолейкоза, которые ассоциированы с особенности клинико-гематологической картины и что свидетельствует о биологической гетерогенности ХЛЛ и необходимости дифференцированного выбора лечебного пособия. Гиршова Л.Л. представила данные и вариабельности течения острого миелоидного лейкоза в зависимости от эффективности первого индукционного курса, характера хромосомных аберраций, вида обнаруживаемых мутаций и объема остаточной болезни, оцениваемой по уровню экспрессии гена WT1. В докладе Дьякова Д.А. нашла отражение морфологическая вариабельность мегакариоцитов в больных эссенциальной тромбоцитопенией в зависимости от мутационного статуса гена JAK2. Полученные данные позволяют прогнозировать эффективность терапии и тем самым оптимизировать лечение больных данным миелопролиферативным заболеванием. Поляков А.С. в своем докладе отразил тенденции в создании инновационных препаратов российскими фармкомпаниями и остановился на преимуществах отечественного пегилированного филграстима, представляющего собой оригинальную молекулу.
В работе секционного заседания «Патология системы гемостаза» приняли участие врачи различного профиля: врачи клинической лабораторной диагностики, врачи гематологи, реаниматологи и трансфузиологи из учреждений Санкт-Петербурга, других городов России и Казахстана. Программа заседания включала 7 докладов. Вопросам патогенеза, диагностики и терапии нарушений гемостаза в критической медицине были посвящены доклады профессора Г.М. Галстяна (Москва) «Роль воспаления, антитромбина III и нарушений микроциркуляции в развитии полиорганной недостаточности. Опыт применения препарата антитромбина III» и профессора Н.А. Воробьевой (Архангельск) «Нарушения гемостаза в критической медицине». Оригинальная оценка современных гемостатических препаратов с точки зрения гематолога была представлена в сообщениях профессора А.П. Момота (Барнаул) «Взгляд гематолога на применение современных гемостатических препаратов системного действия для предупреждения и купирования массивных кровотечений в клинической практике» и профессора Е.В. Ройтмана в соавторстве с И.М. Колесниковой (Москва) «Гемостатические свойства и результат трансфузии тромбоцитного концентрата». Три доклада были посвящены актуальным вопросам лабораторной оценке состояния гемостаза. Современный алгоритм диагностики антифосфолипидного синдрома и трактовка лабораторных данных были представлены в докладе профессора Т.В. Вавиловой (Санкт-Петербург) «Что мы называем антифосфолипидным синдромом – от рекомендаций до клинических случаев». В сообщении А.В. Лянгузова (Киров) «ТЭГ-контролируемый алгоритм обеспечения инвазивных манипуляций при тяжелой тромбоцитопении» представлены данные о диагностических возможностях тромбоэластографии, как наиболее приемлемого для практического здравоохранения глобального метода оценки гемостаза. В докладе доктора биологических наук С.И. Капустина (Санкт-Петербург) «Генетические факторы риска венозных тромбозы у лиц молодого возраста» представлены новые данные о факторах, предрасполагающих к тромбоэмболическим осложнениям у лиц молодого возраста, что имеет большое прогностическое значение.
На закрытии конференции директор ФГБУ «Российского НИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России» А.В. Чечеткиным подвел итоги работы и поблагодарил докладчиков за содержательные доклады, а всех за активное участие в обсуждении представленных докладов.

Союзники России и геополитический фронтир в Евразии
Николай Силаев – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности Московского государственного института международных отношений (Университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Андрей Сушенцов – кандидат политических наук, руководитель аналитического агентства «Внешняя политика», директор программ «Валдайского клуба», доцент МГИМО (У) МИД России.
Резюме В нарративах России о самой себе господствует мотив неполноты – по сравнению с Российской империей или СССР. Это вызывает у Москвы фантомные боли, связанные с исчезновением элементов геополитического статуса государств-предшественников.
С начала 2000-х гг. возрастает риск вовлечения Российской Федерации в военные конфликты низкой интенсивности. Нестабильность на многих участках протяженной границы России вынуждает Москву активно обозначать военное присутствие в поясе своих границ. Военные базы за рубежом размещены в регионах с высоким потенциалом конфликта – Южной Осетии и Абхазии, Молдавии, Армении, Киргизии и Таджикистане. Россия вовлечена в процессы внутри Афганистана, в Сирии и на Украине и не может позволить себе пустить ситуацию в этих странах на самотек. Возможное начало конфронтации на Корейском полуострове или в Иране, а также эскалация конфликта на Украине неизбежно приведет к ограниченному вовлечению России.
Российское руководство расширяет географию регионов, в которых защита национальных интересов требует военного присутствия. И не только в поясе российских границ, но и в регионах, косвенным образом относившихся к сфере военно-политической ответственности СССР. (Например, в 2013 г. Москва предложила разместить российских миротворцев на Голанских высотах – граница Сирии и Израиля. Идут переговоры о создании базы российских ВВС на Кипре, в непосредственной близости от базы ВМФ России в Тартусе на побережье Сирии.) Происходит ли этот процесс целенаправленно и осмысленно? Или российская мощь растет стихийно, без рационализации и долгосрочного планирования? Главная опасность заключается в риске преобладания идеологических приоритетов над рациональным расчетом и в итоге – в перенапряжении сил государства.
Геополитический фронтир в Евразии
В последние годы Россия обрела новый геополитический статус. Военная операция в Сирии позволила России стать ключевым участником постконфликтного урегулирования, продемонстрировав качественно новый военно-политический потенциал. Инициированный Москвой «астанинский формат» предполагает, что ключевой вопрос безопасности на Ближнем Востоке может быть разрешен без участия Запада. При этом Россия опирается на диалог с региональными державами – Турцией и Ираном, которые либо вовсе не получали права голоса от Запада, либо имели лишь ограниченное влияние.
Если в Мюнхенской речи Владимира Путина 2007 г. основной проблемой называлось расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам, десять лет спустя перспектива экспансии альянса на постсоветском пространстве практически снята с повестки дня. Ни Грузия, ни Украина не могут вступить в Североатлантический блок, не создав для него серьезные стратегические риски.
Если отношения России и Запада в последние десятилетия представить в категории фронтира как подвижной и широкой пограничной линии, то за десятилетие он сдвинулся дальше от российских границ. Острые фазы кризисов на Кавказе (2008 г.) и на Украине (2014–2015 гг.) обозначили невозможность решения вопросов безопасности на постсоветском пространстве без решающего слова Москвы. Сирийская операция российских ВКС перенесла спор России и Запада по поводу международного статуса России на Ближний Восток. Далеко от определенности положение фронтира на противоположном краю евразийского континента: сближение России с КНР и российско-японские контакты последних лет указывают на то, что Москва будет играть новую роль в формировании баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
России удалось перенести фронт противостояния с Западом дальше от своих границ. Теперь он пролегает на Ближнем Востоке, на Балканах, во внутренней политике США и стран ЕС. У многих постсоветских проблем безопасности пропало геополитическое измерение – они больше не обременены в прежней степени российско-западным противостоянием. Для многих постсоветских стран это шанс отложить беспокойство о собственной безопасности и определиться с приоритетами развития без спешки и внешнего давления.
Однако, заглядывая в будущее, можно представить себе ситуацию, в которой давление Запада на интересы России в Восточной Европе возобновится и даже усугубится, а требования Москвы о создании системы коллективной безопасности в Европе будут проигнорированы. В этом случае Москва будет вынуждена вернуть реализм в американские оценки проверенными способами – перенеся геополитический фронтир в Западное полушарие, подальше от «своих ворот». Создание военной базы в Венесуэле или на Кубе, участие в политической жизни Панамы или Мексики, поощрение формирования антиамериканских коалиций в Латинской Америке – несомненно, вынужденный, но на горизонте 2040–2050-х гг. единственно эффективный путь снижения американского давления на Россию в Европе.
Возросшие ресурсы и новое положение России ставит перед ней два взаимосвязанных вопроса. Первый: каков предел влияния на мировую политику, который можно счесть оптимальным с точки зрения интересов России и ее возможностей; какова разумная мера ее вовлеченности в международные дела? Второй: какой должна быть система союзов, посредством которой будет обеспечено и зафиксировано возросшее влияние России в мире? Оговорим, что мы будем обсуждать лишь военно-политические союзы, не вторгаясь в огромную и по многим меркам особую область экономической интеграции.
Трансформация союзничества
Так же, как в прошлое уходят прежние формы организации политики и хозяйственной жизни, ставшие приметой XX века, меняются и структуры международной политики. Крупные и устойчивые, «постоянные» структуры – политические партии, профсоюзы, призывные армии – сменяются калейдоскопом альянсов, заключаемых ad hoc. Влиятельные политические движения могут возникать за считанные дни вокруг конкретного вопроса и рассыпаются, исчерпав повестку дня, причем оказываются популярнее и успешнее старых политических партий или общественных организаций с их традиционной бюрократической структурой. Военная область профессионализируется параллельно с техническим усложнением, массовые призывные армии, исторически обусловившие расширение гражданства и создание современных наций, уходят в прошлое. Война, как в Средние века и раннее Новое время, становится делом элит, а не народов. Распространение частных военных кампаний – в сущности, современных кондотьеров – размывает саму основу современной демократии и современного суверенитета, исключающих приватизацию насилия. Государственная бюрократия, с одной стороны, благодаря наследию либерального дерегулирования Рейгана и Тэтчер, утрачивает рычаги контроля над обществом, а с другой – все сильнее прорастает вглубь этого общества через механизмы партнерства с корпорациями и неправительственными организациями. Стирается грань между гражданским обществом и государством. Корпорация, центральная организация современного капитализма, меняет свою природу. На место бюрократических иерархических структур приходят сетевые, юридическая структура компаний фрагментируется и усложняется. На рынке труда коллективные долгосрочные договоры уступают системам гибкого найма, делающим положение наемного работника все более неустойчивым. Понимание управления как набора повторяющихся процедур сменяется его трактовкой как серии проектов, для каждого из которых привлекается уникальная совокупность людей, решений, ресурсов.
«Проектность» как ключевая характеристика современного мира (Люк Болтански, Эв Кьяпелло) проявляет себя и в области международных отношений. Давно отмечается растущая популярность коалиций, создаваемых «по случаю», для решения строго ограниченной задачи. Подобно тому как гибкий найм позволяет компаниям избегать излишних обязательств перед профсоюзами или долгосрочных контрактов с работниками, такие коалиции дают наиболее могущественным государствам возможность избегать предоставления своим партнерам устойчивых гарантий. Бюрократические аппараты «традиционных» блоков, необходимость многоступенчатых и длительных согласований в рамках таких альянсов воспринимаются как препятствие к эффективному действию. Антииракская коалиция Соединенных Штатов в 2003 г., созданная ими коалиция против запрещенного в России ИГИЛ организовывались вне американской системы военных союзов. Дональд Рамсфельд с его знаменитым афоризмом «Миссия определяет коалицию» обозначил торжество проектной логики в деле войны и дипломатии.
Этот сдвиг ведет к самым разнообразным последствиям. Во-первых, понимание союза как проекта делает обязательства по нему менее надежными. Наглядным примером тому стали отношения трех прибалтийских государств с союзниками по НАТО в 2014–2016 годах. Размещение батальонов НАТО в Эстонии, Латвии и Литве, публично поданное как «защита от российской угрозы», сделало явным то обстоятельство, что сами по себе гарантии безопасности, предоставленные членам альянса, недостаточны. В критический, по мнению Таллина, Риги и Вильнюса, момент потребовалось подкрепить эти гарантии переброской войск.
Во-вторых, трансформация союзничества усиливает неравенство в международной системе. Крупные страны, обладающие большим военно-политическим потенциалом, начинают тяготиться союзничеством. Они могут брать на себя меньше формальных и неформальных обязательств, чем раньше, а сами обязательства зачастую ограничены сравнительно кратким периодом времени. Малые и относительно слабые страны лишаются гарантий, на которые могли рассчитывать ранее. Это толкает их к двум основным вариантам действий. Либо лавировать между крупнейшими центрами силы, рискуя сделать свое положение еще более неустойчивым. Либо добиваться дополнительных гарантий со стороны международных покровителей, представляя ради этого свое положение более «угрожаемым», чем на самом деле. Именно последний вариант избрали Эстония, Латвия и Литва, сделав решающий вклад в секьюритизацию балтийской повестки дня в последние годы.
В-третьих, стирается юридическая определенность союзов. Есть ли потребность обеспечивать сложным правовым фундаментом проект, который будет рассчитан на год-два, а лишних обязательств никто на себя брать не хочет? Если нет определенной правовой рамки, то только ли государства могут быть субъектами союза? В проект могут быть вовлечены и негосударственные политические и (или) военные организации, отдельные фракции элит внутри той или иной страны, наиболее влиятельные медиа, идеологические группы, религиозные лидеры. Необходимые участникам гарантии возможны через серию частных сделок, например, инвестиционных или кредитных. Наиболее явно этот феномен проявляется в отношениях между США и монархиями Персидского залива.
В-четвертых, возникает противоречие между проектным, то есть по определению непостоянным, характером коалиций и необходимостью поддерживать долговременную инфраструктуру международного сотрудничества. Так, транспортные маршруты, в том числе трубопроводные, существуют на протяжении десятилетий, организуя и связывая хозяйственную деятельность на всем пути их прохождения. Вопреки либеральному предсказанию, что нарастание плотности экономических связей сделает международную политику более предсказуемой и менее конфликтной, экономические расчеты все чаще приносятся в жертву политическим или идеологическим соображениям. Это, однако, не отменяет необходимости поддерживать инфраструктуру глобальных экономических связей. Помимо хозяйственной инфраструктуры сотрудничества имеется еще и военная, и здесь противоречие между растущим непостоянством союзов и долгим временем жизни этой инфраструктуры также дает о себе знать. Военная база за рубежом может быть источником силы, но может оказаться и фактором уязвимости, как это случилось, к примеру, с российскими военными базами на территории Грузии в 2004–2006 гг., когда военнослужащие и персонал эпизодически становились объектами провокаций со стороны Тбилиси.
Россия и ее союзники
Сеть альянсов, в которую включена Россия, уместно рассматривать не в сравнении с наиболее известными военно-политическими блоками, а с точки зрения ее адекватности глобальным трендам трансформации самого института международного военно-политического союзничества. В такой перспективе ряд свойств этой сети, в сравнении с традиционным союзом считающиеся слабыми ее сторонами, могут быть, напротив, источником силы.
Прежде всего мы полагаем, что следует говорить именно о «сети союзов» как о наборе многосторонних и двусторонних связей и обязательств, оформленных в разной форме и предполагающих различные сроки действия. В этой сети в некоторых случаях могут переплетаться военно-политические и экономические интеграционные связи. Многосторонние связи дополняются конкретизирующими и уточняющими их двусторонними.
У России немного военных союзников. Юридически обязывающие соглашения, при которых нападение на одну сторону приравнивается к нападению на другую, имеются только с Абхазией и Южной Осетией. Иные договоренности, в том числе со странами, считающимися наиболее близкими союзниками Москвы, не содержат подобных механизмов. Обязательства в рамках ОДКБ заметно мягче аналогичных обязательств в рамках НАТО. Это хорошо видно при сопоставлении формулировок двух документов о взаимных гарантиях безопасности.
Статья 5 Североатлантического договора от 4 апреля 1949 г.: «Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом».
Статья 2 «Договора о коллективной безопасности» от 15 мая 1992 г.: «В случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств–участников либо угрозы международному миру и безопасности государства–участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам–участникам в целях устранения возникшей угрозы».
Указанная разность гарантий безопасности объясняется тем, что главное свойство ОДКБ – это асимметрия. По военно-политическому потенциалу Россия многократно превосходит партнеров. А наиболее вероятные угрозы у ее партнеров не совпадают или совпадают частично. Трудно представить, перед каким общим вызовом окажутся, например, Армения и Таджикистан. Эти страны едва ли будут готовы оказывать практическую помощь друг другу, если одна из них будет вовлечена в вооруженный конфликт. В то же время все участники ОДКБ заинтересованы в поддержании общей военной инфраструктуры (например, системы ПВО), военно-техническом сотрудничестве, обмене информацией, профессиональной подготовке офицеров. По сути, ОДКБ предоставляет институциональную базу для такого сотрудничества, дополненную набором гарантий, которые Россия дает в рамках двусторонних договоренностей. В результате у России имеются военно-политические партнеры в регионах, где ей необходимо обеспечивать безопасность, но сами партнеры разделяют с ней ответственность только за свой регион. При этом в региональную систему безопасности могут входить страны, не связанные друг с другом союзническими и даже дипломатическими отношениями. Российская военная база в Армении, входящая в совместную российско-армянскую военную группировку, взаимодействует с российскими базами в Абхазии и Южной Осетии.
Российская операция в Сирии демонстрирует многообразие и трансформацию союзничества. С 1971 г. в Тартусе действует пункт материально-технического обслуживания кораблей ВМФ. Соглашение о размещении в Сирии российской авиагруппы (26 августа 2015 г.) содержит ссылки на советско-сирийский договор о дружбе и сотрудничестве от 8 октября 1980 г. и соглашение о военном сотрудничестве от 7 июля 1994 года. В то же время авиабаза в Латакии была развернута в краткие сроки, а заявление президента России в марте 2016 г. о выводе основной части российской группировки из Сирии указало на готовность при необходимости быстро сократить военное присутствие. Стороны не имеют юридических обязательств, предписывающих им вступать в войну в случае агрессии третьей стороны в отношении союзника. Но в их распоряжении большой набор инструментов сотрудничества – от координации дипломатических выступлений и поставок военного имущества до совместного ведения боевых действий. Российско-сирийский союз – если здесь уместно говорить о союзе – содержит и постоянные, и краткосрочные элементы и легко трансформируется в зависимости от политической задачи.
Об отношениях России с Ираном в военной области трудно судить по открытым источникам. Отметим, однако, что стороны тесно взаимодействуют в Сирии, Россия использовала воздушное пространство Ирана и (вероятно) его территорию для ударов по террористам в Сирии. При этом Москва и Тегеран юридически связаны лишь межправительственным соглашением о военном сотрудничестве. Заявление российских представителей о том, что Иран предоставил свою территорию для действий российской авиации против террористов в Сирии, вызвало резкую реакцию Тегерана. Назвать отношения сторон союзническими сложно.
Элементы новой геополитической реальности возникают на Балканах. Под предлогом надуманных обвинений России в попытке организации переворота власти Черногории ускорили движение в сторону НАТО. Делается это, вероятно, для того, чтобы четче провести различие с соседней Сербией, которая активно развивает военно-техническое сотрудничество с Москвой – закупает вооружение, участвует в военных учениях и синхронизирует военное планирование. Не исключено, что в обозримой перспективе Россия предоставит Белграду неформальные гарантии безопасности и де-факто сделает Сербию участником системы коллективной безопасности ОДКБ. Уже сейчас сербские эксперты говорят, что благодаря новому уровню связей с Россией агрессия НАТО против Югославии сегодня была бы невозможна.
Вероятно, новый статус-кво поддерживает надежды тех в Белграде, кто хотел бы пересмотреть результаты распада Югославии. На рубеже 2016–2017 гг. Белград сделал несколько значимых шагов, обозначая свой интерес в безопасности сербских анклавов в Косово и Боснии и Герцеговине. Несложно представить ситуацию, в которой снежный ком событий на Балканах – сербы вне Сербии начинают притесняться, и Белград вынужден за них заступиться – побудят Сербию воспользоваться неформальными гарантиями безопасности со стороны России и втянуть ее в нежелательный кризис. Новая война на Балканах вызывает слишком очевидные параллели, чтобы относиться к этому сценарию легкомысленно.
Россия поддерживает тесное, вплоть до совместных учений, военное сотрудничество с Китаем и Индией. Но речь здесь не идет о военном союзе. Уместнее говорить о «достройке» политических связей, маркетинге продукции российского ВПК и создании прозрачной и предсказуемой военно-политической среды в отношениях с партнерами. Одновременно Россия и Китай создают многополярный порядок как сеть «долговременных межгосударственных отношений нового типа, не направленных против третьих стран» и основанных на принципах равенства, невмешательства, уважения взаимных интересов. Москва и Пекин подкрепляют сотрудничество взаимными мерами доверия в военной сфере и предоставлением гарантий безопасности буферным государствам Центральной Азии. В совокупности это привело к тому, что Россию и Китай не разделяет геополитический фронтир, как это происходит в Восточной Европе между Россией и НАТО. А то обстоятельство, что Москва и Пекин одновременно сталкиваются с США на Украине и в Южно-Китайском море, только укрепляет их партнерство.
Размывание правовых основ устойчивых союзнических связей делает более актуальным обращение к культурному и историческому наследию в попытках отыскать и обосновать идеологическую общность. Советское наследие до сих пор привлекает к России левых лидеров Латинской Америки, рассчитывающих использовать в своих интересах стремление Москвы к самостоятельности в международных делах. Иную (прямо противоположную) сторону российского наследия пытаются эксплуатировать политики некоторых балканских стран, напоминающие о православии, имперском прошлом и историческом соперничестве с Османской империей и Западной Европой по поводу судьбы Балкан.
Наконец, у России имеются и «негосударственные союзники», отношения с которыми в настоящий момент не могут иметь правовых рамок. Донецкая и Луганская народные республики, которым оказывается широкая политическая и иная поддержка, Приднестровье, получающее разнообразную помощь от Москвы и проводящее совместные учения с российскими миротворцами, размещенными в регионе. Вероятно, в этой перспективе стоит сейчас рассматривать и контакты российских официальных лиц с лидерами различных политических и военных сил в Ливии.
Островная геополитика
Сравнение современной России и Советского Союза как международных игроков – отдельная и неисчерпаемая тема. Наметим здесь лишь несколько пунктов, важных для нашего вопроса.
Во-первых, у России нет стольких союзников, сколько было у Советского Союза; немногие имеющиеся не связаны с ней настолько тесными и жесткими обязательствами, какие объединяли Варшавский блок или ныне НАТО. У России нет и такого числа стран-сателлитов, какое было у СССР. Имеются несколько небольших государств, признанных и непризнанных, которым Россия оказывает помощь. Но это несравнимо с советским багажом.
Во-вторых, у России куда более сбалансированный курс в отношении региональных противоречий. Например, если ближневосточная политика советского Кремля строилась на основе масштабной помощи идеологически дружественным режимам при отсутствии дипломатических отношений с режимами идеологически враждебными (Израиль, Саудовская Аравия), то Кремль нынешний, затрачивая относительно небольшие ресурсы для помощи традиционному союзнику – Сирии, поддерживает активный диалог и с Израилем, и с арабскими монархиями Персидского залива: со всеми державами, оказывающими влияние на регион. На Дальнем Востоке Советский Союз находился в положении осажденной крепости: холодная война с США, отсутствие мирного договора с Японией, отсутствие дипломатических отношений с Южной Кореей и многолетний разрыв с Китаем. Сейчас Москва за счет доверительных отношений с Пекином и активного политического диалога с Токио претендует на роль одной из держав, обеспечивающих региональный баланс.
В-третьих, современный Кремль равнодушен к вопросам идеологии. Консервативный крен, который наметился в риторике Москвы в последние годы, имеет охранительный, в прямом смысле слова реакционный характер: он призван создать еще один заслон перед «прогрессистскими» попытками подрыва национального суверенитета и вмешательства во внутренние дела, а не предложить новую глобальную повестку. Попытки внести в курс Москвы более широкое идеологическое содержание предпринимаются (например, Русской православной церковью), но на внешнеполитическую практику почти не влияют. Впечатляющая гибкость государственной пропаганды – в течение полугода американский президент побывал символом врага, символом надежды, став, наконец, одним из многих политических деятелей зарубежных стран – хорошо иллюстрирует это равнодушие.
Если Советский Союз был континентальной империей, осмыслявшей себя в перспективе глобальной исторической миссии, то современная Россия – почти гомогенное по составу населения государство, управляемое прагматичным на грани цинизма политическим классом, лишенное идейных грез, которое не собирается звать мир к светлому будущему, но и свое в этом мире не намерено упустить. Парадоксальным образом государство, во многих отношениях более слабое, чем Советский Союз (меньше территория, население, армия, доля в мировом ВВП), сумело обрести и удерживает роль одного из мировых лидеров, успешно оспорившего гегемонию Запада во многих областях.
Причина в изменении самого характера российской геополитики: Россия успешно осваивает исторически новую для себя геополитическую нишу, которую описал еще в начале 1990-х гг. Вадим Цымбурский в статье «Остров Россия». Она отказалась от попыток заменить собой Европу (и себя – Европой), к чему ее на протяжении трехсот лет призывали политики и мыслители как консервативного (Тютчев), так и реформаторского (Петр I) толка. Она не пытается «отвердить», включив в свой состав или в свою жесткую сферу влияния, лимитрофные территории, отделяющие ее от иных цивилизационных платформ на Западе и на Юге; склонна принять как данность их идентификационную текучесть. Она с большой осторожностью смотрит на долговременную политическую и военную вовлеченность за пределами своих границ и допускает только точечное присутствие в наиболее важных для нее регионах.
Она по-прежнему не всегда и не везде имеет ясно очерченные «естественные» границы. Конечно, наиболее сложно их обозначить на западе, в полосе от Черного до Балтийского морей, где отсутствует четкая языковая и культурная граница. Но и на юге российский Северный Кавказ перетекает на южный склон хребта в Абхазии и Южной Осетии, а по другую сторону Каспия Россия очень плавно переходит в Казахстан. В то же время Россия довольно консервативна в попытках пересмотра границ государственных. Рассуждения о «российском экспансионизме» затемняют тот факт, что на протяжении четверти века после распада Советского Союза в стране так и не возникло массового и влиятельного политического движения за возвращение территорий бывших советских республик. Вернув себе Крым, Россия приняла противоположную позицию в отношении отколовшегося от Украины Донбасса и не пошла на масштабную перекройку территории соседней страны. У некоторых это вызвало разочарование, но политическим фактором оно не стало.
Российские союзы призваны решить несколько задач. Прежде всего обеспечить безопасность «острова»: Россия не допустит военного вторжения на свои земли. Превращение той или иной лимитрофной территории в плацдарм для возможного вторжения неприемлемо и будет предотвращаться всеми доступными средствами. Собственно, именно такова логика противодействия расширению НАТО на постсоветском пространстве. Так может быть истолковано и различие в подходах к странам Прибалтики, с одной стороны, и Грузии и Украине – с другой. Эстония, Латвия и Литва в силу своего географического положения не могут выступать в качестве плацдарма, Грузия и Украина – могут.
Также российская система союзов должна обеспечить присутствие России как влиятельной силы в важных для нее регионах мира. При этом ни в одном регионе не должна возникнуть коалиция, способная подорвать влияние Москвы. Оказывая помощь союзникам, Россия стремится не допустить возникновения подобных коалиций и в то же время избежать манипулирования со стороны союзников. Акцент на многосторонности в сирийской политике, резкие изменения в отношениях с Турцией отражают такой подход. Не всегда и не все враги Башара Асада – это враги России, российская военная сила в конечном счете служит укреплению влияния Москвы, а не Дамаска.
Уместны примеры из других регионов. Отношения с Арменией важны с точки зрения поддержания и укрепления влияния в Закавказье. Россия оказывает и будет оказывать Еревану военную помощь и содействовать экономическому развитию Армении посредством механизмов ЕАЭС. Однако будет избегать положения, когда (к примеру) в коалиции против нее окажется Азербайджан с одним или несколькими соседними государствами.
Нередко эта линия приводит к тому, что Россия говорит «через голову» своих союзников напрямую с провайдерами безопасности в противостоящем лагере – Турцией, Соединенными Штатами, странами Западной Европы. Это одинаково раздражает находящихся на линии фронтира союзников России (Белоруссию, Армению) и США (Польшу и страны Прибалтики).
Особое место занимает Белоруссия. Отношения с ней для России исключительно важны в контексте противодействия расширению НАТО. Белоруссия препятствовала созданию сплошной полосы враждебно настроенных к России государств между Балтийским и Черным морем. Но говорить об этом государстве как о сателлите России или сфере ее влияния затруднительно. Минск стал одной из многочисленных постсоветских столиц, которые сделали противостояние между Россией и Западом на постсоветском пространстве источником силы и средством извлечения политических и иных преимуществ. Отличие в том, что если другие, как, например, Тбилиси, пытались извлекать преимущества «со стороны Запада», то Минск это делал «со стороны России». Трудность для российско-белорусского союза заключается в том, что расширение НАТО остановлено, а регион, включающий в себя Калининградскую область, Белоруссию, страны Прибалтики и Польшу, Москва не рассматривает как наиболее угрожаемый, о чем свидетельствует военное строительство последних лет. При сравнительном снижении ценности союза его привычные механизмы начинают давать сбои. Гипотетическая договоренность России, США и ключевых стран ЕС о новой системе европейской безопасности может стать для политической модели Белоруссии еще более серьезным вызовом, чем текущие экономические трудности.
* * *
Источник рисков для российской внешней политики и системы союзов заключается в том, что отечественная политическая элита, которая в значительной части состоит из людей, сформировавшихся еще в Советском Союзе, не в полной мере осознала геополитический сдвиг, который пережила страна за последнюю четверть века. «Остров Россия» оказался не столько проектом, сколько предсказанием, между тем в нарративах России о самой себе господствует мотив неполноты – по сравнению с Российской империей или СССР. Это вызывает у Москвы фантомные боли, связанные с исчезновением элементов геополитического статуса государств-предшественников.
Перечислим несколько суждений, которые связаны с фантомными болями и, на наш взгляд, должны быть подвергнуты сомнению.
«У России мало союзников, ей необходимо укреплять имеющиеся союзы и создавать новые, включая в них жесткие юридические обязательства». Возможно, наоборот: нынешнее состояние «блестящей изоляции» и помогает России преследовать свои внешнеполитические цели со свободными руками.
«Россия должна создать идейную альтернативу Западу (исламскому радикализму)». Возможно, именно отсутствие определенного идеологического выбора, состоявшийся отказ от мессианства и позволяют России поддерживать высокий геополитический статус, затрачивая на это меньше ресурсов, чем Советский Союз.
«Россия должна всемерно укреплять свои позиции в традиционных сферах влияния – на постсоветском пространстве, на Балканах». Возможно, России нужно стабилизировать лимитрофные территории лишь в той мере, в которой это необходимо для обеспечения безопасности ее территории, и не допускать, чтобы союзники вовлекали ее в ненужные для нее конфликты.
Данный материал вышел в серии записок Валдайского клуба, публикуемых в рамках научной деятельности МДК «Валдай». С другими записками можно ознакомиться по адресу http://valdaiclub.com/publications/valdai-papers/

Без обязательств, но с надеждой: межконфессиональный диалог
Алексей Юдин – кандидатом исторических наук, доцентом Центра изучения религий РГГУ, ответственным секретарем Католической энциклопедии.
Резюме Религия – один из способов самоидентификации в современном мире, а это подразумевает фиксацию особости. Способен ли межконфессиональный диалог смягчить противоречия или становится дополнительным их катализатором? Об этом интервью с историком религии Алексеем Юдиным.
Роль религий в современном мире снова растет – на фоне политических потрясений, социальных трансформаций и революционных технологических прорывов. Религия служит одним из способов самоидентификации, а это подразумевает и фиксацию особости, отстранения от других. Что означает в таких условиях межконфессиональный диалог, способен ли он смягчить противоречия или, напротив, становится дополнительным их катализатором? Об этом Александр Соловьев беседует с Алексеем Юдиным – кандидатом исторических наук, доцентом Центра изучения религий РГГУ, ответственным секретарем Католической энциклопедии.
– У религий есть одна общая характеристика: каждая утверждает, что обладает монополией на истину, в то время как остальные – ложны. Как можно говорить о каком-то диалоге, если ты изначально прав, причем в самом фундаментальном смысле, а твой собеседник – нет?
– Надо сразу оговориться, что это верно не для всех религий. Конечно, авраамические религии – иудаизм, христианство, ислам – каждая из них, безусловно, утверждает, что именно она обладает истиной в полной мере. И все они, включая и иудаизм, в определенное время высказывали претензии на универсализм.
Действительно, на первый взгляд, если я владею истиной в ее полноте, а оппонент ею не обладает, или обладает лишь частью ее, то зачем вообще нужен диалог? Пусть признает мою истину – тогда и поговорим. До конца объяснить природу этого чудесного явления – зарождения межконфессионального и межхристианского, в частности, диалога, практически невозможно. Во всяком случае, в исторической перспективе ХХ века. В какой-то момент христианские исследователи Востока начинают вдруг интересоваться исламом не так, как раньше. Авторитетнейшие источники западного христианства – Фома Аквинский, Лютер – трактуют ислам как религию заблуждений, искушений или даже религию сатаны. Однако в XX веке происходит качественный поворот, почти парадигмальный сдвиг, как это видно на примере католического священника и выдающегося исламоведа Луи Массиньона. Христиане начинают видеть ислам как религию, созвучную своему вероучению. Они начинают задаваться вопросом – зачем пришел Мохаммед, пусть и не считая его до конца пророком. Но зачем-то он все-таки пришел? Обнаруживается множество исторических парадоксов, а смысловых – еще больше.
– Когда и как начинается такой диалог?
– Когда возникает желание – и возможность – увидеть человека в ином свете и заговорить с ним. До конца объяснить генезис этого явления, повторюсь, невозможно. Произошло оно внутри самой христианской семьи, а затем и в отношениях между крупнейшими мировыми религиями. Таким образом, можно утверждать, что именно христиане стали инициаторами межрелигиозного диалога. Кто бы мог раньше подумать, например, о христиано-буддийском диалоге? А он существует. Оказывается, им есть о чем поговорить.
Вероятно, такое желание возникает, когда на христиан обрушиваются драматические, «парадигмальные» события, качественно меняющие мир – те же мировые войны. Переживая эти события, христиане начинают задаваться вопросами такого же масштаба, чтобы эти события и эти переживания осознать, отрефлексировать.
– Как происходит межконфессиональный диалог? Вообще, что это такое? Чем он отличается от любого иного?
– В официальных церковных документах, имеющих в том числе и богословский характер, есть четкое определение того, что в самой церкви, внутри нее, понимается под диалогом, ведущимся с пространством вне церкви. А эти документы – отражение практики, ее формализация. Есть, в частности, такой католический документ 1968 г. – «Диалог с неверующими». Он составлен Секретариатом по делам неверующих (сформирован в 1965 г., когда католики осознали необходимость такого диалога). Он и определяет, что диалог в «общем смысле» есть «любая форма встречи и поиска взаимопонимания между людьми, группами и общинами, осуществляемая в духе искренности, уважения и доверия к другому человеку как к личности и имеющая целью углубленное познание какой-либо истины, либо стремление сделать взаимоотношения между людьми более соответствующими достоинству человека». Смотрите, какие слова! «Форма встречи и поиска взаимопонимания», «человек как личность», «искренность», «уважение и доверие», «углубленное познание какой-либо истины» и «достоинство человека»! Для католической церкви того времени просто новояз какой-то.
– Такой диалог как-то формализован институционально?
– В форме экуменического движения прежде всего. И то, что мы понимаем под экуменическим движением, межхристианским диалогом – инициатива не католиков и не православных, это протестантский проект. Он родился в XIX веке из осознания совершенно практических задач, которые можно назвать церковной политикой. Протестантов много, и они разные. Монополии на истину нет ни у кого.
Протестантские миссионеры из различных ассоциаций пришли к выводу, что надо как-то договариваться между собой, чтобы не тиражировать расколотое христианство по всему миру. Из этого желания и вырос экуменизм.
Экуменическое движение складывается из двух больших составляющих. Стратегия одного направления: «Давайте работать вместе, как будто нас ничего и не разделяет – перед нами стоят слишком большие задачи, чтобы размениваться на мелочи». Это драматургия движения «Жизнь и деятельность». Вторая же линия настаивает, что надо с самого начала разобраться, «кто есть кто» перед Богом. Это стратегия движения «Вера и церковное устройство».
У них разные мотивации, разное богословие, разные лидеры. С одной стороны мы видим такого выдающегося человека, как Натан Сёдерблум, лютеранский архиепископ Упсалы, лауреат Нобелевской премии мира, один из ранних христианских миротворцев ХХ века. Это родоначальник движения «Жизнь и деятельность». А с другой стороны – Карл Барт, величайший протестантский богослов ХХ века. Его «богословие кризиса» и есть попытка перестроить активизм по отношению к Богу, перевести его из горизонтали (отношения между людьми) в вертикаль (отношения между людьми и Богом).
– Насколько иные христианские церкви вовлечены в экуменическое движение?
– Поначалу, естественно, там не было ни католиков, ни тем более православных. Протестанты опасались, что католики хотят затащить их обратно, в свою римскую историю, а православных воспринимали вообще как каких-то дремучих дедов с бородами, погрязших в историческом прошлом. Будущее же, полагали протестанты, принадлежит как раз им, протестантам. Позднее они начали обращать внимание на Восток – для протестантизма восточное направление христианства было более востребованным, а Рим – ну, Рим и есть Рим, это враждебный папизм.
И уже в 20-е гг. ХХ в. православные примкнули к экуменическому движению (первыми из непротестантских конфессий), причем вполне официально. А католики подошли к этому вопросу только после II Ватиканского собора 1962–1965 годов. Но до сих пор католическая церковь не является членом экуменического Всемирного совета церквей, а, например, Русская православная церковь является. Правда, католики участвуют в работе комиссии «Вера и церковное устройство», которая занимается теоретическими, богословскими вопросами, но в целом подход к экуменизму у них такой: «Вы, ребята, сначала разберитесь сами с тем, какая вы церковь, а там мы посмотрим».
– Предмет экуменического разговора – вещи богословского порядка, устройства общины или вопросы прозелитизма, миссионерской деятельности?
– Устройство общины, то есть церкви – это экклесиология, учение о церкви. Это богословский вопрос. Здесь экуменизму свойственна крайняя неопределенность. «Ты церковь в крапинку – ну и будь ей, раз у тебя такая церковная идентичность. А вот я – церковь в полосочку. И называть тебя церковью не обязана. Но при этом, сами для себя, мы обе – церкви». То есть с одной стороны – Русская православная церковь, а с другой – какая-то довольно либеральная протестантская «церковь в крапинку». И обе они – церкви в экуменической «системе координат».
Для православия это очень большая проблема. Православные постоянно об этом говорили и говорят. Поэтому даже теоретическое обоснование вступления РПЦ в ВСЦ в 1961 г. было представлено очень аккуратно. Митрополит Никодим (Ротов), тогдашний глава Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата, заявил, что этот шаг «нельзя рассматривать как церковный в экклезиологическом смысле слова акт». Митрополит Никодим предпочитал говорить не о «вступлении РПЦ в ВСЦ», а о «соглашении между руководством РПЦ, с одной стороны, и руководством ВСЦ, с другой стороны, о включении представителей РПЦ в постоянное сотрудничество с представителями других Церквей, объединившихся в экуменическом содружестве, именуемом ВСЦ». Тем не менее православные церкви вошли в этот экуменический поток раньше, чем католики. Те сопротивлялись еще четыре года.
– Иными словами, экуменизм – не традиция, а постоянный метод проб и ошибок?
– Экуменизм – пространство диалога, своеобразный межхристианский полигон, на котором постоянно что-то обкатывается. Вечные обвинения в том, что экуменисты притязают на создание некой «сверхцеркви», под эгидой которой хотят всех объединить, всех туда затащить – чистой воды конспирология. Это никогда не было задачей экуменического движения. У него вообще с самого начала не было никакой конкретной цели. Практический и теоретический диалог, взаимное познание и общение и были по сути его самоцелью. Как говорили ранние лидеры экуменического диалога, «все остальное – дело Святого Духа».
– Сводится ли межконфессиональный, хотя бы христианский, диалог только к экуменическому?
– Экуменический диалог – безусловно, синоним межхристианского. И за пределы общехристианского диалога он не выходит. Если говорить шире – о межрелигиозном диалоге, например, диалоге авраамических религий христианства, ислама и иудаизма или еще шире – христианства, буддизма и индуизма, то это уже, конечно, совсем не экуменизм. Тут уже иная реальность, которую очень хорошо типологически иллюстрирует католическая энциклика Ecclesiam suam 1964 года. Это очень серьезный документ папы Павла VI, в котором пространство диалога представлено в виде концентрических кругов. В центре, конечно, католическая церковь, и малый круг вокруг нее – это внутрицерковный диалог; следующий круг – общение с иными христианскими исповеданиями; третий, более широкий круг – все мировые религии, и, наконец, последний, самый широкий круг – это внешний, по преимуществу нерелигиозный мир.
Такая модель очень удобна для анализа потенциального диалога для церкви, будь она католической или православной. Принципиально важно, что признается возможным диалог с внешним миром, который может быть индифферентен или даже агрессивно настроен по отношению к религии. Здесь, как говорится, почувствуйте разницу с католическими документами XIX в.: знаменитый Syllabus, приложение к энциклике Quanta cura папы Пия IX (1864), осуждал современную культуру в «главнейших заблуждениях нашего времени» и, соответственно, отрицал любую форму диалога.
– Диалог в конечном счете имеет целью обращение? Это вид миссионерской деятельности, разновидность прозелитизма?
– Вот тут и возникает проблема: как соотносится диалог и миссия, изначальное призвание церкви. Выход может быть найден такой: диалог даже без какой-то определенной цели уже есть миссия, как внешняя, так и внутренняя. Ведь если существуют проблемы взаимопонимания, их надо проговаривать. Это важно для всех участников диалога, поскольку не только ведет к общему пониманию проблемы, но и проясняет собственную идентичность.
Возьмем для примера тему современного атеизма, которая очень сложно обсуждалась на Втором Ватиканском соборе. В то время уже существовал государственный атеизм в Восточной Европе – от албанского, крайне жесткого, до польского, сравнительно мягкого. Но так или иначе в странах коммунистического блока доминировал системный атеизм государственного образца. А с другой стороны, в Западной Европе присутствовал интеллектуальный атеизм. Существовали его гуру, Сартр, например. Такое красивое интеллектуальное фрондерство.
И на обсуждениях между католическими епископами, сумевшими приехать из Восточной Европы, и западноевропейскими (Латинскую Америку не берем – это вообще другая история) возникало непонимание: для одних атеизм являлся просто интеллектуальным вызовом, а для других представлял собой жесткую политическую реальность, в которой верующие должны были как-то выживать. И то и другое, конечно, воспринималось как реальная угроза устоям веры. Но – по-разному.
Необходимость вести политический диалог с атеистическими государствами коммунистического блока породила ватиканскую Ostpolitik – «восточную политику» времен папы Павла VI: с коммунистическими властями нужно договариваться, нужен политический компромисс в религиозных вопросах. Но, как сказал архитектор этой политики, государственный секретарь Ватикана кардинал Агостино Казароли – «это был не modus vivendi, а modus non moriendi» – нужно делать что-то, чтобы не дать умереть верующим в коммунистических странах. Чисто политический диалог с реально поставленной целью. Этот диалог ватиканская дипломатия вела в формате переговоров с представителями коммунистических властей, в том числе и советских, но неофициально, конечно.
– Насколько такой, парадоксально-настороженный, подход русского православия к экуменическому движению, к самой готовности к диалогу, связан с тем, что в России в отличие от Европы социально-культурно-религиозная традиция прервалась?
– В большей части Европы, безусловно, эта религиозная традиция непрерывна, и она, конечно, оказывает прямое влияние и на культуру, и на иные аспекты жизни. Что же касается России, то я бы предлагал не зацикливаться на этих семидесяти годах, а заглянуть глубже. За исключением периода некоторого религиозного перевозбуждения при Александре I в начале XIX века элиты в России жили достаточно отстраненно от непосредственного церковного влияния, живого религиозного контекста. Существовал, конечно, предписанный набор религиозных практик, но вот насколько живая религиозность входила в плоть и кровь русской культуры и на каком уровне – большой вопрос.
Начать хотя бы с того, что социальный статус духовенства в Европе и в России несопоставим исторически. В протестантском, а особенно в католическом мире духовенство очень часто – представители благородного сословия: князья, графы и так далее. В православии людей с титулами в высшем духовенстве можно пересчитать по пальцам. Среднего сословия, «среднего класса» у нас толком не было в начале XIX века – остаются крестьяне. Из них и мещан преимущественно и рекрутируется духовенство. Светские элиты не воспринимали тех, кто шел в семинарии (пусть даже из своих рядов), подобными себе. А в сословном обществе это серьезная проблема.
– Можно ли говорить о диалоге со старообрядцами?
– Это был опыт крайне неудачного диалога. Речь шла о единоверии, а по существу о церковной унии. В начале XIX века запущен государственно-церковный проект воссоединения старообрядцев с господствующей церковью, сначала добровольно-принудительно, а затем и жестко принудительно. Но этот проект по сути провалился.
Между православными «никонианами» и старообрядцами накопилось слишком много жестоких обид и вопросов, которые так и остались непроговоренными. Раскол имел очень сложные причины и мощнейшие последствия не только религиозного, но и социокультурного свойства.
Если в Европе в результате Реформации произошло то, что мы называем конфессионализацией – государственно-политическое размежевание по конфессиональному признаку, то в России после раскола XVII в. таких демаркаций не было. Все разделившиеся православные остались в одном котле, и внутри этого котла шло бурление. Конечно, Европе для религиозно-политического упорядочивания пришлось пройти через десятилетия религиозных войн, но и в России все происходило достаточно драматично. Во всяком случае, в результате Европа разложила все по полочкам – хорошо ли, плохо ли, но системно, а в нашем отечестве религиозное и социальное напряжение сохранялось.
– Казалось бы, это как раз та среда, которая предполагает возникновение потребности в диалоге…
– А вот тут давайте вернемся к тому определению диалога – «встреча и поиск взаимопонимания». А искали ли в России это взаимопонимание? Нужно ли оно было? Старообрядцы как социо-религиозная группа достаточно герметичны. Любой иноверец для них нечист – они просто не будут вступать с ним в коммуникацию, чтобы самим не оскверниться. Ведь только они войдут в Царствие Небесное, а все остальные погибнут. Конечно, протестанты могли относиться к католикам так же, но там все-таки были какие-то экономические, культурные, социальные взаимоотношения, а в России гигантские пространства: убежали, укрылись в лесах, на горах и в скитах – и все, нету их, и нет необходимости ни с кем общаться. Даже в городской культуре старообрядцы жили компактно и обособленно.
– Акт о каноническом общении между РПЦ и РПЦЗ – пример успешного межконфессионального диалога?
– Не совсем. Тут же нельзя говорить о том, что эти конфессии – разные. Это два направления одной традиции. Один наблюдательный русский католик написал в 1917 г., что православные в новой ситуации, после крушения монархии, при Временном правительстве, не говоря уж о большевиках, были похожи на детей, потерявшихся на улице. Они ищут, кого взять за рукав, чтобы их отвели домой. Он вовсе не издевался, он искренне сострадал, потому что православные оказались в тяжелейшей и непривычной для них ситуации – в ситуации безвластья. Как быть?! К кому прислониться? Православная церковь никогда не существовала без власти…
Сам же Акт о каноническом общении – это политический компромисс, который не всех устроил в Зарубежной церкви. У РПЦЗ было ясно сформулировано миссионерское задание – вот рухнет богоборческая власть, мы вернемся и объединимся. То есть политическое стало регулятором религиозного. Но вот советская власть ушла – и что? А где монархия, где император? Где реставрация? Михаил Сергеевич, Борис Николаевич – это вообще кто? А ведь монархизм для РПЦЗ – религиозный концепт: царь богоданный, последний государь со своим семейством – царь-мученик. В религиозно-политической идеологии РПЦЗ уход богоборческой власти означает неизбежную реновацию империи, ее перезагрузку. Монархия – божественная легитимация законной российской власти.
– А сейчас РПЦ претендует ли на какую-то ведущую роль в межконфессиональном диалоге на межгосударственном уровне?
– Межконфессиональные диалоги бывают разных видов. Вот диалог экспертов, обсуждение каких-то вероучительных, смысловых положений (в том же экуменическом движении такой диалог ведется постоянно), то, что называется «диалог истины». Для этого существуют специальные комиссии. Есть такая комиссия и для диалога православных церквей с католиками, Смешанная богословская комиссия, куда входят представители 15 поместных православных церквей и представители католической церкви.
Существует и другой диалог, «диалог любви», диалог жестов и символов. Вот, в январе 1964 г. в Иерусалиме встречаются Константинопольский патриарх Афинагор и папа Павел VI. Впервые после 1054 г. папа встречается с патриархом, они обнимаются и обмениваются братским поцелуем. Сенсация! И это тот символ, тот жест, который переворачивает многовековую историю. После чего начинается проработка вопроса: а что нас разделяет? Была ли схизма? Был ли раскол? И каково содержание этого раскола? А что же там было, в этом пресловутом 1054 году?..
И вот, когда в 1965 г. поняли, что Восток содержанием раскола считает анафему на церкви, а Запад полагает ее исключительно персональной, то составили особую декларацию, которую и зачитали 7 декабря 1965 г. одновременно в Риме и в Стамбуле. И решили эти анафемы просто «изъять из памяти церкви». Такой нашли компромисс. Не денонсировать, не признавать их недействительными, а просто стереть из памяти церкви. Это было признано и в Риме, и в Константинополе.
– Очень человеческий, ницшеански-человеческий подход: не помню – значит, не было.
– Да, просто решили предать забвению. У нас есть власть это сделать, и мы это можем. Очень интересна была реакция Москвы. Митрополит Никодим отозвался в принципе позитивно, признав это очень важным шагом для улучшения отношений между католической церковью и православными церквами в целом. И патриарх Алексий I сказал, что это очень важный шаг в отношениях Рима и Константинополя, однако отметил, что богословского значения для всей полноты православия этот акт не имеет. Церковная Москва сочла произошедшее внутренним делом Константинопольского патриархата.
Теперь, собственно, по поводу претензий. В то время патриарх Афинагор решил перезагрузить эту пентархию (пятиправление) с константинопольским лидерством. Иными словами, Константинополь хотел стать лидером всего православного мира, в том числе и в вопросе участия в экуменическом движении. РПЦ сразу же выразила особое мнение: каждая из поместных Православных церквей будет принимать решения по этому вопросу самостоятельно, без кураторства Константинополя. Эпизод с отправкой православных наблюдателей на Второй Ватиканский собор прекрасно иллюстрирует эту ситуацию. Кстати, на Первый Ватиканский собор в 1869 г. тоже приглашали наблюдателей – но буквально как провинившихся школяров: ну-ка, приезжайте, одумайтесь и покайтесь, и мы вас, так и быть, простим.
В этот раз все было по-другому. II Ватиканский собор был вообще очень миролюбивым, никаких анафем, даже атеизм не осудили. Более всего католики стремились наладить общение в христианском мире и запустить свой экуменический проект. Поэтому наблюдателям, православным и протестантам сказали: «Пожалуйста, приезжайте, посмотрите и послушайте, о чем мы будем говорить, но мы и вас хотим послушать, узнать, что вы думаете». Католики как люди системные решили поступить с православными так же, как и с протестантами. Тем приглашения разослали по главам федераций – пусть решают, кто поедет. Так же действовали и с православными: кто у них главный? Константинополь, так пусть константинопольский патриарх и определяет, кто приедет от каждой из 15 церквей. Туда и послали приглашение.
Церковная Москва тут же заявила: нет, пусть каждый решает за себя, пусть каждая церковь сама определяет, кто поедет и поедет ли вообще. В Константинополе изумились: как так? Мы же первые среди равных, давайте встретимся и договоримся, и если поедем, то совместно. И пока Константинополь пытался реализовать свое функциональное первенство, РПЦ все решила за себя и в октябре 1962 г. прислала наблюдателей на первую сессию католического собора. Остальные подтянулись к третьей сессии в 1964 году.
Только представьте себе: 1962 г., еще никого из православных нет, а Москва уже в Риме! Это был фурор. И без того внимание всех СМИ было приковано к собору, ведь по сути это был первый крупный церковный форум в медийную эпоху. А тут еще из-за «железного занавеса», где, как полагали на Западе, и верующих-то почти не осталось, приезжают люди в рясах, улыбаются, культурно разговаривают. Пресса вынесла фотографии московских наблюдателей на первые полосы.
Это, кстати, был серьезный внешнеполитический успех СССР. Ведь решающую роль в решении об отправке наблюдателей от РПЦ сыграли аргументы, которые митрополит Никодим представил в Совет по делам религий (и, следовательно, в ЦК КПСС). Во-первых, на Втором Ватиканском соборе развернется борьба между католиками-прогрессистами и католиками-консерваторами. От исхода этой борьбы будет зависеть направление дальнейшего курса католической церкви. Приезд наблюдателей от «прогрессивной» РПЦ может если не решить исход этой борьбы, то серьезно скорректировать ее последствия. Во-вторых, явившись в Рим первыми, без согласования с Константинополем, мы докажем свою самостоятельность и поставим амбициозного патриарха Афинагора на место. А это важно вдвойне, поскольку тогдашнего главу Константинопольской церкви считали проамерикански настроенным.
– Как можно в контексте «диалога жестов и символов» оценить встречу патриарха Кирилла и папы римского Франциска в 2016 году?
– Прежде всего есть документ, совместная декларация, принятая по итогам этой встречи. Что бы там ни говорили, это очень грамотный и логичный документ. Причем построен он, что примечательно, по принципу контрапункта – в единый текст синтетически сведены формулировки и позиции обеих сторон. Получившийся текст выглядит очень гармонично, все стройно и обоснованно. А вот что означает этот документ и кому он предназначен – отдельный вопрос. Главное, что он есть.
При этом – особенно в медийном освещении – главным символическим и содержательным элементом встречи стали братские объятия. Это яркий пример диалога любви и диалога символов. Исторический контекст этого события очень сложный и даже драматический. Встреча Римского понтифика и патриарха Московского готовилась очень долго и тяжело. Первые инициативы начались еще при папе Иоанне Павле II и патриархе Алексии II. Но каждый раз эта подготовка натыкалась на какие-то преграды. Прижилось даже клише – «традиционная невстреча лидеров» двух церквей.
Очень горячим, неоднозначным этот диалог был в девяностные годы. Католиков обвиняли в прозелитизме, в том, что они ищут в постсоветской России, кого бы еще завербовать, кого бы обратить. Эти обвинения звучали на самом высоком уровне, в том числе и из уст патриарха. То, что это наконец произошло, говорит прежде всего о возможности таких встреч в настоящем и в будущем. Практические последствия гаванского межцерковного саммита – уже совсем другой разговор. На первом месте – добрый знак надежды, на втором – совместная декларация.
Встреча патриарха Кирилла и папы Франциска в Гаване стала фантастическим событием в плане реализации возможностей, которые раньше были подавлены. Братский поцелуй, объятия, возможность прикоснуться друг к другу… Вообще, тактильность – важный элемент культурного кода папы Франциска. Это, несомненно, и пасторский элемент, и принадлежность к экспансивному латинскому культурному типу. Патриарх Кирилл в этом смысле более сдержан, закрыт, отстранен. И это единение в символическом плане производило тем более сильное впечатление.
– Можно ли через межконфессиональный диалог добиться решений текущих политических кризисов – на Украине, в Сирии, в Малайзии, где угодно?
– Для большой политики религиозный фактор – дополнительный ресурс. Если прорывные решения недостижимы традиционными политическими средствами, можно попробовать задействовать и его: вдруг сыграет? И, как мы видим, большая политика даже в ХХ веке была заинтересована в подключении этого дополнительного ресурса. Об этом свидетельствует и история Русской православной церкви в военный и послевоенный период.
На мой взгляд, ничего страшного в этом нет. Та же встреча патриарха Кирилла и папы Франциска – большое политическое событие. После Гаваны было множество комментариев в духе: «Патриарх Кирилл – агент Кремля! Он выполняет задания администрации президента». Порой даже казалось, что эта тема проходила буквально красной нитью.
Конечно, сами по себе подозрения, что патриарх Кирилл – чей-то там агент и выполняет чьи-то задания – абсолютный бред, обсуждению не подлежащий. Но какие-то внешнеполитические государственные задачи и внешнеполитические церковные задачи всегда сопрягаются. Какие между ними отношения – сложноподчиненные, сложносочиненные – это другой вопрос, но они так или иначе идут рука об руку, и это нормально.
– Возможен ли такой «диалог жестов и символов» между религиозными и политическими деятелями?
– Отношения между религией и большой политикой незаметно и неожиданно для многих начинают переустраиваться, здесь появляются новые акценты. Показательный пример – послание папы Франциска, направленное президенту Путину 4 сентября 2013 г., накануне саммита G20 в Санкт-Петербурге, и речь в нем шла о критической ситуации в Сирии. А Путин тогда председательствовал на саммите. Само по себе это сильное, очень внятное послание, но мало кто обращает внимание на то, как оно заканчивалось.
А заканчивается оно буквально так: «Испрашивая Ваших молитв, господин Президент…». То есть папа Франциск обращается к президенту России, председателю крупнейшего международного форума, как к верующему человеку, как к христианину. Папа Франциск не обязывает его ни к чему как некий духовный наставник, он лишь напоминает о реальности взаимной молитвы. Важна сама форма обращения – он испрашивает, просит, благословляя при этом встречу глав государств в надежде, что она даст благие результаты.
Получается, что обмен молитвами и благословлениями может форматировать новую политическую реальность. Без обязательств, но с христианской надеждой на практические результаты в политическом и гуманитарном решении проблемы.
– Часто ли приходится ради возможности вести диалог выходить за пределы вероисповедания или, наоборот, сужать поле диалога с тем, чтобы он не выходил из «зоны комфорта», не затрагивал вопросов, чувствительных для церковных догматов?
– Это две степени риска на пути ведения диалога. В ходе реализации диалога неизбежно встает вопрос идентичности: кто мы? и где границы диалога? Где пределы наших возможностей? 2000-й год, год Великого юбилея христианства, дал хороший пример того, как болезненно определяются такие границы. В тот год одновременно появились два католических документа – декларация Dominus Jesus и нота о выражении «церкви-сестры». Этот термин – очень неаккуратный с экклезиологической точки зрения – родился в эпоху развитого экуменизма 1970-х – 1980-х гг., а авторство приписывалось папе Павлу VI. Но «церквями-сестрами», с точки зрения ватиканского документа 2000 г., могут быть только поместные церкви: церковь Рима и поместная православная церковь – это сестры, а Католическая церковь – всем церквям мать.
В свою очередь декларация Dominus Jesus прямо предостерегала от расширения диалога в ущерб пониманию того, кто такой Христос. Для христиан Иисус Христос – единственный спаситель и воплощенное Слово Божие. Здесь не может быть компромиссов в межрелигиозном диалоге. Собственно, оба документа 2000 г. представляют собой попытку с католической стороны обозначить границы ведения как экуменического, так и межрелигиозного диалога. И, нужно сказать, это вызвало большой переполох среди православных и протестантских экуменистов.
– На каком языке – в философском смысле – может вестись такой диалог?
– Проблематика языка – центральная тема ХХ века: философская, филологическая, социокультурная, какая угодно. И ранние – да по сути и все основные – документы экуменического движения посвящены как раз богословским терминологическим и в широком смысле языковым проблемам. Вот главный сюжет христианства – Пресвятая Троица. Как ты мыслишь и что говоришь о ней на языке своей конфессиональной традиции? Изложи. И я изложу. А потом сравним.
Вопрос богословского языка – ключевой в этой проблеме. Первые документы Смешанной православно-католической богословской комиссии – также очень яркий пример того, как собеседники пытаются выстроить богословский язык, договориться о терминах. Это не «изобретение» нового языка, профессионального «экуменического арго», это попытка определить основополагающую терминологию и коммуникативные стратегии дальнейшего диалога. Найти взаимно непротиворечивые понятия и снять противоречия там, где их изначально нет.
– Может ли этот диалог дать что-то миру нехристианскому, нерелигиозному? Есть от него какая-то практическая польза?
– А в чем вообще польза миру от христианства? Культурное наследие? Мне приходится часто слышать от наших просвещенных современников такие суждения: «А если бы был жив античный мир, он это христианское культурное наследие перекрыл бы стократно! Да эти христиане вообще ничего своего практически не создали – все от античных греков и римлян натащили! Ренессанс какой-то у них там был, тоже мне»! Признаться, есть некий резон в этих обличениях.
Дело в другом. Христианство как мировоззрение, как способ видения человека у нас во плоти, в крови. Даже если мы этого не ощущаем. Весь наш мир выстроен на христианском мировоззрении, на христианском взгляде. Христианство – это закваска, которая перебраживает и изменяет существующий мир и его культуру. Хотим мы этого или нет, признаем или нет, мы воспринимаем этот мир по-христиански. Но вот те, допустим, филологи-античники, мнения которых я привел выше, вполне могут относиться к христианству в духе заветов Марка Аврелия, своего духовного учителя. Они логично могут считать христиан шпаной и варварами, разрушившими великую древнюю цивилизацию и поглумившимися над ее культурой.
Полная версия интервью опубликована на сайте svop.ru в разделе «Российский диалог культур и цивилизаций – взаимное обогащение».
«Газпром» в 2016 году направил на газификацию регионов 25 млрд рублей
В рамках программы газификации в 2016 году построены газопроводы для газоснабжения 254 населенных пунктов. Это более 25 тыс. домовладений и 175 газовых котельных. К концу 2016 года уровень газификации по России достиг 67,2%, в том числе в городах — 70,9%, в сельской местности — 57,1%.
В России 58% поставок природного газа приходится на тепло- и электрогенерирующие предприятия, население и коммунально-бытовой сектор, для которых стабильное обеспечение газом имеет жизненно важное значение.
Чистая выручка «Газпрома» от продажи газа в РФ увеличилась в 2016 году более чем на 14 млрд рублей, составив 820 млрд рублей.
«Перспективу развития сбыта на внутреннем рынке мы видим в расширении применения природного газа, а также в продвижении рыночных форм торговли газом. «Газпром» способствует их развитию, участвуя в торгах на бирже в Петербурге, где мы продаем газа больше, чем независимые производители», - сообщил глава компании Алексей Миллер.
Газификация российских регионов — масштабный социально значимый проект «Газпрома». Его реализация расширяет доступ населения к «голубому топливу», увеличивает емкость внутреннего рынка. В 2016 году на цели газификации регионов были выделены инвестиции в сумме 25 млрд рублей.
Природный газ — «целевое топливо будущего». «Газпром» ведет широкомасштабную работу по его пропаганде и внедрению в качестве моторного топлива на транспорте. Этой программой охвачены десятки регионов и субъектов Российской Федерации, а также зарубежные страны: Германия, Польша, Сербия, Чехия, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Вьетнам.
Единым оператором по развитию рынка газомоторного топлива является «Газпром газомоторное топливо». Продвижение природного газа как моторного топлива осуществляется под брендом «ЭкоГаз». В эту деятельность вовлекаются местные и региональные органы власти, производители транспортных средств и специального оборудования, а также компании, занимающиеся перевозками.
В 2016 году объем реализации компримированного газа на заправочных станциях группы «Газпром» и «Газпром газомоторное топливо» увеличился на 10%, составив 480 млн куб. м газа.
Способствуя расширению применения природного газа, «Газпром» ведет планомерную работу по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Благодаря реализации ряда корпоративных программ с 2012 по 2016 годы «углеродный след» «Газпрома» сократился более чем на 20%.
Делегация ГУВМ МВД России приняла участие в работе Глобального форума по миграции и развитию под эгидой Организации Объединенных Наций
В Берлине завершилось юбилейное X ежегодное заседание Глобального форума по миграции и развитию, учрежденного в 2007 году и функционирующего под эгидой Специального представителя по вопросам миграции Генсекретаря ООН. В нем приняли участие представители миграционных ведомств государств-участниц ООН и эксперты ведущих международных организаций: Всемирного Банка, Международной организации по миграции (МОМ), Международной организации труда (МОТ), Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и др.
Текущая сессия Форума, проводимая под председательством Федеративной Республики Германия и Королевства Марокко (2017-2018 гг.), собрала более 500 человек из 143 государств и международных организаций системы ООН.
По мнению ведущих международных экспертов в вопросах миграции, сегодняшний день характеризуется беспрецедентным уровнем глобальной мобильности. По данным МОМ, каждый седьмой житель Земли является мигрантом. Оценки вынужденной миграции варьируются от 60 млн человек, уровень глобальной безработицы - около 200 млн человек.
В этих условиях особое внимание участников Форума было привлечено к проведению экспертного круглого стола ГФМР, посвященного государственному реагированию в части массового исхода мигрантов: «Миграция в ходе экстренных происшествий».
Представитель ГУВМ МВД России Илья Маленко рассказал о национальных аспектах реагирования на исход мигрантов, учитывающих комплексную работу заинтересованных российских ведомств в деле приема и обустройства значительного числа граждан Украины в 2014-2016 гг.
Участники круглого стола отметили, что данная проблема при отсутствии должного внимания ведет за собой развитие коридоров незаконной миграции, увеличивает риски торговли людьми, угрозы террористического и экстремистского характера, а также ухудшение социальной и криминогенной обстановок.
К 2021 г. объем польского фармацевтического рынка достигнет 11 млрд долларов, сообщает GlobalData
К 2021 г. объем фармрынка Польши достигнет 11 млрд долл. против 9,4 млрд долл. в 2016 г., говорится в отчете британской исследовательско-аналитической компании GlobalData. Среднегодовой темп роста (CAGR) составит 32%.
Эксперты GlobalData отмечают, что рост объема польского рынка лекарств происходит несмотря на принятый в 2012 г. новый закон о льготном лекарственном обеспечении, что привело к снижению объема рынка почти на полмиллиарда долларов, а также снижению цен на льготные препараты и, соответственно, прибыли оптовиков и ритейлеров.
Оздоровление рынка, по мнению экспертов, будет обусловлено с одной стороны старением населения и распространением возрастных заболеваний, с другой – расширением доступа к лекарствам и прозрачной регуляторной политикой.
Польский фармрынок является одним из самых динамично развивающихся в странах бывшего СЭВ. Система здравоохранения страны также является одной из лучших, поскольку все граждане обеспечены обязательным медицинским страхованием, а льготное обеспечение лекарствами является основным фактором их доступности. Цены на лекарства в Польше обычно ниже, чем в других странах Евросоюза.
Аналитики полагают, что немаловажную роль в развитии польского фармрынка будет играть биотехнологический сектор. Развитие биотехнологий является приоритетом для правительства страны, которое поощряет инвестиции в эту область.
Тенденцию к ревизии истории и итогов Второй мировой войны в Европе пока переломить не удается, в том числе из-за того, что Брюссель не берется критиковать Польшу, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.
Нижняя палата (сейм) парламента Польши 22 июня проголосовала за внесение поправок в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Документ предусматривает снос памятников советской эпохи, в том числе воинских. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.
"Критикуя Польшу, в Брюсселе в перечень претензий данный сюжет, увы, не включают до сих пор. Мы со своей стороны предпринимаем необходимые политические демарши, пытаемся разъяснить. Но пока общую тенденцию к ревизии истории, в том числе истории Второй мировой войны, пока ее переломить не удается. Это касается Польши, это касается Прибалтики и некоторых других стран. Идет ползучая ревизия итогов Второй мировой войны", – заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
В качестве примера он привел недавнее открытие в Брюсселе, причем на территории Европарламента, небольшого музея "Дом Европейской истории". "Там дается такая трактовка, с которой во многом я не смог бы согласиться", — отметил Чижов.
"В последнее время Польша и Венгрия (из-за отказа принимать беженцев — ред.) – это две страны, которые являются объектом критики со стороны ЕС. Но критики достаточно сдержанной, мягкой. Никто, видимо, не заинтересован ни в Брюсселе, ни в других столицах давать повод для открытого конфликта. На фоне Brexit это можно понять, потому что дальнейшие центробежные тенденции в ЕС не соответствуют политическим установкам большинства стран", — добавил постоянный представитель России при Евросоюзе.
В Софии проходят юбилейные мероприятия Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы в связи с празднованием в Болгарии 50-летия Общества русистов Болгарии и приуроченные к 50-летию МАПРЯЛ.
Документы
Программа празднования 50-летия Общества русистов
PDF 558,4 КБ
Событие было организовано Обществом русистов в Болгарии при поддержке Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, представительства Россотрудничества в Республике Болгарии, фонда «Русский мир», фонда «Славяне» и Болгарской национальной сети преподавателей русского языка и литературы.
30 июня в Российском культурно-информационном центре состоялось открытие международной научной конференции на тему: „Русистика: вчера, сегодня, завтра“. Пленарное заседание открыла Президент Российской академии образования, Президент Российского общества и Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы Людмила Алексеевна Вербицкая, которая отметила значимый вклад Общества русистов в Болгарии в работу Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы и подчеркнула эффективную и успешную работу сообщества в рамках задачи популяризации русского языка, литературы и культуры в Болгарии.
В рамках пленарного заседания также были сделаны доклады «Русская художественная литература в Болгарии Христо Манолалакева (Велико-Тырново), «Современное русское словоупотребление в зеркале метаязыковой рефлексии» Силвии Петковой (София), и «Современные тенденции в методике преподавания русского языка» Светланы Ремизовой, директора издательства «Русский язык. Курсы» (Москва).
Участники конференции „Русистика: вчера, сегодня, завтра“ продолжили работу в рамках секций по следующим направлениям: «Русский язык: актуальные аспекты исследования. Историческое развитие и современное состояние русского литературного языка», «Теория и практика преподавания русского языка и литературы», «Язык. Культура. Перевод», «Русская литература в современном мире». В работе секций приняли участие специалисты из России, Болгарии, Польши, Чехии, Сербии, стран СНГ, Франции, Грузии, Румынии, Италии и других стран мира.
В Российском культурно-информационном центре состоялось торжественное собрание, посвященное 50-летнему юбилею Общества русистов Болгарии и приуроченное к 50-летию МАПРЯЛ. Председатель Общества русистов Болгарии д-р Валентина Аврамова рассказала об истории и достижениях общества за полвека, а также вручила грамоты ветеранам общества, отдавшим большую часть своей жизни работе по популяризации русского языка, литературы и культуры в Болгарии.
Глава кабинета вице-президента Болгарии Лиляны Йотовой зачитала поздравительный адрес, в котором г-жа Йотова отметила красоту, глубину и значимость для мировой культуры русского языка и литературы, и поздравила всех русистов с юбилеем общества.
С приветственным словом к собравшимся обратилась президент МАПРЯЛ Людмила Алексеевна Вербицкая, которая с глубокой благодарностью обратилась к присутствующим официальным лицам и коллегам. Людмила Алексеевна вручила медали А.С.Пушкина заслуженным болгарским филологам Татьяне Алексиевой и Райне Терзиевой. Этой высокой награды удостаиваются российские и зарубежные общественные и государственные деятели, учёные, специалисты и преподаватели, внесшие значительный вклад в распространение русского языка, русской литературы и культуры в зарубежных странах. Ежегодно присуждается не более 10 медалей.
Приветствие от Посла России в Болгарии Анатолий Макарова зачитал Советник по культурным вопросам Посольства России в Болгарии Кирилл Рынза, который обратился к присутствующим «коллеги», подчеркнув тем самым значимую роль преподавателей русского языка и литературы как народных дипломатов в укреплении дружеских отношений между двумя нашими странами.
Приветственный адрес главы Россотрудничества Любови Глебовой озвучил руководитель представительства Россотрудничества в Болгарии Павел Журавлев, отметив благородный труд русистов и филологов, который способствует развитию международного гуманитарного диалога и сотрудничества, сплочению многонационального Русского мира, а также укреплению доверия и взаимопонимания между нашими народами. Павел Журавлев вручил также грамоту и Благодарственное письмо за участие в международной акции «Почитаем Пушкина» присутствующей на конференции Зое Кузмановой, филологу из г.Пловдива.
Со словами благодарности и поздравления обратились к собравшимся также председатель общества Дружбы с Россией и странами СНГ Захарий Захариев и председатель Координационного совета «Болгария – Россия» и Союза болгарских журналистов Снежана Тодорова.
Юбилейные торжества продолжились концертом российских и болгарских коллективов.
1 июля праздничные мероприятия продолжились мастер-классами для преподавателей РКИ к. фил. н. Марии Юрьевны Лебедевой, представляющей Государственный институт русского языка им.А.С.Пушкина. В фойе Российского культурно-информационного центра работает выставка учебной литературы издательства „Русский язык. Курсы“.
Эстонский энергоконцерн Eesti Energia начинает продажу природного газа в Польше
«На сегодняшний день мы более десяти лет успешно действуем в Латвии и Литве, мы обеспечили себе значимую позицию на рынке энергии стран Балтии. Опираясь на полученный опыт, мы уверены в том, что достигнем успеха и в Польше», – сказал руководитель по продаже энергии Eesti Energia Карла Аган.
Дочернее предприятие концерна Eesti Energia, компания Enefit, получила от регулирующего энергетический рынок Польши ведомства разрешение на торговлю электричеством и природным газом. Предприятие сосредоточится на обслуживании фирм малых и средних размеров, а также на обслуживании более крупных промышленных клиентов.
По словам руководителя по продаже энергии Eesti Energia Карлы Агана, начало коммерческой деятельности в Польше является частью стратегической цели Eesti Energia, предусматривающей рост от продавца электричества в странах Балтии до продавца энергии и поставщика энергетических услуг в регионе Балтийского моря.
Enefit продает клиентам в Польше электричество и природный газ, которые закупаются на энергетических биржах. Кроме продажи энергии, предлагаются консультации по теме энергии и дополнительные услуги.
«В Польше мы делаем ставку на создание долгосрочных партнерских отношений. Мы видим, что на рынке Польши есть место для продавца энергии, предлагающего продукты, отвечающие потребностям клиентов, и качественное персональное обслуживание», – добавил Аган.
Годовой объем рынка электричества Польши составляет свыше 161 ТВтч (тераватт-часов), что в шесть раз больше размера общего рынка электричества стран Балтии, который в прошлом году составил 25 ТВтч (в Эстонии 8, в Латвии 7 и в Литве 10 ТВтч). Годовой объем польского рынка газа превышает 166 ТВтч, что в четыре раза больше общего размера газового рынка стран Балтии, который составил в прошлом году 41 ТВтч (в Эстонии 5, в Латвии 14 и в Литве 22 ТВтч).
Членами правления польского предприятия Enefit Sp. z o.o являются руководитель по продаже энергии Eesti Energia Карла Аган, исполнительный директор дочерних предприятий Eesti Energia в Латвии и в Литве Янис Бетхерс, а также руководитель Enefit Sp. z o.o Мацей Ковальски. На польском предприятии работает шесть человек. Единоличным собственником Enefit Sp. z o.o является Eesti Energia.
Энергетический концерн Eesti Energia состоит из 23 коммерческих подразделений, в первом квартале 2017 года в нем работало в среднем 5850 человек. Кроме Эстонии, предприятие действует в Латвии, Литве, Польше, Германии, Иордании и в Соединенных Штатах Америки.
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в работе Четвертого форума регионов России и Беларуси. Сегодня форум проходил под руководством лидеров двух стран, Президента РФ Владимира Путина и главы Республики Беларусь Александра Лукашенко. Тема пленарного заседания «Векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества». Также был затронут вопрос возможной отмены роуминга между странами.
В ответ на предложение Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Валентины Матвиенко о необходимости проработки вопроса отмены роуминга глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил: «Мы поддерживаем эту идею, но окончательное решение вопроса зависит от самих операторов. Необходим договор между каждым из операторов с его партнером с другой стороны. В настоящее время уже идет проработка с операторами связи, мы запрашиваем их позицию».
Минкомсвязь России ведет системную работу, нацеленную на снижение цен на роуминг с другими государствами. К настоящему моменту по инициативе министерства такие меморандумы подписаны уже с 14 странами: Абхазией, Аргентиной, Данией, Египтом, Израилем, Китаем, Латвией, Литвой, Норвегией, Польшей, Словенией, Финляндией, Швецией, Эстонией.
Напомним, что вчера также прошла секция «Сотрудничество российских и белорусских ИТ-компаний на рынках России и Беларуси, а также третьих стран» по информационным технологиям с участием министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова и министра связи и информации Республики Беларусь Сергея Попкова.
В черном списке ОЭСР осталась всего одна юрисдикция
Тринидад и Тобаго, маленькая островная страна в Карибском море, осталась единственной юрисдикцией в черном списке ОЭСР, которая "не соблюдает международные стандарты финансовой прозрачности и не прогрессирует в этом направлении" (Non-Compliant Jurisdiction).
28 июня 2017 года был опубликован очередной отчет ОЭСР по данной тематике. Кроме черного списка, в отчете также фигурирует "серый", в который вносятся страны, "частично соответствующие стандартам" (Partially Compliant Jurisdiction). В этом году серый список пополнили Маршалловы Острова (ранее были в черном).
Остальные оффшоры, находившиеся до этого в черном и сером списках ОЭСР, под давлением "прогрессивной общественности" стройными рядами присоединялись к механизмам международного обмена информацией и вносили необходимые изменения в свое внутреннее законодательство. Специалисты ОЭСР по достоинству оценили эти "титанические усилия" и перевели такие юрисдикции в почетную категорию "в основном соответствующие стандартам" (Largely Compliant Jurisdiction). В нынешнем году такой чести удостоились: Андорра, Антигуа и Барбуда, Вануату, Гватемала, Доминика, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Ливан, Микронезия, Науру, Объединенные Арабские Эмираты, Панама и Самоа.
Чтобы избежать попадания в черный и серый списки, юрисдикция должна соответствовать целому ряду требований, главными из которых являются:
Эффективное реагирование на запросы о предоставлении информации
Обязательство присоединиться к механизмам автоматического обмена налоговой информацией
По мнению экспертов ОЭСР, подавляющее большинство оффшоров в последние пару лет продемонстрировали значительный прогресс в соблюдении международных норм финансовой прозрачности. При этом единственная страна, оставшаяся в нынешней редакции черного списка (Тринидад и Тобаго), была охарактеризована как "юрисдикция, не обладающая значительным финансовым сектором экономики и поэтому не представляющая собой особого риска".
Разногласия вокруг «Северного потока — 2»: политика превыше всего?
Идея увеличения мощности газопровода «Северный поток» до 110 млрд кубометров в год за счет строительства еще двух ниток возникла в связи со сложностями при реализации «Турецкого потока». Целый ряд европейских стран отнесся к проекту позитивно. Участвовать в его реализации выразили желание несколько европейских компаний, в частности Royal Dutch Shell, Uniper, OMV AG. Однако в связи с возражениями Польши, а также из-за возникновения юридических сложностей западные компании не смогли принять участие в реализации проекта в качестве членов консорциума Nord Stream 2 AG. Была выбрана схема, в соответствии с которой они предоставят Nord Stream 2 AG заемное финансирования в размере 50% стоимости проекта (9,5 млрд евро).
Вокруг проекта продолжается активная политическая борьба. Европейская Комиссия надеется получить от членов ЕС мандат на ведение переговоров с Россией по вопросу статуса проекта «Северный поток — 2». Германия, Австрия, Франция, Нидерланды, в сущности, заинтересованы в реализации проекта, но не готовы оказывать существенную политическую поддержку. Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии резко критикуют проект. Некоторые страны Южной Европы, например Венгрия и Италия, отмечают, что строительство «Северного потока — 2» станет примером двойных стандартов, ведь ранее жесткая позиция Еврокомиссии привела к отказу от уже согласованного со всеми заинтересованными странами ЕС «Южного потока». Осложняет ситуацию и решение Вашингтона о введении новых санкций против России, частично затрагивающих вопросы финансирования трубопровода «Северный поток — 2».
Юридические споры
Сложность реализации проекта «Северный поток — 2» с юридической точки зрения заключается в необходимости учитывать энергетическое законодательство Европейского союза, в том числе положения Третьего энергопакета. Большая часть газопровода находится в международных водах, к которым нормы энергетического права ЕС не применимы. Однако точка сдачи газа находится на территории Германии; конечная часть газопровода проходит через территориальные воды Германии, на которые теоретически распространяется энергетическое законодательство ЕС. Трубопровод с технической точки зрения — единая система, которая не может одновременно функционировать в соответствии с двумя правовыми режимами. И компания-оператор трубопровода тоже не сможет функционировать без урегулирования этих противоречий.
В контексте «Северного потока — 2» следует упомянуть о двух условиях, соблюдения которых требует энергетическое законодательство Евросоюза. Во-первых, управление трубопроводом должно быть отделено от добычи газа. Соответственно, компании, которые добывают и продают газ, не могут иметь ключевое участие в компаниях, управляющих трубопроводом. В данном случае речь идет о «Газпроме». Во-вторых, магистральные газопроводы на территории ЕС должны предоставлять так называемый «доступ третьих лиц к сетям», т. е. давать возможность прокачки по трубопроводам газа, принадлежащего иным компаниям, не входящим в консорциум по строительству и управлению трубопроводом.
Такие юридические требования при попытке их применения к «Северному потоку — 2» создают довольно сложную ситуацию. Прежде всего возникает вопрос, почему весь трубопровод должен жить по правилам ЕС, ведь на территории ЕС расположены только последние 12 км трубы (территориальные воды Германии)? Для «Газпрома», разумеется, абсолютно неприемлемо, если «Северный поток — 2», проходящий по международным водам, будет вынужден функционировать по внутреннему законодательству ЕС. Это создаст целый ряд проблем с окупаемостью проекта и наполнением трубы газом. Европейская Комиссия требует, чтобы половина мощности трубопровода оставалась незаполненной в ожидании газа других поставщиков (тот самый «доступ третьих лиц к сетям»). Но это нонсенс, ведь на дне Балтийского моря никто к газопроводу подключиться не может.
Схожая ситуация уже много лет существует с германским газопроводом OPAL, связывающим «Северный поток — 1» с австрийской границей. По требованию Еврокомиссии трубопровод уже много лет не может использоваться на полную мощность, что наносит ущерб не только «Газпрому», но и европейским потребителям. Понятно, что Европейская Комиссия стремится заставить Россию таким образом отказаться от принципа единого экспортного канала, т. е. монополии «Газпрома» на экспорт газа. Однако подобное давление Брюсселя с целью вынудить Москву изменить внутреннее законодательство контрпродуктивно.
Следует отметить, что стремление Еврокомиссии в данном вопросе выступать от лица всего Европейского союза не вполне обосновано. Первичное право ЕС, а конкретно ст. 196 Договора о функционировании Европейского союза, устанавливает, что определение источников поставок и импорта энергоресурсов входит в национальную компетенцию, а не в компетенцию институтов ЕС. В Еврокомиссии прекрасно понимают уязвимость своей позиции, однако надеются, что, спекулируя на негативном политическим имидже России, смогут убедить страны ЕС поручить ей вести диалог с Москвой. Однако по этому вопросу интересы стран ЕС очень различаются. В ЕС есть целый ряд стран, заинтересованных в реализации проекта, прежде всего — Германия, Австрия, Нидерланды. Вероятность того, что государства-члены дадут Европейской комиссии мандат на ведение переговоров по этому вопросу с Россией, невелика.
Мотивы санкционной политики США
Вашингтон в русле политики санкций всячески пытается осложнить развитие топливно-энергетического комплекса России и реализацию отдельных энергетических проектов. Очевидно, что принятые недавно санкции направлены на осложнение финансирования проекта «Северный поток — 2». В этом решении Вашингтона сочетаются как политические, так и экономические мотивы. Однако на первый план выходит желание наказать Россию за «неправильную» политику.
Поставки газа из США в Европу начались и будут продолжаться, но в небольших количествах. С учетом затрат на транспортировку, сжижение и разжижение поставки будут довольно дорогими; российский газ на рынке ЕС будет более конкурентоспособен. Безусловно, бизнес-группы в Вашингтоне лоббировали введение именно таких санкций против России, однако считать, что все решения принимались ради экономических целей, будет неверно. Для США в отношениях с Россией более значимы вопросы большой политики.
Что касается перспектив реализации проекта «Северный поток — 2», то нужно четко понимать — имеется целый ряд газопроводов, соединяющих Россию и Европу. Мощность этих газопроводов весьма велика. Более того, уже сейчас имеющиеся газопроводы используются не в полную силу, поскольку объем спроса на российский газ в Европе меньше, чем имеющиеся трубопроводные мощности. В перспективе спрос на газ в ЕС будет расти, однако, скорее всего, довольно умеренным темпами. Новые трубопроводы между Россией и Европой могут быть полностью востребованы лишь в случае кардинального уменьшения транзита через Украину или полного его прекращения. Это вопрос очень сложный как с политической, так и экономической точки зрения. В определенных кругах как в Вашингтоне, так и в ЕС есть политическое желание заставить Россию сохранить транзит через Украину, чтобы у Киева по-прежнему был инструмент влияния на Москву. Этот мотив в санкционной политике Вашингтона гораздо важнее экономического.
Позиция Германии
Германия заинтересована в проекте «Северный поток — 2», однако по ряду причин руководство страны пытается политически дистанцироваться от его реализации. Берлин делает вид, что проект реализуется исключительно силами коммерческих компаний. Мотивы германского правительства понятны — оно не хочет давать сторонникам жесткой антироссийской линии повод для критики. Даже такая умеренная поддержка Германией проекта «Северный поток — 2» вызывает целый ряд негативных комментариев со стороны других стран ЕС. Немцы вынуждены это учитывать.
Решение Вашингтона о принятии санкций, которые могут затронуть финансирование проекта «Северный поток — 2», вызвало резкую реакцию в Германии и Австрии. Они видят в действиях США прежде всего продолжение американской политики экстерриториального применения своего законодательства. Под санкции могут попасть германские компании, так или иначе вовлеченные в этот проект. Такая политика США, будь то санкции в отношении Кубы или Ирана, которые американцы пытаются распространять не только на свои компании, но и на европейские, традиционно являлась поводом для раздражения со стороны европейских стран. Однако в этом вопросе позиция европейцев слабо влияет на действия США.
Николай Кавешников
К.полит.н., доцент, зав. каф. интеграционных процессов МГИМО МИД России, в.н.с. Института Европы РАН, эксперт РСМД
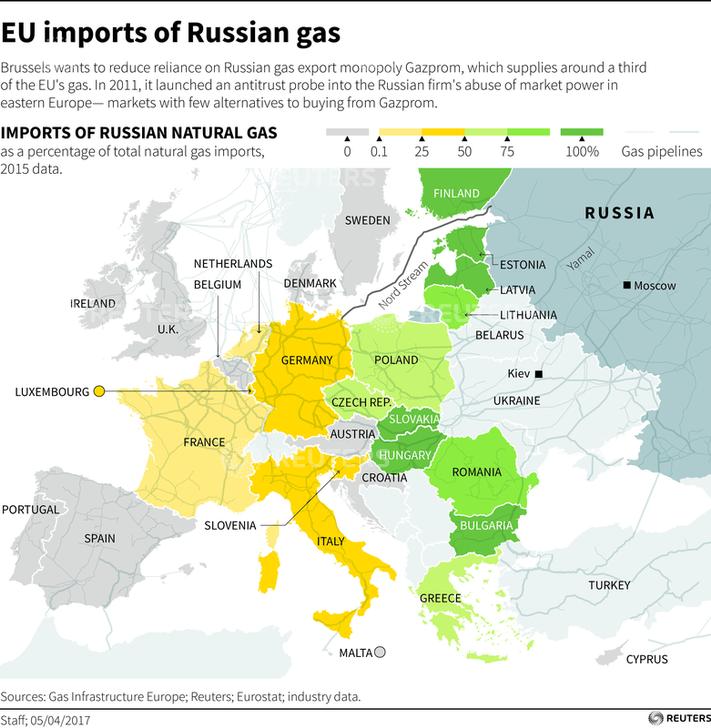

Си Цзиньпин, председатель КНР: Совместно продвигать строительство «Одного пояса и одного пути»
Си Цзиньпин, председатель КНР
Строительство «Одного пояса и одного пути» - дело великое, которое невозможно без великой практики
Более 2000 лет назад наши предки, преодолевая неимоверные трудности, пересекая степи и пустыни, проложили Шелковый путь на суше, соединяющий Азию, Европу и Африку. Наши прадеды на парусных судах совершали походы в далекие моря, сквозь бурю и девятый вал, открыли Морской шелковый путь, объединяющий Восток с Западом. Благодаря Великому шелковому пути открылись окна-коридоры дружественных связей между разными странами планеты, была вписана новая страница в летопись человечества. На Великом шелковом пути закалился и сформировался дух Шелкового пути, в основе которого лежат мир и сотрудничество, открытость и инклюзивность, взаимообмен и взаимозаимствование, взаимовыгода и всеобщий выигрыш. Вот это и есть самое ценное наследие человеческой цивилизации.
Мир и сотрудничество. В период династии Хань (примерно 140-е годы до нашей эры) отряд смелых первопроходцев из города Чанъань с мирной миссией отправился в далекие западные страны. При династиях Тан, Сун и Юань параллельное развитие получили шелковые пути на суше и море, где свои следы оставили китайский путешественник Ду Хуань, итальянец Марко Поло. А в начале XV века, во времена династии Мин, известный китайский флотоводец Чжэн Хэ семь раз возглавлял легендарную морскую экспедицию. Воспевались эти исторические подвиги потому, что там шли в поход не боевые кони и копья, не военные корабли и пушки, а караваны верблюдов и торговые суда с добрыми намерениями. Это они, «шелкопутийцы», из поколения в поколение создавали узы сотрудничества и мост между Востоком и Западом.
Открытость и инклюзивность. Великий шелковый путь проходил через бассейны рек Нил, Тигр, Евфрат, Инд, Ганг, Хуанхэ и Янцзы, тянулся до колыбелей цивилизаций Египта, Вавилона, Индии и Китая, простирался до мест компактного проживания буддистов, христиан и мусульман, проходил земли разных народов. Стараясь достигать взаимопонимания при сохранении разных точек зрения, в духе открытости и инклюзивности, различные цивилизации, конфессии и этносы вместе создали грандиозную и великолепную картину взаимоуважения и общего развития.
Старинные города Цзюцюань, Дуньхуан, Турфан, Кашгар, Самарканд, Багдад и Константинополь, древние порты Нинбо, Цюаньчжоу, Гуанчжоу, Пакхой, Коломбо, Джидда, Александрия считаются наглядным свидетельством этой истории. История учит, что цивилизация развивается в открытости, а нации сосуществуют в сближении.
Взаимообмен и взаимозаимствование. Великий шелковый путь — не столько путь торговли, сколько путь обмена знаниями. Китайский шелк, фарфор, лаковые и железные изделия были перевезены по нему на Запад, и обратно китайцы привозили душистый перец, лен, специи, виноград и гранат. По этому пути в Китай вошли буддизм, ислам, арабская астрономия, летосчисление и медицина. А компас, порох, бумага, книгопечатание и шелководство Китая получили распространение по всему миру. Более того, обмен товарами и знаниями сопровождает еще и развитие мышления. Например, буддизм брал начало в Индии, получил развитие в Китае и распространение в Юго-Восточной Азии. Конфуцианство родилось в Китае, но его высоко ценили, очень уважали и европейские мыслители, такие как Лейбниц, Вольтер. В этом отражаются привлекательность обмена и заметные плоды взаимозаимствования.
Взаимовыгода и всеобщий выигрыш. По Великому шелковому пути по суше непрерывно ходили посланцы и торговцы, а по морю плавали бесчисленные суда. По этим магистралям свободно передвигались капиталы, технологии, трудовые ресурсы и другие производственные элементы, в результате стали доступными товары, ресурсы и блага развития. Поднялись крупные города, такие как Алматы, Самарканд и Чанъань, бурно развивались морские порты, такие как Сур и Гуанчжоу. Процветали Римская империя, Парфия и Кушанское царство, Китай пережил расцвет династий Хань и Тан. Великий шелковый путь принес в регион колоссальное развитие и процветание.
Осенью 2013 года в Казахстане, а затем в Индонезии я выдвинул инициативу о совместном строительстве экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути XXI века. То есть «Один пояс и один путь». За минувшие 4 года более 100 государств и международных организаций активно откликнулись на строительство «Одного пояса и одного пути», инициатива как таковая включена в резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Строительство «Одного пояса и одного пути» постепенно переходит от идеи к практике и приносит плоды.
Прошедшие 4 года — это годы углубления политических контактов. Строительство «Одного пояса и одного пути» отнюдь не означает разрушение существующего и создание всего заново. Смысл этой идеи в сопряжении стратегий и взаимодополнении друг друга своими преимуществами. Речь идет о консолидации политики, включая российскую инициативу о Евразийском экономическом союзе, «Взаимосвязанность АСЕАН-2025», казахстанскую программу «Нурлы Жол», турецкий проект «Центральный коридор», монгольский «Степной путь», вьетнамский «Два коридора и один экономический цикл», Industrial Powerland Англии, польский «Янтарный путь» и т. д. Заключено соглашение о сотрудничестве с больше чем 40 государствами и международными организациями. Партнерами по регулярному сотрудничеству в сфере производственных мощностей стали больше 30 стран.
Прошедшие 4 года — это годы наращивания взаимосвязанности инфраструктуры. Мы с партнерами ускоренно продвигаем такие проекты, как высокоскоростная железная дорога Джакарта — Бандунг, железная дорога Китай — Лаос, железная дорога Аддис-Абеба — Джибути, железная дорога Белград — Будапешт, строим порты Гвадар, Пирей, разрабатываем целый ряд проектов в области транспорта и коммуникаций. В настоящее время формируется мультимодальная инфраструктурная сеть, базирующаяся на железных дорогах, портах и трубопроводных системах, включающая экономические коридоры Китай — Пакистан, Китай — Монголия — Россия и новый евразийский континентальный мост, с опорой на сухопутные, морские, воздушные сообщения и телекоммуникационную сеть.
Прошедшие 4 года — это годы активизации торговых связей. Вместе с участниками инициативы «Один пояс и один путь» мы всемерно способствуем облегчению торговли и инвестиций, улучшаем деловой климат. Время доставки сельскохозяйственной продукции до китайского рынка (с учетом таможенного оформления) из стран Центральной Азии, включая Казахстан, сократилось на 90%. За 2014-2016 годы товарооборот между Китаем и странами вдоль «Одного пояса и одного пути» превысил 3 трлн долларов. Совокупные инвестиции Китая в экономику этих стран превысили 50 млрд долларов. Китайские предприятия создали 56 зон торгово-экономического сотрудничества более чем в 20 странах, обеспечив 1,1 млрд долларов налоговых поступлений и 180 тысяч рабочих мест в этих странах.
Прошедшие 4 года — это годы роста финансовых потоков. Китай осуществляет разные формы финансового сотрудничества с участниками «Одного пояса и одного пути». Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) выделил кредит странам-участницам в объеме 1,7 млрд долларов для девяти проектов, инвестиции Фонда Шелкового пути составляют 4 млрд долларов. Официально учрежден финансовый холдинг Китая и стран Центральной и Восточной Европы в формате «16+1». Эти новые финансовые институты и традиционные многосторонние финансовые структуры имеют каждый свои особенности, дополняют друг друга и вместе формируют сеть финансового сотрудничества «Одного пояса и одного пути» с четкими иерархиями и достойным масштабом.
Прошедшие 4 года — это годы душевного сближения. Страны-участницы «Одного пояса и одного пути» создают «интеллектуальный Шелковый путь» и «здоровый Шелковый путь», развивают сотрудничество в областях науки, образования, культуры, здравоохранения, народных связей, укрепляют общественную и социальную основу для «Одного пояса и одного пути». Ежегодно правительством Китая предоставляются правительственные стипендии «Шелковый путь» на региональном уровне, направленные на активизацию международного обмена в области культуры и образования. Осуществляются разнообразные проекты культурно-гуманитарного сотрудничества, такие как Год культуры «Шелковый путь», Год туризма, фестивали, киномосты, семинары и диалоги мозговых центров.
Как говорят, лиха беда начало. Следует использовать эту благоприятную ситуацию, шаг за шагом двигаться вперед и дальше к прекрасному будущему. В этой связи хотел бы высказать следующие предложения.
Во-первых, «Один пояс и один путь» должен вести к миру. Древний Шелковый путь пережил расцвет в мирные годы, а в период войны — упадок. Строительство «Одного пояса и одного пути» немыслимо без мирной и спокойной обстановки. Необходимо создать международные отношения нового типа в духе взаимовыгодного сотрудничества, сформировать партнерские отношения в пользу диалога и кооперации без конфронтации и блоков. Важно взаимно уважать суверенитет, достоинство, территориальную целостность, уважать путь развития и социальный строй друг друга, учитывать коренные интересы и ключевые озабоченности.
Во-вторых, «Один пояс и один путь» должен вести к процветанию. Важно углублять производственное сотрудничество, продвигать совмещение стратегий разных стран в развитии производственных отраслей. Важно сформировать стабильную, устойчивую и контролируемую систему финансового обеспечения, обновить модель инвестиций и финансирования. Важно прилагать усилия к формированию мультимодальной связанности, включающей сухопутную, морскую, воздушную и сетевую, сфокусировать внимание на ключевых коридорах, городах и проектах с целью объединить сеть автодорог, железных дорог и морских портов.
В-третьих, «Один пояс и один путь» должен вести к открытости. Необходимо создать открытую платформу сотрудничества, развивать открытую мировую экономику. Важно формировать благоприятную среду, способствовать созданию справедливой, рациональной и прозрачной системы правил международной торговли и инвестиций, содействовать организованному передвижению производственных элементов, эффективному распределению ресурсов и глубокой интеграции рынков. Нужно отстаивать многосторонность механизмов торговли, продвигать строительство зон свободной торговли, стимулировать либерализацию и облегчение торговли и инвестиций.
В-четвертых, «Один пояс и один путь» должен вести к инновациям. Важно встать на путь инновационного развития, активизировать сотрудничество в передовых областях, в том числе цифровой экономики, искусственного интеллекта, нанотехнологий и квантовых компьютеров, содействовать развитию больших данных, облачных вычислений и умных городов. Необходимо стимулировать глубокую интеграцию науки и техники, как с производством, так и с финансами, оптимизировать инновационный климат. В эпоху интернета нужно создать поле и пространство для предпринимательской деятельности молодежи всех стран, помочь будущему поколению воплотить в жизнь молодежную мечту.
В-пятых, «Один пояс и один путь» должен вести к цивилизации. Целесообразно создать многоярусный механизм гуманитарного сотрудничества, наладить больше платформ и каналов взаимодействия. Важно увеличить обмен студентами и повышать уровень совместного обучения. Необходимо задействовать роль мозговых центров и потенциал культурно-исторического наследия, совместно разрабатывать свойственные Шелковому пути туристические продукты. Предлагаем активизировать контакты по линии парламентов, политических партий и неправительственных организаций, обмены между женщинами, молодежью, людьми с ограниченными возможностями, усиливать борьбу с коррупцией.
Накануне нового старта развития Китай углубленно реализовывает концепцию инновационного, согласованного, зеленого, открытого и общедоступного развития, последовательно адаптируется и идет вперед в духе новой нормы экономического роста, активно продвигает структурные реформы в сфере предложения, нацеленные на устойчивое развитие.
Китай готов на основе пяти принципов мирного сосуществования развивать дружбу и сотрудничество со всеми странами-участницами. Готовы делиться опытом развития без вмешательства во внутренние дела других стран. Мы не экспортируем социальный строй и модели развития, тем более их не навязываем. В ходе строительства «Одного пояса и одного пути», вместо того чтобы повторить стереотипы геополитической игры, будем создавать большую семью гармоничного сосуществования без вредных для стабильности замкнутых групп.
В рамках ОПОП Китай заключил со многими партнерами соглашение о сотрудничестве по строительству «Одного пояса и одного пути». Речь идет о проектах в области транспорта, инфраструктуры, энергетики, а также в коммуникационной, таможенной, санитарно-карантинной и т. д. Туда также входят программы и проекты по торговле, индустрии, электронной коммерции, морской и зеленой экономике и т. д. Будем работать над скорейшей реализацией и отдачей от всех этих проектов.
Китай намерен увеличить финансовую поддержку строительству «Одного пояса и одного пути». Будет вложено дополнительно 100 млрд юаней в Фонд Шелкового пути. Поддерживаем финансовые структуры развития за счет фондов за рубежом в китайских юанях, предполагаемый размер достигнет 300 млрд юаней. Государственный банк развития Китая, Эксим банк Китая предоставляют целевые кредиты на сумму 250 млрд и 130 млрд юаней для поддержки инфраструктурного, производственного и финансового сотрудничества в рамках «Одного пояса и одного пути».
Китай готов активно развивать со странами-участницами «Одного пояса и одного пути» взаимовыгодное торгово-экономическое партнерство, создать благоприятные условия для торговли и инвестиций, строить сеть свободной торговли в интересах экономического роста региона и всего мира. На полях недавнего форума «Один пояс и один путь» были подписаны соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с более чем 30 странами, доработаны с заинтересованными странами соглашения о свободной торговле. С 2018 года в Китае будет проводиться международная Экспо по импорту.
Китай готов со всеми странами укреплять инновационное сотрудничество. В течение предстоящих пяти лет 2500 молодых ученых будут приглашены на краткосрочную научно-исследовательскую работу в Китае, будут обучены у нас 5000 научно-технических и управленческих специалистов и введены в действие 50 совместных лабораторий. Будем создавать платформу сервиса для обработки больших данных охраны экосистемы, выступать с инициативой о создании международного союза зеленого развития «Одного пояса и одного пути» и оказывать заинтересованным странам помощь в противодействии климатическим изменениям.
На ближайшие 3 года Китай предоставит грант в размере 60 млрд юаней для реализации проектов по улучшению жизни населения. Предоставим развивающимся странам вдоль «Одного пояса и одного пути» оперативную продовольственную помощь на 2 млрд юаней, увеличим взнос в Фонд помощи кооперации «Юг — юг» на 1 млрд долларов, реализуем 100 проектов «Очаг счастья», 100 проектов «Помощь малообеспеченным», 100 проектов «Выздоровление». Соответствующим международным организациям будет выделен 1 млрд долларов в виде помощи в реализации проектов для стран-партнеров вдоль «Одного пояса и одного пути».
Китай готов создать механизм последующих контактов нынешнего форума, учредить центр исследования финансово-экономического развития, центр содействия строительству «Одного пояса и одного пути», вместе с многосторонними банками развития открыть центр финансового сопровождения многостороннего развития, с МВФ открыть центр по укреплению потенциала, создать сеть сотрудничества общественных объединений, образовать новые площадки гуманитарного сотрудничества вдоль Шелкового пути, в том числе пресс-союз, лигу музыкального образования.
Строительство «Одного пояса и одного пути» имеет глубокие корни в истории Шелкового пути. Оно обращено к Евразии и Африке, открыто для всех друзей. Вне зависимости от места происхождения все страны, пусть азиатские и европейские, африканские и американские, могут в нем участвовать. Строительство «Одного пояса и одного пути» реализуется путем совместного согласования, а результаты, разумеется, будут доступны для всех его участников.
Строительство «Одного пояса и одного пути» — дело великое, которое невозможно без великой практики. Давайте шаг за шагом двигаться вперед, по крупице накапливая позитивные результаты, приносить ощутимую пользу миру и народам всех стран.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter


























