Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Глобальный газовый рынок в условиях декарбонизации: перспективы и вызовы для компанийАналитика
Для газовой индустрии серьезнейшими вызовами является обеспечение сокращения углеродного следа продукции и убеждение в своей низкоуглеродности
В течение прошлого года на газовых рынках наблюдалась серьезная волатильность, и еще в середине 2020 г. рост цен в 3-3,5 раза (до текущих $12-13/млн б.т.е. на ключевых рынках сбыта) был маловероятен. На 2022 г. форвардная цена на хабе TTF, по оценкам Reuters, сохраняется на высоком уровне — чуть ниже $10/млн б.т.е. В сложившейся ситуации интересно, что помимо традиционных фундаментальных факторов (погодные условия, состояние ПХГ, восстановление спроса после кризиса, плановые ремонты трубопроводов и т.п.) на рынке стало явно прослеживаться влияние климатической повестки.
К середине 2021 г. стоимость выбросов диоксида углерода в системе торговли выбросами (СТВ) ЕС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла почти в два раза до €50 за тонну СО2-экв. (к 2030 г. и вовсе ожидается €100 за тонну). Это дало дополнительный стимул для генерирующих компаний делать свой выбор в пользу газа вместо угля. В июле в Китае, который является вторым импортером СПГ (67 млн тонн в 2020 г. и уже 54 млн тонн за первое полугодие 2021 г.) и крупнейшим мировым эмиттером (около 10 млрд тонн СО2-экв.), была запущена собственная СТВ. На начальной стадии она будет покрывать только 2225 энергетических компаний с выбросами более 4 млрд тонн СО2 (для сравнения, в ЕС оборот 1,6 млрд т). Данное нововведение, вероятнее всего, найдет отражение в региональном спросе на газ (и в частности, СПГ) в скором будущем.
Всего в мировой энергетике, по оценкам Global Data, ожидается рост мощностей с использованием газового сырья в среднем на 2% в год до 2030 г. или на 22% от уровня 2020 г.
Помимо этого, метан (в различных формах) может получить карт-бланш и от ужесточения климатических требований в судоходстве, на который сейчас приходится около 2-3% мировых выбросов СО2 (в абсолютном выражении больше уровня Германии). В ЕС, согласно недавно представленному Еврокомиссией масштабному плану по достижению климатических целей Fit for 55, с 2023 г. предполагается постепенное включение морского транспорта в систему торговли выбросами. Уже к 2026 г. судовладельцам придется платить за свои подтвержденные выбросы (100% для судов, путешествующих внутри ЕС, и 50% — для отправляющихся из порта или прибывающих в порт любой страны ЕС). В свою очередь, Международная морская организация (IMO) в прошлом месяце определила обязательные меры по снижению выбросов, которое уже к 2026 г. должно составить 11% от уровня 2019 г., к 2050 г. — 50% от показателя 2008 г.
Применение СПГ в качестве судового топлива может способствовать снижению удельных выбросов СО2 почти на 25%, а оксидов серы — на 100%, и при этом он остается более безопасным в случае разлива. В прошлом году, когда начало действовать требования международной конвенции MARPOL (0,5% содержания серы в бункерном топливе и 0,1% для отдельных зон), потребление СПГ на морском транспорте выросло почти вдвое относительно 2019 г. до 1,5 млн тонн.
На сегодняшний день в мире насчитывается около 190 судов, работающих на СПГ-топливе (почти на 63% больше чем в 2017 г.), а еще 140 относятся к категории LNG ready (изначально спроектированы с возможностью быстрого переоборудования под СПГ). При этом около 20% заказанных в этом году «новостроев» приходится именно на СПГ-суда, что дает повод предполагать, что к 2030 г. сжиженный природный газ может занять 10-15% в структуре потребления бункерного топлива.
Действительно, большинство отраслевых агентств и участников рынка сходятся во мнении, что в ближайшие пару десятилетий «голубое» топливо станет неотъемлемой частью и связующим звеном процесса энергоперехода (в отличие от других ископаемых топлив).
В зависимости от источника прогноза ежегодный рост спроса на газ оценивается в 1-1,4% до 2040 г. В большей степени рост будет обеспечен азиатскими потребителями (чуть менее 50% от общего прироста за 20 лет), где необходимо будет существенно сократить долю угольной генерации (57% по состоянию на 2020 г.), чтобы приблизиться к поставленным рядом стран целям по достижению климатической нейтральности к середине века.
СПГ, который позволяет выходить на рынки, недоступные для трубопроводов, а также расширять торговые и стратегические отношения, станет важной составляющей газового рынка в ближайшие десятилетия. Компании, заморозившие свои проекты по сжижению газа в прошлом году из-за неопределенностей с коронакризисом, возвращаются к пересмотру и реализации своих планов. Так, по оценкам Global Data, мировые мощности по сжижению газа будут расти в среднем на 10% в год до 2030 г. Почти половина прироста ожидается за счет США, около 13% новых мировых мощностей планируется в России, 11% — в Канаде, 7% — Катаре и 3% — в Австралии.
При этом, чтобы вписаться в новую модель рынка и оставаться конкурентоспособными, производителям СПГ, чей углеродный след выше трубопроводного газа, придется внедрять инновационные решения на всех звеньях производственно-сбытовой цепочки, добиваясь сокращения эмиссии парниковых газов, а также «озеленять» свои поставки в регионы с заявленными климатическими целями (например, путем компенсации углеродного следа сертификатами на выбросы и углеродными кредитами, а также использования технологий CCUS/УХУ, как это уже делают некоторые компании). На сегодняшний день углеродно-нейтральный сжиженный природный газ составляет незначительную часть мировой торговли СПГ: с момента продажи первого груза в 2019 г. поставлено было всего 14 грузов (для сравнения, более 5 тыс. грузов СПГ в целом за 2020 г.). Однако компании уже активно делают шаги в этом направлении. Например, в июле англо-голландская Shell договорилась с Китаем о пятилетних поставках СПГ с нулевым выбросом.
Таким образом, сейчас для газовой индустрии в целом и СПГ в частности серьезнейшими вызовами является обеспечение сокращения углеродного следа продукции и убеждение в своей низкоуглеродности. При этом пока остается ряд вопросов относительно масштабирования торговли СПГ с нулевым выбросом, как охват учитываемых выбросов, их методология измерения и верификация.
Ольга Белоглазова, руководитель Энергетического центра EY, Центральная, Восточная, Юго-Восточная Европа и Центральная Азия

За океаном уточняют ориентиры
В Вашингтоне продолжается процесс уточнения внешнеполитических приоритетов по всем азимутам.
На днях минуло полгода, как исполнительная власть в Вашингтоне перешла к администрации во главе с представителем демократической партии Джо Байденом. Радикальных изменений в курсе американского государственного корабля, не произошло, но некоторые перемены всё же обозначились. 16 июня 2021 года в Женеве прошёл российско-американский саммит, на котором сторонами было достигнуто взаимное согласие запустить «комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным». О некоторых аспектах внешней политике США и шла беседа нашего обозревателя с генеральным директором Российского совета по международным делам Андреем Кортуновым.
– Андрей Вадимович, недавний российско-американский саммит призван был стать, по оценке некоторых политологов, отправной точкой в отношениях двух стран. Насколько оправдались эти предположения?
– Женевская встреча готовилась в форсированном темпе, поэтому трудно было рассчитывать на некий пакет всеобъемлющих договорённостей, которые затронули бы весь комплекс российско-американских отношений. Конечно, очень важно, что Россия и США декларировали свою решимость запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности. Кстати, ожидается, что в ближайшие дни в Европе начнутся консультации между Россией и Соединёнными Штатами по тематике стратегической стабильности в рамках достигнутой в Женеве договорённости, представители двух стран встретятся для проведения первого диалога по вопросам нераспространения ядерного оружия.
Замечу также, что хотя Договор СНВ-3 продлили, но уже пора думать о том, что придёт ему на смену через четыре с половиной года. Тут очень много самых разных вопросов, на которые надо найти ответы. Среди них – вопросы об американских системах ПРО в Европе, о тактическом ядерном оружии на континенте. Не вполне ясно, как контролировать новые технологии в военной сфере, связанные с космосом, искусственным интеллектом, гиперзвуком, автономными системами… Да и потенциалы третьих ядерных держав требуют к себе всё большего внимания. Чем раньше начнётся содержательный диалог, тем лучше.
– Так что лёд тронулся…
– Давайте будем реалистами. В столицах двух ведущих ядерных держав взгляды на мир, на международные отношения, на будущий мировой порядок не совпадают. А потому практическая задача на данный момент состоит не в какой-то новой «перезагрузке», а в стабилизации отношений. Ведь никто в Вашингтоне и в Москве не хочет запредельных рисков или запредельных расходов, связанных с неконтролируемой конфронтацией.
– В чём проявляются отличия внешней политики Байдена от внешней политики его предшественника?
– Говоря об администрации президента-республиканца, надо проводить грань между эпатажной риторикой самого хозяина Белого дома и практическими действиями его администрации. Например, на уровне риторики Трамп выглядел чуть ли не врагом НАТО, а на деле он вполне последовательно продолжал линию своих предшественников на укрепление Североатлантического альянса, включая и его так называемый восточный фланг. Точно так же и Байден на уровне риторики старается как можно больше дистанцироваться от Трампа, но во многом продолжает его политику по конкретным вопросам.
Тем не менее, отличия, конечно, имеются. И самое главное из них – желание более тесно действовать вместе со своими традиционными союзниками и партнёрами. При Байдене США изменили своё отношение к климатической повестке дня, вернувшись в Парижское соглашение 2015 года. Были скорректированы и американские подходы к Всемирной организации здравоохранения, из которой Америку вывел Трамп, громко хлопнув на прощание дверью. Байден пытается сейчас изменить политику в отношении Ирана и отойти от ранее сугубо негативных американских оценок многосторонней договорённости по иранской ядерной программе.
– Отношения США с союзниками возвращаются на прежний, дотрамповский уровень?
– Вернуться в прошлое никому ещё не удавалось – ни в жизни, ни в политике. Проблемы между США и их союзниками не сводятся к эксцентричной личности бывшего президента, они коренятся в объективном расхождении стратегических интересов двух берегов Атлантики, Нового и Старого Света. Конечно, и европейские лидеры, и администрация Байдена сегодня много говорят о восстановлении трансатлантического единства, но эта успокоительная риторика не должна никого вводить в заблуждение.
Есть несколько очевидных точек напряжённости между США и Европой. Одна из них – разногласия по торгово-экономическим вопросам. Другая – вопрос о «стратегической автономии» Евросоюза от Соединённых Штатов. ЕС всё-таки не оставляет намерений достичь этой цели и после смены хозяина Белого дома. Третья – региональные приоритеты. Скажем, Соединённые Штаты могут позволить себе роскошь свернуть многие обязательства на Ближнем Востоке или в Африке, а вот Европа «уйти» из этих регионов просто не в состоянии – в том числе по экономическим причинам. Так что сложности в трансатлантических отношениях ещё будут.
– Главная проблема современной американской политики, судя по заявлениям Вашингтона, заключается в поиске оптимального курса в отношении Китая, который неуклонно расширяет свои экономические и технологические возможности. Какова политика 46-го президента США на китайском направлении?
– Я не уверен, что стратегия администрации Байдена в отношении Китая уже окончательно сформировалась. Первая американо-китайская встреча высокого уровня, состоявшаяся в Анкоридже в марте этого года, поставила много вопросов и дала мало ответов. Однако ясно, что при демократе-президенте США будут проводить стратегию сдерживания Китая. Причём сдерживание будет осуществляться по широкому кругу направлений – экономическому, технологическому, военно-техническому, геополитическому и даже идеологическому.
Нельзя исключить того, что Вашингтону удастся добиться каких-то тактических соглашений и компромиссов с Пекином, например, в сфере двусторонней торговли. Но это будет означать лишь то, что центр тяжести американо-китайского противостояния начнёт всё больше смещаться в сферу высоких технологий.
Байден, как представляется будет более системно и последовательно, чем Трамп, выстраивать единый «антикитайский» фронт Запада и координировать свою политику на китайском направлении со своими ближайшими союзниками. Европейцы, скорее всего, будут этому сопротивляться. Они больше склонны к компромиссам с Китаем – в том числе и по торгово-экономическим соображениям.
– Главными событиями этого года могут стать вывод американских военных из Афганистана. Поговаривают о возможном уходе и из Ирака. Это что? Проявлением растущей американской слабости или же попытка трезво взглянуть на вещи? И связан ли как-то демонтаж сил на Ближнем Востоке с намерением провести глобальную переконфигурацию военного присутствия США?
– Да, сегодня в заголовках новостей фигурируют главным образом события в Афганистане. Происходящий выход США из этой страны, безусловно, стал свидетельством очень большой внешнеполитической неудачи Вашингтона, возможно, самой серьёзной со времени поражения во Вьетнаме полвека назад. Относительно военного присутствия США на Ближнем Востоке ситуация менее однозначная: в Вашингтоне сейчас, видимо, взвешивают, какими геополитическими последствиями обернётся для Америки её уход из Ирака и Сирии, где задача военного разгрома ИГИЛ (террористическая организация, запрещённая в РФ. — Ред.) в общем-то уже решена.
Я не думаю, что сокращение американского присутствия на Ближнем Востоке приведёт к наращиванию такого присутствия в Центральной или Восточной Европе. Эти регионы не относятся к числу главных внешнеполитических приоритетов администрации Байдена. Вашингтон, по всей видимости, как и раньше, будет готов делегировать решение многих возникающих здесь проблем своим европейским союзникам. Белый дом больше заботят тренды в развитии ситуации в Индо-Азиатском регионе, прежде всего в западной части Тихого океана.
– Предыдущую деятельность Байдена как вице-президента тесно связывали с Украиной. Насколько актуальной становится украинская тематика для него как президента?
– С его победой в Киеве связывали много надежд – и в плане ускорения движения Украины в сторону НАТО, и в плане поддержки киевский интерпретации Минских соглашений. Пока эти надежды не оправдываются, новая администрация занимает осторожные позиции на украинском направлении. Сказывается, видимо, и осведомлённость о реальном состоянии украинского государственного механизма, включая судебную систему. Как представляется, украинское направление в политике США окончательно не оформилось. Возможно, что-то прояснится по итогам ожидаемого визита президента Украины в Вашингтон.
Александр Фролов, «Красная звезда»

Ответы руководителя Делегации Российской Федерации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями К.Ю.Гаврилова на вопросы газеты «Известия» по итогам Конференции 20 июля 2021 года
«Оснований для того, чтобы Россия вернулась в ДОН, нет»
Глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов – о сотрудничестве с Белоруссией и наблюдением через спутники.
Москва не будет пересматривать решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. В письменном экспресс-интервью, которое дипломат дал «Известиям», он также рассказал о том, будет ли РФ передавать Белоруссии свои наблюдательные самолёты и как в Москве относятся к разведке с помощью спутников.
— Какого числа Россия перестанет быть участницей ДОН?
— Российская Федерация окончательно выйдет из Договора по открытому небу 18 декабря 2021 года, то есть согласно статье XV Договора ровно через шесть месяцев после направления депозитариям (Венгрии и Канаде) и всем другим государствам-участникам официального уведомления о завершении соответствующих внутригосударственных процедур и принятом решении о выходе из ДОН.
— Есть ли шанс, что Россия всё-таки останется в договоре? Что для этого необходимо?
— На данный момент оснований для того, чтобы Россия вернулась в ДОН, нет.
Ранее мы выдвигали участникам ДОН условия, при которых можно было бы рассмотреть вариант продолжения членства в сообществе открытого неба. Среди них — предоставление гарантий того, что информация, полученная по итогам наблюдательных полётов над территорией Российской Федерации, не будет передаваться третьим государствам, а также подтверждение гарантий беспрепятственного наблюдения за военными объектами США в Европе для российско-белорусских миссий. Союзники США проигнорировали наши требования, полностью соответствующие Договору.
Кроме того, мы не исключали варианта возможного возвращения Соединённых Штатов Америки в ДОН. Для этого были определённые предпосылки: нынешний президент США Джо Байден в своих предвыборных речах критиковал решение Дональда Трампа и призывал остаться в Договоре. 19 мая госсекретарь США Энтони Блинкен дал понять, что окончательное решение Вашингтоном не принято, и 24 мая ему был передан развёрнутый документ с изложением российской точки зрения в отношении ситуации вокруг ДОН. Однако уже 27 мая Госдепартамент уведомил нас, что их решение о выходе из Договора является окончательным.
Очевидно, что в нынешней ситуации ни о каком пересмотре решения России о выходе из ДОН не может быть речи.
— Как Москва намерена сотрудничать с Минском после выхода из ДОН? Обсуждается ли этот вопрос с белорусской стороной? Будет ли Россия дальше предоставлять республике свои самолёты?
— Вместе с денонсацией ДОН Россия была вынуждена выйти из российско-белорусского межправительственного соглашения от 21 февраля 1995 года о сотрудничестве в группе государств-участников Договора по открытому небу. О дальнейшем взаимодействии Москвы с Минском после выхода России из ДОН можно будет говорить только после принятия белорусскими коллегами решения о продолжении их участия в режиме открытого неба.
Предварительные консультации, разумеется, имеют место. Вопрос о предоставлении российских самолётов наблюдения Белоруссии, опять же при условии, что она примет решение остаться государством-участником ДОН, будет, конечно, обсуждаться, но это необязательное требование Договора, так как большинство государств-участников не имеют собственных платформ открытого неба.
— Какие инструменты придут на смену ДОН? Спутники?
— Наряду с Венским документом и другими инструментами поддержания военно-политической стабильности Договор по открытому небу был для нашей страны важным элементом архитектуры безопасности в Евро-Атлантике. Пока что повременю делать прогнозы относительно возможной замены ДОН, так как сложившаяся военно-политическая обстановка в Европе, связанная с наращиванием сил и средств НАТО, а также искусственным созданием «очагов напряжённости» вблизи российской границы, не способствует конструктивной дискуссии по этой тематике. Очевидно, что безопасность Европы невозможна без гарантий безопасности России и её союзников.
Что касается спутниковой группировки, то США, судя по всему, сделали ставку именно на неё, считая, что благодаря ей можно проводить разведку территории России. Тем самым Вашингтон фактически проигнорировал интересы и озабоченности других государств-участников ДОН, в том числе собственных союзников. Ведь у европейцев, как мы понимаем, национальные средства спутниковой разведки весьма и весьма ограничены. Если ранее в рамках Договора европейские страны могли самостоятельно проводить наблюдательные полёты и делать соответствующие выводы, то в случае прекращения его существования всё замкнется на том, что Дядя Сэм будет в одностороннем порядке решать, какую информацию и в каком виде передавать своим «коллегам по цеху» или диктовать свою оценку ситуации, ссылаясь на спутниковые разведданные, без предоставления их союзникам.
Надеемся, что рано или поздно здравый смысл возобладает, и утраченные элементы контроля над обычными вооружениями в Европе и мер доверия и безопасности будут восстановлены в том или ином виде, возможно, в рамках новой договоренности. Со своей стороны, намерены выстраивать линию в строгом соответствии с интересами национальной безопасности России и интересами наших союзников.

КИТАЙ – США: ДОВОДЫ В ПОЛЬЗУ КОНСЕНСУСА ПО ПОВОДУ НОВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВАН ДУН
Профессор на факультете международных исследований и исполнительный директор Института глобального сотрудничества и взаимопонимания в Пекинском университете. Главный редактор книги «Как избежать ловушки Фукидида: отношения между США и Китаем в стратегических сферах» (Avoiding the ‘Thucydides Trap’: U.S.-China Relations in Strategic Domains).
КИТАЙСКОЕ ВИДЕНИЕ МИРОВОГО ПОРЯДКА
В мире G2RS КНР и Соединённые Штаты продолжали бы перестраховываться на случай непредвиденных действий друг друга, но улаживали свои разногласия и конкурировали друг с другом конструктивно и уравновешенно. Вместо того чтобы углублять соперничество, раскалывающее мир, две державы руководили бы миром как ответственные участники построения мирового порядка.
В октябре 2014 г. у меня в гостях был мой американский друг, имеющий обширный политический опыт и считающийся ведущим экспертом по Китаю. За обедом в Пекине я спросил у него: «Как ты думаешь, консенсус по поводу взаимодействия всё ещё существует в Вашингтоне?». В моём вопросе сквозила скрытая тревога, с учётом довольно оживлённых дебатов вокруг Китая, которые тогда разворачивались в политических кругах США. «Конечно!» – ответил он уверенно. Уверенность моего друга немного меня успокоила, поскольку меня уже тогда терзали смутные опасения по поводу будущего китайско-американских отношений. Нам тогда и в голову не могло прийти, что всего через несколько лет консенсус, принятый несколькими американскими администрациями после нормализации отношений – вера в то, что, если Соединённые Штаты будут поддерживать всеобъемлющее взаимодействие с Китаем, в нём произойдёт не только экономическая, но и политическая либерализация, – полностью исчезнет.
Оказывается, не мы одни ошибались. Посетив Пекинский университет в ноябре 2019 г., Генри Киссинджер, один из главных архитекторов практики взаимодействия США с КНР, признал, что его также удивило резкое ухудшение отношений между странами.
Сегодня в американском внешнеполитическом истеблишменте сложился новый консенсус: аналитики всё чаще определяют отношения между Соединёнными Штатами и Китаем с точки зрения стратегической конкуренции. По мере того, как ястребы в Вашингтоне громко отстаивают идею экономического и технологического разъединения, сторонники жёсткой линии в Пекине утверждаются в мысли, что Америка склонна сдерживать Китай и делать всё возможное, чтобы не дать ему подняться, поэтому надо отвечать соответственно. Пандемия ещё больше усилила напряжение в отношениях.
Вместе с тем нет неизбежной необходимости в новой холодной войне. В структурной аргументации о предопределённом соперничестве не принимается во внимание тот факт, что произошедшее недавно охлаждение объясняется не только структурными, но и коммуникативными проблемами. Решение этих проблем, включая некоторые ошибки когнитивного восприятия, приводящие к их возникновению, могли бы помочь политикам в будущем избегать подводных камней. С этой целью важно понять китайское видение истоков напряжённости, даже если некоторые элементы этого видения могут быть оспорены американскими аналитиками. Новый подход к взаимодействию может возникнуть, только если две стороны будут лучше понимать друг друга.
В конечном итоге новый консенсус относительно взаимодействия следует строить на том, что можно было бы охарактеризовать аббревиатурой G2RS – представление о США и Китае как ответственных участниках (responsible stakeholders) «Большой двойки» (G2). В мире G2RS КНР и Соединённые Штаты продолжали бы перестраховываться на случай непредвиденных действий друг друга, но улаживали свои разногласия и конкурировали друг с другом конструктивно и уравновешенно.
Вместо того чтобы углублять соперничество, раскалывающее мир, две державы руководили бы миром как ответственные участники построения мирового порядка.
Новый консенсус
Давно ведутся дебаты о структурных и коммуникативных проблемах в международных отношениях. Когда речь заходит о китайско-американских связях, большинство аналитиков, похоже, считают структурное объяснение возникающих проблем само собой разумеющимся, следовательно, принимают стратегическую конкуренцию как данность. Однако в структурном объяснении есть, по крайней мере, две неувязки. С одной стороны, оно не может интерпретировать недавно произошедший резкий сдвиг во взглядах США на Китай. Ещё важнее то, что такое толкование вызывает ощущение неизбежности, при котором соперничество может стать накликанной бедой: американским ястребам кажется, что Соединённые Штаты должны, безусловно, упреждать китайскую мощь, тогда как китайские националисты полагают, что необходимо готовиться к неизбежным попыткам сдерживания со стороны США.
Напротив, аргументы, обращающие внимание на конкретную коммуникацию, могут обозначать ошибки когнитивного восприятия – например, предвзятость, проявляющуюся в приписывании неверных мотивов, которые усугубляют соперничество. В годы холодной войны американские официальные лица предпринимали экспансионистские меры для укрепления безопасности, но при этом мало думали о том, как эти действия будут восприняты Москвой, сразу же объясняя нервную реакцию Советов их агрессивными мотивами (и наоборот). Та же динамика просматривается и в нынешнем взаимодействии с Пекином. Подумайте о том, как это воспринимается в Китае. Когда Вашингтон вводит санкции против соперников, он считает такие действия легитимными и опирающимися на правила. Но когда Пекин делает то же самое, Вашингтон обвиняет КНР в том, что он прибегает к запугиванию и шантажу. Когда Китай следует примеру США, их союзникам по НАТО и Японии, когда создает военную базу в Джибути, Вашингтон видит в этих действиях доказательство китайского экспансионизма, в то же время говорит о собственных военных базах как об оплоте мира. Американские политики приписывают агрессивные намерения Китаю, предпринимающему те же самые действия, что и Соединённые Штаты, из соображений собственной безопасности.
Во впечатляющей речи, произнесённой в сентябре 2005 г., заместитель госсекретаря США Роберт Зеллик призвал Китай стать «ответственным участником миропорядка». Спустя четыре года, после мирового финансового кризиса 2008 г., бывший советник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский пошёл ещё дальше, предложив создать неформальный клуб под названием «Большая двойка» (G2) между Китаем и США. Действительно, непрерывный подъём Китая с 2008 г. преобразил мировой порядок. Ряд ведущих аналитиков в КНР и других странах доказывают, что формируется биполярная система, доминирующими державами которой являются Вашингтон и Пекин. Подход, опирающийся на ответственное поведение двух главных сил в мире, объединил бы некоторые элементы концепций Зеллика и Бжезинского в новый консенсус о желательном взаимодействии двух ведущих держав. Он не указывал бы на исключение других участников мирового сообщества или, как могли бы предположить некоторые критики, на создание большого всемирного кондоминиума. Скорее при таком подходе две державы становятся двумя столпами усилий всего мира, ищущего ответ на общие вызовы, и гарантами сохранения стабильности.
При таком подходе мог бы возникнуть новый мировой порядок, более стабильный и менее конфликтный, чем тот, который появится в случае начала новой холодной войны.
Подобно тому, как прежний консенсус по поводу взаимодействия создавал интеллектуальный каркас политики США в отношении Китая на протяжении более четырёх десятилетий, схема G2RS обеспечила бы всеобъемлющий интеллектуальный механизм для выстраивания отношений на десятилетия вперёд. Это своего рода основа или фундамент для разрешения противоречий, поскольку указывает путь к «большой сделке», которую описал Ван Цзи – видный китайский исследователь международных отношений. Подобная сделка повлекла бы за собой обязательство Вашингтона не подрывать политическое устройство Китая в обмен на обязательство Пекина воздерживаться от оспаривания превосходства США или от попыток ревизии существующего мирового порядка. Трезвомыслящие китайские стратеги считают эту идею вполне разумной.
Консенсус по поводу нового взаимодействия потребовал бы от Вашингтона и Пекина отказаться от тупиковой ментальности (с нулевой суммой) в пользу иного представления о мощи и силе с позитивным исходом для всех сторон. Как отмечает политолог Джозеф Най, при таком позитивном мышлении политики не думают о том, что одна держава превосходит другие, но предлагают разделять силу и мощь с другими во имя достижения общих целей. Критически важно так позитивно мыслить о силе, не противопоставляя одну державу другой, чтобы выработать совместное решение насущных мировых проблем, таких как пандемии или изменение климата.
Новый консенсус также сдерживал бы конкуренцию в определённых рамках, чтобы она была управляемой, как недавно доказывал бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд. Это важно, чтобы не допустить скатывание конкуренции к безудержной конфронтации. В своей речи на Всемирном экономическом форуме 25 января 2021 г., произнесённой через пять дней после присяги 46-го президента Джо Байдена, китайский президент Си Цзиньпин заявил о том, что Китай и США должны «честно конкурировать» за «победу в гонке», но «не бить друг друга на соревновательной арене». В своих высказываниях на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2021 г. Байден заявил, что, хотя конкуренция с Китаем – это надолго и она обещает быть «жёсткой и бескомпромиссной», он категорически исключает «столкновение Востока с Западом» или возврат к «негибким блокам времен холодной войны». На самом деле в новом консенсусе о взаимодействии Китай не считался бы «другим», которого нужно непременно трансформировать и интегрировать в мировой порядок во главе с Америкой. Тем самым была бы исправлена главная ошибка прежнего консенсуса. Он позволил бы создание такого порядка, в котором Соединённые Штаты и Китай могли бы мирно сосуществовать, продолжая конкурировать в конструктивном и позитивном ключе, не скатываясь к конфронтации и взаимным угрозам, которые ведут в тупик.
Реальная опасность впереди
Новый консенсус о взаимодействии не означал бы отказ от стратегий перестраховки, которые всегда были неотъемлемой частью взаимодействия, поскольку обеим сторонам нужны разумные гарантии, а также способ и в будущем влиять на поведение другой стороны. США предусматривали меры для уравновешивания Китая в 1990-е гг., в первом десятилетии XXI века и в начале второго десятилетия. Знаковый «поворот к Азии» Барака Обамы по своей сути был стратегией хеджирования рисков, поскольку главные его столпы включали и элементы сотрудничества – такие, как взаимодействие с Китаем, и конкурентные инструменты, например, укрепление альянсов и балансировка. Однако администрация Дональда Трампа гораздо ближе подошла к новой концепции сдерживания и новой стратегии холодной войны, которую отстаивали ястребы. Новый консенсус по поводу взаимодействия позволил бы вернуться к более традиционному подходу, связанному с перестраховкой, также оставляющему место для сотрудничества.
В действительности Китай уже реализует стратегию хеджирования, нацеленную на минимизацию стратегических рисков и воздействие на политику Соединённых Штатов. Китай страхует себя, углубляя отношения с Ассоциацией стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Шанхайской организацией сотрудничества и Россией. Отношения с Россией особенно показательны. Несмотря на призывы некоторых китайских стратегов сформировать китайско-российский альянс, Пекин неоднократно и открыто исключал для себя такой вариант. На самом деле Китай реализует стратегию партнёрства с Россией без создания альянса, настаивая на том, что всеобъемлющее стратегическое партнёрство и координация усилий между Китаем и Россией не должны быть направлены на «противодействие третьим странам» или носить конфронтационный характер. Пекин укрепляет двусторонние связи с Москвой в рамках своего портфеля по хеджированию рисков.
Если Вашингтон не увеличит стратегического давления на Пекин и Москву до такой крайней степени, что оба государства будут вынуждены прибегнуть к созданию формального альянса, Китай и Россия продолжат придерживаться стратегии хеджирования, но избегать вступления в открытый альянс.
Эта стратегия просматривается в великодержавной дипломатии Пекина. В июне 2014 г. китайский президент Си впервые предложил двум державам создать новую модель отношений, определяемую фразой «никаких конфликтов и конфронтации, только взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество». Эту идею временно приветствовала администрация Обамы, и даже администрация Трампа какое-то время принимала её и поддерживала. Однако, похоже, что идея умерла с ростом напряжённости. В международной политике существует дефицит стратегической сдержанности, которой сегодня так сильно не хватает.
Для утверждения принципа G2RS в мире потребуются стратегические гарантии ввиду растущего недоверия между Пекином и Вашингтоном. Китай, как усиливающаяся держава, должна дать надёжные гарантии Соединённым Штатам, что он не будет добиваться для себя сферы влияния путем выдавливания США из Восточной Азии, не планирует положить конец глобальному превосходству Америки или заменить нынешний мировой порядок дополняющей его синоцентричной системой. Тем временем Соединённым Штатам следует отказываться от стратегии сдерживания Китая и попыток мобилизовать американскую общественность и союзников на новую холодную войну. В любом случае мало кто из нынешних союзников или партнёров США пожелал бы выбирать одну из сторон в конфликте, если бы к этому их стал принуждать или подталкивать Вашингтон.
В мире G2RS Пекин и Вашингтон понимали бы, что реальная опасность исходит не от ревизионистских поползновений любой из сторон. Скорее она кроется в дилемме безопасности – трагическом сценарии, при котором усилия одного игрока по укреплению собственной обороны и безопасности расцениваются другим игроком как агрессивные и угрожающие миру устремления. Это может привести к росту напряжённости и даже к конфликту. В рамках G2RS Китай и США трудились бы сообща для нейтрализации дилеммы безопасности между двумя странами на море, в космосе, киберпространстве и ядерной области.
Тайвань – в числе потенциально самых взрывоопасных точек, поскольку может втянуть Пекин и Вашингтон в крупномасштабный вооружённый конфликт. Вашингтон, вероятно, будет и дальше использовать Тайвань в качестве рычага, чтобы подстраховаться от действий Пекина; но, чтобы избежать полномасштабной конфронтации из-за Тайваня, Вашингтону следует уважать взятое на себя обязательство проводить политику «одного Китая», которая была краеугольным камнем в двусторонних отношениях с 1979 года. Со своей стороны, Пекину следует и дальше искать мирный путь воссоединения с Тайванем. Иными словами, до тех пор, пока Тайвань не начнет явно стремиться к полной независимости и не произойдёт иностранной интервенции, которая приведёт к отделению Тайваня от Китая, «возможности мирного воссоединения не будут полностью исчерпаны», согласно Закону Китая 2005 г. против отделения территорий.
В акватории Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей Пекин и Вашингтон могут не прийти к полному согласию, но им нужно принимать меры, укрепляющие взаимное доверие (Кодекс незапланированных военных столкновений на море), а также выработать механизмы предотвращения кризиса, чтобы избежать случайной эскалации. При таких усилиях отношения в военной сфере позиционировались бы как стабилизирующая, а не дестабилизирующая сила. Китай и страны АСЕАН собираются подписать взаимно обязывающий кодекс поведения в Южно-Китайском море. Этот шаг, который Соединённым Штатам следует приветствовать.
В мире G2RS США и Китай разделяли бы между собой ответственность и обязанности, в том числе по совместному противодействию расползанию ядерного оружия, совместной борьбе с терроризмом и мирному строительству в таких горячих точках мира как Афганистан.
Легкодоступная вещь
Новый консенсус потребовал бы также создания нового взаимодействия в торговле, которое могло бы придать устойчивость американо-китайским отношениям. Новые подходы к торговле потребовали бы решения проблемы негативного образа Китая и Всемирной торговой организации, создаваемого американцами. Сегодня одна из самых популярных легенд в США относительно Китая заключается в том, что Пекин нарушает правила ВТО, пользуясь благами системы свободной торговли, чтобы обогащаться за счёт «обдирания» Соединённых Штатов. Эта легенда, упорно повторяемая и тиражируемая политиками и СМИ, стали почти общепринятой истиной в Америке, хотя корни её – в крайне политизированном и искажённом образе Китая. Важно критически переосмыслить этот укоренившийся штамп.
После присоединения к ВТО в декабре 2001 г. Китай снизил пошлины и нетарифные барьеры, ослабил ограничения на зарубежные инвестиции и открыл внутренние рынки. Вступление в ВТО побудило Китай создать правовую систему, совместимую с правилами многосторонней торговли, что способствовало развитию правового государства в КНР. Китай также пересмотрел тысячи законов и подзаконных актов на разных уровнях государственной власти, внеся в них необходимые поправки. К 2015 г. Китай снизил свою средневзвешенную торговую пошлину до 4,4 процента. Эта ставка близка к ставке торговой пошлины в США (2,4 процента), Евросоюзе (3,0 процента) и Австралии (4,0 процента). За годы пребывания в ВТО против Китая было возбуждено более 40 исков или дел, и Китай добросовестно выполнил все предписания и постановления Апелляционного органа ВТО. Бывший Генеральный директор ВТО Паскаль Лами даже присвоил Китаю рейтинг А+ за выполнение им просьб ВТО и высказался в том духе, что несправедливо изображать КНР нарушительницей правил ВТО.
Конечно, можно говорить о том, что Китай выполняет правила ВТО по букве, но не по духу. Однако Пекин вовсе не злодей, нарушавший правила и злоупотреблявший системой свободной торговли, как принято считать в Соединённых Штатах, поскольку он выполняет все обязательства, принятые при вступлении в ВТО. Многие жалобы американцев на политику промышленных субсидий, проводимую КНР, в действительности не имеют отношения к режиму торговли, принятому в ВТО. Следовательно, для достижения нового консенсуса о взаимодействии важно обсудить реформирование системы многосторонней торговли.
Пекин признает, что первая фаза торгового соглашения или сделки, заключённой между двумя крупнейшими экономиками мира в январе 2020 г., соответствует общему курсу Китая на углубление реформ и поможет в проведении структурных преобразований внутри страны. Первая фаза торговой сделки могла бы помочь в разрешении нескольких давнишних споров между Китаем и США, в том числе о защите прав интеллектуальной собственности, о передаче технологий, об открытии сектора финансовых услуг, о режиме обменных курсов и прозрачности.
На самом деле некоторые китайские аналитики даже сравнивают её со «вторым вступлением Китая в ВТО», поскольку первая фаза торговой сделки может привести к возвратному эффекту, подтолкнув Пекин извне к более решительным внутренним реформам. В настоящее время администрация Джо Байдена пересматривает торговую политику в отношении КНР. Если бы соглашения, заключённые в рамках первой фазы торговой сделки, можно было передать по наследству в каком-то виде, они бы заложили фундамент для разрешения оставшихся споров о субсидиях и промышленной политике, проложив путь к здоровым торгово-экономическим отношениям. Вместо полного разъединения двух экономик, которое могло бы нанести существенный урон, Вашингтон и Пекин воссоединили бы свои экономики на новом основании взаимности. Строгое соблюдение правил усилит взаимовыгодное взаимодействие и восстановит торгово-экономические отношения в качестве новой основы для стабильных связей.
В политических кругах США китайская инициатива «Пояс и путь», а также инициатива создания Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) изображаются в виде попытки укрепления сфер влияния за счёт либерального мирового порядка под руководством США. Однако «Пояс и путь» – неотъемлемая часть перестраховочного портфеля Китая. Эта инициатива опирается на уникальное понимание Китая, что неформальное взаимодействие и неструктурированные отношения между странами помогут снизить напряжение так называемой дилеммы лидерства/гегемонии.
Следовательно, «Пояс и путь» – это не геостратегический проект с целью создания современной дополняющей структуры, которая бросает вызов первенству США, а инициатива, нацеленная на построение взаимосвязанной региональной и глобальной сети, где нет иерархии, но есть множество разных центров и инклюзивная природа.
После сравнительно короткого периода интенсивного обучения АБИИ быстро застолбил за собой репутацию многосторонней и международной финансовой организации, руководствующейся высокими мировыми стандартами в структуре управления и практике кредитования. Роберт Зеллик высказал мнение, что модель низкого энергопотребления и экологичности, взятую на вооружение АБИИ, следует применить и к инициативе «Пояс и путь», и с ним согласны многие аналитики в Китае. Си также заявил на Азиатско-Тихоокеанском саммите экономического сотрудничества в ноябре 2020 года, что Китай «благожелательно отнесётся к перспективе присоединения к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнёрстве (ТТП)». Другими словами, США могут однажды присоединиться к АБИИ, и обе страны (США и Китай) могли бы в какой-то момент присоединиться к ТТП. Эти решения стали бы кирпичиками в построении мира на основе нового консенсуса по G2RS.
Изменение курса
Формирование нового консенсуса о взаимодействии ещё далеко не очевидно. Скорее реальностью может стать другое: расширенное стратегическое соперничество, которое, в конце концов, втянет две великие державы в новую и катастрофическую холодную войну. Пандемия COVID-19 нанесла урон, добавив новые взрывоопасные темы в отношения между двумя странами, которые и до этого были натянутыми.
Однако Вашингтону и Пекину пока не поздно встать на новый путь, восстановить утраченное доверие и стабилизировать связи. Можно начать с легкодоступных вещей, таких как облегчение визовых ограничений для учащихся и учёных. Более того, они должны наладить сотрудничество в деле управления климатом и вакцинации от COVID-19 в развивающемся мире при тесном взаимодействии с ООН, ВОЗ и другими международными участниками борьбы с пандемией. На самом деле сотрудничество по таким вопросам укажет путь к достижению нового консенсуса о взаимодействии.
Китаю и США следует конкурировать не за превосходство или доминирование в системе международных отношений, а за создание наилучших условий жизни своим гражданам. Вместо того чтобы обвинять друг друга в проблемах или становиться заложниками страха, паранойи, идеологических предрассудков или неверного восприятия, пора заняться решением своих внутренних проблем, проведением необходимых реформ, улучшением систем внутреннего управления и повышением уровня жизни своих граждан.
И американцам, и китайцам необходимо задать себе один вопрос: хотят ли они позволить подозрениям и антагонизму определять повестку на годы вперёд? Или же предпочтут уверенно и терпеливо конкурировать друг с другом? Если граждане обеих стран выберут последнее, это откроет новые возможности для консенсуса в области взаимодействия и создания нового мира на принципах G2RS, хотя такой исход далеко не очевиден. Однако ставки слишком высоки, чтобы двум сторонам хотя бы не попытаться создать лучшее будущее.
Foreign Affairs

Вторая половина года обещает стать волатильной для нефти
Совсем скоро против нефти могут играть сразу два фактора
Восстановление экономик в таких странах, как США и Китай, привело к увеличению спроса на нефть и росту котировок на 50%. Однако в последнее время ралли начало буксовать. Кроме того, ОПЕК наконец преодолел противоречия и достиг соглашения, которое увеличивает квоты на добычу. При текущих уровнях цен не только ОАЭ стремятся нарастить добычу, но и другие игроки, например, Россия и Ирак. Как может сложиться ситуация на рынке во втором полугодии, рассказал ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.
Проблемы дорогой нефти
Высокие цены на нефть хотя и хороши для акционеров и нефтедобывающих компаний в краткосрочной перспективе, все же несут в себе несколько проблем:
Ценовые шоки. Дешевая нефть эффективно разгоняет мировой рост, что идет на благо последующему спросу на нее, обеспечивает рост инвестиций в добычу и помогает росту нефтедобывающих компаний. Напротив, резкий скачок цен создает шоковые волны в странах-потребителях. Крупные потребители нефти часто в таких условиях распечатывают стратегические резервы для удержания стоимости топлива под контролем (Китай, Индия, США).
Зеленая энергетика. Скачки цен актуализируют повестку развития альтернативной энергетики. Впрочем, тут есть любопытное наблюдение: пик цен на нефть в 2008 году дал старт циклам отхода от традиционной энергетики в пользу условно более чистых. Однако в 2010 году, когда Brent не сумела развить рост выше $100 за баррель и вернулась до уровня, который устраивал всех участников рынка, тема зеленой энергетики быстро утихла. То же самое может произойти и сейчас.
Инфляция. Взлет котировок запустил инфляционный всплеск в странах-потребителях. Вероятно, что резкий рост цен на сырье и энергию уже оказывает давление на темпы роста мировой экономики, что видно по последним данным Китая.
Что дальше?
Совсем скоро против нефти могут играть сразу два фактора: избыточное повышение добычи на фоне борьбы экспортеров за долю рынка при одновременном замедлении или даже падении спроса. В 2018 году эта же смесь факторов дестабилизировала рынок нефти, и влияние впоследствии распространилось далеко за пределы сектора.
Сейчас на рынке нефти назревают проблемы, которые могут в дальнейшем привести к волатильности и коррекции на перегретом рынке. В такой ситуации вполне понятно желание России максимизировать общую выручку от продажи нефти, а не прибыль. Россия стремится удовлетворять растущий спрос повышением добычи в отличие от Саудовской Аравии, которая стремится удерживать ситуацию, близкую к дефициту.
Впрочем, несмотря на разные взгляды России и Саудовской Аравии, страны хорошо запомнили уроки ценовой войны в начале 2020 года и сейчас готовы к компромиссу. Они заинтересованы в том, чтобы сохранить цены на текущих уровнях, постепенно наращивая производство. Тем не менее, во втором полугодии стоит приготовиться к усилению давления на сырье и нефтегазовые компании.
Янис Кивкулис
Ведущий стратег EXANTE

НЕ ТОЛЬКО ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ (ИНТЕРЕСУЕТ РОССИЮ В СВЯЗИ С АФГАНИСТАНОМ)
ТИМОФЕЙ БОРДАЧЁВ
Кандидат политических наук, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики», программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».
России стоит шире смотреть на отношения с соседями и их обеспокоенность. Страны бывшего СССР, как и сама Россия, уже не являются пространством, изолированным от остального мира. И столь же нерационально было бы ограничивать российский ответ на афганский вызов пределами узкого по мировым меркам географического ареала.
Изменения в Афганистане после эвакуации оттуда США, естественно, стали поводом для озабоченности Москвы. Основной вопрос – как это может угрожать ей или её соседям в Центральной Азии. Но странно, если для державы такого масштаба и мировых претензий новая афганская реальность – повод для выработки исключительно оборонительной стратегии и тактики применительно к отдельному региону. На деле разумно постепенно отказываться от того, чтобы любой региональный сюжет рассматривался как проблема для российских интересов или обязательств, а задача звучала: что делать для её решения с минимальными потерями.
Пока мы в основном рассматриваем природу афганского вопроса именно так, а новый раунд «большой игры» строится по умозрительной схеме: втягивание России и поиск другими своей выгоды. Однако с точки зрения российского геополитического положения и силовых возможностей положение дел на границе Афганистана и стран Центральной Азии не является наиболее фундаментальным сюжетом. Что бы ни произошло после вероятного падения правительства в Кабуле, в регионе не появится держава или группа держав, для которых борьба с Россией была бы целью внешней политики, опирающейся на военные возможности.
Если талибы придут к власти или ввергнут страну в новую гражданскую войну, это не нанесёт ущерба основным российским проектам. Такой сценарий потребует укрепления солидарности стран ОДКБ и ШОС, возможно, увеличится тяготение к евразийской интеграции таких стран, как Узбекистан. Россия поддерживает стремление этих государств к диверсификации своих внешнеэкономических связей, но транспортно-логистические возможности на её территории остаются для них наиболее безопасными.
Радикальный режим в Афганистане может угрожать России, только если она сама столкнётся с внутренними проблемами, сопоставимыми с сепаратизмом мусульманских регионов периода 1990-х годов.
Так же, как ваххабитские режимы в странах Залива или турецкий активизм были опасны, пока Москва плохо контролировала Северный Кавказ и Поволжье. Но странно в 2021 г. строить внешнюю политику исходя из презумпции обрушения собственной политической и экономической систем. Также Афганистан мог бы интересовать России как объект силового давления, если бы у неё были амбиции СССР. Но такого не наблюдается, урок, полученный в 1980-е гг., усвоен правящим поколением, а те, кто рано или поздно придёт ему на смену, даже более прагматичны.
Поэтому новая реальность в Кабуле – не угроза, а возможность отредактировать существующие форматы отношений с партнёрами – региональными, и не только. Сейчас большая часть дискуссии сконцентрирована на условной оборонительной повестке: что Москва может или не может сделать против запрещённого в России «Талибана». Это неправильно. Для нас гораздо важнее понять, что установление этим движением контроля над афганским государством будет означать для региональной и глобальной политики в целом. В конечном итоге Россия не должна ставить задачу борьбы с тем или иным потенциальным противником, пока он не наносит ей ущерба. Или пока Москва не придёт к выводу, что он всерьёз угрожает её союзникам.
Говоря о политике России в Центральной Азии, мы не можем ограничиваться аргументами только силового или геополитического характера. Для России мораль и интересы во внешней политике неразделимы. Поэтому она нуждается в этической мотивации, а вероятная судьба соседей в Центральной Азии – достаточно серьёзное основание для включения в дело принципа «русские своих на войне не бросают». Именно на этом, как и на исторически укоренённой традиции российской политики в регионе, строится аргументация в пользу подготовки столкновения с «Талибаном».
Как бы ни был важен этический фактор, было бы удивительно поддаваться желаниям тех, кто хочет, чтобы Россия разгребала завалы, оставленные после фиаско стран Запада. Россия не только не обязана это делать, но, возможно, и не настолько заинтересована, как многие хотели бы видеть. Стратегия оборонительная и охранительная в отношении союзников ни к чему хорошему не приведёт. В первую очередь потому, что она станет продолжением исторического пути, чего от Москвы, собственно, все и ждут. Предсказуемость внешней политики для других держав является её самым большим недостатком.
В России должны прагматично оценивать перспективы афганской ситуации с точки зрения собственных интересов безопасности. Вероятная угроза на южных рубежах не может затмевать все остальные сюжеты. Даже экспансионистская политика нового режима в Кабуле не принесёт самой России большой угрозы. Выпады, которые возможны, Москва сможет купировать, оказывая техническую и логистическую поддержку странам, столкнувшимся с угрозой выживания. Для этого у России есть инструменты в виде уже упомянутой ОДКБ и Договора о союзнических отношениях с Узбекистаном. Деградация социальной и политической ситуации в странах Центральной Азии может вести к усилению там радикальных настроений.
Но первичны не афганские талибы, а способность властей этих государств строить стабильную экономику и проводить рациональную внешнюю политику.
В этом свете гораздо важнее, как новое положение дел в Афганистане повлияет на позиции России в отношениях с Китаем, Индией, Турцией, Ираном, даже с США и Европой. Пока из всех новых измерений афганской ситуации вероятна только возможность усилить давление на универсалистское «Исламское государство» (запрещенное в России). Оно несёт одинаковую угрозу для религиозных и светских национальных режимов. Но, возможно, этим не исчерпывается список решений, не связанных напрямую с очевидной позицией России как гаранта безопасности своих южных соседей.
Например, более активное участие Турции в афганских делах могло бы направить энергию Анкары в русло политики, финал которой предсказуем (см. опыт других внешних сил в Афганистане). То, как изменения в Афганистане скажутся на позициях Китая в Пакистане и Южной Азии вообще, какими станут последствия ухода Запада из региона для индийской стратегии – не менее важно, чем непосредственные тактические сюжеты, которыми все сейчас озабочены.
Геополитическое положение России, которая «нависает» над всем регионом Центральной Азии – не проклятие, не обязательство, а ресурс в распоряжении российского государства. Россия не может «уйти» из этой части своей периферии, поскольку является здесь важнейшей военной силой. Стратегия России исторически является оборонительной и это оправданно её положением и ресурсами. Но сейчас России стоит, наверное, шире смотреть на отношения с соседями и их обеспокоенность. Страны бывшего СССР, как и сама Россия, уже не являются пространством, изолированным от остального мира. И столь же нерационально было бы ограничивать российский ответ на афганский вызов пределами узкого по мировым меркам географического ареала.

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ВАКЦИНЫ НУЖЕН НЕ ТОЛЬКО ПАТЕНТ
ПИТЕР ХОТЕС
Декан Национальной школы тропической медицины, содиректор Техасского детского центра разработки вакцин Медицинского колледжа Бейлор. Был спецпосланником по вакцинной дипломатии в администрации Обамы.
МАРИЯ ЕЛЕНА БОТТАЦЦИ
Помощник декана Национальной школы тропической медицины, содиректор Техасского детского центра разработки вакцин Медицинского колледжа Бейлор.
ПРАШАНТ ЯДАВ
Старший научный сотрудник Центра глобального развития, приглашенный профессор INSEAD, читает лекции в медицинской школе Гарварда.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – ЛИШЬ ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОЖНОГО ПРОЦЕССА
Для разработки и производства вакцин в будущем необходимо международное сотрудничество, как показала нынешняя чрезвычайная ситуация. Если глобальные фармкомпании не захотят предоставлять добровольные лицензии, понадобятся механизмы отказа от патентов. Но это лишь один из элементов по-настоящему глобальных усилий по производству вакцин.
5 мая президент Джо Байден заявил, что США поддержат международный призыв отменить права интеллектуальной собственности на вакцины на период пандемии коронавируса. Таким образом, другие страны получат возможность производить вакцины с помощью современных технологий, использованных при создании препаратов от COVID-19 Pfizer/BioNTech и Moderna. Многие в мировом здравоохранении и развивающемся мире приветствовали это решение как победу стремления к большему равенству в распределении вакцин – пока страны со средним и низким доходом существенно отстают от богатых государств.
Но, возможно, радоваться преждевременно. Тенденция к ослаблению прав интеллектуальной собственности отчасти базируется на мировом опыте борьбы с ВИЧ/СПИДом. Патентные пулы, отказ от прав интеллектуальной собственности и другие механизмы либерализации были необходимы срочно, чтобы обеспечить равный доступ к препаратам, спасающим жизнь. Но эти инструменты больше подходят для лекарств и другой фармацевтической продукции, чем для вакцин. Производство вакцин, особенно технологически сложных, с использованием матричной РНК (мРНК), как в случае с COVID-19, требует не только наличия патентов, но и всей инфраструктуры, которую невозможно перенести за один день. Поделиться патентами – важное решение, которое можно и нужно приветствовать, но, есть вероятность, что это не самый неотложный шаг.
Начать финансирование
На стыке тысячелетий транснациональные фармацевтические компании брали 10 000 долларов за патент на ежедневную схему медикаментозного лечения инфицированных ВИЧ/СПИДом. Страны с низким и средним доходов в Африке и других регионах могли получить доступ к этим препаратам лишь при определенных условиях. В 2001 г. индийская компания Cipla Limited начала производить антиретровирусный коктейль из трёх препаратов всего за 350 долларов. Cipla совместно с организацией «Врачи без границ» способствовала наступлению новой эры глобального доступа к важнейшим препаратам – это оправдывало ослабление или даже игнорирование патентных и других ограничений в случае производства и распространения дженериков.
С тех пор организации, связанные со здравоохранением, разработали различные способы сотрудничества с международными фармкомпаниями, чтобы обеспечить доступ к важнейшим препаратам в странах с низким и средним доходом. В 2010-е годы глобальная инициатива Unitaid помогла создать патентный пул, в котором международные компании предоставляли лицензии на производство антиретровирусных препаратов. Так, были заложены основы производства дженериков, а обладатели патентов получали роялти. Механизм позволял выдавать лицензии новым производителям, защищая при этом права разработчика препарата. Gilead и другие компании выдавали добровольные лицензии напрямую производителям дженериков, что позволяло дифференцировать цены в зависимости от страны.
Специалисты по здравоохранению пытались выяснить, позволит ли такой подход избежать перекосов в распределении вакцин от COVID-19. Было произведено более 1 млрд доз вакцин, но в основном их получили жители нескольких стран. Больше половины доз было введено в США (250 млн) и Китае (290 млн), за ними следуют Индия (150 млн), Великобритания (51 млн) и Германия (32 млн). Несмотря на практическую целесообразность, Африканский континент, страны с низким и средним доходом в Азии и Латинской Америке почти не получили вакцин. Эксперты предлагают использовать опыт с антиретровирусными препаратами и требуют создать патентные пулы и другие механизмы ослабления прав интеллектуальной собственности для вакцин от COVID-19. В марте 2021 г. «Врачи без границ» организовали протесты у здания ВТО в Женеве под лозунгом «Нет ковидной монополии – богатые страны должны перестать блокировать механизмы TRIPS», имея в виду соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности в сфере здравоохранения.
Эти требования базируются на том, что интеллектуальная собственность – главный барьер, мешающий массовому производству вакцин от COVID-19, особенно высокоэффективных на основе мРНК, как препараты Pfizer/BioNTech и Moderna, в странах с низким и средним доходом. Эффективность этих вакцин выше 90 процентов, в том числе при бессимптомном заражении ковидом. Они уже способствуют постепенному улучшению ситуации в США, Израиле и других странах. Но пока вакцины на основе мРНК практически недоступны в Африке, Латинской Америке и в странах с низким и средним доходом в других регионах. Те, кто призывает задействовать механизмы TRIPS и патентные пулы, надеются, что это обеспечит распространение технологий и переломит глобальную ситуацию с пандемией.
Нужна целая экосистема
Поделиться правами на интеллектуальную собственность может быть полезно в долгосрочной перспективе. Но производство сложных биопрепаратов, особенно инновационных, на основе мРНК или векторных аденовирусных вакцин, – это не только вопрос доступа к патентам. Низкомолекулярные противовирусные препараты достаточно просты, многоэтапные химические процессы, с помощью которых они синтезируются, обычно детально прописаны в патентах или в научной литературе. Химики и фармакологи могут синтезировать препарат и масштабировать его производство, зная структуру лекарства. С вакцинами все по-другому. Производство молекул мРНК в липидной оболочке, рекомбинантных аденовирусов или даже протеинов и инактивированных вирусов для вакцин более старого поколения требует более совершенных технологий, чем производство низкомолекулярных препаратов. Кроме того, при производстве вакцин нужно обеспечить контроль качества и соблюдение других регуляторных требований.
Для эффективного трансфера таких сложных технологий у реципиента должна быть выстроена целая экосистема, и на её создание могут уйти годы или даже десятилетия. Странам, которые хотят развернуть производство вакцин, придётся подготовить научный и технический персонал. Потребуются также научные администраторы, знакомые с ведением документации не только исследований, но и непоточного производства. Кроме того, необходима мощная система контроля качества и регуляторного надзора. Чтобы выстроить всю инфраструктуру, понадобятся интенсивная подготовка и значительные финансовые вливания, а иногда и риски. А ещё нужно время. По некоторым оценкам, на разработку вакцины уходит не менее 11 лет, но вероятность успешного выхода препарата на рынок не превышает 10 процентов. Вакцины от COVID-19 – это результат многолетних исследований. Немногие страны готовы идти на такой риск.
Лишь с десяток стран с низким и средним доходом сегодня обладают потенциалом для производства новых вакцин. Крупнейшая из них – Индия, которая сейчас производит векторные аденовирусные вакцины Janssen и Оксфорда AstraZeneca, а также рекомбинантную протеиновую вакцину и вакцину с полностью инактивированным вирусом по более старым технологиям. Производители в Бразилии, на Кубе и в некоторых странах Юго-Восточной Азии имеют опыт производства вакцин для детей и, вероятно, смогут производить вакцины от COVID-19. Возможности для производства могут появиться в некоторых странах Ближнего Востока и Африки. Но в обозримом будущем производителям потребуется финансирование, доступ к сырью (возможно, ослабление контроля экспорта), техническое содействие для обеспечения производства и контроля качества, если они хотят выпускать уже существующие вакцины от ковида.
Чтобы вакцинировать население одной Индии, потребуется около 2 млрд доз, а всему миру нужно более 12 млрд доз. Появление новых вариантов вируса и необходимость бустерной вакцинации увеличат потребность. Удастся ли масштабировать технологию производства мРНК-вакцин в 2021-м или в начале 2022 г., пока неясно, но попытаться стоит. Определённое ослабление патентных прав, безусловно, потребуется, но этого недостаточно. Будущим производителям нужны технологические ноу-хау, регуляторный контроль и компоненты, которых пока не хватает – прежде всего это нуклеотиды и липиды.
Десятилетний горизонт
Чтобы подготовить фундамент для трансфера технологий мРНК-вакцин, производителям в Индии, Бразилии, странах Африки или Ближнего Востока нужно создать центры (хабы) химической промышленности и контроля качества. В дальнейшем эти центры смогут вести разработку, исследование и производства мРНК-вакцин, которых не хватает в мире. Они будут на месте готовить специалистов, которые также смогут получить инструкции от технических экспертов Pfizer/BioNTech и Moderna. Хабы должны сотрудничать с ВТО, чтобы обеспечить свободные потоки ингредиентов вакцин и оборудования. Промышленные предприятия смогут производить оборудование и материалы для хабов – например, биореакторные мешки и специальные фильтры. Этим хабам и производителям в странах с низким и средним доходами понадобится общественная поддержка и финансовая помощь США и стран G7, а также Всемирного банка, возможно, через инновационные инвестиции в виде капитальных субсидий или контрактов на приобретение продукции.
Инфраструктура для производства вакцин, которые страны создают сегодня, сможет защитить от будущих пандемий. Но для этого нужно думать на десять лет вперёд. Такие институты, как недавно созданная Глобальная коалиция по борьбе с эпидемиями (CEPI), а также Вакцинный альянс Gavi, ВОЗ, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, должны вкладывать средства в подготовку специалистов по разработке и производству вакцин, которые смогут адаптировать различные технологии. Многообразие критически необходимо, потому что нельзя предугадать, какая вакцинная технология окажется оптимальной против конкретного патогена. Исследователи и производители должны быть готовы объединить усилия для адаптации любой из них. Например, векторная вакцина на основе вируса везикулярного стоматита оказалась эффективной против Эболы в Демократической Республике Конго в 2019 году, а мРНК-вакцины продемонстрировали преимущества в борьбе с COVID-19. Поэтому нужно готовить универсальных специалистов по биологии и биотехнологиям. Параллельно политики должны работать над ликвидацией торговых барьеров, обеспечением ресурсами и сырьём производства и масштабирования существующих вакцин.
Для разработки и производства вакцин в будущем необходимо международное сотрудничество, как показала нынешняя чрезвычайная ситуация. Если глобальные фармкомпании не захотят предоставлять добровольные лицензии, понадобятся механизмы отказа от патентов. Но это лишь один из элементов по-настоящему глобальных усилий по производству вакцин. Обеспечить вакцинами весь мир сложно, а глобальная вакцинная экосистема очень хрупкая. Но её распространение на страны с низким и средним доходом обладает огромным потенциалом и позволит наконец остановить пандемию COVID-19.
Foreign Affairs

УХОД США ИЗ АФГАНИСТАНА: УПРОЩЁННЫЕ ОЦЕНКИ ВРЕДЯТ ОБЪЕКТИВНОМУ ПОНИМАНИЮ РЕАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ
АНДРЕЙ БАКЛАНОВ
Заместитель Председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор-руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики, вице-президент Российского комитета солидарности и сотрудничества с народами Азии и Африки.
Вывод войск США не меняет к лучшему геополитические позиции России в регионе. Наоборот, он усугубляет нашу вовлечённость в афганские и среднеазиатские дела, что, прямо скажем, может обернуться для нас политическими, финансовыми и военными проблемами.
Россия и США являются военно-политическими противниками. В силу этого многие отечественные комментаторы любые военные неудачи США немедленно автоматически записывают в актив России. Иногда это правильно, иногда нет – в любом случае всё значительнее сложнее, чем кажется на первый взгляд. И вопрос об американском военном присутствии в Афганистане также гораздо более сложен.
Военно-политическое руководство США, конечно же, знает историю. Оно осведомлено и о практической невозможности одержать в Афганистане победу над воинственными и свободолюбивыми пуштунскими племенами. Тем не менее американцы не раз активно ввязывались в военные кампании в Афганистане, действуя в том числе «непрямыми» методами – например, через поставки оружия афганским группировкам, использование механизмов финансового влияния.
И здесь возникает самый главный вопрос: для чего они это делали? Действительно ли их интересовала победа над «талибанами»[1], другими формированиями, прямо или косвенно примыкающими к сообществу жёстко настроенных радикалов, экстремистов и террористических элементов?
Конечно, такая цель была. Более того, её не могли не поставить, поскольку были задействованы американские специальные службы и войсковые соединения. Военным людям, выполняющим такого рода поручения, задачи нужно формулировать в предельно понятной форме – есть противник, которого нужно уничтожить определённым набором военных, технических, логистических и иных средств.
Итак, задача по достижению военной победы ставилась, но она не являлась первостепенной для политического руководства США. Главной целью было иное – создание в непосредственной территориальной близости от традиционного глобального противника США – Советского Союза, а затем и России, «кипящего котла», источника нестабильности, оттягивающего военный потенциал Москвы, небеспредельные возможности вооружённых сил и сил специального назначения. Можно вспомнить важные сопутствующие моменты – тайные операции по направлению в сторону России, стран СНГ потока наркотиков, разрушительно действующих на здоровье людей на этом пространстве.
Затем фокус дестабилизирующего воздействия сместился на другого геополитического противника США – Китайскую Народную Республику. В выполнении этой, крайне непорядочной цели американцы преуспели гораздо больше, и в целом можно считать, что их провокационная многолетняя активность в Афганистане дала свои безусловные результаты.
Современный Афганистан является главным источником поступления наркотиков. Афганская территория превратилась в место свободной, практически неконтролируемой деятельности международных террористических групп. И сейчас Российская Федерация и её союзники вынуждены предпринимать дополнительные, серьёзные, прямо скажем, затратные меры по укреплению своих рубежей. Причём, вполне может быть, что в будущем эта работа по ограждению территории РФ, СНГ от перечисленных вызовов будет становиться всё более масштабной и дорогостоящей.
Нельзя исключать провокационных действий, связанных со свержением режимов в среднеазиатских республиках. Близлежащий и малоуправляемый Афганистан – отличная база для различной, в том числе и неафишируемой, активности в этом направлении. И в новых условиях США, выводящие свои войска из Афганистана, вроде бы ни за что уже не несут ответственности. Они оказываются в хорошо знакомой им ситуации игры на двух досках одновременно. Из якобы добрых побуждений они будут помогать республикам Средней Азии, укрепляя там свои позиции и одновременно усиливая по отлаженным на протяжении многих лет тайным каналам масштабы деятельности, которая будет вестись против наших союзников с территории Афганистана.
Конечно, приятно, когда военно-политический противник покидает поле боя, так и не достигнув своих целей. Но что он оставляет после себя? Какой объём проблем он «взваливает» на плечи государств региона, России, Китая?
Вывод войск США не меняет к лучшему геополитические позиции России в регионе. Наоборот, он усугубляет нашу вовлечённость в афганские и среднеазиатские дела, что, прямо скажем, может обернуться для нас политическими, финансовыми и военными проблемами.
В этих условиях нам придётся вести очень сложную политическую линию, которая будет включать как далеко идущие компромиссы, так и жёсткие военные действия в случаях, когда устанавливаемые нами сейчас «красные линии» и правила игры будут нарушаться в ущерб нашим национальным интересам и интересам наших партнёров. Важнейшее значение здесь будет иметь координация действий по линии ОДКБ, ШОС и со странами региона.
--
СНОСКИ
[1] Запрещено в России.

САММИТ РОССИЯ – США ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ РАМКИ: ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДИАЛОГА И БАЙДЕН КАК «КАНАЛ СВЯЗИ С РОССИЕЙ»
НИКОЛАС ГВОЗДЕВ
Профессор национальной безопасности в Военно-морском колледже, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики.
При анализе скачек (кто победил, кто проиграл, кто пришёл первым, кто отстал) иногда теряются едва заметные изменения рамок двусторонних отношений. Байден и Путин встретились в условиях, когда проблемы и в Вашингтоне, и в Москве копились годами. Женевский саммит стал дорожной картой по решению некоторых из них. Вопрос в том, как обе стороны будут выполнять обязательства.
В основном реакция СМИ на встречу президентов Байдена и Путина в Женеве была сосредоточена на «картинке» – на анализе рукопожатий, языка тела, улыбок и надутых губ, чтобы определить, кто демонстрировал уверенность или дискомфорт и кто смотрелся лучше с точки зрения восприятия. По этим признакам СМИ быстро сделали вывод, кто «выиграл» или «проиграл» в Женеве: смог ли Байден показать силу и решимость обеспокоенному Путину или, наоборот, Путин получил преимущество, поскольку его воспринимали как равного (с оглядкой на прошлые саммиты супердержав в годы холодной войны).
Но при анализе скачек (кто победил, кто проиграл, кто пришёл первым, кто отстал) иногда теряются едва заметные изменения рамок двусторонних отношений. Байден и Путин встретились в условиях, когда проблемы и в Вашингтоне, и в Москве копились годами, без всякого решения. До последнего момента происходили события и инциденты, которые могли привести к отмене встречи. Более того, Байден чётко дал понять, что не будет церемониться и честно поднимет вопросы как внутренней политики, так и международных действий Кремля. По заявлению обоих лидеров, в ходе беседы были затронуты сложные и неудобные вопросы, тем не менее стороны посчитали важным подчеркнуть, что переговоры оказались полезными, а дискуссия – хорошей. Решение вернуть послов и сосредоточиться на новом раунде переговоров по стратегической стабильности – важный сигнал, говорящий о том, что обе страны признают: в их отношениях присутствует соперничество, а по некоторым аспектам даже антагонизм, но конкуренция не пойдёт на пользу никому, поэтому Соединённым Штатам и России нужны новые рамки, чтобы проработать все разногласия. (В лучшем варианте в ближайшие недели последует продолжение: должны быть назначены ответственные лица, уполномоченные вести переговоры.)
По моему мнению, суть встречи – Байден предложил свою версию перезапуска (не перезагрузки).
Под этим я имею в виду, что американский президент перечислил действия России, которые Вашингтон считает предосудительными и на которые уже отреагировал (в основном введением санкций), но продемонстрировал готовность начать всё сначала по целому ряду вопросов – от Украины до Сирии и установить новые реперные точки и «красные линии» – например, обозначив взаимосвязь между ситуацией с Алексеем Навальным и будущими американскими санкциями. Иными словами, в рамках возобновлённого диалога с чёткими каналами связи (не путать с твитами в три часа утра, которые требуют расшифровки) разногласия можно урегулировать.
Позиции Байдена подкрепил тот факт, что по некоторым вопросам, которые могли осложнить встречу в Женеве, – новые санкции по «Северному потоку – 2» и очередному пакету военной помощи Украине, американский президент принял окончательное решение отложить и то, и другое. Байден дал сигнал, что он сам является «каналом связи с Россией» (Russia Hand, если использовать формулировку Строба Тэлбота), преодолеет «ястребиные» наклонности своих советников и не пойдёт у них на поводу, если посчитает нужным.
Российская сторона тоже выиграет от перезапуска. После многолетних попыток Москвы обсудить с Вашингтоном тему контроля над кибероружием недавние атаки с использованием вируса-вымогателя, вероятно, заставили заинтересоваться этой проблемой. (Даже вмешательство в выборы в 2016 г. не дало таких результатов. Вспомните, как в начале 2017 г. Москва сразу же предложила переговоры по регулированию использования киберсферы как инструмента государственного управления и соперничества великих держав.) Байден пригрозил последствиями за дальнейшие кибератаки, исходящие из российских источников и, возможно, даже выделил российскую энергетическую отрасль как цель ответных атак, но одновременно это открыло возможность для переговоров о правилах в киберпространстве, то есть – когда и как допустимо использовать эти инструменты.
Кроме того, Байден открыто признал, что Россия остаётся одной из великих держав, способных влиять на глобальную повестку и что Москву нельзя игнорировать.
Это не значит, что Москву нужно включать во все форматы – Байден не собирается действовать, как предлагал Трамп, и приглашать Россию обратно в G7. Москва также вряд ли станет участником инициированного Байденом «саммита демократий». Но Россия сохраняет место за столом переговоров.
И поскольку Россия сохраняет это место по многим глобальным вопросам, которые особенно важны для нынешней администрации, одним из следствий женевского саммита стал сигнал, что значимость Украины в отношении американо-российского взаимодействия уменьшается. Байден, между прочим, был вице-президентом в период обамовской «перезагрузки», которая основывалась на том, чтобы исключить разногласия по Украине из двусторонних отношений. В Киеве нет Виктора Януковича, который снял с повестки вопрос членства Украины в НАТО, что обеспечило некоторый прогресс отношений в период президентства Обамы и Дмитрия Медведева. Однако Байден добился того, чтобы отчаянные попытки нынешнего президента Украины Владимира Зеленского заручиться обещаниями о присоединении страны к альянсу до саммита в Женеве закончились безрезультатно. Байден и другие лидеры НАТО подтвердили, что Украине открыт путь к членству, но это не первоочередной вопрос повестки. Когда ему задали этот вопрос, президент ответил ясно: «Всё зависит от того, соответствуют ли они критериям. Им всё ещё надо решить проблему коррупции, а также отвечать другим стандартам. По этому вопросу споры закончились, определённости пока нет».
Успех женевской встречи в продвижении к более стабильным и предсказуемым американо-российским отношениям приветствовали ключевые европейские партнёры Америки, прежде всего Германия, которая пыталась проводить политику двух треков – одновременно взаимодействуя с Москвой и оказывая на неё давление. В целом европейская поездка Байдена, включая саммиты G7 и НАТО, продемонстрировала усилия по созданию трансатлантического консенсуса и сближение политики европейцев и немцев с позицией США. Чтобы восстановить трансатлантический консенсус по России, Вашингтону, в свою очередь, нужно сблизить свои позиции с Берлином (однако если «Зелёные» станут более значимой политической силой после сентябрьских выборов, Германия также может сократить взаимодействие и усилить давление на Россию, особенно по вопросам прав человека.)
Наконец, перейдём к Китаю.
Пекин был бы рад провалу саммита, на котором Байден пытался бы читать Путину лекции и поставил ему ряд ультиматумов, а российский президент в ответ покинул бы встречу. Вместо этого мы услышали обещание активизировать диалог.
И, вполне вероятно, в некоторых вопросах, включая изменение климата и Арктику, американцы предпочтут сотрудничество (и отказ от экономических санкций) конфронтации. Китайские аналитики осознают, что фокус стратегического внимания США сосредоточен на Индо-Тихоокеанском регионе, а это требует стабильных (хотя и необязательно дружественных) отношений с Россией, а также недопущения серьёзных разногласий с европейскими партнёрами. Женевская встреча – это дорожная карта к достижению обеих целей.
Бывший американский посол в России Майкл Макфол прав, отмечая, что «по-настоящему сложная работа начинается на следующий день после саммита». Фундамент заложен, теперь мы увидим, как обе стороны будут выполнять обязательства при выстраивании отношений.
Russia Matters

Сланец возвращаетсяМнение
Судя по прогнозу о росте добычи сланцевой нефти в США в августе 2021 года, рано сбрасывать сланец со счетов
На днях Минэнерго США опубликовало прогноз об увеличении добычи сланцевой нефти в августе текущего года. По данным управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США добыча в следующем месяце составит 7,907 млн б/с.
Фактическая добыча сланцевой нефти в июле тоже оказалась выше предыдущего прогноза на 0,42 млн б/с.
Также американское нефтяное ведомство повысило прогноз добычи нефти в США в 2021 году на 30 тыс. баррелей, до уровня в 11,1 млн б/с.
Судя по вышеприведенной динамике, сланец рано сбрасывать со счетов несмотря на все проблемы, с которыми сталкивается американская нефтяная отрасль.
Сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК+ позволило вернуть цены на практически докризисный уровень и дало шанс американским производителям восстановить утраченные позиции.
Вполне очевидно, что, несмотря на агрессивную климатическую риторику новой администрации США и на заявленный отказ от поддержки отрасли, американский сланец имеет большой запас прочности. Массированные инвестиции в бурение и гидроразрыв за последние полтора десятка лет привели к совершенствованию технологии и удешевлению оборудования для строительства скважин, а финансовый рынок создал достаточное количество инструментов для поддержки бизнеса в условиях сильной волатильности цен.
И, конечно же, нельзя недооценивать фактор частной предпринимательской инициативы — как известно, в США добычей нефти занимаются несколько тысяч малых и средних предприятий, зачастую на уровне мелких фермерских хозяйств, которые умеют бороться за свой бизнес.
Вячеслав Мищенко
Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

ПОВОД ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЕССИМИЗМА
ИЛЬЯ ФАБРИЧНИКОВ
Член Совета по внешней и оборонной политике, коммуникационный консультант.
ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА ТАЛИБОВ В АФГАНИСТАНЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АКТИВИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО ФУНДАМЕНТАЛИЗМА ВО ВСЁМ РЕГИОНЕ
Для России возможное безраздельное воцарение талибов в Афганистане сегодня представляет собой вызов, возможно, даже более серьёзный, чем Украина. С той разницей, что Афганистан уже долгое время не занимал значимого места в перечне отечественных внешнеполитических приоритетов и приложения усилий.
События на южных рубежах СНГ разворачиваются стремительнее, чем можно было предполагать. Движение «Талибан»[1] быстро вышло на пограничные рубежи по Пянджу и Амударье, а также, как сообщают, контролирует практически все 700 километров ирано-афганской границы. При этом отряды не спешат наступать в направлении крупных городских центров за исключением Кандагара, вокруг которого, впрочем, пока происходят только отдельные боестолкновения с правительственными войсками.
Эмиссары движения «Талибан» уже развернули бурную дипломатическую активность. Представители политического крыла талибов и отдельные полевые командиры одновременно, 7 июля, появились в Тегеране и Москве, где обсуждали вопросы безопасности (прежде всего в приграничных районах). Иранцы, правда, в подкрепление своей переговорной позиции, развернули в приграничных районах 65-ю воздушно-десантную бригаду спецназначения, Москва пока ограничилась словесными интервенциями: министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности поддержать союзников по ОДКБ и наших партнёров в Центральной Азии, если они окажутся перед угрозой нападения со стороны талибских формирований. И ещё раз подтвердил приверженность Москвы американской концепции мирного урегулирования: талибы проводят переговоры по мирному урегулированию с существующей пока афганской властью, инкорпорируются в политическую жизнь страны на правах политического движения.
С высокой степенью уверенности можно сказать, что ничего из предлагаемого «политического меню» не произойдёт. Терять «Талибану» нечего, а в числе возможных и вполне реальных достижений – институциональное закрепление и международное признание в качестве главной афганской военно-политической силы. Отдельные российские наблюдатели сообщают о том, что центральное правительство Гани проводит дерзкие и успешные операции против талибских отрядов, боевики движения гибнут сотнями. Это, впрочем, не совсем соответствует действительности: афганское правительство, как мы неоднократно отмечали, находится не в том организационном положении, чтобы активно и последовательно противодействовать «Талибану» в захвате всё новых уездов (в конце концов они были не в состоянии это сделать в течение последних восьми лет), а Гани – не та фигура, которая способна сплотить вокруг себя очень разнородные политические силы.
«Талибан» же, напротив, не только не собирается останавливаться, но и достаточно успешно отвоёвывает у центрального правительства территории. Сами талибские посланники заявили в Москве, что уверенно контролируют 85 процентов территории страны, что, хоть и не в полной мере соответствует действительности, даёт им основания для стратегического оптимизма. Пока хотелось бы оставить в стороне обещания талибских эмиссаров относительно борьбы с отрядами ИГИЛ[2], декларирующими построение «Вилаята Хоррасан»[3] и противодействие наркотрафику и производству опиумного мака, реверансы в сторону китайских инвесторов и заверения в адрес России, что у талибов отсутствуют экспансионистские планы. Доверять подобным заявлением особых оснований пока нет.
Имеет смысл посмотреть на картину более широко: талибы – пока единственные в регионе, да и шире – во всём восточном полушарии, могут сегодня испытывать оптимизм, тогда как у их западных и региональных визави таким эмоциям места нет. Победа «Талибана» над широкой западной коалицией (а это именно победа, кто бы что ни говорил, пусть и достигнутая путём выжидания), доставшаяся ценой двадцати лет затяжного и затратного противостояния – повод для эмоционального подъёма исламского народно-национального самосознания и активизации «спящих исламистов». Впервые за сорок лет фундаменталистское исламское движение добилось успеха в борьбе против многократно превосходящих ресурсов западного мира.
В чём-то нынешнее достижение талибов можно сравнить с триумфом антишахской исламской революции 1979 г., когда ориентированный на Запад и США режим шаха Резы Пехлеви «сточился» буквально за год.
Да, предпосылки и мизансцена были совершенно иными, и тем не менее – на территории полностью лояльного западному миру государства в один момент воцарился абсолютно антизападный режим. Американцы тогда утверждали, что падение Пехлеви было для Вашингтона неожиданностью. Строго говоря, это лукавство: от начала народных антишахских волнений до бегства монарха прошёл год. В Вашингтоне взвешивали разные сценарии вплоть до военного вторжения, а из страны сбежали все, у кого для этого были возможности и финансы. Режим пал, во главе государства встал аятолла Хомейни, а западный мир содрогнулся – ведь у власти оказались шиитские фундаменталисты, картинами расправ революционной иранской молодёжи над «контрреволюционными элементами» были заполнены все европейские и американские телеканалы. Иранская революция, несмотря на особенное положение Ирана в мусульманском мире, привела к значительному подъёму исламского самосознания на Ближнем Востоке.
Талибы на протяжении двадцати лет подвергались целенаправленным атакам со стороны более чем 140-тысячной объединенной западной группировки, вооружённой всем – от спутников и БПЛА до высокоточного оружия и новейших стрелковых систем. О какой-то внешней помощи со стороны мирового сообщества (в противоположность ситуации с их предшественниками и прародителями в лице «старых моджахедов») в случае с «Талибаном» не шло и речи. Частично финансовая и организационная поддержка талибам поступила из Катара, частично – из Саудовской Аравии (которая вместе с ОАЭ в конце 1990-х гг. признала талибский режим на государственном уровне). Остальные предпочитали не афишировать свои контакты и договорённости.
Да, основную помощь (и это никогда не было секретом) силы движения получали от структур пакистанской межведомственной разведки ISI, оперативники которой на постоянной основе присутствовали во всех наиболее боеспособных подразделениях талибов. Об этом, в частности, подробно пишет исследователь афгано-пакистанских отношений Стивен Коул в своём фундаментальном труде Directorate S: The C.I.A. and America‘s Secret Wars in Afghanistan and Pakistan. И хотя пакистанцы это всегда последовательно отрицали, имелось множество свидетельств тому, что ключевые командиры «Талибана» проводили свои «отпуска» и залечивали раны в Карачи – пятнадцатимиллионном мегаполисе, где легко затеряться, избежав ненужного постороннего внимания. Сложно, однако, оценить, насколько в действительности эффективной была эта помощь. После первоначального разгрома в 2001 г. талибы достаточно быстро пришли в себя, поставили под контроль финансовые потоки от контрабанды и наркотрафика и перешли на самофинансирование.
Если талибам в итоге удастся полностью демонтировать проамериканский режим Ашрафа Гани и успешно установить свой фундаменталистский исламский режим ашарийского толка, это, вероятно, приведёт к возбуждению широких народных масс в традиционно консервативных странах, где давно зреет глубинное недовольство действующими режимами. Это же чревато и дальнейшим ростом недовольства в отношении американского военного присутствия в регионе – США наглядно продемонстрировали свою неспособность достигать заявленные цели по демократизации фундаменталистских или же просто автократических региональных режимов. Такие настроения могут воздействовать и на отношение к Европе: Евросоюз последовательно показывает, что не может справиться с внутренним исламским экстремизмом, предпочитая ретушировать ситуацию социальными инвестициями. А в условиях, когда у европейской исламистской молодёжи перед глазами появляется пропагандистский и идеологический пример в лице талибов, задача умиротворения недовольных и вдохновлённых победой «Талибана» молодых мусульман в европейских странах становится только сложнее.
У России тоже нет повода для радости из-за окончания американской оккупации и триумфа «студентов», нет оснований и переоценивать способность с ними договориться: заверения «политического офиса» в Дохе – это одно, а намерения командиров «на местах» – совершенно другое.
В центральноазиатских республиках СНГ экономическая и политическая ситуация не является устойчивой. Уставшие от экономической несостоятельности бедные слои населения, они своими глазами могут наблюдать успех национального сопротивления (а при всех издержках на стороне талибов – симпатии большинства простых афганцев, истерзанных десятилетиями гражданской войны) и пасть лёгкими жертвами исламистской пропаганды. Это относится и к значительным национальным диаспорам на территории России.
Практически все рычаги по принуждению «Талибана» к чему бы то ни было сегодня находятся в Исламабаде. Пока талибы всё ещё являются общепризнанной террористической организацией, а Афганистан – нищей страной, чьим основным экспортным товаром являются военная напряжённость и опиумный мак. Без значительной внешней финансовой помощи Афганистан – неважно, с талибами или без них – обречён оставаться внесистемной территорией, неспособной к консолидации, обречённой на постоянную гражданскую войну и разгул бандитизма. Впрочем, сколько таких государств «гуляй-поле» появилось в последние несколько десятилетий на мировой политической карте? Похоже, что спешный уход коалиции из этой Афганистана символизирует начало новой глобальной эпохи. Такой, в которой долгое время не будет ни мира, ни войны, а идеология станет играть определяющую роль. Для России же возможное безраздельное воцарение талибов в Афганистане сегодня представляет собой вызов, возможно, даже более серьёзный, чем Украина. С той разницей, что Афганистан уже долгое время не занимал значимого места в перечне отечественных внешнеполитических приоритетов и приложения усилий.
--
СНОСКИ
[1] Запрещено в России.
[2] Запрещено в России.
[3] Запрещено в России.

Создатель "Википедии": свободной энциклопедии больше нет
Дмитрий Косырев
Вы скажете, здесь не такая уж новость: этот человек не раз рассказывал, что задумывал отличную штуку, но потом пришли плохие люди и его идею испоганили до крайности. И он такой не один в мировой истории — компании или идеи везде воруют и неизбежно портят.
Нового здесь то, что Ларри Сэнгер, который 20 лет назад придумал "Википедию", называет относительно свежие цифры. В работе над этой энциклопедией сегодня задействованы 230 тысяч "редакторов-добровольцев" и 3,5 тысячи администраторов, которые отвечают за истину. Они создали тесную сеть цензуры, отбраковывающую информацию, не вписывающуюся в либерально-глобалистско-правильную картину мира.
Конечно, речь в этой публикации якобы только об относительно далекой от нас американской политике. Такие вопросы, как сфальсифицированные итоги президентских выборов 2020 года или деятельность движения BLM, — все это в "Википедии" в открытую и нагло опирается только на источники (и точку зрения) тех самых глобалистов, то есть партии демократов. Появляющиеся прочие данные (или мнения и ссылки на таковые) тщательно изгоняются.
И вот сегодня создатель "Википедии" сообщает нам на своем сайте (который мало кто читает): его детище стало чем-то вроде "полиции мыслей", и в такой атмосфере демократия существовать не может. То есть якобы открытая для демократической дискуссии сетевая энциклопедия превратилась в оппонента демократии, да попросту во врага таковой.
Повторим, это не такая уж новость. В 2016 году, когда в США проходили президентские выборы, была горячая тема — как подыгрывают глобалистам ресурсы и инструменты, смысл которых вроде бы в том, чтобы быть нейтральным поставщиком фактов. Типа поиска Google, который облизывался от умиления, рассказывая о Хиллари Клинтон, и шипел от ярости, выдавая данные о Дональде Трампе. Но чаще всего просто загонял "неправильную" информацию как можно ниже по списку выдаваемых результатов. Дальше появилась цензура Facebook и Twitter. То есть демократы мало того что задействовали (и продолжают это делать) свою, открыто партийную сеть СМИ, они захватили еще и ресурсы, которые замышлялись как средство дискуссионной проверки — а не врут ли эти СМИ или та или иная идейная группировка.
Можно было бы добавить, что идея всемирной энциклопедии как коллективного продукта, создаваемого непрерывно в ходе открытого и честного спора миллионов людей, — идея эта показала свою плохую исполнимость. Как минимум ее надо было защитить от того, что, по сути, и произошло — от захвата какой-то одной группировкой со своим комплектом фактов. Вот только как защитить? Нет ответа.
И ведь речь далеко не только о побоищах американской политики, а вообще обо всем мыслимом. Например, если вы удостоены страницы в "Википедии", но в вашей биографии вдруг откуда-то появляются странные утверждения, не соответствующие фактам, попробуйте пожаловаться и сказать, что это неправда. Окажется, что там есть редакторы, которые слушать будут не вас, а кого-то совсем другого.
Ну и отметим, что сам Ларри Сэнгер недолго управлял своим изобретением — что-то около года. Мог бы еще подраться вместо того, чтобы с презрением уходить. Но давайте лучше посмотрим на то, сколько пользы можно извлечь из его нынешних слабых акций сопротивления.
Попытки ответить, в виде энциклопедии, на вопрос, что есть истина, предпринимались давно. В частности, первая из всемирно известных энциклопедий — та, которая создавалась Дидро и Д’Аламбером с друзьями, — тоже была инструментом идеологической войны, причем которая к нам, сегодняшним, имеет прямое отношение. Дело в том, что та энциклопедия была кристаллизацией молодой и дерзкой идеи Просвещения, состоявшей в том, что есть идеал — великая и нейтральная наука, арбитр, который дает ответы на все вопросы и стоит над всеми идеологиями и институтами.
Но дело в том, что и при Дидро с Д’Аламбером была другая сторона, недавно еще монопольно владевшая истиной, — это, условно говоря, те, кто раньше жег людей за утверждения, что Земля вращается вокруг Солнца. И французские энциклопедисты вели конкурентную борьбу с оппонентами не столько даже за вечную и окаменевшую истину, сколько за методику ее определения на данный момент: постоянный научный поиск, проверяемый в честном споре равных, просвещенных и лучших. Вот они и создали площадку, на которой оказалось возможно высказывать всякие дерзкие идеи, подрывавшие монополию оппонентов.
Эпоха Просвещения начала отвоевывать себе почетное место в западной цивилизации веке этак в XVII, и сейчас эту эпоху активно добивают те самые глобалисты. Хотя все еще не добили, и в истину, исходящую от науки, по инерции верят многие — иначе драки вокруг "Википедии" и не было бы.
Видимо, за пару веков человечество чрезмерно успокоилось, думая, что теперь все в порядке: партии и идеологии могут ругаться сколько угодно, но над ними — теоретически — стоят хранители голых и неоспоримых фактов. А вот сейчас мы приехали в эпоху, когда оказалось, что и роль этих хранителей можно украсть, более того, это обязательно станут делать и уже сделали.
Это полезно, как и всякое избавление от иллюзий.
Полезно хотя бы потому, что теперь человек имеет сильный стимул — да что там, жизненную необходимость — думать своей головой. И это касается далеко не только политики, а казавшихся еще вчера незыблемыми основ жизни. Глобалисты же, напомним, эти основы подрывают — пытаясь полностью изменить не только повседневную жизнь человека, а и самого человека тоже.
Но когда речь идет, например, о необходимости вернуться к уровню жизни прошлого века якобы ради спасения планеты — это уже не вопрос того, нравится ли тебе кандидат в президенты. И то же самое — если речь идет о твоем здоровье и физическом выживании. А ведь глобалисты очень стараются навязать всем правильный образ мысли на эти и множество других тем. И на все эти темы в "Википедии" и мириадах прочих пропагандистских ресурсов имеется та самая единственная истина.
Однако во всех подобных случаях люди по всей планете видят, что происходит что-то странное, а раз так — надо самим разбираться в фактах и разных взглядах и принимать решения огромной важности. Надеяться на энциклопедистов — хранителей истины больше нельзя. И вот все вокруг теперь — экологи и медики, то есть люди с весьма переменным успехом разбираются в фактах и берут свою судьбу в свои руки. А в процессе обнаруживают, что наука — это не окаменевшие факты, а вечный спор и поиск. В общем, есть шанс на новую эпоху — Просвещение для всех, а не только для якобы просвещенных.

Риски серьезной и всеобъемлющей коррекции никуда не ушли
Об итогах полугодия и перспективах американского рынка акций мы беседуем с руководителем аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павлом Пахомовым.
Борис Соловьев
– Как вы оцениваете итоги I полугодия на американском рынке?
– Американский фондовый рынок, так же, впрочем, как европейский и еще ряд других, очень здорово прошел I полугодие 2021 года и пока только радует всех инвесторов. К его окончанию основные американские индексы находятся на исторических максимумах, а доходности за этот период измеряются двузначными цифрами. Так, Индекс широкого рынка S&P 500 вырос почти на 15%, а отстававший от своих младших товарищей в течение всего 2020 года Индекс голубых фишек Dow, выросший за весь прошлый год менее чем на 7%, за первую половину этого подорожал уже более чем на 12%. Так что можно говорить о том, что американский рынок за этот период полностью оправдал ожидания инвесторов и даже превзошел их.
– Многие аналитики предрекали масштабную коррекцию, но ее не случилось. Остаются ли в силе ожидания снижения?
– Действительно, в конце прошлого года многие специалисты и трейдеры ожидали коррекции на рынке, поскольку взрывной рост 2020 года указывал на явную перекупленность многих активов. Особенно это касалось акций компаний, работающих в технологическом секторе. Собственно, именно в этих акциях мы и увидели небольшую коррекцию, которая прошла двумя волнами: в феврале – марте и в первой половине мая. Индекс NASDAQ при этом снижался на 12% и 8% соответственно. Эта небольшая коррекция сняла некоторую напряженность на рынке и позволила инвесторам вновь обрести уверенность и начать покупки подешевевших акций. Главной причиной, почему коррекция была столь незначительной и коснулась лишь ограниченного круга акций, стало наличие на руках инвесторов огромного количества свободных денег, которые выделялись ФРС населению для поддержки в ходе коронавирусной эпидемии.
Но все же, учитывая то, что коррекция была небольшой и частичной, коррекционные ожидания никуда не ушли. Многие аналитики предполагают, что участники рынка еще в этом году найдут повод для более серьезной и, главное, всеобъемлющей коррекции, которая должна будет захватить все сектора. Однако на вопрос «Когда именно это произойдет?» однозначного ответа нет.
– Чего вы ждете от III квартала?
– III квартал будет сложным и весьма напряженным. И, возможно, определяющим для этого года. Связано это с тем, что именно сейчас решается вопрос, насколько США и другие развитые страны справились с коронавирусной эпидемией и насколько обоснованны ожидания инвесторов, что экономика должна начать восстанавливаться чрезвычайно быстрыми темпами. Опасность состоит в том, что эти темпы уже заложены в котировках многих акций и любая заминка (например, появление новых штаммов и новая волна эпидемии) принесет с собой волну разочарования, а за ней – массовые распродажи. Последствия предсказать очень сложно.
Если же человечество действительно справилось с коронавирусом, то можно ожидать продолжения достаточно спокойного, вязкого и неспешного роста. Именно такой рост мы наблюдаем в настоящее время – по несколько десятых процентов в день, но при этом постоянное обновление исторических максимумов. Этот рост в конечном счете будет упираться в реальные темпы восстановления экономики и в то, насколько высоки будут темпы инфляции.
– Приближается сезон отчетности за полугодие. Станет ли он драйвером роста?
– Наступающий сезон отчетности однозначно им не станет для американского рынка. Дело в том, что сейчас основными драйверами роста выступают макроэкономические показатели: темпы роста ВВП, уровни безработицы и инфляции. Если с ними будет все в порядке, то и с рынком тоже. В противном случае нас ждет коррекция. Возможно, очень даже серьезная, с падением вплоть до 20% по всем индексам и вплоть до 50% по отдельным акциям.
– Ваши рекомендации частным инвесторам. Какие сектора или бумаги привлекательны с целью до конца года?
– Основная рекомендация – не паниковать и не дергаться. Каждый должен определить для себя горизонт инвестирования (то есть на какой срок сформирован текущий портфель) и уровень возможного убытка по нему. Если инвестиционный портфель сформирован на длительный срок, то допустимый уровень просадки должен быть никак не меньше 30%.
Кроме этого, при любом раскладе и любом горизонте инвестирования сейчас стоит держать в портфеле кеш в размере от 20%. То, что возможность купить акции по более низким ценам будет в ближайшее время, это точно. Весь вопрос: когда? И, естественно, выиграет тот, у кого под рукой будут свободные деньги.
Что касается объектов инвестирования, то по-прежнему привлекательно большинство акций медицинских и биотехнологических компаний. В этом секторе у инвесторов очень богатый выбор.
Также можно понемногу подбирать коронавирусных лузеров – акции компаний, которые более всего потеряли от эпидемии. Это авиаперевозчики, владельцы и эксплуатанты круизных лайнеров, отельеры, владельцы и управляющие казино и курортов. Многие из них уже выросли за последние полгода – иногда на 100% и более, но все равно им еще расти и расти, чтобы достичь докризисного уровня. Однако надо понимать, что этот рост может растянуться на несколько лет, и делать ставку на их рост до конца года точно не стоит.
Ну и конечно же, нельзя сбрасывать со счетов акции ведущих технологических компаний. Прежде всего акции компаний, связанных с выпуском чипов, процессоров, видеокарт и других полупроводниковых изделий. Сейчас наблюдается глобальный дефицит этой продукции, и спрос на нее будет только усиливаться. Поэтому перспективы их выглядят очень оптимистично.

ВЕРНУТЬСЯ К ПРЕЖНЕЙ СИСТЕМЕ КОНТРОЛЯ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ НЕВОЗМОЖНО
ДМИТРИЙ СУСЛОВ
Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики».
НА ЧТО ДОЛЖЕН И НА ЧТО НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОРИЕНТИРОВАН ДИАЛОГ РОССИЯ – США ПО СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
В Москве не без оснований подозревают, что стремление США подключить КНР к российско-американским переговорам по стратегической стабильности и выстроить трёхсторонний режим по контролю над ядерными вооружениями, вместо того чтобы создавать отдельный двусторонний режим между США и Китаем, призвано ослабить российско-китайское партнёрство и породить недоверие между Пекином и Москвой.
Одним из главных позитивных результатов российско-американского саммита в Женеве стало решение запустить комплексный диалог по стратегической стабильности – ситуации, характеризующей угрозу ядерной войны. Его цель, как указано в соответствующем совместном заявлении президентов России и США (само принятие которого позволило результатам саммита превзойти ожидания большинства наблюдателей), – «заложить основу будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков». Ожидается, что в ближайшие недели стороны договорятся о формировании нескольких тематических групп в рамках этого диалога, работа которых покажет, что Москва и Вашингтон способны, а что не способны разрешить в рамках создания будущего режима контроля над вооружениями.
За последние годы ситуация в области стратегической стабильности стала критической: риски непреднамеренного военного столкновения, которое может перерасти в ядерную войну, и новой масштабной гонки вооружений существенно возросли.
В основе этого роста – целый комплекс факторов.
Во-первых, конфронтация Соединённых Штатов одновременно с Россией и Китаем, преодолеть которую в обозримой перспективе не удастся.
Во-вторых, снижение качества политических элит стран Запада – неверие в возможность разрушительных для их собственных государств войн порождают склонность к «стратегической фривольности» (готовность идти на рискованные провокации будучи убеждёнными, что войны не будет по определению).
В-третьих, стремительное развитие технологий (кибер, искусственный интеллект, высокоточные вооружения, беспилотники и так далее). Они не только меняют облик войны, но и стирают грани – между состоянием войны и мира (особенно характерно для киберопераций), между ядерными и неядерными вооружениями (последние приобретают способность решать боевые задачи, которые традиционно могли решать только ядерными вооружениями).
В-четвёртых, усложнение военно-стратегического ландшафта: Россия и США в ядерной политике ориентируются уже не только друг на друга, но всё больше и на третьи ядерные государства.
В-пятых, практически полный развал прежней системы контроля над вооружениями. С денонсацией Договора по открытому небу (ДОН) юридически обязывающих соглашений по контролю над обычными вооружениями не осталось вовсе. В области ядерных вооружений единственным юридически обязывающим инструментом, уменьшающим угрозу гонки и повышающим предсказуемость, остаётся Договор СНВ-3, продлённый в начале этого года и истекающий в 2026 году.
Красноречивым подтверждением того, насколько легко и быстро может развернуться военный конфликт между ядерными державами, и яркой демонстрацией «стратегической фривольности» стал произошедший в конце июня инцидент с британским эсминцем Defender. Он умышленно вторгся в территориальные воды России у берегов Крыма, чтобы лишний раз подчеркнуть непризнание его принадлежности к РФ со стороны Лондона. С точки зрения угрозы ядерной войны, это гораздо опаснее, чем керченский инцидент 2016 г.: Великобритания – член НАТО и ядерное государство. Уровень же её стратегической культуры на сегодняшний день, как выяснилось, не сильно выше украинского.
Предпосылки для начала комплексного российско-американского диалога по стратегической стабильности неплохие: саммит в Женеве наглядно показал, что обе стороны (каждая по своим причинам) заинтересованы в стабилизации конфронтации и ни одна не желает ни масштабной гонки вооружений, ни тем более эскалации военных конфликтов. Однако для того, чтобы диалог действительно помог выработать меры, снижающие риски военного конфликта с дальнейшей эскалацией на ядерный уровень и укрепляющие стратегическую стабильность, необходимо ставить задачи, адекватные угрозам сегодняшнего и завтрашнего дня и нынешнему состоянию российско-американских отношений. Неверно сформулированные задачи и повестка дня могут привести к провалу диалога и дальнейшей деградации стратегической стабильности.
Администрация Байдена положительно и серьёзно относится к самой идее контроля над вооружениями. Она сразу приняла решение продлить ДСНВ-3 на пять лет и согласилась подтвердить в совместном заявлении по стратегической стабильности принцип, согласно которому «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана» (от администрации Трампа этого не удалось добиться за все четыре года). Однако нельзя питать иллюзии насчёт того, что российско-американский диалог по стратегической стабильности и контролю над вооружениями может вернуться обратно к нормальности, старым добрым мерам по их укреплению. Прежде всего – к переговорам по ограничению и сокращению ядерных вооружений на паритетной основе.
Главные причины почти полного развала прежней системы контроля над вооружениями заключаются не только и не столько в особенностях подхода администрации Трампа (кстати, эти особенности характерны для республиканского военно-политического мейнстрима вообще, и при новой республиканской администрации в Вашингтоне этот подход наверняка вернётся). Международный военно-стратегический ландшафт кардинально изменился. Качественно, а не количественно понимаемая ядерная многополярность и особенно стирание грани между ядерными и стратегическими неядерными вооружениями по мере развития военных технологий (высокоточные, космические вооружения, кибератаки против стратегических объектов, системы ПРО и так далее) исключают возврат к прежней системе контроля над вооружениями. В её основе лежали паритетные сокращения и ограничения похожих стратегических ядерных средств двух сверхдержав.
Показательно, что в принятом по итогам саммита в Женеве совместном заявлении президентов России и США говорится о стремлении «заложить основу будущего контроля над вооружениями», а не воссоздать прежний. Кстати, стереотип о приверженности администрации Байдена классическому подходу к контролю над вооружениями преувеличен: её позиция по ДОН и ДРСМД мало отличается от подхода администрации Трампа.
Поэтому если Москва и Вашингтон попытаются начать полноценные переговоры по выработке нового «классического» договора о ещё более глубоком по сравнению с ДСНВ-3 сокращении ядерных вооружений или тем более запустить трёхсторонние переговоры с участием Китая с выходом на трехстороннее же соглашение об ограничении и/или сокращении ядерных вооружений, результат будет печальным: потеря имеющегося Договора СНВ-3 и ещё более глубокая деградация российско-американских отношений. В случае же трёхсторонних переговоров под ударом окажутся и отношения Россия – Китай.
Успешная выработка нового двустороннего российско-американского договора о дальнейшем сокращении ядерных вооружений (условно – ДСНВ-4) маловероятна ввиду практически полной противоположности позиций сторон, что и как этот договор должен покрывать.
Соединённые Штаты настаивают на том, чтобы любое следующее соглашение по контролю над ядерными вооружениями касалось нестратегического ядерного оружия, где у России значительный количественный перевес, особенно в Европе. Действительно, без включения ТЯО никакое будущее соглашение по ядерным вооружениям не имеет ни малейшего шанса на ратификацию в Сенате. Цель США – ограничить, а ещё лучше – резко сократить российский арсенал тактического ядерного оружия, который, опасаются в Вашингтоне, может быть использован в реализации приписываемой Москве доктрины «ядерной эскалации ради деэскалации» военного конфликта в Европе. Вероятность того, что Россия пойдёт на ограничение или сокращение своего арсенала ТЯО без существенного сокращения военного неядерного потенциала НАТО и восстановления тем самым неядерного военного баланса в Европе (что само по себе невозможно) близка к нулю. Смысл тактического ядерного оружия – сдерживать и предотвращать неядерное нападение, а общий военный дисбаланс в пользу НАТО в неядерной сфере сегодня колоссален.
Россия, в свою очередь, настаивает на том, чтобы любое следующее соглашение в стратегической сфере «учитывало все факторы, влияющие на стратегическую стабильность». Дальнейшие сокращения стратегических ядерных вооружений возможны только при условии наличия чётких ограничений в таких областях, как противоракетная оборона, высокоточные неядерные и космические вооружения. Вероятность того, что Соединённые Штаты, обладающие в этих областях превосходством, согласятся на подобные ограничения, тоже равна нулю.
Состояние российско-американских отношений и тотальное недоверие между сторонами резко ограничивают их готовность идти на какие-либо серьёзные компромиссы по важным вопросам. Примечательно, что повестка дня, которую Москва и Вашингтон наметили на саммите в Женеве, предполагает сотрудничество по совпадающим интересам, без существенных компромиссов и изменения внешней политики какой-либо из сторон в целом.
С трёхсторонними переговорами Россия – США – Китай, идею которых продвигают американцы, ещё сложнее. В экспертной среде периодически возникают идеи о том, как считать ядерные арсеналы трёх стран, чтобы получить сопоставимые цифры, несмотря на колоссальную разницу между стратегическими ядерными силами России и Соединённых Штатов, с одной стороны, и Китая, с другой, и обрести таким образом основу для трёхстороннего режима ограничения и сокращения ядерных вооружений. Например, предлагается перестать разделять стратегические и тактические ядерные арсеналы, установить единый потолок для всех ядерных боезарядов и носителей, включая ракеты средней и меньшей дальности. Подобные предложения, одним выстрелом решающие две важные задачи американской (но не российской) политики – присоединить Китай к российско-американскому контролю над вооружениями и ограничить российский и китайский арсеналы нестратегического ядерного оружия, представляются не только искусственными, но и вредными с точки зрения интересов России.
Во-первых, сваливать стратегические и нестратегические ядерные вооружения в одну кучу некорректно: первые нацелены на сдерживание (предотвращение) ядерного, а вторые – прежде всего неядерного нападения. Поэтому ограничение СЯС в отрыве от ограничения неядерных вооружений, особенно стратегического свойства, и устранения здесь превосходства США, было бы в корне неправильным.
Во-вторых, Россия и Китай не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников, их отношения не основываются на взаимном стратегическом сдерживании – в отличие от российско-американских и американо-китайских отношений. Россия, например, осознанно укрепляет стратегический сдерживающий потенциал Китая (помогает ему создавать современную систему предупреждения о ракетном нападении) и считает, что его усиление относительно американского в российских интересах.
Поэтому распространять на отношения России и Китая в ядерной сфере те же логику и практику, что действуют между Москвой и Вашингтоном, нельзя.
Более того, это распространение оказало бы на российско-китайские отношения весьма негативное воздействие и породило бы взаимное недоверие в военной сфере. Ведь цель контроля над вооружениями – управление недоверием в отношениях между противниками. В Москве не без оснований подозревают, что стремление Соединённых Штатов подключить КНР к российско-американским переговорам по стратегической стабильности и выстроить трёхсторонний режим по контролю над ядерными вооружениями, вместо того чтобы создавать отдельный двусторонний режим между США и Китаем, призвано ослабить российско-китайское партнёрство и породить недоверие между Пекином и Москвой.
На что же в таком случае должны быть нацелены консультации России и США по стратегической стабильности и каким может быть фундамент будущего контроля над вооружениями?
Прежде всего, угроза ядерной войны связана сейчас не с неожиданным первым или упреждающим полномасштабным ядерным ударом одной ядерной державы по другой, как было в период холодной войны, а с эскалацией непреднамеренного военного конфликта в неядерной сфере. Например, вследствие провокации по типу той, что произошла у мыса Фиолент (и, судя по официальным заявлениям Лондона, будут происходить в будущем), неверной трактовки военных учений, особенно в условиях тотального недоверия и конфронтации, эскалации военного конфликта, в который в том или ином виде вовлечены обе стороны, или же кибероперации против стратегических целей, которую могут принять за начало военной агрессии. Смысл стратегической стабильности заключается уже не только и не столько в снижении стимулов для первого ядерного удара, сколько в предотвращении любого неядерного военного столкновения, в том числе непреднамеренного и проистекающего из киберсферы. Судя по тому, что упомянутое совместное заявление по вопросам стратегической стабильности упор делает именно на снижении рисков, руководители двух стран это понимают.
Для снижения рисков обычного и ядерного конфликта необходимо, во-первых, разрабатывать и/или усиливать правила поведения в военной сфере, – особенно там, где риск непреднамеренного столкновения наиболее высок. Это кибероперации, военные учения, опасные сближения военно-воздушных и военно-морских судов, разного рода провокации, в том числе нарушения государственных границ. Особенно важным представляется выработка правил военного поведения в киберсфере, отсутствующие сегодня напрочь, притом, что данная сфера уже давно рассматривается как театр военных действий, а киберсредства – как оружие массового поражения.
Во-вторых, для снижения риска ядерной войны необходимы режимы, ограничивающие размещение высокоточных вооружений в неядерном оснащении, стратегических носителей с ядерными боезарядами малой мощности, а также ракет средней и меньшей дальности вблизи границ России и США и особенно в досягаемости от стратегических объектов друг друга. Хотя на состоявшемся в июне – прямо перед российско-американской встречей в Женеве – саммите НАТО альянс снова продемонстрировал скептическое отношение к российскому предложению о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, решение проблемы необходимо. В случае размещения соответствующих ракет в Польше или Прибалтике Россия будет вынуждена обратиться к доктрине упреждающих ударов, и угроза ядерной войны поднимется до критического уровня.
В-третьих, нужен эффективный механизм деконфликтинга на всей линии соприкосновения России и НАТО – от Баренцева до Чёрного моря. За образец можно взять тот, что с 2015 г. существует между российскими и американскими военными в Сирии. Он позволил предотвратить военное столкновение друг с другом, несмотря на противоположность политических задач и откровенное стремление нанести друг другу политическое поражение. Также необходим механизм деэскалации конфликта на случай, если он всё же произойдёт, и предотвращения его перехода на ядерный уровень.
В-четвёртых, стоит договориться о мерах, повышающих предсказуемость в ядерной и неядерной областях, – информировании друг друга о состоянии ядерных сил, проведении инспекций, консультаций по ядерным доктринам, о том, как стороны понимают угрозы ядерной войны, и так далее.
Подобные консультации имеют смысл на двустороннем и многостороннем уровнях. Многосторонний формат даже более предпочтителен, оптимальной представляется пятёрка официальных ядерных стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН. Запуск многосторонних консультаций по вопросам стратегической стабильности с упором на предотвращение риска непреднамеренного военного столкновения мог бы стать главным результатом предлагаемого Россией саммита стран «Большой пятёрки».
Вопросы ограничения стратегических ядерных вооружений должны оставаться строго в рамках двусторонних переговоров. Многосторонние консультации по укреплению стратегической стабильности ни в коем случае не отменяют и не заменяют двусторонние консультации между США и Россией, США и Китаем, Китаем и Индией и так далее. Они вполне могут сосуществовать. России и Соединённым Штатам можно было бы договориться о продлении ДСНВ-3 или хотя бы содержащихся в нём мер транспарентности и предсказуемости на период после 2026 г., не добавляя ни тактические ядерные вооружения, ни третьи страны, но распространяя его действие на гиперзвуковые ракеты, которые подпадают под определение межконтинентальных баллистических ракет и стратегических ядерных сил в целом. США и Китаю же стоит создать собственный двусторонний режим контроля над вооружениями, не вовлекая в него Россию. Трёхстороннего гибрида, который выгоден только тем, кто стремится ослабить партнёрство России и Китая, стоит избегать.

Камо грядеши
Россия и США продемонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиваться снижения рисков военных конфликтов и угрозы ядерной войны
Текст: Игорь Иванов (президент Российского совета по международным делам (РСМД), министр иностранных дел России (1998-2004 гг.))
Состоявшаяся в Женеве встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена имела несколько измерений.
С одной стороны, она должна была дать представление о дальнейшем векторе развития отношений между двумя крупнейшими ядерными державами, во многом определяющими общее состояние глобальной безопасности. С другой, что не менее важно, встреча должна была стать неким индикатором основных тенденций развития мировой политики в целом. Поэтому итоги встречи и ее возможное значение для международных отношений продолжают оставаться в центре внимания политиков, журналистов и экспертов.
Что касается двусторонних российско-американских отношений, то встреча президентов, как представляется, в целом оправдала те реалистичные ожидания, которые на нее возлагались сторонами. После столь затяжного и столь глубокого обвала рассчитывать на какие-либо серьезные практические договоренности, способные развернуть двусторонние отношения в сторону конструктивного сотрудничества, было бы нереально. Да и времени на подготовку таких договоренностей было явно недостаточно. На подписание развернутых документов, собственно, никто и не рассчитывал. Вместе с тем по итогам переговоров президенты России и США приняли Совместное заявление, где зафиксировали целый ряд принципиальных позиций и задач, реализация которых в перспективе может вывести на конкретные решения и подвижки в области стратегической стабильности.
Президенты подтвердили приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Это, казалось бы, самоочевидное заявление на самом деле несет огромное смысловое содержание. В последние годы вокруг военных доктрин США и России велись бурные споры, было немало спекуляций относительно того, что при определенных обстоятельствах нельзя отказываться от варианта применения ядерного оружия первым. Все эти дискуссии происходили на фоне процесса разрушения договорно-правовой базы контроля над ядерными вооружениями и двустороннего диалога в целом, что существенно повышало риски непреднамеренного конфликта, в том числе с использованием ядерного оружия. Подтвержденная на высшем уровне готовность двух ведущих ядерных держав совместно работать с целью недопущения ядерной катастрофы может стать основой для целого спектра практических мер по снижению риска применения ядерного оружия. Кроме того, эта готовность будет содействовать укреплению режима нераспространения ядерного оружия в целом.
Лидеры России и США признали, что только предсказуемость в стратегической сфере может обеспечить снижение рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны. Так было и в самые напряженные годы "холодной войны". В наши дни, когда вызовы безопасности носят все более комплексный характер, а острота рисков неуклонно возрастает по мере внедрения в военную сферу все новых достижений современных технологий, предсказуемость становится одним из главных факторов снижения рисков и восстановления доверия.
Как можно добиться предсказуемости в нашем фундаментально нестабильном мире? Только путем интенсивных переговоров с участием дипломатов, военных и ученых. Только путем согласования документов, которые позволяли бы сторонам осуществлять эффективный контроль и верификацию в тех областях, где будут достигнуты соответствующие договоренности. После важных политических договоренностей в Женеве на первый план должны выходить профессионалы, которые глубоко разбираются в предмете переговоров и могут дать свои предложения по стабилизации баланса ядерных вооружений. Предсказуемость идет рука об руку с доверием: одно невозможно без другого.
В практическом плане президенты также договорились, не откладывая, запустить комплексный диалог по стратегической стабильности, который должен в дальнейшем заложить основу будущего контроля над вооружениями. Сложность такого диалога и его принципиальное отличие от подобных механизмов в прошлом заключается прежде всего в том, что потребуется параллельно вести переговоры сразу по нескольким направлениям, включая ядерные и неядерные стратегические вооружения, системы противоракетной обороны, кибервооружения и космические системы и многое другое. Насколько известно, российская сторона уже представила свои соображения относительно соответствующих двусторонних рабочих групп; будем надеяться, что в Вашингтоне не будут медлить с ответом на эти соображения.
Вопросы стратегической стабильности не случайно были в центре российско-американского саммита. Без взаимопонимания в этой области практически невозможно будет говорить о каком-либо двустороннем сотрудничестве по конкретным проблемам, будь то глобального или регионального характера. Когда же такое взаимопонимание имеется, появляется возможность достигать компромиссов даже там, где интересы сторон существенно расходятся.
Как это всегда бывает, сейчас в двусторонних отношениях наступает не менее важный период - время имплементации принципиальных договоренностей двух президентов. Бюрократии всего мира имеют одну общую особенность: искусно затягивать реализацию политических инициатив, постоянно перекладывая ответственность за это на другую сторону. Так уже не раз бывало в отношениях между Россией и США. Эта опасность особенно велика сегодня, когда на обеих сторонах очень много пессимистов, не верящих в возможность какого бы то ни было прогресса в отношениях. Поэтому важно, чтобы незамедлительно был определен детальный график реализации договоренностей между Владимиром Путиным и Джо Байденом, организован жесткий персональный контроль над работой соответствующих министерств и ведомств. Только в этом случае к следующей встрече двух президентов, с которой нельзя затягивать, можно будет выйти с пакетом конкретных документов.
Значение российско-американского саммита в Женеве по понятным причинам выходит далеко за рамки двусторонних отношений. Саммит уже стал существенным фактором, позитивно воздействующим на политическую обстановку в международном сообществе в целом.
Во-первых, то внимание, с каким во всем мире следили за саммитом, и реакция на его результаты убедительно продемонстрировали, что, несмотря на происходящие в мире глубокие перемены и непростые процессы внутри самих России и США, наши страны продолжают играть ключевую роль в мировых делах. Без договоренностей между Москвой и Вашингтоном невозможно говорить об обеспечении международной безопасности и стабильности.
Во-вторых, саммит зародил надежды на то, что в случае практической реализации достигнутых между президентами России и США договоренностей может открыться возможность для объединения усилий международного сообщества в интересах восстановления управляемости системы международных отношений. В этой связи новое звучание приобретает инициатива президента России о проведении саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН; такой саммит был бы логичным и естественным продолжением разговора, состоявшегося в Женеве.
В-третьих, при всей важности российско-американского взаимодействия в области стратегической стабильности со временем потребуется включение в этот процесс и других государств. Россия и США продемонстрировали, что даже в периоды напряженности они способны добиваться прогресса в реализации совместных целей по снижению рисков военных конфликтов и угрозы ядерной войны. Этому примеру должны последовать и другие страны, демонстрируя таким образом приверженность интересам международной и региональной стабильности.
К сожалению, для некоторых современных политиков конфронтация - это оптимальное состояние мировой политики, при котором можно заявлять о себе, не неся при этом никакой ответственности за последствия. Безответственный популизм и внешнеполитический авантюризм - вещи крайне опасные в современных условиях. Не меньшие опасности связаны и с внешнеполитической пассивностью, готовностью оставить проблемы безопасности на усмотрение своих партнеров и союзников. Особый вызов в этом отношении стоит перед Европой, если она хочет сохранить свой самостоятельный голос на международной арене.
В истории были саммиты, которые оставляли свой глубокий след в истории международных отношений, обозначали наступающую смену циклов в мировой политике, открывали принципиально новые возможности для диалога. Очень бы хотелось, чтобы встреча в Женеве стала именно такой.

КОНЦЕНТРАТ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
ФЁДОР ЛУКЬЯНОВ
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай». Профессор-исследователь НИУ ВШЭ. Выпускник филологического факультета МГУ, с 1990 года – журналист-международник.
Анализ новой холодной войны, её сходных и отличительных черт по сравнению с предыдущей (предыдущими) – занятие захватывающее. Авторы этого номера глубоко погружаются в тему, выявляя типологические черты и данного вида противостояния вообще, и нынешней его формы в частности. Одно невозможно отрицать – скорость, с которой развиваются события и чередуются фазы отношений, несравнима с той, что была прежде.
Начало лета этого года стало временем своеобразной структурной перестройки. На смену хаотическому и достаточно разнонаправленному конфликту идёт (должна прийти) гораздо более чёткая картина. Образец – холодная война второй половины прошлого века с понятным делением мира на два лагеря. Лагеря знакомые – мир свободный против мира несвободного. Сложность – в неоднородности потенциальных блоков, намного более высокой, чем прежде. Прагматические интересы флагманов либерального мирового порядка не совпадают, а «сообщество автократов» и вовсе существует значительно больше в сознании его оппонентов, чем в реальности. Так что просто взять и призвать в поход приверженцев той или иной идеологии не получится. Идеологий-то в стройном виде ХХ столетия не прослеживается.
Справедливости ради, сама постановка задачи не абсурдна (это не значит, что она правильна). Администрация Джозефа Байдена поставила цель систематизировать окружающую международную анархию, существование в которой претит Соединённым Штатам. Кризис мирового порядка начался давно, как минимум с первых лет XXI века, но вызывающим он стал в последние годы благодаря подходу и стилю Дональда Трампа. Байден позиционирует себя как антипод предшественника, и во многом им является. Но это не означает ни отказа от всего того, что было сделано в предшествующие четыре года, ни возвращения к дотрамповской политике. Не отвергая «великодержавное соперничество», которое объявили основой американской стратегии при Трампе, Байден считает необходимым подойти к нему намного более основательно. Для этого как раз и нужны схемы классической холодной войны, тем более что США и союзники её выиграли. Отсюда и стремление возродить чёрно-белую картину, сплотив единомышленников.
Но ввиду вышеупомянутой неоднородности в рядах союзников, для сплочения нужен убедительный противовес. По отдельности ни Россия, ни Китай сейчас не тянут. Китаем непросто напугать европейцев, а Россией – американцев (правда, пугают, как могут, – и тех, и других).
Но в качестве двухголовой гидры Пекин и Москва способны составить достаточно грозный образ и для союзников Америки, и для колеблющихся соседей обеих держав.
Подробный анализ возможных стратегий новой холодной войны – в статьях наших авторов. Объединяет разные оценки лейтмотив – рост напряжённости неизбежен. Если структурированное противостояние признано способом выхода из опасной и сильно разбалансированной международной обстановки (не забываем и об острых внутренних проблемах всех крупных игроков, с которыми тоже надо что-то делать), значит – оно будет усугубляться. И в этом смысле обнадёживающие итоги встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена не противоречат общей логике. Это как раз структурирующая часть процесса, снижение рисков в наиболее опасных сферах взаимодействия. А акция британского эсминца в Чёрном море – часть провоцирующая, та, что должна поддерживать накал конфликта (в данном контексте неважно, было это решение Лондона или операция, согласованная с союзниками). Такова диалектика одного и того же явления.
Возвращаясь к бегу времени – спасение, будем надеяться, в том, что всё это скоротечно. То, что раньше занимало десятилетия, теперь – годы. А что годы – месяцы. Это не снижает риски, наоборот, в такой концентрированной среде и цена каждого движения возрастает. Но если понять специфику красных линий, есть надежда вырваться из сегодняшнего витка быстрее, чем из прошлого.

ДОСТАТОЧНО ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА
АНДРЕЙ ЦЫГАНКОВ
Профессор международных отношений и политических наук Калифорнийского университета (г. Сан-Франциско).
РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ
Stoner, Kathryn E. Russia Resurrected: Its Power and Purpose in a New Global Order. New York: Oxford University Press, 2021. 344 p. // Стоунер К. Воскрешение России: её сила и цель в новом мировом порядке. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, 2021. 344 с.
В западном представлении Россия остаётся важнейшим «другим». Сегодня даже в большей мере, чем ранее, учитывая бурно развивающийся кризис идентичности современного Запада. Кризис затрагивает историческое самосознание, раскалывая западные страны на консервативных сторонников национального государства и традиционных ценностей, с одной стороны, и борцов за универсальные права расовых и иных меньшинств, с другой. Кризис проявляется в восприятии исторических и современных вопросов развития, парализуя возможность проведения продуманной и последовательной внешней политики.
Противостояние между либералами-глобалистами и теми, кто отстаивает географически ограниченное понимание национальных интересов, углубилось со времени избрания Дональда Трампа президентом США, но никуда не делось и после его ухода. Россия лишь способствовала этому процессу. В большей части американского истеблишмента восприятие Москвы как партнёра и союзника в борьбе с терроризмом в начале 2000-х гг. трансформировалось с середины 2010-х гг. в образ важнейшей угрозы и стратегического противника. Консенсус относительно российской угрозы превратился теперь в средство сплочения далёкого от единства политического класса. Образ «тёмного двойника» вновь, как во времена холодной войны, призван, во-первых, высветить ясный демократический облик Соединённых Штатов – града на холме, а во-вторых, убедить элиты в силе и неизбежности торжества Америки и в XXI веке[1]. На наличие данного консенсуса в американском либеральном истеблишменте указывает ряд действий и заявлений представителей администрации Джо Байдена.
Тем не менее в современных представлениях политического класса США изрядно померк образ слабой, стратегически проигрывающей Западу России. Внешнеполитическая активность Москвы, её роль в событиях на Украине, в Сирии и других регионах, резко возросшее значение кибер- и спецопераций, информационной и иной поддержки пророссийских и настроенных на диалог с Россией сегментов западных обществ, демонстрация руководством страны новых видов вооружений, устойчивость к западным санкциям и политическому давлению, в том числе в условиях пандемии, работают на разрушение прежнего образа. Всё реже можно услышать победные заявления в духе Барака Обамы о близящемся обрушении под санкциями российской экономики или о необоснованности амбиций России быть глобальной, а не региональной державой.
Постепенное отрезвление американского истеблишмента – результат не только подъёма Китая и его близких к союзническим отношений с Россией, но и демонстрации силовых и геополитических компетенций самим российским руководством.
Книга Катрин Стоунер важна в первую очередь как свидетельство слома прежнего консенсуса и формирования новых представлений относительно России и её внешнеполитических возможностей. Очевидно, что новый взгляд на потенциал страны востребован и в окружении Байдена. Представления последнего пережили значительную эволюцию со времени его вице-президентства в администрации Обамы. Столкнувшись с новыми кризисами после прихода к власти в ноябре 2020 г. – дипломатическим, киберкризисом в связи с SolarWinds и украинским, – Байден вынужден пересматривать давние идеи сдерживания «слабой» России в пользу диалога на высшем уровне.
Аргументация Стоунер связана с необходимостью признать ошибочность сложившегося в США консенсуса о «слабой» России. Стоунер без обиняков именует Россию великой державой, достаточно великой (good enough power) для решения ставящихся ею глобальных и региональных задач. При этом она возражает и тем, кто отдаёт должное искусству Владимира Путина блефовать и «играть слабыми картами». Согласно её аргументации, карты Путина тоже – во многом сильные, а не слабые.
К выводу о великодержавности России Стоунер приходит в результате анализа различных измерений силы. При этом она отказывается от традиционных, характерных для американского политического мейнстрима и академических теоретиков-неореалистов оценок силового потенциала. В основном неореалисты исходят в своём анализе из аггрегированных показателей силы, включая численность населения, размер экономики и военных расходов. Не пренебрегая этими показателями, Стоунер рассматривает также информационные («мягкая сила») и кибервозможности («острая сила») страны. Она обращает внимание и на вероятность превращения «мягкой силы» в «острую». Например, информационные ресурсы могут стать средством дискредитации оппонента при наличии целенаправленной кампании и продуманного идеологического нарратива. Именно так, по мнению автора книги, действуют российские СМИ в западном информационном пространстве, нередко добиваясь поставленных целей.
Осмысление экономического и военного потенциала России также оказывается богаче и интереснее общепринятых в американском политическом классе оценок. Например, как политики, так и исследователи-международники не раз высказывались об экономике страны в духе сенатора Джона Маккейна, назвавшего Россию «бензоколонкой, маскирующейся под страну»[2]. Стоунер демонстрирует, что и в экономике российские позиции нельзя считать слабыми, несмотря на всё ещё высокий уровень зависимости от экспорта энергоресурсов, коррупцию и ряд иных проблем. По её убеждению, российская экономика показала устойчивость и способность к развитию даже в условиях санкций, хотя и не теми темпами, которые демонстрируют другие растущие державы.
При этом осмысление силового потенциала Стоунер не является лишь структурным. Отойдя от реалистского понимания, она приближается к социальному конструктивизму в определении применимости российской силы в мире. Опираясь на работы Дэвида Болдуина, Майкла Барнетта, Рэймонда Дуваля и других исследователей, автор рассматривает не только различные измерения силы, но и её географию и сферы применимости. Поскольку силу следует толковать не как исключительно потенциал, но и как отношение сторон, важно понять, в каких объёмах, применительно к кому и при каких условиях использование силы может быть эффективным. Такое реляционно-географическое представление о силе позволяет определить вариативность, разнообразие возможностей и пределов российской мощи.
Исследовательница показывает, что в ряде регионов и ситуаций, российская сила обладает особыми преимуществами. Во второй и третьей главах рассматривается потенциал и результаты действия российской силы в бывшем советском и иных регионах. Стоунер доказывает, что за последние десятилетия Россия сумела укрепить влияние в бывших советских республиках, используя торгово-экономические и инфраструктурные связи, военную силу и сходство с «автократическими» режимами в Белоруссии, Центральной Азии, Армении и Азербайджане. Воздействие на «либерализующиеся» страны Прибалтики, Грузию, Украину и Молдавию автор также оценивает как значительное, а в ряде областей – «решающее», несмотря на их стремление выйти из сферы российского влияния. В разной степени, но практически во всех основных регионах мира – в Европе, Азии, Латинской Америке и Африке – Россия также упрочила своё положение, хотя оно несопоставимо с советским.
Стоунер не призывает пересмотреть все важнейшие составляющие антироссийского консенсуса. Её убеждения остаются убеждениями либерала-глобалиста. Автор книги о возрождении российской силы занимает должность заместителя директора Института международных исследований и является научным сотрудником Центра демократии, развития и правового государства Стэнфордского университета. Она – коллега и соавтор ряда работ бывшего посла в России и сторонника глобального распространения демократии Майкла Макфола. Как известно российскому читателю, последний был и остаётся приверженцем не диалога, а жёсткого сдерживания России.
Позиция Стоунер не отличается и от взглядов многих других критически настроенных западных исследователей российской «автократии», включая Сэма Грина, Грэма Робертсона, Тимоти Фрая[3] и прочих авторов. Согласно этой позиции, изложенной в заключительной главе книги, созданная Путиным система правления является признаком слабости, а не силы России. Во внешней политике Путин действует не столько в интересах страны, сколько против них. Мотивы российской «агрессии» на Украине, вмешательство в американские и иные выборы, информационная политика являются вовсе не реализацией национальных интересов страны, а результатом деятельности путинского «режима». По убеждению автора книги, внутренне уязвимый «автократический режим» зависит от внешнеполитической агрессии и нуждается в ней для прикрытия своей недостаточной легитимности. Поэтому с уходом Путина политика России необязательно сохранит преемственность – скорее она существенно изменится под влиянием стремящегося к обновлению российского гражданского общества. «Россия без Путина» возможна и желательна.
В свете сказанного формирующийся новый консенсус по России не столько принципиально нов, сколько модернизирован сообразно новым реалиям внешней и внутренней политики страны.
Если воспринимать книгу Стоунер как провозвестницу модернизированного консенсуса, то он заключается в том, что Россия является достаточно сильной внешнеполитической державой со слабыми внутриполитическими основаниями. Учитывая силовые возможности Москвы, с ней необходимо вести диалог. Однако, имея в виду характер режима и неверное понимание им российских внешнеполитических интересов, серьёзное сотрудничество с Россией по-прежнему невозможно. Поэтому диалог с Путиным должен вестись с позиций силы, особенно в части развития демократии и прав человека, за которыми будущее.
Позиция, проиллюстрированная на примере книги Стоунер, имеет несколько заслуживающих обсуждения слабостей. Первая связана с недостаточным пониманием российских внешнеполитических интересов, принципов их формирования, прочной связи с силовым потенциалом и политической системой страны. Отрывать великодержавность от внутренних реалий и интересов России едва ли правильно как логически, так и с точки зрения её исторического опыта. Ведь если автократия ведёт к неверному пониманию национальных интересов, то следует признать «неверной» подавляющую часть русской истории. То есть, как выражал эту мысль прозападный министр иностранных дел Андрей Козырев, Россия являлась не просто неразвитой, а «неправильно развитой» страной. Понятно, что и Козыреву, и Стоунер хотелось бы исправить российское государство в сторону следования «правильным», то есть «универсально»-западным стандартам.
Но трансформировать страну с тысячелетней историей – чрезмерно амбициозное и не слишком благодарное занятие. Козырев и другие уже пробовали.
Несомненно, у внешней политики Путина есть и свой стиль, и важные особенности. Однако очевидно, что реакция подавляющего большинства российских лидеров на попытки ослабить позиции страны в Евразии и контролировать её внутреннюю и внешнюю политику была бы сугубо отрицательной. Что бы ни писали Макфол, Стоунер или иные аналитики о миролюбивости демократии и оборонительности намерений НАТО, расширение «миролюбивого» альянса существенно подорвало положение России в сопредельных странах, особенно в критически важные для неё годы становления новой государственности. Поддержка ельцинских олигархов в 1990-е гг. и регулярно вводимые санкции сегодня также не могли не подорвать политико-экономических интересов российского государства, а поддержка радикальных, антисистемных сил внутри России не может не способствовать ослаблению позиций её политического класса.
Последнее обстоятельство указывает на ещё одну, характерную для либеральных исследователей ошибку в понимании российской политической системы как неизбежно ослабляющей страну. При всех известных проблемах путинского правления – коррупция, чрезмерная зависимость от энергоэкспорта и слабость социальной политики – некоторые важные для России задачи стабилизации были решены в годы именно этого правления и по причине отказа от «демократии» образца 1990-х годов. Созданная в стране система правления далека от совершенства и испытывает трудности не столько потому, что не является западной децентрализованной демократией, сколько в силу институциональной недостроенности сильного государства. Используя выражение Путина, система сшита «на живую нитку», то есть основана преимущественно на неформальных связях и договорённостях. Российское национальное строительство далеко от завершения и должно стать приоритетом.
В русской истории самодержавная или централизованная, наследующая самодержавию система воспроизводится в силу необходимости решения важных задач развития страны. Некоторые из этих задач не могут быть решены в условиях децентрализованной демократической системы и требуют сильной исполнительной власти. Кстати, и обсуждаемый и по достоинству оценённый Стоунер силовой потенциал страны был воссоздан в условиях «путинской автократии». В различные исторические периоды самодержавие являлось для России источником не только слабости, но и силы.
Вероятно, стране гораздо больше подходит не демократия западного образца, а сообразная историческим, внутренним задачам смешанная политическая система.
Наконец, отметим недостаточную теоретическую проработанность в книге понятия силы и российской силы в частности. Аргументация Стоунер, учитывающая различные измерения силы, её географические и реляционные возможности – несомненный шаг вперёд по сравнению с укоренившимися упрощёнными оценками военно-стратегического и демографического потенциала. Однако традиция реализма не сводится к неореализму в стиле Джона Миршаймера и включает в себя гораздо более тонкое осмысление геополитических и силовых возможностей государств, в том числе связанное с анализом национального характера, политической системы, качеств элиты и высшего руководителя страны представителями классического реализма. Кстати, Стоунер не проводит важного разграничения между двумя названными традициями реализма. Выбранный ею набор критериев силы возражений не вызывает, но и на уровень теории не поднимается. Отказ же от неореализма не равносилен созданию теории. В книге, по существу, отсутствует обзор исследовательской литературы по вопросам власти, силы и державности. Такой обзор должен был бы, в частности, принять во внимание, что эти вопросы рассматривались исторической социологией и рядом других обществоведческих подходов. Теоретический поиск должен быть продолжен, и продолжен с учётом возможностей различных традиций и направлений, осмысливающих как особенности международной системы, так и вариативность моделей национальных государств.
--
СНОСКИ
[1] Tsygankov A.P. The Dark Double: US Media, Russia, and the Politics of Values. New York: Oxford University Press, 2019. 180 p.
[2] John McCain. Russia is a gas station masquerading as a country // Yahoo News. 16.03.2014. URL: https://news.yahoo.com/mccain-ukraine-crimea-160807712.html (дата обращения: 15.06.2021).
[3] Green S.A., Robertson G.B. Putin v. the People: The Perilous Politics of a Divided Russia. New Haven: Yale University Press, 2019. 296 p.; Frye T.M. Weak Strongman: The Limits of Power in Putin’s Russia. Princeton: Princeton University Press, 2021. 288 p.

"Позор и катастрофа"
Бывший президент Хамид Карзай рассказал об итогах кампании США и НАТО в Афганистане
Текст: Александр Гасюк
Тревожные новости приходят из Афганистана в последние дни. На фоне начавшегося вывода войск США и НАТО из "горной страны", который должен завершиться к сентябрю, в СМИ все чаще звучат сообщения о захвате экстремистами все новых и новых провинций. Как на самом деле развивается ситуация в стране и чем она грозит Кабулу? Каковы перспективы межафганского урегулирования? Грозит ли Центральной Азии дестабилизация из-за эскалации в Афганистане? Каковы итоги 20-летней кампании США и НАТО в этой стране? Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал бывший президент Исламской Республики Афганистан Хамид Карзай, который и сегодня играет значительную роль в политической жизни своей страны. Господин Карзай - регулярный спикер на политологических мероприятиях Международного дискуссионного клуба "Валдай", а на минувшей неделе выступил на 9-й Московской конференции по международной безопасности.
Последние 20 лет США вместе с НАТО боролись с терроризмом и экстремизмом в Афганистане. Успехи оказались, мягко говоря, сомнительными - безопаснее в стране не стало. В свете объявленного президентом США Джозефом Байденом и уже идущего полным ходом окончательного вывода американских войск из Афганистана какова ваша оценка самой долгой войны в истории Америки?
Хамид Карзай: Существует два измерения этого вопроса. Первое - это военные цели США по борьбе с экстремизмом. Второе - присутствие Америки и международного сообщества для реконструкции Афганистана, развития афганской экономики и улучшения жизни простых афганцев. Последнее во многом было сделано, и это хорошо. Отмечу, что в этом приняли деятельное участие многие, в том числе наши соседи, Россия и Индия, а также Япония, Китай и Европа.
Однако первая часть - борьба США с экстремизмом и терроризмом - обернулась позором и катастрофой. Это полный провал. Ведь речь идет не только о решении чисто военных задач. Последствиями этого провала стали огромные страдания людей в Афганистане.
В период присутствия американцев и НАТО в Афганистане здесь появилась ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России. - Прим. "РГ"). До 2001 года у нас не было боевиков ИГИЛ. А в 2015 году под присмотром США ИГИЛ возникло в Афганистане. Спрашивается, почему это произошло? Это провал? Или это можно объяснить по-другому?
Заявлено, что, несмотря "на полный вывод войск", США все же оставят около 650 военнослужащих для обеспечения безопасности своего посольства в Кабуле. При этом, согласно информации в СМИ, речь может идти о гораздо большем масштабе американского военного присутствия за счет массового использования контрактников частных военных компаний (ЧВК). Каково ваше отношение к этому?
Хамид Карзай: Официально заявленная цель и политика США в Афганистане - полный вывод войск с оставлением какого-то количества персонала, необходимого для охраны посольства. Вскоре мы увидим, так ли это на самом деле. Но мы слышали о возможности использования американцами ЧВК. Пока у нас нет никаких подтверждений о развертывании таких контрактников в Афганистане. Но если это действительно произойдет, то станет негативным фактором для нашей страны. Надеюсь, афганцы не позволят этого сделать.
Сразу после объявления США о выводе войск из Афганистана движение "Талибан" (организация запрещена в России. - Прим. "РГ") начало масштабное наступление, добившись значительных успехов на поле боя и захватив целый ряд провинций. Все это наводит на мысли о возможном крахе правительства в Кабуле, как это уже происходило спустя несколько лет после вывода советских войск из Афганистана в конце 1980-х годов. Следует ли нам опасаться повторения этого сценария?
Хамид Карзай: Мы не хотим конфликта в Афганистане. "Талибан" совершает ужасные ошибки, ведя войну против собственных сограждан. Сейчас, когда США объявили о намерении уйти из Афганистана, - а талибы, напомню, сражались именно за это - такому оправданию их действий больше нет места. Как я говорил много-много раз, внутри афганский конфликт вызван иностранными интересами. Прежде всего, интересами США и Пакистана. Но огромную цену за это платят рядовые афганцы на обеих сторонах конфликта - и правительства, и "Талибана". В конце концов, все они афганцы. То, что делают талибы, - неправильно, и это служит исключительно иностранным интересам. Они не должны этого делать. Для нас приоритет - это мир. И единственный путь к нему - это межафганский диалог. Если США действительно желают лучшего людям в Афганистане - мы надеемся, что это так, - то они должны честно участвовать в этом процессе, наряду с другими ведущими странами мира и региона. Честно способствовать работе механизма, который включает США, Россию, Китай и Пакистан. Надеюсь, что к этому формату подключится Иран, а также Индия и Турция. Это создаст нам благоприятные условия для того, чтобы положить конец войне и принесет наконец мир в Афганистан.
И все же есть конкретные оценки перспектив развития обстановки в Афганистане. Так, согласно информации The Wall Street Journal, американская разведка полагает, что правительство в Кабуле сможет продержаться всего от 6 до 12 месяцев после ухода США. Насколько такой пессимистичный прогноз отвечает реалиям?
Хамид Карзай: Если доклад правдив, то это прямой путь к катастрофе. Если же это один из методов психологической кампании против стабильности в Афганистане, то тогда намерения его авторов ясны. Мы надеемся, что такой прогноз не оправдается. Хотели бы верить, что пойдет настоящий, честный и искренний мирный процесс с участием всех заинтересованных сторон и при поддержке ведущих стран.
Раз уж речь зашла о мирном урегулировании, то хотелось бы спросить: проявит ли нынешний президент Афганистана Ашраф Гани достаточно гибкости в формировании переходного правительства, согласится ли включить в него талибов? Без этого шансы на успех невелики, не так ли?
Хамид Карзай: Для установления мира в Афганистане все афганцы, включая президента Гани, должны сделать максимум возможного. Если для мира необходимо формирование переходного правительства, то так и должно быть. Это то, чего хотят наши люди. Но, повторюсь, для достижения этой цели необходимо, чтобы США искренне и в партнерстве с другими влияющими на ситуацию в Афганистане странами - Россией, Китаем, Индией, Ираном, Пакистаном и нашими соседями - способствовали диалогу на двух уровнях. Первый - это разговор между афганцами по разрешению наших внутренних противоречий. Второй - диалог между заинтересованными в афганском урегулировании ведущими державами и сотрудничество между ними, а не соперничество.
В минувшую пятницу Ашраф Гани посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джозефом Байденом и другими американскими политиками. Какова ваша оценка этого визита?
Хамид Карзай: Мои главные надежды с этой поездкой были связаны с тем, что США дадут ясную и сильную поддержку усилиям по налаживанию мирного процесса в Афганистане. Но я не услышал многого со стороны американских официальных лиц об этом. Надеюсь, что я ошибаюсь по этому поводу. В любом случае самим афганцам и странам региона предстоит сделать основную работу по налаживанию мира в моей стране.
Будет ли "Талибан", по вашему мнению, уважать условия ранее достигнутой с США сделки в Дохе (вывод американских войск в обмен на отказ талибов от насилия и их участие в политическом процессе. - Прим. "РГ")?
Хамид Карзай: Ради людей в Афганистане "Талибан" должен уважать заключенные сделки со всеми сторонами, с которыми они взаимодействуют. Талибы должны думать о мире в Афганистане. Военного решения конфликта не существует. Никто не победит с помощью насилия - ни правительство, ни талибы. Страдать будут обе стороны, а на обеих сторонах обычные афганцы. Таким образом, они должны уважать договоренности именно ради людей. А сейчас основной интерес этих людей - мир. Поэтому я через ваше СМИ призываю "Талибан" заключить мир и завершить этот затянувшийся конфликт, который служит лишь иностранным, а не национальным интересам Афганистана.
Каковы последствия ухода США и НАТО из Афганистана для Центральной Азии? Считаете ли вы, что ситуация с безопасностью в регионе может серьезно осложниться, в том числе на фоне недавнего захвата талибами афганских погранзастав на границах с Узбекистаном и Таджикистаном?
Хамид Карзай: Я бы поставил вопрос по-другому. Не о последствиях ухода США из Афганистана для Центральной Азии. А о последствиях текущего конфликта и его распространения в Афганистане. Чем дольше продолжается военный конфликт, тем больше угроз исходит для наших соседей в Центральной Азии. На самом деле в этом и заключается истинная цель конфликта - нестабильность в Афганистане направлена не только на самих афганцев. Но служит более масштабной задаче, а именно созданию определенных негативных последствий для более широкого региона. И некоторые намерения отдельных держав могут стать катастрофическими для центральноазиатских стран.
Сообщалось о желании Пентагона перебросить войска, беспилотники и другое военное оборудование из Афганистана в соседние с ним Узбекистан и Таджикистан. Ваше отношение к этому?
Хамид Карзай: Если военное присутствие США в Афганистане со всем вооружением и ресурсами не принесло стабильность и не помогло справиться с терроризмом, то как это можно сделать, например, из Узбекистана?
С 2014 года аэропорт в Кабуле носит ваше имя - международный аэропорт имени Хамида Карзая. Известно, что Турция согласилась обеспечивать безопасность этой воздушной гавани после ухода американцев. Какую роль стремится и может сыграть Анкара в афганских делах?
Хамид Карзай: Турция очень старый друг Афганистана, наши отношения развиваются уже более века. Да, они члены НАТО и поэтому связаны с США. Но Турция - это также страна со своими специфическими интересами в этом регионе в целом и в Афганистане, в частности. Поэтому афганцы видят в Турции друга и приветствуют любую конструктивную роль, которую может сыграть Анкара. В том числе проводя небольшими силами операцию по обеспечению безопасности в аэропорту и способствуя, таким образом, миру в Афганистане. Но туркам следует это делать в тесной координации с региональными и ведущими странами.
Ключевой вопрос
За время операции США и НАТО в Афганистане тысячи мирных афганцев оказались "сопутствующим ущербом". Многие погибли под ударами американских беспилотников. Каковы шансы добиться справедливости для тех, кто пострадал от незаконных действий западной коалиции в вашей стране?
Хамид Карзай: Мы очень пострадали. Потери среди мирных афганцев, бомбежки деревень, создание в стране тюрем для наших людей в нашей собственной стране. Все это стало одной из основных причин моего конфликта с Соединенными Штатами и их союзниками в Афганистане. Именно поэтому я отказался подписать с ними двухстороннее соглашение о безопасности (в 2013 году Хамид Карзай заблокировал принятие этого документа, но в 2014 году он был подписан его преемником Ашрафом Гани. - Прим. "РГ"). Это же стало и одной из причин провала США в Афганистане, поскольку такое отношение глубоко задело афганцев.
Но сейчас мы не будем поднимать этот вопрос и разбираться с причинявшими нам ущерб странами. То, что нам нужно сегодня, - это мир в стране. Конфликт должен завершиться не завтра, а сегодня. Не сегодня, а прямо сейчас. И после того как мир наступит, афганцы получат свое суверенное право задавать вопросы. И требовать объяснений.
"РГ" благодарит за помощь в организации интервью пресс-службу Международного дискуссионного клуба "Валдай"

ЖЕНЕВСКАЯ КИБЕРОТТЕПЕЛЬ: НАДЕЙСЯ НА ЛУЧШЕЕ – ГОТОВЬСЯ К ХУДШЕМУ
СЕРГЕЙ СЕБЕКИН
Кандидат исторических наук, независимый эксперт.
Хотя после женевского саммита между Москвой и Вашингтоном наметилась перспектива прогресса взаимодействия по киберповестке, России лучше исходить из посыла «надейся на лучшее – готовься к худшему». Похоже, Вашингтон готов и дальше в одностороннем порядке реагировать на любой киберинцидент по своему усмотрению, не прибегая к взаимным консультациям и создавая новые витки напряжённости.
16 июня 2021 г. произошло знаковое для международного календаря событие – состоялся российско-американский саммит в Женеве. Среди прочих важных итогов Владимир Путин и Джо Байден достигли договорённости начать двусторонние консультации по киберповестке, которая является одним из наиболее отягчающих обстоятельств двустороннего взаимодействия. Выльется ли это неформальное соглашение во что-то большее и повлияет ли оно на динамику российско-американского взаимодействия в области кибербезопасности?
Можно констатировать, что сам факт достижения подобной договорённости – уже прорыв после нескольких лет усугубляющейся конфронтации, односторонних реакций и обвинений во вмешательстве, а также нежелания обсуждать проблему и садиться за стол переговоров – с американской стороны – и безуспешных попыток начать двусторонний диалог по проблемам обеспечения кибербезопасности – с российской стороны.
Киберповестка: что было?
Взаимодействие России и Соединённых Штатов по киберповестке насчитывает уже два десятилетия, однако пиком стало заключение во время двусторонней встречи Владимира Путина и Барака Обамы в 2013 г. на саммите G8 в Северной Ирландии соглашений «О мерах укрепления доверия в сфере использования ИКТ», основная цель которых – ограничение военной реакции на киберинциденты. В ходе переговоров решено создать две линии прямой связи для урегулирования потенциально конфликтных ситуаций, связанных с взаимодействием в киберпространстве – своего рода горячие линии: 1) между российским и американским Центрами по уменьшению ядерной опасности; 2) между должностными лицами высокого уровня. Также в рамках российско-американской Президентской комиссии решено создать двустороннюю рабочую группу по вопросам угроз в сфере использования ИКТ, которая должна была встречаться на регулярной основе. Достигнутые тогда результаты были перечёркнуты политическим кризисом на Украине, а после окончательно добиты взломами серверов Национального комитета Демократической партии США во время предвыборной кампании 2016 г. и возложением ответственности за них на Россию.
После этого на Москву посыпались систематические обвинения в осуществлении кибератак на США. Один из последних крупных киберинцидентов, ответственность за который вновь возложили на Россию, произошёл в середине декабря 2020 г. и получил название Sunbirst, в рамках которого хакеры при поддержке иностранного правительства вскрыли системы государственных ведомств США – Министерства финансов, Национального управления по телекоммуникациям и информации Министерства торговли, Министерства внутренней безопасности, Министерства энергетики, Национального управления ядерной безопасности США, лаборатории в Лос-Аламосе, которая занимается секретными разработками по ядерному оружию, Госдепартамента, федерального правительства и даже Пентагона. Взлому также подверглись большинство крупнейших частных компаний из списка Fortune 500, в том числе Microsoft. 15 апреля 2021 г. США официально приписали осуществление этой масштабной киберкампании России и ввели против неё новые санкции.
Важно отметить, что ещё 25 сентября 2020 г. Владимир Путин обратился к американской стороне с инициативой принять «Комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности», однако она была полностью проигнорирована администрацией Дональда Трампа и пока ещё ждёт ответа от администрации Джо Байдена. Программа представляет собой углублённый формат того, о чём договорились Путин и Байден во время женевского саммита – начать консультации.
За что зацепиться?
Итак, то, что стороны договорились хотя бы начать консультации по вопросам кибербезопасности – уже некий успех. Именно на этом долгие годы настаивала Россия – не голословно обвинять в кибератаках и осуществлять меры в одностороннем порядке, а открыто высказывать свои опасения и обсуждать инциденты за столом переговоров, находя общие пути решения проблем.
Сейчас важно зацепиться за эту возможность и попытаться наладить диалог с Соединёнными Штатами по киберповестке. Одним из самых реалистичных вариантов может стать переход к «точечным» форматам взаимодействия – хотя бы периодическим консультациям по необходимости. Если всё пойдет хорошо, в будущем можно вновь вынести на обсуждение предложенную Путиным минувшей осенью «Комплексную программу мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».
Важно, что кибербезопасность обсуждалась в рамках общих разговоров о будущем системы стратегической стабильности, поэтому есть шанс, что она будет рассматриваться в качестве одного из важнейших компонентов этой системы.
Отдельной темой саммита стал запрет кибератак в отношении объектов критической инфраструктуры (КИ), что, на наш взгляд, является важным шагом президента Джо Байдена. Со своей стороны Джо Байден предоставил Владимиру Путину список из 16 секторов критической инфраструктуры, на которые необходимо полностью запретить кибератаки. Важно отметить, что этот список был утверждён ещё в 2013 г. директивой президента США № 21: «Безопасность и устойчивость критической инфраструктуры» (Presidential Policy Directive 21: Critical Infrastructure Security and Resilience, или PPD-21).
У России также есть подобный список из 13 секторов КИ, утверждённый в Федеральном законе № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26 июля 2017 г. Предлагаем взглянуть на эти списки в сводной таблице.
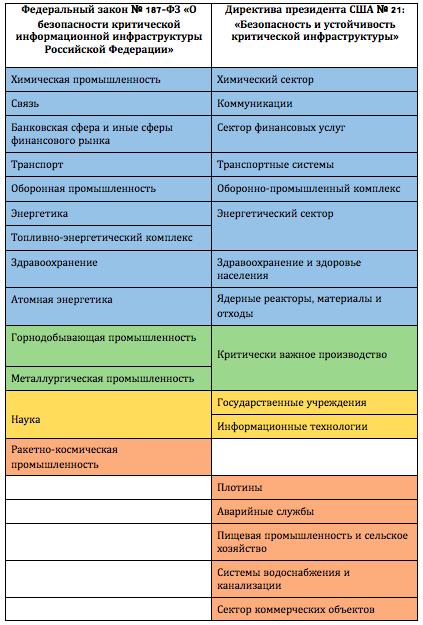
Как видно из таблицы, практически полностью идентичными из списков секторов КИ у обоих стран являются девять секторов в российском списке и восемь в американском (в российском отдельной позицией выделен топливно-энергетический комплекс, который в американском перечне полностью входит в энергетический сектор – в таблице окрашено синим).
В России горнодобывающая промышленность и металлургическая промышленность выделены в качестве отдельных секторов КИ, в то время как в США добыча, обработка и обогащение входят в сектор критически важного производства, но который не ограничивается этими видами деятельности, а включает в себя непосредственно производство – машиностроение, строительство обрабатывающего оборудования, судов, транспорта, сельхоз машин, производство аэрокосмического оборудования, электрооборудования и бытовой техники и так далее (выделено зелёным). В российском же списке производственный сектор не представлен вовсе.
Российский сектор КИ «Наука», помимо прочего, охватывает и информационные технологии – отдельный сектор в американском перечне, но не ограничивается ими. Вместе с тем сектор государственных учреждений из американского списка включает в себя как научные организации и учебные заведения, так и другие государственные объекты (выделено жёлтым цветом). В России государственные учреждения, согласно Федеральному закону № 187-ФЗ, не являются объектами КИ.
Чем списки различаются полностью. В США в числе критических секторов отсутствует такой сектор, как ракетно-космическая промышленность, а в России – пищевая промышленность и сельское хозяйство, системы водоснабжения и канализации, аварийные службы, сектор коммерческих объектов, плотины.
Если страны примут политическое решение на двусторонней основе запретить кибератаки на объекты КИ, станет ли тот факт, что, по мнению одной стороны, какой-либо сектор относится к КИ, а по мнению другой – нет, препятствием для возможных договорённостей? Будет ли это единый согласованный и общепризнанный список секторов? Или Россия обязуется не осуществлять и противодействовать кибератакам из списка США, а последние, соответственно, из российского списка, что создаёт странную дилемму – Россия обязуется не осуществлять кибератаки в отношении американских систем водоснабжения, но вполне допускает воздействие в отношении своих систем (и наоборот)? Или Россия должна будет в одностороннем порядке согласится с предложением Джо Байдена не осуществлять кибератаки против американских объектов КИ, что будет являться игрой в одни ворота?
Конечно же, наиболее оптимальный вариант – выработать единый общепризнанный перечень секторов КИ, на которые Россия и США на взаимной основе обязуются не осуществлять кибератаки (если страны всё же придут к этому). «Оптимизировать» можно как американский перечень секторов КИ, так и российский. Так, американский сектор коммерческих объектов включает в себя в основном торгово-развлекательные объекты – торговые центры, гостиницы, парки развлечений, стадионы, казино, а также СМИ, кино- и телестудии, конференц-центры, которые, на наш взгляд, вряд ли на полном основании могут относится к объектами КИ. В то же время отсутствует такой важнейший сектор, как ракетно-космическая промышленность. Также не все госучреждения относятся к объектам КИ. Таким образом, американский список максимально широк – с таким же успехом можно запретить кибератаки на всё, и тогда договорённости превратятся в пустые слова.
С российской стороны можно внести следующие изменения – включить топливно-энергетический комплекс в сектор энергетики, горнодобывающую и металлургическую промышленность объединить в один сектор. Также стоит внести в перечень непосредственно производство, системы водоснабжения и канализации и так далее.
Так или иначе наложение табу на кибератаки в отношении объектов КИ представляется важной и своевременной мерой, эффективной с точки зрения ограничения круга возможных целей, а это снизит вероятность разработки каких-либо планов по выведению из строя тех или иных объектов из перечня КИ.
Более того, это важно с точки зрения небольшого шага к укреплению мер доверия по киберповестке между Россией и США. Будет настоящим прорывом, если Москва и Вашингтон установят общепризнанный единый перечень секторов КИ, на который запрещены кибератаки – это станет прецедентом на мировой арене и заложит фундамент для достижения подобных договорённостей на многостороннем уровне, возможно, даже на уровне ООН. Показательно, что на этот шаг пошёл сам Байден, который, ещё раз напомним, пока оставил без ответа российские предложения по комплексной программе мер. Всё будет зависеть от политической воли и решимости сторон.
Что может пойти не так?
Радоваться пока рано – после периода острейшего недоверия для Москвы и Вашингтона забрезжил шанс вступить в хрупкое взаимодействие, но оно остаётся заложником острых политических разногласий. Так, Джо Байден всё ещё готов вводить новые санкции против российских компаний, связанных со строительством «Северного потока – 2».
Но самая горькая ложка дёгтя в этой бочке мёда другая: во время саммита Джо Байден заявил, что если кибератаки «со стороны России» продолжатся, то ей придётся нести за них ответственность, а у США есть существенный киберпотенциал, который может быть задействован. Уже после этого, 21 июня во время брифинга, отвечая на вопрос о том, почему Джо Байден в свою очередь не предоставил Владимиру Путину список российских целей, которые могут подвергнуться взломам со стороны Соединённых Штатов в случае, если Россия ещё раз осуществит кибератаку, официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не собираются предварительно обозначать возможные удары. Это значит, что в случае очередных подозрений США оставляют за собой право предпринимать меры, не ставя Россию в известность.
К чему, собственно говоря, мы тогда договорились начать консультации по кибербезопасности? Эти консультации должны быть направлены как раз на предотвращение инцидентов и недопущение эскалации в киберсфере, чтобы в случае возникновения кризисной ситуации совместно обсуждать и разрешать вопросы.
Заявление Псаки, сделанное всего спустя пять дней после саммита, отрезвляет и даёт понимание того, что, похоже, Вашингтон готов и дальше в одностороннем порядке реагировать на любой киберинцидент по своему усмотрению, не прибегая к взаимным консультациям и создавая новые витки напряжённости.
И нельзя дать никакой гарантии, что новые формальные или неформальные договорённости, если они будут достигнуты, так же не рухнут под тяжестью очередных киберпровокаций, обвинений или ухудшения отношений из-за нового политического кризиса, не связанного с киберповесткой (как это было в случае с Украиной).
Наивно полагать, что США легко преодолеют «родовую травму», связанную с отстранением от власти демократов в 2016 г. и приходом в Белый дом республиканцев вследствие приписываемого России вмешательства в американский демократический процесс. Нельзя исключать того, в будущем Соединённые Штаты будут пытаться привлечь Россию к ответу за вновь приписываемые ей атаки, отказ выдать киберпреступников и противодействовать им на своей территории и так далее.
Поэтому самым реалистичным вариантом, пожалуй, будет отход от каких-либо формальных и официальных договорённостей и приход к точечным форматам работы и консультациям, как уже было сказано, по необходимости.
Пока есть надежда перейти от неконтролируемой конкуренции в киберпространстве к контролируемой, которая может носить характер сохраняющейся стратегической киберконкуренции с воссозданием и усилением определённых консультативных механизмов. В этом свете важно понимать, что задачей лидеров двух стран во время саммита изначально не было полное восстановление отношений в сфере кибербезопасности – в текущей стратегической ситуации это просто невозможно. Была задача попытаться сделать эти заведомо плохие отношения более предсказуемыми и последовательными. Работы гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Хотя между Москвой и Вашингтоном наметилась перспектива прогресса взаимодействия по киберповестке, России лучше исходить из посыла «надейся на лучшее – готовься к худшему».

И АД СЛЕДОВАЛ ЗА НИМ
ИЛЬЯ ФАБРИЧНИКОВ
Член Совета по внешней и оборонной политике, коммуникационный консультант.
ПО СЛЕДАМ УХОДА ДЖО БАЙДЕНА ИЗ АФГАНИСТАНА
Судя по темпам и скоординированности военных маневров запрещённого в России движения «Талибан», центральная афганская власть может закончиться уже в сентябре этого года. Скорее всего, в ближайшее время мы станем свидетелями бесконтрольного разрастания полномасштабной и кровопролитной гражданской войны в Афганистане. Как так вышло?
23 июня министр обороны США Ллойд Остин выступал перед комитетом Конгресса по вооружённым силам с обоснованием новых бюджетных трат. Пентагон запрашивал дополнительные пять миллиардов долларов на противостояние с Китаем, десять миллиардов долларов на противостояние с Россией (преимущественно в киберпространстве), шестьсот миллионов на борьбу с изменениями климата, много говорил о поддержке военных операций. Шла речь и об Афганистане.
Ллойд Остин, в частности, сказал буквально следующее: «Афганистан постоянно напоминает нам о себе, и я хочу заверить вас, что вывод наших войск идёт по графику. Наши союзники по НАТО поддерживают все наши шаги. Наша миссия, которую мы начали двадцать лет назад, завершена, и я горжусь нашими храбрыми мужчинами и женщинами, теми, кто отдал свои силы этой задаче, и теми, кто отдал свои жизни… Мы переходим к новым формам двухстороннего взаимодействия с нашими афганскими партнёрами, таким отношениям, которые позволят им выполнять свои обязательства перед собственным народом, но не потребуют значительного присутствия американских войск».
Чуть раньше подчинённый Остина, председатель комитета начальников штабов Марк Милли, осторожно заявил, что под контролем «Талибана»[1] находится 81 из 419 афганских уездов (причём шестьдесят из них, по его словам, контролировались до начала вывода войск западной коалиции). Милли заявил, что талибы не контролируют ни одного административного центра провинций. 15 июня Центральное командование армии США сообщало об успешном выводе половины своего контингента (предположительно около 1300 человек).
В реальности ситуация выглядит менее оптимистичной. Турки, которые так активно продвигали идею наращивания собственного контингента для контроля кабульского аэропорта имени Хамида Карзая, от этого замысла, похоже, отказались. В процессе ухода военнослужащие бундесвера, полностью покинул территорию итальянский контингент, флаг на своей базе спустили датчане. Только за 21 июня под контроль талибов (правда, по их собственным заявлениям) перешли еще 24 уезда (за неделю до этого сообщалось о том, что талибы полностью контролируют 90 уездов, что ставит под сомнение данные, озвученные Милли). Каждый день во время стычек с отрядами «Талибан» гибнут десятки афганских военнослужащих. Так, только в начале июня о потере 150 сотрудников в боях 6 и 7 июля признались афганские власти, на этой неделе по талибским пропагандистским каналам сообщалось о переходе на сторону движения отряда афганского спецназа (вероятно, в одной из центральных провинций), больше сотни афганских военнослужащих, спасаясь от талибских отрядов, перешли через афгано-таджикскую границу и сдались в плен местным силовикам, отряды движения взяли Герат и заявили о выходе к Пянджу в районе пограничного города Шерхан, в четверг в плен сдались ещё несколько сотен. Начиная с конца апреля атаки талибов на инфраструктуру афганских вооруженных сил еженедельно исчислялись сотнями. Мягко говоря, фронт афганских правительственных войск рухнул.
Это произошло даже раньше, чем прогнозировали: ожидалось, что талибы не будут предпринимать никаких действий по эскалации ситуации, по крайней мере, до того момента, как американцы хотя бы не эвакуируют большую часть своего оставшегося контингента.
Сегодня уже открыто говорится о том, что талибы уверенно контролируют 70 процентов афганской территории, хотя ещё полгода назад об этом предпочитали молчать как зарубежные, так и отечественные наблюдатели.
Хотя по факту такие оценки были ещё в 2017–2018 году. Если сегодня взглянуть на инфографику, распространяемую западными СМИ и исследовательскими организациями, можно обратить внимание, что центральное правительство в Кабуле относительно уверенно контролирует обстановку лишь вокруг Кабула и в центре страны, в провинциях Вардак, Бамиан, Гур и Газни, на севере, в провинции Балх и отдельные части провинции Бадахшан на границе с Таджикистаном и Китаем. Нет никаких сомнений, что к сентябрю контролируемая правительством Ашрафа Гани территория уменьшится драматически, а с учётом того, насколько успешными оказались талибы в открытом противостоянии с афганскими вооружёнными силами и отрядами Главного управления национальной безопасности, можно предположить, что уже совсем скоро мы увидим совершенно другой Афганистан.
Правительство Гани, пользуясь покровительством со стороны США, последние лет пять занималось, прежде всего, внутренними разборками и консолидацией собственной власти. Одной из основных задач, как это казалось со стороны, было укрепление позиций пуштунской племенной ветви гильзаев, к которому принадлежит и сам нынешний президент Афганистана. Судя по поступавшей два-три года назад из страны информации, Гани рассматривал поползновения талибов как риск второстепенный, который можно было переложить на плечи коалиционных войск. Ближайшее окружение президента было уверено, что союзные войска останутся в стране до тех пор, пока угроза движения «Талибан» не будет полностью ликвидирована. Администрацию президента гораздо больше беспокоило выстраивание отношений с сохранявшими своё влияние на внутреннюю афганскую повестку авторитетными политиками (а в прошлом полевыми командирами) – Гульбеддином Хекамтияром и Абдул-Рашидом Дустумом, снижение потенциала ситуативного альянса хазарейцев и таджиков в лице Мохаммеда Мохакика и Атты Мохаммада Нура. Гани до последнего отказывался возвращать авторитетного узбекского лидера Дустума в страну из изгнания в Турции, на кооптацию лидера «Хизб-э Ислами» Гульбеддина Хекматияра он согласился только под нажимом американцев и под впечатлением от специально распускаемых слухов о смертельной болезни «старого моджахеда». Мохаммад Нур полувоенными, принудительными методами был наконец несколько лет назад отстранён от власти в провинции Балх, а хазарейцы-шииты, составляющие до 20 процентов от населения страны, под руководством лидера партии «Хизб-э Вахдат» Моххамада Мохакека вообще оказались в положении парии и меж двух огней – давлением центрального правительства в Кабуле и военной угрозой со стороны талибских группировок, действовавших в ситуативном союзе с игиловцами[2].
Чем обернулось в итоге это интриганство? Положение Кабула сегодня гораздо хуже, чем тридцать лет назад, когда под стенами города стояли войска Хекматияра, а социалистический президент Наджибулла был вынужден скрываться в миссии ООН, низложенный собственным союзником Дустумом. Американское разведывательное сообщество на этой неделе опубликовало прогноз, согласно которому правительство Гани падёт через шесть месяцев. Это, на наш взгляд, чрезмерно оптимистичный сценарий.
Судя по темпам и скоординированности военных маневров движения «Талибан», центральная афганская власть может закончиться уже в сентябре этого года.
Как так вышло? С 2016 г. талибы выстраивали параллельные управленческие структуры в провинциях, где они смогли обеспечить себе уверенное присутствие. «Ночная администрация» при этом вызывала у местных жителей гораздо больше доверия, чем «дневная», погрязшая в межфракционных склоках, коррупции и контрабанде.
Конечно, не надо воспринимать талибов как современных большевиков, которые поставили себе задачу построить общество на принципах справедливости. Талибы сегодня и талибы вчера (до 2002 г.) – разные организации. Если в прошлом «Талибан» активно противодействовал выращиванию опийного мака (посевные площади в конце девяностых сократились на 98 процентов), то сегодня под контролем движения значительные площади маковых посевов. Мак – основа талибской (да и что греха таить – афганской в целом) экономики. Если, по оценкам ООН, торговля опийным маком приносит теневой экономике страны около 2 млрд долларов в год (при афганском ВВП в 19 млрд), то по неофициальным внутренним оценкам – более 4 млрд. Сколько даёт рынок афганской традиционной трансграничной контрабанды, контролируемый как талибами, так и близкими к афганским властям операторами и бандформированиями, – исчислению не поддаётся вовсе.
С чем столкнётся «Талибан», как только возьмёт Кабул? Против него выставят свои изрядно оскудевшие ряды традиционные мастодонты афганской политики – Дустум, Мохакек, возможно, примкнувший к ним Нур. Все трое – последовательные противники «Талибана». Но если ещё лет пять назад они могли мобилизовать до 80 тысяч вооружённых сторонников, сегодня вряд ли выставят больше 40 тысяч штыков. При этом у них в распоряжении не будет такого изобилия тяжёлого вооружения в виде танков и вертолётов, как это было 25 лет назад. Афганские силы безопасности рассыпаются на глазах – без американской поддержки с воздуха, как оказалось, они не представляют для талибов серьёзного препятствия. Хекматияр, традиционно разделявший мировоззрение движения «Талибан», скорее всего, сможет найти свою нишу в новой конфигурации афганской политики, а вот что делать остальным?
Велика вероятность, что мы уже в ближайшее время станем свидетелями бесконтрольного разрастания полномасштабной и кровопролитной гражданской войны, которая только набирала обороты последние несколько лет (при полном попустительстве экспедиционных и правительственных сил). Произойдёт полное «схлопывание» властных структур на местах. Талибы показали себя эффективными организаторами и идеологами, которые пользуются популярностью у пуштунской части афганского населения (гарантируя ему хотя бы минимальную безопасность, справедливость и защиту, в отличие от центральной власти). Возможно ли ожидать репрессий со стороны талибов в адрес афганских хазарейцев и таджиков? Ответ скорее да, чем нет: вряд ли стоит надеяться, что новые хозяева Афганистана будут действовать с позиций гуманитарного права, особенно, если принять во внимание традиционный антагонизм хазарейцев.
Что потом? Вполне вероятно, талибы займутся уничтожением «попутчиков» – действующих на территории Афганистана группировок боевиков ИГИЛ[3], «Лашкар-э Таиба»[4], «Джаиш-э Мухаммад», «Лашкар-э Джангви», «Исламского движения восточного Туркестана»[5], с которыми они столь эффективно сотрудничали на своём долгом пути к возврату полного контроля над территорией страны. Их общую численность можно оценить где-то в 10–14 тысяч бойцов. Для, как показывают последние события, хорошо организованной военной машины «Талибана», насчитывающей по разным оценкам свыше 80 тысяч – это статистическая погрешность.
На афганскую политику действуют разнонаправленные интересы. Китай протоптал дорожку к сердцу Гульбетдина Хекматияра). Индия нуждается в общей стабильности и ограничению влияния Исламабада. Пакистан, как считается, до сих пор активно поддерживает и финансирует основных полевых командиров движения «Талибан». Для Ирана критически важно влияние внутриафганских процессов на сепаратистские устремления приграничного Афганистану Иранского Белуджистана, а также на попытки транзита наркотиков. Турция потратила много сил на ликвидацию влияния структур Фетуллаха Гюлена в Афганистане при помощи сил афганской госбезопасности в обмен на удержание Дустума на своей территории. Саудовская Аравия активно спонсировала строительство мечетей и медресе в рамках своих программ «мягкой силы». Россия, связанная обязательствами по ОДКБ и двусторонними отношениями, будет содействовать Таджикистану и Узбекистану в укреплении их безопасности, если талибы предпримут «поход за реку». Об последнем, в частности, говорил на Московской конференции по безопасности министр обороны Сергей Шойгу. Риск этого, впрочем, пока относительно невелик.
Может ли наша страна позволить себе новый поход в Афганистан для того, чтобы ослабить давление на внешние рубежи СНГ?
Не на это ли намекал Байден на встрече с Путиным в Женеве, когда говорил о необходимости России подключиться к помощи по Афганистану? Ответ однозначный – ввязываться в афганское межплеменое и межнациональное урегулирование России на стороне какой-то из фракций нельзя. Как бы нам ни были несимпатичны талибы, вероятно, придётся выстраивать диалог и с ними, и с другими региональными игроками, влияющими на политику Афганистана. Маркер движения «Талибан» как «запрещённого в Российской Федерации» будет мешать – нужны трансграничная торговля, гуманитарная помощь, инфраструктурные проекты, отношения на уровне хотя бы представительств, подкреплённые военными возможностями, договорённости о гарантиях региональной безопасности, сокращение поставок наркотиков в обмен на минимальные инвестиции. Всё сгодится, лишь бы не допустить продвижения талибских сил в союзную нам Центральную Азию с ощутимыми перспективами образования там радикальных исламистских метастаз на фоне ухудшающейся экономической ситуации.
Наш главный шанс на успех (в содействии с другими региональными державами) – изолировать Афганистан для решения его собственных застарелых внутренних политических, социальных и экономических проблем и в надежде на то, что там, наконец-то, спустя более чем сорок лет, появится дееспособное, хоть и, скорее всего, совершенно недемократическое центральное правительство, способное к консолидации страны. Любая альтернатива в долгосрочной перспективе выглядит гораздо хуже.

Андрей Кузьмич, Cisco: «Возрос интерес как к IT-продуктам, видимым пользователям, так и к инфраструктурным решениям»
Один из больших трендов: массированное инвестирование в масштабируемость инфраструктуры для удаленной работы
Последние два года проходят для бизнеса под знаком пандемии. Это значит, что меняются привычные процессы, трансформируются офисы, появляются новые инструменты для работы. Многие вошедшие в обиход вещи не новы, но всплеск интереса к ним возник именно под влиянием пандемии, отмечает директор по технологиям Cisco в России и СНГ Андрей Кузьмич. На круглом столе, посвященном предварительным итогам финансового года Cisco, который закончится в июле, эксперт рассказал о наиболее востребованных бизнесом продуктах и сервисах. Также он пояснил, с чем связан резкий рост интереса к продуктам для совместной работы и обеспечения безопасности.
С марта 2020 года зарождавшиеся в предыдущие годы тенденции оформились в мейнстрим. Если до пандемии часть компаний уже озадачилась построением гибкого графика, удаленной работы, обеспечением доступов к корпоративным ресурсам для сотрудников, то с обозначенного периода к этому пришел практически весь крупный бизнес. Постепенно практически все компании установили для своих сотрудников правила удаленной работы. В то же время им пришлось озаботиться созданием «удаленного» периметра безопасности. Также многие стали расширенно внедрять системы для веб- и видеоконференций.
Нагрузка на инфраструктуру для удаленной работы кратно возросла, отмечает Андрей Кузьмич. «Один из больших трендов, который можно выделить, — это массированное инвестирование в масштабируемость этой инфраструктуры. Компании стали массово инвестировать в производительность устройств, которые позволяют удаленно подключаться к корпоративной сети, в производительность облачных услуг, в возможности проведения удаленных веб-конференций», — рассказал он.
Одновременно с этим в корпоративном сегменте резко возросли требования к возможностям сервисов видеоконференций, а также ко всему, что связано с безопасностью.
Спрос на возможности
Все перечисленные выше тенденции привели к резкому спросу на IT-продукты. Для Cisco основными направлениями роста стали Webex, решения для информационной безопасности, инфраструктурные решения.
По словам Андрея Кузьмича, решения Cisco Webex, в пул которых входят облачные сервисы для проведения видеоконференций и инструменты совместной работы над документами, сделали огромный скачок в развитии — как на глобальном рынке, так и в России. Напомним, в первый месяц официального начала пандемии в 2020 году, когда компании стали переходить на удаленную работу, число пользователей Webex выросло в 2,5 раза, до 324 млн пользователей. В текущем году рост продолжался на «десятки процентов», отметил представитель Cisco.
В процессе изменений, вызванных пандемией, возникали и уходили тренды по возвращению в офисы: компании то призывали часть сотрудников на рабочие места, то снова объявляли удаленку. В итоге огромное число организаций в мире пришли к гибридной схеме работы: сотрудники частично работают в офисах, частично из дома.
«У нас сформировалась картина мира, при которой гибридное функционирование IT-инфраструктуры будет данностью и в постковидный период. Компании будут поддерживать возможность быстрого перевода всех сотрудников на удаленную работу. Уже понятно, что стопроцентного возврата в офисы для многих компаний не будет. Офисные пространства будут модифицироваться: это будут не обычные рабочие места, а некие пространства для переговоров, где будут собираться люди, чтобы посовещаться. А работать основную часть времени большинство будет из дома», — поделился Андрей Кузьмич.
Если говорить о продуктах из области безопасности, то здесь Cisco отмечает рост интереса к использованию двухфакторной аутентификации. Это также связывают с массовым переходом к удаленной работе.
«Сейчас компании вынуждены предоставлять удаленный доступ даже к тем ресурсам, к которым ранее такой доступ не предоставлялся. Следовательно, интерес к повышению безопасности и контролю доступа заметно возрос. Те компании, которые ранее не использовали двухфакторную аутентификацию, сейчас уже либо используют ее на 100 процентов, либо стараются повсеместно внедрить», — рассказал Андрей Кузьмич.
Продукт Cisco Duo для двухфакторной аутентификации относится к наиболее востребованным на корпоративном рынке, подчеркнул он. Интересно, что на российском рынке Cisco Duo не был доступен до апреля текущего года. Российский офис в ускоренном режиме вывел его на рынок, поскольку «находился под большим давлением со стороны заказчиков».
С точки зрения инфраструктурных продуктов, с которыми работают IT-специалисты, интерес со стороны заказчиков заметен ко всему, что связано с автоматизацией эксплуатации.
«Это все, что позволяет минимизировать человеческие действия, и все, что позволяет автоматизировать эксплуатацию системы как с точки зрения ее развертывания, так и с точки зрения реакции на различные события. Поэтому сейчас наши сети, основанные на намерениях, и все, что связано с программно-определяемыми сетями, востребовано службами эксплуатации, службами, отвечающими за IT-инфраструктуру, — пояснил представитель Cisco. — Наши Cisco SD-WAN — программно-определяемые глобальные сети, Cisco DNA Center — программно-определяемая автоматизация развертывания кампусных сетей — все это успешно развивается, продается и находится под пристальным вниманием и анализом специалистов, занимающихся инфраструктурами», — рассказал Андрей Кузьмич.
В следующем финансовом году российская команда Cisco собирается вывести на рынок продукт Cisco Meraki — облачное решение для управления IT-инфраструктурой и входящими в нее устройствами. Это одно из наиболее долгожданных событий компании следующего финансового года.
Пользовательский флагман
В портфеле Cisco много продуктов, но за последние два года Webex стал флагманом в области совместной работы. Инвестиции в развитие этого сервиса видеоконференций, как говорят в Cisco, составляют миллиарды долларов. Ежегодно Cisco инвестирует в R&D 6 млрд долларов, и, как рассказали представители компании на круглом столе, существенная часть этих средств инвестирована именно в продукты совместной работы, включая Webex. Продукт создан для корпоративного рынка, и, конечно, компания рассчитывает на возврат своих инвестиций.
В последнем финансовом отчете Cisco за третий квартал текущего года компания показала рост выручки по сравнению с тем же периодом 2020 года. Топ-менеджмент Cisco настроен оптимистично. По словам Андрея Кузьмича, оптимизм основан на информации, которую компания собирает в ходе опросов заказчиков по всему миру.
«Нельзя сказать, что мы растем из-за Webex: в разных странах у нас разные точки роста, и они меняются. У нас может быть хороший прогноз по развитию продуктов совместной работы в Азии и очень хороший прогноз по развитию продуктов для инфраструктуры в Европе. Через квартал может быть наоборот», — отметил он.
В России к продуктам-драйверам эксперт отнес классические продукты и решения для маршрутизации и коммутации, Webex, решения для дата-центров.
Марина Эфендиева

Шанс, который нельзя упустить
Надо признать очевидное - развертывается новая холодная война и России следует думать как выйти из нее победителем
Текст: Сергей Караганов (Научный руководитель - декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, Почетный председатель Президиума СВОП)
В последние полгода большинство комментаторов, наконец, перестают говорить о том, что отношения России и США "самые худшие со времён окончания холодной войны" и начали признавать очевидное - развёртывается новая холодная война. Обстановка больше всего напоминает 1950-е годы. Естественно, со всеми поправками на новую мировую ситуацию. Полагаю, что из текущего обострения можно выйти победителем. Для этого необходимо сделать правильный выбор внутренней политики и внешнеполитической ориентации и, главное, не ввязаться в большую войну, чреватую перерастанием в мировой термоядерный и киберпространственный Армагеддон.
Прошлый тур холодной войны закончился поражением коммунизма и СССР. Каковы шансы в этом, развязанном против КНР и России? Подсчитаем ресурсы. Из-за распада Советского Союза мы потеряли значительную часть территории и населения. Неудачные реформы нанесли существенный урон меритократической элите, человеческому капиталу, науке и высоким технологиям. Сузился западный буфер безопасности. Потеря глобального влияния, империи была для многих болезненной.
Стагнирует после бурного роста 2000-х гг. экономика, относительно сужая базу международного влияния, но главное - в долгосрочном плане это чревато размыванием внутренней стабильности, утратой поддержки власти активным населением. Коренной слабостью является отсутствие у страны устремлённой в будущее идеологии, которая пришла бы на место предыдущих - почившей коммунистической, идеи "возвращения" в Европу 1990-х гг., "вставания с колен" 2000-х гг., восстановления статуса первоклассной великой державы 2010-х годов. А без таких идеологий или после их потери великие нации не выживают. Отказ правящих кругов от давно назревшей, объединяющей большинство "новой русской идеи" вызывает недоумение. Качественная технократия нужна, но она не обеспечит победу в схватке за будущее. На начальных этапах предыдущей холодной войны у страны была и идея - пусть и коммунистическая, и растущая экономика.
Но дальше начинаются плюсы. За величие приходилось платить. Цена, поддержания стран, соцориентации вассалов в Восточной Евразии, республик бывшего СССР, гигантской военной машины - была чудовищной. Перед тем поражением 1990-1991 гг. нам противостояла только начавшая проигрывать, но всё ещё весьма мощная западная цивилизация. Сейчас она политически и морально осыпается, экономически слабеет, хотя, естественно, ещё велик накопленный экономический, военный и культурно-информационный ресурс, который пущен в ход через санкции и информационную войну.
Политические системы большинства стран, решивших противостоять нам и Китаю, не приспособлены для длительной жёсткой конфронтации. Если бы нам противостоял Запад, управляемый более авторитарными и эффективными правительствами, ситуация могла бы быть гораздо сложнее. Авторитарные тенденции в западном мире будут, как и везде, неизбежно усиливаться (пандемия активно используется для такого перехода). Но изменения устоявших за последние полвека политических систем будут болезненными и займут десятилетия.
В конце прошлой холодной войны интеллектуальное состояние Запада было его сильным козырем. Теперь ситуация коренным образом изменилась. Он в смятении, больше не задает моду. И это ещё одна причина паники, враждебности, стремления закрыться. Раньше в самозакрытии лидировал Советский Союз, а Запад законно бравировал своей открытостью и привлекал ею. Карикатурна и ошеломляюща параллель с СССР - безумный ввод наземных войск НАТО в Афганистан и предсказуемое поражение после почти двадцатилетней войны.
Мы не слишком богаты, но изнуряющего дефицита почти всего больше нет (а именно он был, помимо затухания коммунистической идеи, важнейшей причиной провала). Восстановлена за малую долю прошлой цены военная машина - первоклассный ресурс в мире нарастающего хаоса и острой конкуренции (в дихотомии "злато - булат" последний пока идёт вверх). Другое дело, что булат нужен особенный. Но пока новейшим поколением вооружений мы показали, что можем за небольшую цену лидировать там, где требуется. Расширяет свободу манёвра начавшаяся десятилетие назад перебалансировка экономических связей на Восток, уменьшение подавляющей экономической зависимости от Запада.
Любой патриот нашей страны не может не скорбеть об утрате присоединённых предками земель. Но большинство этих территорий сжирало ресурсы собственно России. Сейчас эти территории поставляют нам дешёвые трудовые ресурсы. Без них начавшийся ещё в советское время демографический спад был бы гораздо болезненнее. Товарообмен ведётся по рыночным, а не субсидируемым ценам, в частности и поэтому почти все республики бывшего СССР относительно резко обеднели. Проблема Украины, во многом созданная нашим прошлым бездействием, остаётся. Но страна быстро движется к полной несостоятельности. Помощь развивающимся странам относительно микроскопична. Но главное - была сохранена Сибирь - ключевой базис развития на будущие годы.
Существенным фактором при расчёте соотношения сил являются и сокращение доли Запада в мировом ВНП, растущая самостоятельность не Запада, которая расширяет поле геоэкономического и геополитического манёвра. У России есть ещё одно важное преимущество - опыт поражения в прошлой холодной войне, отсутствие иллюзий и идеологических шор. Пока мы не повторяем советских ошибок - имперской перевовлечённости, копирования более богатого соперника в военной области, отказались от странноватой концепции равенства (паритета) в вооружениях.
Важнейшим нашим преимуществом является уверенность большинства россиян и российской элиты в своей моральной правоте. В позднем советском обществе такого ощущения не было. И это стало одной из главных причин провала СССР. Необходимо поддержать такое чувство устремлённой вперёд стратегией и идеологией, выходить из подрывающей кураж экономической стагнации.
Подозреваю, что те, кто решил развязать очередную холодную войну против нас, Китая, других "новых", уже потеряли веру в свою правоту. В редких теперь прямых дебатах с западными коллегами я не раз просто говорил: "Прекратите врать". И они прекращали. Такими стеснительными были раньше мы, советские. Сказанное, впрочем, не означает, что соперники быстро сдадутся. Пока они пытаются консолидироваться.
Коренное же изменение в геополитическом положении России произошло благодаря превращению Китая из врага в дружественное государство, почти в союзника. Оно - важнейший внешний ресурс развития и экономии на военных расходах. КНР перестраивает свои вооружённые силы, трансформирует военную стратегию от сухопутной к морской. Нам Пекин пока угрожать не собирается. Мощный Китай потенциально оттягивает на себя всё больше военно-политических ресурсов Соединённых Штатов. Тоже самое делает для КНР Россия. Она для Китая- стратегическая опора в военно-политической сфере и безопасный источник важнейших природных ресурсов.
История придвинула нас друг к другу. И это на данный момент огромный выигрыш. Предстоит не просто углублять сотрудничество, доводить его в ближайшее десятилетие до состояния неформального союза, но и планировать нашу китайскую политику на последующие десятилетия, когда безальтернативное добрососедство придётся, возможно, дополнять укреплением элементов балансирования, если Китай будет "выигрывать" у США (а шансов у него больше) и у него начнётся имперское головокружение от успеха. Пока не выглядит вероятным относительный проигрыш Пекина, но, если такое всё же случится, придётся больше балансировать в его пользу. Реванша Запада допустить нельзя. Он продемонстрировал, на что способен, когда ему кажется, что он выигрывает - череда агрессий, "цветных революций", погрузивших в хаос и нищету страны и целые регионы.
Уже сейчас пора думать и о возможности того, что в случае относительного проигрыша Соединённые Штаты через десятилетие пойдут на предлагавшийся Киссинджером и Бжезинским кондоминиум с Китаем.
У нас высок шанс победить в этой холодной войне. Но борьба потребует большого напряжения национальных сил, выработки наступательной идеологии. Она должна не просто опираться на жизнетворные традиции, но вести в будущее. Её контуры достаточно очевидны. Мы с коллегами их неоднократно описывали. Выдвигаются плодотворные идеи и многими другими думающими россиянами.
Чтобы создать такую идеологию и сделать её эффективной, необходимо сохранить интеллектуальную открытость, плюрализм. Думаю, задача эта решаемая, хотя и непростая в условиях конфронтации. Если такая свобода будет ограничиваться, это приведёт не только к потере конкурентного преимущества, но и к неизбежным ошибкам в политике (см. опыт СССР).
Ну, а потом, после "выигрыша", история продолжится, и потребуются новые усилия по совершенствованию нашей страны, поиску оптимальных балансов в мире. Прошлый тур холодной войны мы проиграли, в том числе взяв на себя неподъёмное бремя. Сейчас есть возможность стать балансиром в американо-китайском соперничестве (более дружественным Китаю) и в будущей миросистеме Большой Евразии.
В заключение повторю сказанное многократно: уровень опасности новой мировой войны крайне высок. Мир балансирует на её грани. Активная политика мира - императив. Если грань будет преодолена, прервётся история, не будет ни четвёртой холодной войны, ни всего остального.
Путин и Байден в Женеве сделали шаг назад от этой грани. Но ситуация остается крайне опасной. У меня вызывала отвращение прошлая холодная война, которую я застал, и тошнит от нынешней, но хотелось бы, чтобы аналитики будущих поколений имели возможность писать подобные статьи, спорить, жить.

«А вы ноктюрн сыграть смогли бы?»
после встречи Путина и Байдена мир стал другим, может быть, никаким
Александр Проханов
Женева отстрелялась. Путин и Байден "перетёрли". Они в четыре руки сыграли ноктюрн на мировом рояле. Их руки бегали по клавишам, не задевая друг друга. Каждая клавиша издавала свой печальный или надрывный звук. Гонка гиперзвуковых ракет. Гибридная война. Озоновая дыра. Дохнущие в океане киты. Арктика как эскимо на палочке. Украина как плохо зажаренный шашлык. "Северный поток" как закат Европы. Навальный как гвоздь в башмаке.
Путин, поговорив с Байденом, был очень хорош: весел, остроумен, излучал, напоминал летучую рыбу, перелетающую из волны в волну. Было видно, что он вкусил европейскую сладость, отдышался от своего окружения: от тяжёлых подбородков, тусклых глаз, косноязычных ртов. Он миротворец. Ему нужен мир. Весь мир.
Обожание, восхищение, преданность выражали окружавшие его журналисты. Путин кормил их с ложечки, отирал им салфетками губы. Журналисты с благодарностью поедали жмых, не подозревая, что помимо этого комбикорма у Путина спрятана драгоценная горстка зерна — те тайные, невидимые миру протоколы, которые сопровождают подобные встречи.
Путин и Байден обменялись великим молчанием, великой тишиной, как это делают между собой посвящённые. Они понимали друг друга без слов. Жестикулируя пальцами, подёргивая плечом, особым образом ставя на паркет стопу… Этот язык не требует перевода. Это язык тайноведения, которым изъясняются друг с другом жрецы и политики, сотворённые не из папье-маше, а из тонких сплавов, создаваемых в плавильных печах алхимии.
После встречи Путина и Байдена мир стал другим. Может быть, никаким.
Ковиду надоело враньё медиков и политиков. Вирус взяток не берёт. И он решил навести порядок. Как росгвардейцы заталкивают бунтарей в автозаки, так ковид заталкивает легкомысленных и непокорных граждан на прививочные пункты. Хочешь пожевать лобстера в ночном ресторане — воткни в себя иглу. Русский гражданин смотрит на шприцы с вакциной угрюмо, словно видит там маленьких чёртиков, которых впрыскивают в русскую кровь, и в школах происходит стрельба, взрываются бензоколонки, лесные пепелища пахнут жареными лосями, а у лидеров общественного мнения случаются запоры.
Сколько лжи было произнесено властями, если народ предпочитает умирать от ковида, но не делать прививку! Что значит наказ Солженицына "жить не по лжи"? Какое количество Звёзд Давида нужно прилепить на грудь Александру III, чтобы народ полюбил монархию?
Главная ложь Государства Российского не в том, что теперь мужик выходит на пенсию за месяц до смерти. Не в том, что "лучшие в мире" российские больницы лечат дистиллированной водой и содой. Главная ложь в том, что величие России славят патриоты, чья недвижимость украшает предместья Лондона, дети работают в военных корпорациях Запада, а внуки едва говорят по-русски. Главная ложь в том, что солженицынское "сбережение народа" приводит к его вымиранию, а бессмертие достаётся тем, для кого Россия — не Родина, а этнографический заповедник, где девицы в кокошниках танцуют вокруг нефтяной трубы. Если народ предпочитает умирать, но не вакцинироваться, значит национальной безопасности нанесён смертельный удар. Несправедливость — смертельное оружие в руках врага. Перед этим оружием бессильны гиперзвуковые ракеты, праздники "Алые паруса" и дистанционное голосование на выборах в Госдуму.
Есть чёрные дыры в календаре. Из этих дыр в земную жизнь вырываются полчища демонов, летающих над Россией и затмевающих солнце. Такой чёрной дырой является 22 июня 1941 года. На Русь повалила такая тьма, что тридцать миллионов Матросовых легли своей грудью на эту страшную амбразуру и запечатали зло.
Отроком с одностволкой я охотился в волоколамских лесах. Туда прямо с Красной площади в ноябре 1941 года отправлялись полки. Я двигался по лесам, по полям и чувствовал, что в этих сугробах, в чащобах навеки упокоился Парад сорок первого года.
В лесу я увидел немецкий танк: у него не было одной гусеницы, люк был открыт, пушка клюнула в снег, на ржавеющей броне ещё сохранился белёсый крест. Вокруг танка поднималась лесная поросль. Осины окружили танк своими хрупкими ветками и кореньями, не пустили к Москве. Этот пойманный русскими деревьями танк был обречён остаться в волоколамских лесах навеки, пока его не сгложут русские муравьи и лишайники, превращая в ржавую горстку. Я смотрел на этот танк, думал об убитом под Сталинградом отце, погибшем в волоколамских лесах параде — взвёл курок и выстрелил в белёсый, начертанный на броне крест. И я подбил этот танк. Но не добил, ибо он ползает сегодня на европейских полигонах, у псковских земель.
Я вглядываюсь в глаза молодых людей: могут ли они всадить в его башню карающий выстрел?

ОПАСНЫЙ НОВЫЙ КОНСЕНСУС ВАШИНГТОНА В ОТНОШЕНИИ КИТАЯ
БЕРНИ САНДЕРС
Независимый сенатор США от штата Вермонт.
НЕ НАЧИНАЙТЕ ЕЩЁ ОДНУ ХОЛОДНУЮ ВОЙНУ
Беспрецедентные глобальные вызовы, с которыми сегодня сталкиваются Соединённые Штаты – изменение климата, пандемии, расползание ядерного оружия, вопиющее экономическое неравенство, терроризм, коррупция, авторитаризм – это общие вызовы. Страна не способна решить все эти проблемы, если будет действовать в одиночку. Они требуют активизации международного сотрудничества, в том числе с Китаем – страной с самым многочисленным населением в мире.
Именно поэтому так опасен консенсус, который быстро складывается в Вашингтоне. Согласно ему, будущие отношения между США и Китаем – это неизбежное военно-экономическое противостояние с неясным исходом. Досадно, что возобладала именно такая точка зрения. Она приведёт к формированию политической среды, где будет всё труднее добиваться сотрудничества, в котором наш мир сегодня так отчаянно нуждается.
Примечательно, как быстро изменилось расхожее мнение по этому вопросу. Чуть более двух десятилетий назад, в сентябре 2000 г., корпоративная Америка и лидеры обеих политических партий настаивали на том, чтобы предоставить Китаю статус «постоянных нормальных торговых отношений» или ПНТО. В те годы Торговая палата США, Национальная ассоциация промышленных производителей, корпоративные СМИ и практически любой авторитетный советник в области внешней политики доказывали, что ПНТО необходимо для поддержания конкурентоспособности американских компаний за счёт обеспечения их доступа на быстрорастущий китайский рынок и что либерализация китайской экономики будет неизбежно сопровождаться либерализацией китайского правительства в смысле его движения в направлении демократии и обеспечения прав человека.
Такая точка зрения казалась очевидной и бесспорной. Предоставление ПНТО, доказывал экономист Николас Ларди из Института Брукингса (центристской организации) весной 2000 г., «стало бы важным стимулом для руководителей Китая; иными словами, это означало бы существенные экономические и политические риски ради удовлетворения требований мирового сообщества относительно проведения дополнительных экономических реформ». С другой стороны, отказ в ПНТО «означал бы, что компании США не получат выгоду от самых важных обязательств, которые Китай взял на себя при вступлении во Всемирную торговую организацию» (ВТО). Эту мысль ещё яснее и проще выразил политолог Норман Орнстейн, представляющий более консервативное заведение – Американский институт предпринимательства. «Торговля с Китаем – это хорошо для Америки и для расширения свобод в Китае, – заявил он. – Это кажется или должно казаться очевидным».
Ну для меня-то это не было очевидным, поэтому я возглавил оппозицию этому катастрофическому торговому соглашению. И я, и многие трудящиеся в Америке тогда понимали, что, если позволить американским компаниям переместить свою деятельность в Китай и нанимать там работников, готовых вкалывать за нищенские зарплаты, это подстегнет гонку ко дну. В итоге американские рабочие лишатся хорошо оплачиваемых (благодаря профсоюзам) рабочих мест в Соединённых Штатах и будут вынуждены соглашаться на более низкие зарплаты. Именно это и случилось. В течение двух последовавших десятилетий было потеряно 2 млн рабочих мест в США, закрыто более 40 тысяч заводов, а заработная плата американских рабочих заморозилась и перестала расти, хотя корпорации получали многомиллиардную прибыль и щедро вознаграждали менеджеров высшего звена. В 2016 г. Дональд Трамп победил на президентских выборах отчасти потому, что выступил против торговой политики, умело сыграв на реальных экономических проблемах многих американских избирателей, используя дешёвый популизм, раскалывающий американское общество.
Между тем, нет нужды говорить о том, что положение дел со свободой, демократией и правами человека в КНР не улучшилось. Они были резко ограничены, поскольку Китай двинулся к созданию ещё более авторитарного государства и стал всё более агрессивно вести себя на мировой арене. Маятник превалирующих в Вашингтоне настроений теперь качнулся в противоположную сторону. Если раньше там преобладал слишком большой оптимизм относительно возможностей беспрепятственной торговли с Китаем, то теперь настроения стали чересчур ястребиными из-за угроз, которые исходят от более богатого, сильного и авторитарного Китая. Это лишь один из итогов необузданного роста свободной торговли.
В феврале 2020 г. аналитик Института Брукингса Брюс Джоунс написал, что «подъём Китая до уровня второй экономики мира, крупнейшего потребителя электроэнергии со вторым по величине оборонным бюджетом – дестабилизировал мировую политику», а мобилизация «для противостояния новой реальности в виде соперничества великих держав – это вызов для американского государственного строительства в предстоящий период». Несколько месяцев назад мой консервативный коллега по Сенату, республиканец от штата Арканзас Том Коттон, сравнил угрозу, исходящую от Китая, с той, что представлял Советский Союз в годы холодной войны: «Америке снова противостоит могущественный тоталитарный противник, стремящийся к доминированию в Евразии и переделыванию мирового порядка, – утверждал он. – И подобно тому, как Вашингтон перестроил архитектуру национальной безопасности США после Второй мировой войны, чтобы подготовиться к конфликту с Москвой, сегодня Америке нужно скорректировать свои долгосрочные экономические, промышленные и технологические стратегии, чтобы они отражали растущую угрозу, исходящую от коммунистического Китая». В прошлом месяце Курт Кемпбелл, высшее должностное лицо Совета национальной безопасности США по политике в Азии, заявил, что «период, охарактеризованный как эпоха взаимодействия с Китаем, подошёл к концу» и что с этого момента «доминирующей парадигмой будет конкуренция».
Не верьте шумихе
Двадцать лет тому назад американский экономический и политический истеблишмент заблуждался в отношении Китая. Сегодня консенсус резко поменялся, но он снова неверен. Теперь, вместо здравицы в честь свободной торговли и открытости верхушка бьёт в барабаны, возвещая о начале новой холодной войны и навешивая на Китай ярлык экзистенциальной угрозы для США. Мы уже слышим, как политики и представители военно-промышленного комплекса используют эту мантру в качестве повода и оправдания для непрерывного раздувания оборонного бюджета.
Я считаю, что этот новый консенсус важно оспорить – и это не менее важно, чем опровергнуть обоснованность прежнего консенсуса. Китайское правительство, конечно же, виновно в политическом курсе и практике, которая неприемлема для меня лично и для всего американского народа: кража технологий, подавление свободной прессы и прав трудящихся, репрессии в Гонконге и Тибете, угрозы Пекина в адрес Тайваня и ужасающая политика в отношении уйгуров. Соединённым Штатам нужно также бить тревогу по поводу агрессивных амбиций Китай в мире. Им следует и дальше ставить эти вопросы ребром во время двусторонних переговоров и поднимать их в многосторонних организациях, например, в Совете по правам человека ООН. Такой подход вызывал бы больше доверия и уважения, если бы США занимали последовательную позицию в вопросе защиты прав человека и в отношении своих союзников и партнёров. В этом случае они могли бы добиться гораздо лучших результатов.
Американцы должны сопротивляться искушению добиваться единства нации за счёт страха и вражды.
Однако организация нашей внешней политики вокруг достаточно бесперспективной глобальной конфронтации с Китаем не улучшит его поведение, но будет политически опасной и стратегически контрпродуктивным и близоруким выбором. Стремление к конфронтации с КНР имеет прецедент: глобальную «войну с террором». После терактов 11 сентября американский политический истеблишмент быстро заключил, что главным фокусом во внешней политике должна стать борьба с террором. Спустя почти два десятилетия, в течение которых было потрачено 6 трлн долларов, стало понятно, что идею национального единства просто эксплуатировали, чтобы начать серию бесконечных войн, оказавшихся неимоверно дорогостоящими с человеческой, экономической и стратегической точки зрения. Эти войны породили ксенофобию и фанатизм в американской политике. Под ударом оказались общины американских мусульман и арабов. Неудивительно, что сегодня, в обстановке неумолимого нагнетания страхов по поводу Китая, страна переживает рост преступлений на почве ненависти к азиатам. В настоящее время общество в Соединённых Штатах расколото больше, чем когда-либо в новейшей истории. Однако опыт двух последних десятилетий должен был бы показать нам, американцам, что необходимо сопротивляться искушению добиваться национального единения посредством нагнетания страха и вражды.
Лучший путь вперёд
Администрация Джо Байдена справедливо признала подъём авторитаризма в мире главной угрозой демократии. Однако главный конфликт между демократией и авторитаризмом разворачивается не между странами, а внутри них, и наша страна в этом смысле не исключение.
Если уж демократии суждено победить, то победа будет одержана не на традиционном поле боя, а за счёт наглядной демонстрации того, что демократия может фактически обеспечить более высокое качество жизни для людей, чем авторитаризм.
Вот почему необходимо вдохнуть новую жизнь в американскую демократию, восстановить веру народа в правительство посредством удовлетворения давно уже игнорируемых потребностей работающих семей. Мы должны создать миллионы хорошо оплачиваемых рабочих мест, восстановить и обновить обветшавшую инфраструктуру и сражаться с изменением климата. Мы должны найти выход из кризисов в здравоохранении, обеспечить людей качественным жильем, решить накопившиеся проблемы в образовании, уголовном правосудии, иммиграционном законодательстве и во многих других областях. Мы должны это делать не только ради того, чтобы быть более конкурентоспособными в противостоянии с Китаем или любой другой страной, но и потому, что это отвечает чаяниям американского народа.
Хотя правительство обязано заботиться в первую очередь о безопасности и процветании американского народа, следует также признать, что в тесно взаимосвязанном мире наша безопасность и процветание влияют на жителей других стран. Вот почему в наших интересах работать с другими богатыми странами для подъёма уровня жизни во всём мире и снижения невероятного экономического неравенства, которое авторитарные силы повсюду эксплуатируют для усиления своей политической мощи и подрыва демократии.
Администрация Байдена пытается договориться о минимальном налоге на прибыль предприятий во всем мире. Это шаг в правильном направлении, чтобы покончить с гонкой ко дну. Но мы должны мыслить ещё шире и ставить вопрос о введении минимальной заработной платы, которая защитила бы права трудящихся во всем мире, дав миллионам людей более реальный шанс на достойную, нормальную жизнь и снизив возможность транснациональных корпораций эксплуатировать беднейшее население мира. Чтобы помочь бедным странам повысить уровень жизни своих граждан по мере их интеграции в мировую экономику, Соединённым Штатам и другим богатым странам следует существенно увеличить уровень инвестиций в устойчивое развитие.
Чтобы американский народ процветал, другим жителям планеты нужно поверить в то, что США – их союзник, а успехи американцев – это и их успехи. Байден делает то, что нужно, добившись выделения 4 млрд долларов в виде поддержки всемирной инициативы в области вакцинирования, известной как COVAX, поделившись 500 миллионами доз вакцины с остальным миром и поддержав отказ ВТО от прав интеллектуальной собственности, который позволит более бедным странам самостоятельно производить вакцины. Китай заслуживает признания за предпринятые им шаги по обеспечению вакцинами бедных стран, но американцы могут сделать ещё больше. Когда люди во всем мире видят американский флаг, он должен ассоциироваться у них не с дронами и бомбами, а с упаковками гуманитарной помощи, спасающими человеческие жизни.
Создание подлинной безопасности и процветания для трудящихся в США и Китае требует построения более справедливого мирового порядка, где главным приоритетом станут потребности простых людей, а не жадность корпораций и милитаризм. В Соединённых Штатах передача миллиардов долларов налогоплательщиков корпорациям и Пентагону и подливание масла в огонь фанатизма и ксенофобии точно не служит этим целям.
Американцы не должны пребывать в наивном неведении относительно репрессий и неуважении прав человека в КНР, а также относительно глобальных амбиций китайских лидеров. Я твёрдо верю, что американский народ заинтересован в укреплении мировых норм уважение прав и достоинства всех людей – в США, Китае и во всем мире. Но боюсь, что укрепляющийся межпартийный консенсус по поводу конфронтации с Китаем помешает достижению этих целей и может вдохновить авторитарные, ультранационалистические силы в обеих странах. Он также отвлечёт внимание от общих интересов, разделяемых нами: борьбы с поистине экзистенциальными угрозами, такими как изменение климата, пандемии и гибель человеческой цивилизации в результате возможной ядерной войны.
Развитие взаимовыгодных отношений с Китаем – нелёгкая задача. Но мы способны на нечто большее, чем ввязывание в новую холодную войну.
Foreign Affairs

Честный политик
снова о Трампе
Сергей Переслегин
Сергей ШИЛОВ. Сергей Борисович, кто сейчас для вас Трамп? И почему многим кажется, что его политическое время ещё не закончилось?
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Для меня Дональд Трамп — действующий президент США. Как человек с физическим образованием, я не верю в резкие скачки кривых, не вызванные внешним воздействием. Поскольку на прошлогодних президентских выборах кривые голосования оказались не гладкими, из этого следует вывод о вбросах голосов в пользу Байдена. С точки зрения американской Конституции это означает, что Трамп остаётся законным действующим президентом Соединённых Штатов. Я убеждён: он и сам так же считает, и сильно сомневаюсь в том, что Байден рассматривает себя легитимно избранным главой государства.
Для меня Трамп — это человек, который, будучи президентом, пытался и пытается решить принципиально неразрешимую задачу. У любого нормального человека политический деятель, столкнувшийся с непреодолимой проблемой и старающийся найти решение, необходимое его народу, конечно, вызывает уважение.
Сергей ШИЛОВ. Что имеется в виду под неразрешимой задачей?
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Сейчас начинается колоссальная процедура перезагрузки мира, смысл которой заключается в уничтожении национальных элит, национальных государств, нормального стандарта человеческих отношений и человеческой жизни и замена их чем-то вымышленным — "зелёной" энергетикой, искусственным белком, единой мировой элитой и прочее. При этом Трамп остаётся именно американским президентом, то есть человеком, который считает себя обязанным одной стране, её населению.
С этой точки зрения он — один из тех, кто защищает старый, уходящий мир: "нулевые", 90-е и даже 60-е годы прошлого века, когда был совершён рывок в космос, были национальные государства и их соперничество — мир, где не было глобализации и Фининтерна. Заметим, что постоянно находившиеся на грани войны СССР и США торговали друг с другом много лучше, чем, например, нынешние Россия и Европа, и это было совершенно нормальным явлением. Вот за этот старый мир, в котором было много плохого, но и очень много хорошего, выступает Трамп. Он сражается за прошлое, полагая, что в нём больше будущего, чем в том футуроциде, который сейчас готовят миру адепты инклюзивного капитализма.
Трамп, при том, что понятие "честный политик" является оксюмороном, в значительной мере честный политик. У меня сложилось впечатление, что он сам считает правдой то, что говорит, кроме эпизода с признанием своего поражения на президентских выборах. Понимаю, что это ещё не есть честность, но на уровне политика — уже очень много. И это тоже вызывает к нему уважение.
К тому же, Трамп на фоне многих президентов последних десятилетий — человек, у которого нормальная жена, нормальные дети и нормальные представления о семье, а также полная нетолерантность к отсутствию нормы.
Сергей ШИЛОВ. Почему он не смог переломить ситуацию на выборах 2020 года?
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Есть такое понятие — невезение. Когда у Юстиниана появилась возможность восстановить империю, начались чума и голод с холодом. Когда у Трампа после почти чудесной победы на президентских выборах возникли шансы на изменение ситуации в Соединённых Штатах, пришла пандемия COVID-19, к которой он оказался абсолютно не подготовлен и с которой практически не мог бороться. Была создана ситуация, когда при любом раскладе виноватым оказывался президент: кому-то его методы борьбы с коронавирусом казались слишком жёсткими, кому-то — слишком мягкими. После такой катастрофы набрать на выборах президента даже 50% голосов было очень сложно.
К тому же, Трамп, вероятно, не до конца понимал, с насколько сильными противниками он играет.
Сергей ШИЛОВ. То есть он просто недооценил ситуацию?
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Недооценил её глубины. Трамп, как и все предприниматели, — не мыслитель. А вспомните, сколько десятилетий всем вбивали в голову, что любые разговоры о теории заговора — это "полная ерунда", и ничего "такого" нет и быть не может.
Трамп, которого с детства учили не верить в заговоры, в этом отношении не был философом. Он рассматривал то, с чем сталкивался, как набор случайных событий или предопределение Бога. А то, что на самом деле это — чёткая стратегия и политика конкретных людей, он не смог понять.
Сергей ШИЛОВ. Вы говорили о желании Трампа защитить историю, повернуться лицом ко временам своей молодости. Но с конца 1960-х годов произошло множество событий: США проиграли войну во Вьетнаме, смогли после этого подняться, выиграли холодную войну и стали свидетелями распада СССР, пережили кризис доткомов и прочее… Для чего нужно оглядываться на мир 50-летней давности?
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Представьте себя американцем, очень недовольным современной ситуацией в стране. Если бы у вас появилась машина времени, вы, конечно, захотели бы вернуться в прошлое и попытаться найти ту точку, с которой, по вашему мнению, история пошла неправильной дорогой. Есть ли такая поворотная точка в нашем времени? Коронавирусный кризис? Точно нет, потому что к моменту его начала практически всё, что можно было потерять в отношении будущего, уже было потеряно: через политику футуроцида Америка зачеркнула столько чужих "будущих", что зацепила и своё.
Поняв, что в 2000-х годах уже поздно что-то менять, спускаемся дальше по временной шкале и видим первую базовую проблему — президентство Клинтона. Но он лишь пожинал плоды распада СССР. И в этот момент вы начинаете понимать, что пока такой Карфаген, как Советский Союз, не был разрушен, пока он оставался великой державой и соперничал с США в экономике, политике, космосе, науке, искусстве, спорте и так далее, Америке приходилось двигаться именно как Америке, самостоятельному государству, от которого очень многое зависело. Здесь-то и открывается, почему важны 60-е годы прошлого века: именно тогда соревнование сверхдержав шло самым явным образом. Начало цивилизационного кризиса лежит между 1967-м и 1973-м годами. Трамп тогда как раз окончил бакалавриат (в 1968-м) и начал свою практическую деятельность.
Сергей ШИЛОВ. Первые успехи, первые заработанные миллионы…
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Да, здесь как объективные, так и субъективные обстоятельства заставляют Трампа защищать ценности именно того периода. Повторю: это безнадёжная операция, у неё нет шансов на успех. Но именно поэтому она вызывает сочувствие и уважение.
Сергей ШИЛОВ. Какие личные качества Трампа способствуют его подходу к решению цивилизационных проблем, а какие, наоборот, мешают?
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Больше всего ему мешает то, что он бизнесмен. Я уважаю предпринимателей, считаю, что они, как правило, умнее большинства политиков. Но бизнесмен держит вокруг себя на подчинённых позициях людей, которые умеют выполнять его распоряжения, даже порой неявные, или в нужный момент не выполняют их, ради дела, которое они хорошо знают. Но при этом предприниматель понимает, что они ему подчинены и делают то, что должны.
Дональд Трамп до президентства не занимал никаких политических позиций: не был ни прокурором, ни губернатором, ни сенатором — он сразу стал главой государства. Это едва ли не уникальный случай в современном мире. И, похоже, Трамп был совершенно не готов к тому, что его приказы будут выворачиваться наизнанку, игнорироваться, саботироваться, подвергаться "итальянской забастовке", когда человек лишь создаёт видимость деятельности. В бизнесе подобное бездействие заканчивается мгновенным увольнением. Трамп, придя к власти, точно не был знаком с такой "макиавелливщиной" политики. И это было его слабым местом.
Сергей ШИЛОВ. А его сильная сторона?
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Сильная сторона Трампа — по диалектике — та же самая: будучи предпринимателем, он исходит из того, что любая задача имеет решение, если она правильно поставлена и решается за счёт воли и способностей. Можно столкнуться с разными испытаниями, много чего потерять, но, если упорства достаточно и интеллекта хватает, ты достигнешь желаемого результата. Кстати, Трамп и сам прошёл через разорение, имел почти миллиард долларов личного долга и 3,5 миллиарда — корпоративного, однако смог выправить ситуацию и снова стать миллиардером.
И ещё один важный момент: Трамп как предприниматель абсолютно не имеет предубеждений — ни против людей, ни против религий, ни против политических течений, ни против стран. Предубеждение в бизнесе считается профнепригодностью. Трамп прекрасно понимает, что если Америка считает себя мировым гегемоном, то КНР не может быть "мастерской мира". Поэтому для президента Трампа Китай всегда был основным противником, для борьбы с которым можно было пойти на очень многие уступки в отношении Европы и России. Скорее всего, повторно став президентом, он плотно занимался бы проектированием антикитайской коалиции.
Сергей ШИЛОВ. Он и занимался этим, будучи президентом, но не довёл до конца — вмешался коронавирус.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Теперь посмотрим на Байдена. В отличие от Трампа Байден — догматик. Он тоже выходец из 60-х годов, но, как его тогда приучили к мысли, что нет ничего страшнее Советского Союза, так и сейчас для него нет ничего ужаснее России. В итоге Китай сегодня оказывается без оппонента, говоря военным языком, — попадает в идеальное положение необстреливаемого корабля. И это в ситуации, когда только он и представляет реальную опасность для США.
Сергей ШИЛОВ. Почему же при явных подтасовках результатов выборов Трамп так легко сдался и не начал борьбу за признание себя президентом?
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Он мог её начать, и у него были шансы на успех. Я их оцениваю как 65–70%. Но любая попытка начать реальную борьбу мгновенно развязала бы в Америке горячую гражданскую войну по самой худшей схеме "всех против всех": демократов против республиканцев, белых против чёрных, чёрных против белых, латиносов против англосаксов, ЛГБТ против натуралов и так далее… Была бы страшная резня с большим количеством жертв — если и не миллионы, то десятки тысяч — точно.
Как человек, христианин-пресвитерианин Трамп тогда не решился взять на себя за это ответственность. Вполне вероятно, он понимает, что эта борьба всё равно будет, и, может, стоило начать её раньше, исходя из того, что раньше начнёшь — меньше будет потерь. Но я понимаю, почему это сделано не было. Деятельность президента Трампа всё время сдерживали, с одной стороны, коронавирус, с другой — постоянная угроза внутреннего конфликта.
Сергей ШИЛОВ. Добавлю: как предприниматель, Трамп всегда пытался договариваться, совершенно не понимая, что в американской политической среде попытка договориться воспринималась исключительно как слабость. И это привело к тому, что на него всё усиливали и усиливали давление. Другой вопрос: почему он не смог собрать вокруг себя нормальную команду? Ведь одно из свойств бизнеса — передавать часть задач надёжным субподрядчикам.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Именно потому, что бизнес и политика отвечают разным коммуникативным законам. В политике тоже возможно собрать такую команду, которая способна принять передоверенные функции и прекрасно работать. Например, Кеннеди в своё время отлично смог это сделать. Но Трамп-то в политике был новичком и механизмов создания подобных команд не знал, а использование бизнес-конструкций здесь не могло сработать.
Сергей ШИЛОВ. То есть Трамп пытался руководить Соединёнными Штатами Америки как корпорацией "Америка", а не как государством?
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Я бы так не сказал. Трамп, безусловно, хотел руководить государством Америка, но техника управления у него была корпоративная.
Сергей ШИЛОВ. Думаю, Трамп, если останется жив, пойдёт на следующие президентские выборы с совсем другим багажом — уже не только опытного бизнесмена, но и политика.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Безусловно. Ему 75 лет, а в наше время для политика это ещё не возраст. Будучи предпринимателем, он чётко показал, что может учиться на своих ошибках. Думаю, он проявит такую способность и в политике. Было бы интересно посмотреть на это в будущем.
Сергей ШИЛОВ. Мы вспоминали о банкротстве Трампа, что у него был личный долг около 900 миллионов долларов. Но ведь тогда его коллеги-бизнесмены смеялись над ним: мол, банкротство с каждым может случиться, но не перевесить свои долговые 900 миллионов на всё равно тонущую корпорацию — это же глупость! А по критериям нормы, сторонником которой является Трамп, подобный поступок — совсем не глупость, а честность.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Да, это важное качество, как в предпринимательстве, так и в политике. Трампа можно назвать честным человеком.

О Женеве…Мнение
Тот факт, что американский и российский президенты провели двухстороннюю очную встречу, — уже большое событие. Еще какие-то 15-20 лет назад российский и американский лидеры встречались часто и регулярно, по несколько десятков раз в год. Но это были те самые «другие времена». А в текущем моменте переговоры в Женеве — уже мировое политическое событие. Такие настали времена: пандемия, политическая разобщенность на самом высоком уровне, нескончаемая череда региональных конфликтов, санкции, наконец, угроза большого военного столкновения мировых центров силы…
Основные оценки женевской встрече уже даны, и недостатка в комментариях нет — все мировые и национальные СМИ отработали эту тему с большим вниманием к деталям. Но чем больше стараешься вникнуть в суть переговоров, чем больше смотришь и читаешь самые различные источники, тем сложнее становится понять значение и смысл всего сказанного. Мнения политиков различного ранга, экспертов, журналистов и политологов зачастую диаметрально противоположны и пестрят мельчайшими деталями, которым придается порой большое символическое значение.
Позволим и мы себе небольшой комментарий на тему того, что же все-таки произошло в Женеве на прошедшей неделе. Начнем с главного: 16 июня 2021 года лидеры России и США фактически объявили о завершении периода однополярного мира и о начале нового этапа с участием нескольких мировых центров, таких как Россия и Китай.
Исходя из этого, мы можем попытаться сделать несколько предположений, как будут развиваться дальнейшие события.
Например, будет ли достроен и введен в эксплуатацию многострадальный трубопровод «Северный поток-2»? Ответ утвердительный — да, будет и в ближайшее время.
Почему мы делаем такое предположение? Да потому что по новым правилам за каждым центром силы должны быть признаны особые зоны экономического и политического влияния и определены сферы национальных интересов. Россия же была и остается ключевым производителем и поставщиком энергоресурсов на рынок стран Европейского союза, и это ее зона национальных интересов. Кроме того, в интересах самих европейских стран продолжить сотрудничество с Россией по стабильным и доступным поставкам российских углеводородов, даже несмотря на жесткую «зеленую риторику». Немецкой (и не только) экономике нужны российские ресурсы — тот же газ по «Северному потоку-2», который, кстати, и позволит провести ускоренный энергопереход без существенных экономических потерь и без энергетических коллапсов.
Так что основные результаты женевской встречи еще впереди.
Вячеслав Мищенко
Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

ВСТРЕЧА СТАРЫХ МЕХОВ
ФЁДОР ЛУКЬЯНОВ
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай». Профессор-исследователь НИУ ВШЭ. Выпускник филологического факультета МГУ, с 1990 года – журналист-международник.
САММИТ В ЖЕНЕВЕ ПОКАЗАЛ, КАКИХ СТРАТЕГИЙ БУДУТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ РОССИЯ И США
Долгожданный саммит Путина и Байдена прошёл идеально. Ожидания (крайне скромные, если не обращать внимания на шумиху) оправдались. Опасения (превосходившие ожидания) – нет. Случилось необходимое – рационализация антагонизма после периода истероидного балагана.
Принятие вылизанной до блеска совместной декларации о том, что ядерная война – это плохо, и провозглашённая готовность начать работу по новым принципам стратегической стабильности и в сфере кибербезопасности – шаги вперёд. Возвращение послов – акт символический, он ценен как благожелательный жест. По существу, от интенсивности работы дипучреждений и числа трудоустроенных туда граждан не зависит почти ничего. Судя по отдельным ремаркам президентов, обсудить успели многое: хоть бегло, но содержательно. Некие сделки, наподобие шпионских обменов прежних времён, возможны, только частные, не меняющие суть отношений.
Вообще, женевский саммит оставил положительное впечатление, потому что напоминал встречи в верхах классических времён – сосредоточенно, всерьёз, с пониманием реальных ограничителей, без идеологической предзаданности, к которой все уже привыкли за последние пару десятилетий. Риторический антураж – необходимые декорации, однако сами ключевые персоны на них не зацикливаются.
Итоги этих переговоров ничего не гарантируют, улучшение отношений просто не стоит на повестке дня.
Однако очерчивание каких-то рамок противостояния с опорой на ядерные потенциалы полезно не столько в двустороннем, сколько в общем международном контексте. В отличие от времён прошлой холодной войны, ни США для России, ни Россия для Америки главным направлением действий не являются. Однако от характера их отношений зависит, как складываются связи Москвы и Вашингтона с другими, более важными партнёрами. Женевский саммит даёт пищу для размышлений о дальнейшей линии поведения каждой из сторон на мировой арене.
Надо признать, что Америка Байдена эту линию прочерчивает достаточно чётко. Приоритеты намечаются следующие: воссоздание Запада в политических контурах холодной войны, сдерживание и торможение Китая, достаточно экономное участие в региональных конфликтах, где американцы по возможности стараются находить местных опорных партнёров, а не солировать. Замена лозунга «глобального лидерства» на «возвращение Америки» – ход остроумный, позволяющий Вашингтону куда большую гибкость, чем прежде. Не сказано же, в каком качестве она возвращается.
Приоритеты России тоже меняются, это заметно, если смотреть хоть мало-мальски незашоренным взглядом (на что на Западе сейчас способны немногие). Изменения начались недавно, и неизвестно, когда они обретут стройную форму. Если США ставят на консолидацию Запада против сознательно конструируемой авторитарной угрозы, то России предстоит инвентаризация и новое осмысление институтов/инструментов, которые она применяет в международной политике.
В предшествующие годы и даже десятилетия Москва прилагала усилия к созданию институтов, которые содействовали бы возникновению многополярного мира. Эта концепция определяла политико-дипломатическую практику со второй половины девяностых годов и была защитной реакцией на обрушение международного статуса страны после распада СССР. Многополярность подразумевала противостояние гегемонии, однако чёткого представления о том, какова конкретно должна быть роль России в новом мировом устройстве, не давала. Фактический приход международного плюрализма всё ещё больше запутал. Перекройка всемирного ландшафта в связи с появлением разновесных центров силы и влияния осложняет проведение политики. Кризис глобализации затронул и старые, и новые структуры, в том числе те, что создавались по инициативе России с 1990-х по середину 2010-х годов. А тенденции к ренационализации мировой политики, катализированные пандемией, поставили вопрос о будущем межгосударственных организаций и выгодах «одиночного плавания».
Перед Россией и Америкой стоит одинаковая задача: адаптация желаний и возможностей к новым мировым условиям.
Как ни парадоксально, оказалось, что делать это удобнее, если собственные отношения вернуть к классическим формам холодной войны. Потому что формы привычные и опробованные на практике, понятные. Это и произошло в Женеве. Но надо отдавать себе отчёт в том, что в современном мире политический цикл – не десятилетия, а годы, если не месяцы. Так что на прежнюю долговременную устойчивость рассчитывать не надо.

Двое в лодке, исключая собаку
распря между американцами и Россией неизбежна и неизгладима
Александр Проханов
Швейцария ждёт Байдена и Путина. Их встреча состоится не в том ужасном отеле, где встречались в своё время Рейган и Горбачёв и где всё пропитано предательством и вероломством, а на отдельной вилле, на чём настоял президент России. Таким образом, замысел швейцарских властей и магов, которые желали поместить Путина в атмосферу тех ужасных, несчастных для нашей Родины дней, не удался. Операция "Обольщение", которая погубила сначала Горбачёва, а вместе с ним и Советский Союз, не состоится.
Слышны панические мнения, что встреча двух президентов происходит в канун ядерной войны между двумя сверхдержавами, ситуация, которая разворачивается в мире, напоминает Карибский кризис. Это преувеличение. Такое мнение — результат военной пропаганды и информационного насилия, совершаемого в очередной раз над мировым общественным сознанием. По-видимому, после встречи Байден — Путин официальная пропаганда, до последнего времени столь щедрая на поношения Америки и её президента, сменит тон. Не дай Бог, если она перейдёт от сквернословия и проклятий к тому слащавому отвратительному хвалению, каким грешит наша пропагандистская машина.
Разрядка, неизбежность которой сегодня очевидна, не является неожиданной. Сами по себе эта встреча и связанная с ней разрядка — явления для российско-американских отношений закономерные. Эти отношения носят пульсирующий характер. Иногда они становятся катастрофическими вплоть до полного разлада, когда два государства не находят точек соприкосновения, и единственным выходом из кризиса видится взаимное уничтожение. Иногда отношения доходят до примирения, до конвергенции. И тогда американо- российские, а в прошлом — американо-советские, отношения смягчаются, становятся бархатными и во многом комплиментарными.
Однако не нужно обольщаться. Чем бы ни закончилась швейцарская встреча и какими бы посулами на благоденствие ни были наполнены коммюнике двух президентов, распря между американцами и Россией неизбежна и неизгладима. Она коренится в глубинных сущностях двух цивилизаций — западной американской и российской. Эта разница исходит из концепции, именуемой "национальная мечта". Метафора американской национальной мечты звучит как "Град на холме". Холм, насыпанный всей американской историей, увенчан крепостью. Из этой крепости доминирующая над миром Америка оглядывает окрестности, и те народы, те страны, которые не вписываются в матрицу американских представлений о мире, усмиряются, посыпаются крылатыми ракетами. Американская Мечта — это мечта о вселенском доминировании, об американоцентричном мире.
Русская Мечта прямо противоположна американской, это — "Храм на холме". Та же гора — насыпанная всей нашей русской историей, состоящей из грандиозных побед, великих потрясений, из озарений и затмений. Эта гора увенчана храмом с крестами, что устремлены ввысь, как антенны, направлены в небеса, в лазурь, в Фаворский свет, который через храм вливается в наши дома, в семьи, в университеты, в наши философские и литературные творения.
Две эти мечты разнятся, они связаны с глубинным онтологическим разрывом. Искусство политиков состоит не в том, чтобы уничтожить одно мировоззрение другим, а в том, чтобы два исключающих друг друга мировоззрения плавно вести через препоны современного мира, не давая им слиться в страшном взаимно уничтожающем взрыве.
Проблемы, которые намерены обсуждать два президента, заранее были обозначены в многочисленных разговорах и публикациях. Это и "Северный поток", и Навальный.
Не обойдут президенты тему Белоруссии. Путин скажет об американском вмешательстве в белорусские дела, о перевороте, который готовился и был разоблачён Лукашенко. Байден будет говорить о нарушении прав человека, об избиении демонстрантов и о перехвате летевшего над Белоруссией самолёта.
Очень острой и болезненной темой для переговоров будет Украина. Позиции двух сторон по этому вопросу несовместимы. Украина стремится в НАТО, и американцы осторожно, мягко открывают украинцам дорогу в свою военную организацию. Россия предупреждает, что в случае, если в Харькове или Одессе будут расположены американские военные базы или ракетные установки с минимальным подлётным временем до Москвы, до других наших городов и промышленных центров, то Россия не останется безучастной.
Однако эта встреча, эти переговоры будут проходить на фоне той действительности, которую политологи называют "новой нормальностью". Это загадочная новая среда, состоящая из новых технологий, из цифровых открытий, из концепции искусственного интеллекта. Это новое представление о соединении машины и природы, новое представление об экономике, которая включает в себя зелёный экологический компонент, а также социальную ответственность экономики перед обществом, перед отдельно взятым человеком. Эта до конца ещё не сформулированная, существующая лишь в докладах высоколобых умов "новая нормальность" требует от лидеров крупнейших стран иных подходов, иного осмысления. Однако все темы предстоящих переговоров относятся к "старой нормальности", они родились в её недрах. И поиск ответов на поставленные вопросы, путей выхода из возникающих конфликтов, по-видимому, будет в арсенале той, "старой нормальности".
Сумеют ли лидеры двух стран в своих разговорах наметить политику обеих держав, соизмеримую с этой загадочной, таинственной "новой нормальностью"? Если нет, если новые тонкие воззрения не явят себя, если они вообще чужды современной политике, то лодка мировой истории, в которую сядут в Женеве Путин с Байденом и возьмутся за вёсла, эта лодка останется на мели. Она будет напоминать фантастическую лодку Сальвадора Дали: когда лодка, осевшая на бок, стоит среди пустыни, среди высохших песков навсегда занесённого барханами моря. В такой лодке будут сидеть, взявшись за вёсла, два президента и что есть силы грести, оставляя лодку неподвижной среди пылающих барханов современной истории.
Можно ли считать, что эта встреча станет походить на повесть Джерома К. Джерома "Двое в лодке, исключая собаку"? Два президента — американский и российский — сидят в лодке, а президента Зеленского в эту лодку не взяли.
Дождь истории смывает портреты вождей со стены.

О РЕФЛЕКСАХ И РЕФЛЕКСИЯХ: ИТОГИ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОГО САММИТА
ФЁДОР ЛУКЬЯНОВ
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай». Профессор-исследователь НИУ ВШЭ. Выпускник филологического факультета МГУ, с 1990 года – журналист-международник.
Магнус Хиршфельд – основатель Всемирной лиги сексуальных реформ, в которую в ходе недавнего интервью телеканалу NBC направил недовольных американцев президент РФ Владимир Путин – когда-то сказал: «Любовь – это конфликт между рефлексами и рефлексиями». Очень точно. И прямо в тему женевской встречи господина Путина с его американским коллегой Джо Байденом.
Рефлексы на месте. Период заминки, которая наступила с окончанием холодной войны и смутила естественные привычки, завершён. Никто больше не делает вид, что мы не противники, а партнёры. Противостояние заложено в фундамент отношений Москвы и Вашингтона с середины прошлого века, когда ядерное оружие подарило обеим сторонам способность нанести друг другу неприемлемый ущерб. Всякое с тех пор произошло и многое изменилось, но этот компонент неизменен. И именно он придаёт стабильность связям: деваться друг от друга некуда, игра на грани столкновения, которой баловались до 1960-х годов, с тех пор признана неоправданно рискованной.
Схема сдерживания, которое базируется на гарантированном взаимном уничтожении, пережила все политические и экономические изменения.
Неудивительно, что именно эта тема в самые сумрачные моменты служила спасательным кругом, благодаря которому выплывала тонущая двусторонняя повестка дня. Понятно, почему предшествующий период стал самым беспорядочно дремучим за все десятилетия взаимодействия. Администрация Дональда Трампа взяла курс на ликвидацию именно этого компонента. Самому президенту ядерные дела были просто безразличны. А его профильные специалисты – Майк Помпео, Джон Болтон, Маршалл Биллингсли – считали, что с контролем над вооружениями и прочими ограничениями американских возможностей пора заканчивать. Считали, что всё это устарело и никому не нужно. И не то чтобы никто в Москве не разделял такую точку зрения, но оказалось, что, когда эта почва стала уходить из-под ног, опоры не осталось никакой. Психологически неприятно, ведь арсеналы на месте, как и гарантированное уничтожение. А подпорок другого рода нет.
С приходом кабинета Джозефа Байдена собеседники быстро вернулись к прежней модели отношений. Точнее – к прежнему кругу проблем, потому что как раз подход придётся менять, характер договорённостей в сфере стратегической стабильности должен измениться из-за появления новых обстоятельств. Однако это разговор в традиционном пространстве.
Рефлекс, а точнее, инстинкт самосохранения взял верх. И не позволил пока вырваться наружу другому рефлексу – неограниченного доминирования.
Итог переговоров в Женеве это наглядно показал.
С рефлексиями сложнее. Они уже довольно давно начали вырождаться из трезвых размышлений о себе и ситуации в обостряющиеся фобии и комплексы. Это состояние долго было в большей степени свойственно российской стороне. Американская примерно тогда же в особых рефлексиях не нуждалась, наслаждаясь чувством глубокой уверенности в себе. Но потом всё изменилось до ситуации если и не зеркальной, то кардинально иной. Последние несколько лет Соединённые Штаты ощутили чрезвычайную внутреннюю уязвимость перед внешним воздействием, и это внезапное откровение сильно сказалось на внешнеполитическом поведении.
Обилие рефлексий такого рода привело к довольно безумному и, несомненно, нездоровому состоянию, в котором российско-американские отношения оказались к настоящему моменту. Грань между внутренним и внешним стерлась, и демоны теперь уже неуверенности в себе поглотили международную политику. Это довольно универсальное явление, но в американском случае перепад от прежнего настроя уж очень резок, а роль США в мировых делах уж очень велика. Вот всех и трясёт.
Надо признать, что президентство Джозефа Байдена принесло стабилизацию в этой сфере – и в силу его личности, и по причине того, что он явно имеет чёткое представление о том, чего хочет. И на международной, и на национальной арене. Все сопутствующие обстоятельства он умело ставит на службу собственной повестке. Опыт и отличное понимание того, как функционирует американская политическая машина – ценный актив. Кстати, недооценивать такого собеседника рискованно.
Главная рефлексия, которая необходима сейчас и Москве, и Вашингтону – осмысление того, что возможно, а что нет для них в резко изменившемся и продолжающем меняться мире. Двусторонние отношения – производная от этой основной задачи. По первому впечатлению, результаты саммита в Женеве решение этой задачи не осложнили, скорее создали для него базовые условия. Скромные ожидания оправдались, нескромные опасения – нет. Рефлексы победили рефлексию нездоровую, зато открыли возможность для здоровой. По нынешним временам уже неплохо.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ДОЛЛАРОВОЙ КРЕДИТОКРАТИИ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА || РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
РАДИКА ДЕСАИ, Профессор кафедры политических исследований, директор исследовательской группы по геополитической экономике Университета Манитобы, Канада.
МАЙКЛ ХАДСОН, Американский экономист, профессор экономики Университета Миссури в Канзас-Сити и научный сотрудник Экономического института Леви при Бардколледже, бывший аналитик Уолл-стрит.
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ || МАРКСИЗМ
От редакции:
Журнал «Россия в глобальной политике» продолжает серию публикаций под рубрикой «Руководство к действию». В этой рубрике мы рассматриваем текущие события с позиций одной из доминирующих школ международных отношений. У каждого своя линза и свой угол зрения. А нашим читателям мы предоставляем возможность выбирать, чья теория убедительнее интерпретирует события современной политики. Данная статья представляет собой отрывок из Валдайской записки, которая будет опубликована на сайте ru.valdaiclub.com в июле 2021 г.
Долларовая система могла функционировать, пока сохранялась видимость нейтралитета. Однако в последние десятилетия она всё более агрессивно используется дипломатией США для того, чтобы обеспечивать односторонние преимущества американским корпорациям и продвигать внешнеполитические цели страны. Это начинает настораживать не только соперников и жертв, но и давних союзников, и крупных держателей облигаций Казначейства США.
Поскольку президент США Джозеф Байден продолжает начатую его предшественником новую холодную войну с Китаем, становится ясно, что пандемия значительно ускорила текущий сдвиг в международном балансе сил от США к Китаю. Для бывшего министра финансов США Лоуренса Саммерса это выглядит «поворотным моментом в истории»: «[Если] XXI век окажется веком Азии, а XX – веком Америки, то пандемия может запомниться как поворотный момент». Она сотрёт из памяти события 11 сентября 2001-го и 2008 гг., встав в один ряд с «убийством эрцгерцога Фердинанда в 1914 г., крахом фондового рынка 1929 г. или Мюнхенской конференцией 1938 года».
Однако профессор Саммерс заблуждается.
С нашей точки зрения, XX век на самом деле был скорее попыткой создать век Америки, чем фактически состоявшимся веком Америки, и отход от этой попытки выглядит более определённым и решительным, чем все эти «если», прозвучавшие в его оценке.
Пандемия стала не поворотным моментом, а катализатором заката власти США, основанной на неолиберальном капитализме, в котором главенствующую роль играл финансовый сектор. Структура мирового господства, которую США пытались навязать миру в последние десятилетия, рушится. США так не добились успеха: эта структура была слишком нестабильной и волатильной – и вследствие этого неэффективной. Следовательно, нельзя винить пандемию в том, что она свела на нет некие успехи, пусть даже ограниченные. Этот поворот порождён геополитическим экономическим землетрясением, которое продолжается уже не первое десятилетие и которое освободило множество стран от противоречивых и подверженных кризисам структур, существовавших в рамках господства США.
К началу XXI века доллар встал на новый, ещё более неустойчивый и разрушительный путь, в этот раз подкреплённый риторикой Клинтона о «глобализации» и Буша – об «империи». Новые дискурсы предлагали рассматривать отказ от привязки к золоту в 1971 г. как мастерский ход, одним махом освобождающий США от необходимости поддерживать доллар золотом и оставляющий при этом первостепенное положение доллара в нетронутом виде, возможно, даже усиливающий его позиции в подлинно новом «Бреттон-Вудсе II».
Ориентированная на доллар мировая финансовая и кредитно-денежная система последних десятилетий опирается на краткосрочные спекулятивные транзакции и пузыри на рынке активов, порождаемые финансовым инжинирингом Федеральной резервной системы. В результате усиливается неравенство между странами и классами и происходит подрыв экономики вместо роста. Данная система направлена против трудящихся и использует политику жёсткой экономии, чтобы выдавливать из работающего населения средства на растущие расходы по обслуживанию долга. «Жёсткая экономия» и разного рода корректировки в отношении стран-должников призваны обеспечивать финансовую прибыль кредиторов. В отличие от производственной финансовая деятельность предполагает игру с нулевой суммой. Прибыль может быть получена, только если соответствующие убытки и страдания перекладываются на зарплату и закредитованное население, малый бизнес и страны-должники.
Внутренние противоречия системы и порождаемые ею конфликты созревали на протяжении десятилетий, и теперь они быстро разрушают долларовую кредитократию.
Масштабы создания денег, и без того сверхвысокие из-за количественного смягчения после 2008 г., в условиях пандемии стали астрономическими и угрожают обрушить доллар. С тех пор как в 2000 г. возникла необходимость в мягкой денежно-кредитной политике после лопнувшего технологического пузыря, стоимость доллара оказалась в заложниках у двух конкурирующих императивов: потребности финансового сектора в обильной дешёвой или полностью бесплатной ликвидности для финансирования спекулятивных сделок с использованием кредитного плеча на рынках активов с постоянно уменьшающейся маржой и необходимости ограничения ликвидности для повышения стоимости доллара. Нарастание ликвидности в период пандемии подняло рынки активов выше исторических высот, достигнутых в последние десятилетия. Вместо того чтобы остановить этот процесс на достаточно безопасном раннем этапе, ФРС поощряет его раздувание своей политикой низких процентных ставок и скупкой всех видов облигаций, включая государственные, мусорные и корпоративные. Вопрос в том, как долго она сможет продолжать раздувать свой баланс, если правительство не будет предпринимать никаких действий для расширения быстро сокращающейся производственной базы США, лишь благодаря которой эти активы и имеют ценность.
Стоит добавить, что расширение производственной базы в сложных современных условиях потребует такого радикального разворота в сторону от неолиберализма, который практически невозможен в нынешних обстоятельствах, учитывая приверженность Федеральной резервной системы и новой администрации Байдена парадигме неолиберальной политики.
Тем временем выпуск ликвидности Федеральной резервной системой превратил «бычий рынок повышательных тенденций, на котором цена активов росла с 2009 г. в полноценный эпических масштабов пузырь с чрезмерно завышенной стоимостью активов, резким ростом цен, лихорадочной эмиссией и истерически спекулятивным поведением инвесторов», который мог посоперничать с коллапсом «Компании Южных морей или биржевыми крахами 1929 и 2000 годов». Крах – лишь вопрос времени и обстоятельств.
Когда дело дойдёт до ФРС, перед ней встанет выбор из двух в равной мере неприятных вариантов. Она может позволить вложившейся в акции финансовой системе рухнуть, что потянет за собой крах долларовой кредитократии, или же – поддержать финансовую систему за счёт вливания дополнительной ликвидности на сумму в триллионы долларов, что ещё более обострит системные противоречия. Это неудивительно. Море ликвидности, которое создала эта ориентированная на кредиторов система, легло долговым бременем на плечи трудящихся, малого бизнеса и правительств по всему миру. И долг является лишь средством, благодаря которому кредиторы могут контролировать их. Он ослабляет производственные системы, а вовсе не освобождает их и не укрепляет экономику инвестициями в производство.
К этим противоречиям добавляются конфликты, которые порождает система, расширяя ряды своих соперников и жертв. С 2008 г. основные международные финансовые институты стали более национальными по характеру и сократили иностранные денежные потоки, вливающиеся в долларовую систему и помогающие противодействовать парадоксу Триффина. Это частично является причиной, по которой ФРС приходится поддерживать высокие цены на активы и значительно расширять свой баланс. Более того, система приводит более слабые экономики, не имеющие достаточно жёсткого контроля за движением капитала, к политически неприемлемому уровню волатильности валют, что наиболее ярко проявляется сегодня в Турции. Такие страны теперь ищут альтернативные источники финансирования и платёжные системы.
Кроме того, долларовая система могла функционировать, пока сохранялась видимость нейтралитета.
Однако в последние десятилетия её правовой режим и платёжная система используются всё более агрессивно ведущей себя дипломатией США для того, чтобы обеспечивать односторонние преимущества американским корпорациям и продвигать внешнеполитические цели страны, которые ставятся под сомнение даже их союзниками, – например, введение санкций против Ирана. Это начинает настораживать не только соперников и жертв (Россию и Иран), но и давних союзников, например, страны Западной Европы, и крупных держателей облигаций Казначейства США, включая Китай.
Наконец, в контексте нынешнего кризиса Федеральная резервная система явно перешла ещё одну черту. После 2008 г. она выпустила целые потоки ликвидности для спасения финансового сектора как в самих США, так и за их пределами. Однако в последние месяцы она предоставила их и нефинансовым корпорациям, включая покупку мусорных облигаций погрязших в долгах компаний-«зомби». ФРС больше не делает вид, что она является беспристрастным центральным банком всей экономики США, не говоря уже о мировой экономике.
Другие страны ищут выходы в трёх направлениях.
Во-первых, Россия, ЕС и Китай создают альтернативные международные платёжные системы – СПФС, INSTEX и CIPS, – а также внутренние платёжные системы – Union Pay в Китае, карта «Мир» в России, RuPay в Индии и ELO в Бразилии. Кроме того, идёт координация данных систем на международном уровне. Эти основанные на других валютах и быстро развивающиеся системы будут всё больше снижать необходимость в использовании контролируемой США долларовой системы при проведении международных расчётов.
Во-вторых, многие страны, особенно те, что являются жертвами диктата США или противостоят ему, активно проводят дедолларизацию своих платежей, цен и финансовых систем и предпочитают торговать с другими странами в валютах друг друга, чтобы избежать использования жульнической долларовой системы, а валютно-финансовое сотрудничество между Китаем и Россией при этом расширяется ещё больше. Эта практика представляет собой возврат к средствам урегулирования дефицита платёжного баланса, которые использовались в межвоенный период, когда роль фунта стерлингов ослабла, а доллар впервые продемонстрировал свою неспособность играть роль мировой валюты.
В-третьих, Новый банк развития и пул условных валютных резервов БРИКС, а также – в особенности – международные финансовые инициативы Китая всё чаще становятся альтернативным источником финансирования с преимуществами, которых у долларовой системы просто нет. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций Китая, проект «Пояс и путь» и другие финансовые инициативы основаны на принципе долгосрочного «терпеливого» капитала, производящего продуктивные инвестиции в духе сотрудничества, при котором сохраняется политическая автономия стран-получателей. Это резко контрастирует с долларовой кредитократией, которая на протяжении последних десятилетий предоставляла лишь краткосрочный непостоянный капитал, в основном для финансовых вложений, в рамках агрессивной системы, которая ограничивает политику, заряжена в пользу кредиторов и готова вести традиционные и гибридные войны против стран, стремящихся из неё выйти. С расширением АБИИ и «Пояса и пути» и планами расширения членства в НБР за счёт привлечения в него региональных партнёров стран БРИКС эти инициативы становятся привлекательными для ещё большего числа стран.
Кроме того, хотя мнения относительно того, сможет ли недавнее налогово-бюджетное соглашение ЕС возродить евро в качестве конкурента доллару, расходятся, еврозона по-прежнему не входит в систему долларовых платежей. В условиях пандемии дедолларизация может только ускориться, в результате чего долларовая система станет делом исключительно одних только США. Даже традиционные сторонники доллара признают, что конец его близок.
Стремление уйти от хищнической долларовой кредитократии сильно, и альтернативные решения в основном связаны с Китаем. Дело в том, что, как и в период до 1914 г., прорыв должны возглавить страны, чьи финансовые системы – часть общественной инфраструктуры и сосредоточены на финансировании производства. Сегодняшняя финансовая система Китая является самой мощной, и у неё достаточно международных валютных резервов, чтобы противостоять спекулятивным атакам рейдеров или враждебных держав.Только такая альтернатива может создать кредит, который позволил бы экономике расти, а не быть механизмом её обеднения под бременем долгов, которые не финансируют производство (позволяющее их погашать) и не могут гаситься за счёт существующей торговли и инвестиционных трендов, не приводя при этом к обнищанию должников.
Это фундаментальное противоречие в финансовой философии создаёт мощное давление в направлении создания многостороннего и мультивалютного мира.

УМЕРЕННЫЙ ПРОГРЕСС В РАМКАХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ: ЖЕНЕВСКИЙ САММИТ И КИТАЙ
АЛЕКСАНДР ЛУКИН
Д.и.н., профессор, руководитель департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО.
Когда-то великий чех Ярослав Гашек, издеваясь над политической системой своей страны, создал партию умеренного прогресса в рамках закона. Он был левым идеалистом, а говоря реалистически, такая партия была бы, пожалуй, лучшим вариантом для любой страны. В этом смысле исход российско-американского саммита в Женеве, результатом которого можно назвать умеренный прогресс в рамках имеющихся возможностей, является успешным.
Успехом было уже то, что он состоялся в условиях, когда двусторонние отношения достигли исторического дна. Успехом было и то, что достигнуты некоторые договорённости и даже подписан один документ. Результаты саммита 2018 г. с Дональдом Трампом в этом смысле были гораздо более скромными, несмотря на все бравурные заявления американского лидера. Подписанное заявление о запуске комплексного диалога по стратегической стабильности означает, что Россия продолжает рассматриваться Вашингтоном как важнейший игрок на поле ядерных вооружений, и закрывать глаза на эту ситуацию уже нельзя. Что-то делать надо, но что именно, там явно ещё не решили. Обе стороны определят это в ходе конкретных переговоров, которые нужны и России, так как ей ни к чему новая гонка вооружений.
Хорошо это и для всего мира. В последнее время в обеих странах появились ястребы и просто абстрактные теоретики, рассуждающие о вреде системы нераспространения ядерного оружия и возможности или даже желательности признания ядерного статуса де-факто обладающих этим оружием государств. Реализация этих предложений крайне опасна как для мира, так и для России, поскольку это увеличило бы вероятность ядерной войны и девальвировало российский международный статус как одной из ведущих ядерных держав. К подобным предложениям с большой опаской относятся самые различные страны мира, в том числе Китай, для которого признание ядерного статуса, скажем, Индии или даже союзной КНДР, а тем более нуклеаризация Японии или Южной Кореи были бы крайне нежелательными. Новый диалог о стратегической стабильности с США с неизбежностью затронет и третьи страны. И к их реакции надо относиться с осторожностью.
Договорённость о возращении послов в столицы обеих стран является символической, она предназначена для создания более конструктивной двусторонней атмосферы в целом. За ней могут последовать другие подобные решения: об увеличении количества сотрудников дипломатических представительств, размораживании дипломатической собственности, визовым вопросам и тому подобное. Идею об обмене заключёнными не следует переоценивать. Кем, собственно, можно обменяться? В заключении в России находится вроде бы только один американец, обвинённый в шпионаже. Упоминавшийся Байденом бизнесмен Майкл Калви никак со шпионажем не связан и настаивает на своей невиновности. Вся история, связанная с ним, действительно сильно отпугивает от России американских бизнес-партнёров, так что всё вполне и так может закончиться оправданием. Российские же «политические» сами не пойдут на обмен, так как это будет означать признание в том, что они имеют какую-то связь с Соединёнными Штатами.
Крайне интересна договорённость о переговорах по кибербезопасности. Эта новая угроза, по ней с обеих сторон звучало много взаимных обвинений, но конструктивного разговора до сих пор не было. Важно здесь то, что одна из новых угроз человечеству, во-первых, признана в качестве таковой двумя оппонентами в международной системе, а во-вторых, именно США и Россия могут стать лидерами в её решении. Реализация подобной идеи повысит авторитет России в мире. Конечно, если она состоится. А не состояться она может по целому ряду причин, главная из которых – отсутствие решимости у американцев.
Уже в день переговоров Байдена начали критиковать за якобы сделанные России уступки. С совершенно абсурдным заявлением выступил бывший президент Трамп, заявивший о том, что отлично ладил с Путиным, но одновременно был гораздо более жёсток по отношению к России. В реальности в период его президентства двусторонние отношения значительно ухудшились, а его рассуждения о возможности прекрасных договорённостях с Москвой остались пустым звуком. Впрочем, абсурдны эти заявления только с точки зрения формальной логики, в действительности они означают, что оппозиция будет резко критиковать администрацию Байдена за слабость по отношению к России и Китаю. И, несмотря на авторитет американского президента и демократическое большинство в обеих палатах Конгресса, эта критика может привести к корректировке его позиции – так же, как ранее критика со стороны оппонентов привела к изменению многих первоначальных планов Трампа. Элиты и в США, и в Европе свято верят в свою исключительность и в то, что успехом любых переговоров можно признать только безоговорочную сдачу оппонента или хотя бы его серьёзные уступки.
Кроме того, неизвестно, насколько реализуема «доктрина Байдена» об одновременном давлении и сотрудничестве («идти и жевать жвачку одновременно»). Этот подход требует довольно тонкой тактики. Уклон в сторону давления может отбить желание другой стороны идти на сотрудничество, и напротив, крен в сторону сотрудничества вызовет мощную критику внутри. В России есть хорошая пословица о желании достичь двух противоположных целей одновременно, смысл которой сводится к тому, что сделать это весьма затруднительно.
Немаловажно и то, что за американо-российскими договорённостями внимательно и ревниво следят в самых разных странах, прежде всего дружественных США и России. Для Вашингтона здесь наиболее важными являются союзники в Европе, где в прессе уже начинают осуждать его за то, что он «легитимирует» российскую экспансию, для России – дружественный Китай. В Пекине традиционно с подозрением относятся к любым договорённостям между Москвой и Вашингтоном, опасаясь, что они станут каким-то сговором за китайской спиной. И сегодня среди китайских экспертов есть те, кто считает, что Москва сближается с Пекином лишь для того, чтобы укрепить свои позиции в конфронтации с Западом, и быстро перекинется на другую сторону, как только ей предложат выгодные условия. Хотя очевидно, что такое развитие событий в существующей международной ситуации невозможно и для России сотрудничество с Китаем важно само по себе, а не как козырь в какой-то геополитической игре, подобные идеи популярны как среди китайский ястребов-националистов, так и у некоторых прозападных аналитиков.
Конечно, российская сторона в рамках действующих механизмов стратегического партнёрства проинформирует Китай об итогах переговоров. Однако здесь, возможно, было бы необходимо сделать что-то большее. Например, известно, что Китай принципиально отказывается становиться третьей стороной в российско-американских ядерных переговорах. Однако, возможно, стоило бы попробовать предложить китайцам принять участие в какой-то открытой их части в качестве наблюдателей. Китай может пойти на это для получения информации, его участие или даже само предложение укрепит доверие между Москвой и Пекином. Что касается США, то им трудно будет отказаться, так как они первые выдвинули идею подключения Китая. Но даже если и последует отказ, то он будет на совести Вашингтона.

Янис Кивкулис: Текущая ситуация обещает стать весьма позитивной для российских нефтегазовых компаний
Как долго может продлиться ралли нефтяных цен и чего ждать от рынка в ближайшей перспективе, «НиК» рассказал ведущий стратег EXANTE Янис Кивкулис.
Котировки нефти марки Brent вплотную приблизились к психологически важному уровню $75 за баррель. Некоторые международные трейдеры, в числе которых Vitol, Gunvor и Glencore, верят в то, что уровень в $75 — это не предел, а глава Trafigura смело предположил, что цены на нефть даже могут подняться до $100 за баррель из-за дефицита предложения на фоне недостаточных инвестиций в нефтегазовом секторе.
«НиК»: Цена нефти достигла своих исторических максимумов с 2019 года. Какие факторы на это повлияли? Какой динамики ожидать в краткосрочной и долгосрочной перспективе?
— Выдающуюся динамику нефти обеспечило сочетание двух факторов сразу со стороны спроса и предложения. За прошедший год мы увидели восстановление конечного потребления и при этом сохранение исключительно стимулирующей монетарной политики, что толкает вверх как реальный (со стороны бизнеса), так и спекулятивный (на финансовых рынках) спрос на нефть.
Предложение же ограничено: добыча в США замерла на уровне 11 млн б/с примерно в сентябре прошлого года и не движется вверх, несмотря на цены и свободный рынок. В США компании традиционного сектора нефтедобычи теряют интерес инвесторов в связи с модой на зеленую энергетику и более строгими правилами инвестирования в традиционную энергетику. Параллельно ОПЕК+ заметно сдерживает свою добычу. Квоты повышаются, но спрос пока растет быстрее, что и видно по динамике цен.
«НиК»: Российская Urals также выросла в цене до $70. Каких перспектив можно ожидать по российской экспортной смеси? Будет ли динамика цен на нее отличаться от Brent и WTI?
— Скорее всего, динамика различных сортов нефти будет совпадать, сохраняя устоявшийся спред между различными сортами. На этой неделе котировки Brent достигли области максимумов 2019 года, где они пробыли недолго после атаки дронов в Саудовской Аравии. Развитие импульса роста поставит на повестку дня вопрос о возможном достижении $80 в качестве следующей значимой остановки, оставив Urals примерно на $2 ниже этого уровня.
«НиК»: Влияет ли уже фактор декарбонизации на объемы и направления поставок или пока только можно говорить о постковидном влиянии?
— Да, уже влияет. Это видно по ограниченному восстановлению добычи в США, которая стабилизировалась на уровнях на 2 млн б/с ниже, чем до пандемии. Цены прошли уровень до пандемии уже достаточно давно, но буровая активность пока позволяет лишь компенсировать выработку месторождений. После обвала котировок и деловой активности в 2009-м Штаты очень быстро наращивали добычу сланцевой нефти, выйдя на докризисные уровни намного раньше, чем это сделали цены. Сейчас мы видим проявление этих изменений среди инвесторов. Инвестиции в нефтедобычу резко сократились за прошлый год, и действительно встает вопрос, не вызовет ли это недостатка нефти на рынках.
Хорошо это или плохо, но ответить на этот вопрос можно будет лишь после прохождения ряда временных факторов, когда будет определенность по иранской сделке, по добыче в Ираке, а квоты ОПЕК+ будут почти полностью восстановлены. Негативные последствия этого состоят в том, что скачок цен на нефть лишь ускорит переход на альтернативные источники и дестабилизирует экономическое восстановление. Чтобы избежать второго, ОПЕК+ должен следить за реальным спросом, а не таргетировать цены.
«НиК»: Как повлияли цены на нефть на капитализацию российских нефтегазовых компаний?
— Текущая ситуация обещает стать весьма позитивной для российских нефтегазовых компаний. Они получают преимущество от восстановления спроса и планируемых повышений квот и благодаря падению рубля, имеют более высокую операционную эффективность.

Майкл Суэнвик: пандемия непредсказуемо изменит мир научной фантастики
Во время пандемии Большой литературный онлайн-проект объединил более тысячи писателей и творческих людей со всего мира в Сети. Как изоляция повлияла на литературный мир и авторов? Чем необходимо обладать молодому писателю, чтобы заявить о себе ? Об этом корреспонденту "Социального навигатора" МИА "Россия сегодня" рассказал президент Интернационального союза писателей, американский фантаст Майкл Суэнвик.
— Как пандемия коронавируса повлияла на мир фантастики?
— Поскольку требуется год, чтобы законченный роман перевести в печатный вид, еще рано судить о том, что изменилось в фантастике книжного формата. Но что касается более коротких форм, то очевидно, что писателям-фантастам карантин дал возможность писать еще больше. Журналам, которые раньше отвечали на заявку в течение недель, теперь требуются месяцы. Качество литературы остается высоким. Некоторые журналы перестали искать новые истории, так как уже расписали свои бюджеты на несколько месяцев вперед.
Карантин также ускорил интернационализацию научной фантастики. В американских журналах раньше редко можно было увидеть рассказы писателей из Азии или Африки, а сейчас это обычное дело. Это изменит мир научной фантастики совершенно непредсказуемым образом.
В общем, это хорошее время для любителей фантастики. Однако, все писатели, которых я знаю, ждут не дождутся возвращения нормальной жизни, даже если это будет означать меньше работы.
— Как изоляция повлияла на ваше творчество?
— Во время карантина я писал фантастические рассказы и обдумывал новые романы. Я мог бы воспользоваться этим временем для написания романа, но у меня не было подходящих идей. Так что я закончил несколько историй, которые несколько лет томились у меня на жестком диске, и также написал несколько новых работ. Один рассказ основан на задумке, которая посетила меня еще в 1977 году, за три года до выхода моего первого рассказа. Если вы писатель, никогда ничего не выбрасывайте.
Так вот, в период карантина я писал рассказы. Четыре из них вышли в прошлом году, и в этом году еще шесть опубликованы или ждут публикации. Около половины из них — истории, которые я хотел написать уже много лет, и вот наконец собрался. Я также работаю над будущими романами. Я не начинаю роман, пока не буду полностью уверен, что мне понравится над ним работать. Когда я решаю, какой он будет, я откладываю рассказы и приступаю к работе. Остальные идеи я воплощу в коротких новеллах.
— Как вы считаете, проведение фестивалей в онлайне — это временная мера или новая реальность?
— Этот формат определенно останется с нами, но скорее всего, в гибридной форме. В 2020 году большинство американских фестивалей научной фантастики перешли в онлайн, и этот опыт пришелся всем по душе. Появилась возможность пригласить большее количество известных писателей, поскольку организаторам уже не нужно было оплачивать им дорогу и проживание. Этот формат также сделал мероприятия более доступными для тех, кто не мог посещать их лично из-за ограниченных финансов, здоровья или жесткого рабочего графика. Повышая доступность мероприятий для разных участников, мы делаем мир более космополитичным.
Некоторые возможности, предоставляемые традиционными мероприятиями, недоступны в онлайне. К примеру, на офлайновой встрече можно подискутировать с незнакомыми участниками, выпить с друзьями в баре или получить совет по карьере. Так что никто не думает, что время традиционных встреч прошло.
Но онлайн-фестивали также никуда не исчезнут. Большинство организаторов американских фестивалей говорят, что, как только они смогут вернуться к традиционному формату, они непременно включат туда виртуальную составляющую, но пока неизвестно, каков будет ее масштаб. Никто не собирается встречаться исключительно в виртуальном пространстве. Похоже, будущее принадлежит гибридным мероприятиям, частично традиционным и частично виртуальным. Через пару лет правильный баланс будет найден.
— В предстоящем Большом литературном онлайн-проекте, который пройдет в июле, примут участие и фантасты. Какими навыками необходимо обладать автору-фантасту, чтобы его тексты заметили?
— Им нужны новые идеи. Предпочтительно, грандиозные новые идеи. Среднего пошиба писатели-фантасты создают имитацию той литературы, которую любили в юности. Великие же фантасты раздвигают рамки жанра. Если идеи достаточно хороши, даже не самый сильный стилист вроде Айзека Азимова может написать неплохую книгу. Если его стиль так же хорош, как идеи, есть шанс стать новой Урсулой Ле Гуин или Октавией Батлер. Что еще обязательно — это богатое воображение. Без него писатель никогда не сможет ничего достичь в научной фантастике.
Международный литературный онлайн-проект организован Интернациональным союзом писателей. Организация объединяет писательские союзы более 40 стран мира и защищает социальные и профессиональные права писателей и журналистов.

Пресс-конференция по итогам российско-американских переговоров
По окончании переговоров с Президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом Владимир Путин ответил на вопросы журналистов.
В.Путин: Уважаемые друзья, дамы и господа, добрый день!
Я в вашем распоряжении. Думаю, что нет необходимости вступительные слова какие-то долгие произносить. Темы примерно, наверное, всем известны: стратегическая стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения, ещё говорили о сотрудничестве в Арктике – вот примерный набор.
Пожалуйста, прошу, ваши вопросы.
Вопрос: Добрый вечер!
Может быть, Вы расскажете, какие темы вы обсуждали наиболее подробно? В частности, очень интересует украинская тематика – в каком контексте она затрагивалась, обсуждалась ли ситуация на Донбассе, обсуждалась ли возможность вступления Украины в НАТО?
И ещё: перед переговорами большие ожидания были связаны с возвращением послов двух стран в столицы. В частности, Ваш помощник Юрий Викторович Ушаков говорил, что это возможно. Приняты ли такие решения? И как в целом прошли переговоры?
Спасибо.
В.Путин: Что касается возвращения послов в места своей работы – в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон – российского: мы договорились о том, что этот вопрос решён, они возвращаются к месту своей службы постоянной. Когда конкретно – завтра, послезавтра – это вопрос чисто технического характера.
Договорились также о том, что Министерство иностранных дел Российской Федерации и Госдеп США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там есть о чём говорить, завалов накопилось очень много. Как мне показалось, обе стороны, в том числе американская, настроены на то, чтобы искать решение.
Что касается Украины, то да, эта тема затрагивалась. Не могу сказать, что уж очень подробно. Но, насколько я понял Президента Байдена, он согласен с тем, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать Минские соглашения.
По поводу возможного вступления Украины в НАТО – эта тема затрагивалась «мазком». Здесь, пожалуй, нечего обсуждать.
В общих чертах примерно так.
Вопрос: Владимир Владимирович, Вы сказали, что одной из тем была стратегическая стабильность. Могли бы рассказать подробнее, какие решения по этому вопросу? Будут ли Россия и США возобновлять или начинать переговоры по стратегической стабильности и разоружению и, в частности, по договору СНВ-3? Планируется ли начинать переговоры по дальнейшему его продлению, может быть, пересмотру параметров или вообще подписанию нового договора в этой сфере?
Спасибо.
В.Путин: На Соединённых Штатах Америки и на Российской Федерации лежит особая ответственность за стратегическую стабильность в мире исходя хотя бы из того, что мы являемся двумя крупнейшими ядерными державами – и по количеству боезапасов, боеголовок, и по количеству средств доставки, и по уровню, по качеству, современности ядерных вооружений. Мы эту ответственность осознаём.
Думаю, для всех очевидным является тот факт, что Президент Байден принял ответственное и, на наш взгляд, абсолютно своевременное решение о продлении договора СНВ-3 на пять лет, это значит до 2024 года.
Конечно, встаёт вопрос о том, что дальше. Мы договорились о том, что начнутся консультации на межведомственном уровне под эгидой Госдепа США и Министерства иностранных дел России. Коллеги на рабочем уровне определятся с составом этих делегаций, с местом работы и с периодичностью этих встреч.
Вопрос (как переведено): Добрый вечер!
Мэттью Ченс, CNN.
Спасибо за то, что предоставили мне слово.
Прежде всего не могли бы Вы охарактеризовать, как прошло в целом ваше заседание с Президентом Байденом? Было ли оно в конструктивном или во враждебном ключе?
Второе – по кибератакам: обсуждали ли вы их? Вы взяли на себя обязательства по киберсреде и по Украине?
В.Путин: Первое – общая оценка. Я считаю, что не было никакой враждебности. Наоборот, наша встреча проходила, конечно, в принципиальном ключе, по многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, всё-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен.
Что касается кибербезопасности: мы договорились о том, что мы начнём на этот счёт консультации. На мой взгляд, это чрезвычайно важно.
Теперь по поводу того, кто на себя должен брать какие обязательства. Хочу вас проинформировать о вещах, которые, в общем-то, известны, но не широкой публике. Из американских источников – я просто боюсь перепутать названия организаций, Песков Вам потом передаст – следует, что наибольшее количество кибератак в мире осуществляется с киберпространства США. На втором месте Канада, затем две латиноамериканские страны, потом Великобритания. России в этом списке стран, с территории, с киберпространства которых осуществляется наибольшее количество кибератак разного рода, не значится, как Вы видите. Это первое.
Второе: на протяжении 2020 года мы получили из США 10 запросов по поводу кибератак на объекты Соединённых Штатов Америки – как говорят наши коллеги – из киберпространства России. Два таких запроса – в этому году. На все из них – и в прошлом году, и в этом – наши коллеги получили исчерпывающие ответы.
В свою очередь Россия направила в прошлом году в соответствующую структуру США 45 таких запросов, а в первом полугодии этого года – 35. Ни одного ответа мы до сих пор не получили. Это говорит о том, что нам есть над чем работать.
Вопрос о том, кто, в каком объёме и по поводу чего должен брать на себя обязательства, должен решаться в ходе переговорного процесса. Договорились, что такие консультации мы начнём. Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще, для Соединённых Штатов, в частности, и для России тоже в таком же объёме.
Например, мы знаем о кибератаках на трубопроводную компанию в США. Знаем также, что компания вынуждена была заплатить пять миллионов шантажистам. Часть денег, по моей информации, уже вернули из электронных кошельков, а часть – нет. При чём здесь государственные органы России?
Мы сталкиваемся с такими же угрозами. В частности, например, [атака] на систему здравоохранения одного из крупных регионов Российской Федерации. Мы, конечно же, видим, откуда происходят атаки, видим, что эта работа координируется из киберпространства США. Я не думаю, что Соединённые Штаты, официальные власти заинтересованы в манипуляциях подобного рода. Нужно просто отбросить всякие инсинуации, на экспертном уровне сесть и начать работать в интересах Соединённых Штатов и Российской Федерации. Мы в принципе об этом договорились, и Россия к этому готова.
Дайте микрофон – какая-то часть вопроса осталась неотвеченной.
Реплика: Да, большое спасибо, что вернулись.
Вы приняли на себя обязательства остановить угрозы по отношению к Украине? Вы знаете, что были учения Российской Федерации.
И вторая часть вопроса: Вы обязались прекратить нападки на оппозицию в России, в отношении Алексея Навального?
В.Путин: Я не слышал эту часть вопроса: или её не перевели, или Вы просто подумали и решили задать второй вопрос.
Что касается обязательств по поводу Украины. У нас обязательство только одно – способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдём по этому пути, без всякого сомнения.
Между прочим, хочу обратить Ваше внимание на следующее. Ещё в ноябре прошлого года украинская делегация представила свои соображения о том, как она думает реализовывать Минские соглашения. Посмотрите, пожалуйста, это не секретный документ. Там написано, что прежде всего нужно представить предложения по поводу политической интеграции Донбасса в украинскую правовую систему и в Конституцию, для этого нужно внести изменения в саму Конституцию, там так прописано, – первое. И второе, что граница между Российской Федерацией и Украиной по донбасской линии начинает заниматься пограничными войсками Украины на следующий день после проведения выборов – статья 9.
Что предложила Украина? Она предложила первым шагом вернуть вооружённые силы Украины к местам своей постоянной дислокации. Что это означает? Это значит, что войска Украины должны зайти на Донбасс, – это первое. Второе: они предложили закрыть границу между Россией и Украиной в этой части. Третье: выборы провести через три месяца после этих двух шагов.
Не надо быть никаким юристом, не надо иметь специального образования, чтобы понять, что это ничего общего не имеет с Минскими соглашениями. Это полностью Минским соглашениям противоречит. Поэтому какие же здесь дополнительные обязательства может взять на себя Россия? Я думаю, что ответ понятен.
Что касается учений, мы проводим учения на своей территории, так же как Соединённые Штаты проводят на своей территории многие учения. Но мы не проводим учений, подтаскивая свою технику и личный состав к государственным границам Соединённых Штатов Америки. К сожалению, наши американские партнёры делают это прямо сейчас. Поэтому озабоченности должны быть не у американской стороны по этому поводу, а у российской. Но это тоже предмет разговоров и выяснения позиций.
По поводу нашей несистемной оппозиции и гражданина, о котором Вы упомянули. Первое: этот человек знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осуждённое к условной мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона – его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что он сознательно шёл на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Поэтому о чём здесь можно говорить?
Что касается таких, как он, и вообще системной оппозиции, к сожалению, формат пресс-конференции не даёт нам поговорить об этом подробно, но я хотел бы сказать следующее. Смотрите, я думаю, ничего сложного не скажу, это будет понятно. Если вы сочтёте возможным объективно донести это до ваших зрителей и слушателей, я буду за это вам очень благодарен.
Итак, Соединённые Штаты объявили Россию своим врагом и противником, Конгресс это сделал в 2017 году. В законодательство Соединённых Штатов внесены положения о том, что США должны поддерживать правила и порядок демократического управления в нашей стране и поддерживать политические организации. Это есть в вашем законе, в американском. Теперь давайте зададимся вопросом: если Россия – враг, то какие организации будет поддерживать Америка в России? Я думаю, что не те, которые укрепляют Российскую Федерацию, а те, которые её сдерживают, а это цель Соединённых Штатов, заявленная публично. Итак, это организации и люди, которые способствуют реализации политики Соединённых Штатов на российском направлении.
Как мы должны к этому относиться? Я думаю, что понятно: мы должны относиться к этому с настороженностью. Но действовать будем исключительно в рамках российского закона.
Вопрос: Павел Зарубин, ВГТРК.
Я как раз хотел продолжить эту тематику. Мы и сейчас тоже все с Вами свидетели, что с американской стороны постоянно звучит риторика о так называемых политических заключённых в России. А тема Навального вообще обсуждалась в ходе Ваших переговоров с Байденом? И как обсуждалась, если обсуждалась?
И ещё один важный вопрос. Мы все были свидетелями, конечно, что, скажем так, новый этап в российско-американских отношениях при старте президентства Байдена начался с очень грубого высказывания в Ваш адрес. Вот по этому поводу как-то удалось, может быть, объясниться?
Спасибо большое.
В.Путин: Президент Байден затрагивал тему прав человека и людей, которые считают, что они представляют эти вопросы в Российской Федерации. Да, мы говорили об этом по его инициативе — первое.
Второе — по поводу резких заявлений. Что сказать? Все мы знаем эти заявления. После этого Президент Байден мне позвонил, мы объяснились. Меня эти объяснения устроили. Он предложил нам встретиться – это же его инициатива. Мы встретились, и, повторяю, разговор был весьма конструктивный. Я лишний раз убедился в том, что Президент Байден – человек очень опытный, это совершенно очевидно. Мы с ним с глазу на глаз разговаривали почти два часа. Не со всеми лидерами так подробно идёт разговор с глазу на глаз.
Что касается различного рода обвинений, вспомните: его предшественнику задали такой же вопрос — он уклонился. Действующий Президент США решил ответить таким образом, и его ответ отличался от ответа господина Трампа.
Вы знаете, в принципе за всё, что происходит в наших странах, так или иначе несёт ответственность политическое руководство и первые лица – по поводу того, кто, где и в чём виноват, кто убийца. Посмотрите, ведь на улицах американских городов каждый день кого-то убивают, в том числе и лидеров различных организаций. Там слова не успеешь сказать — уже стреляют либо в грудь, либо в спину. Вне зависимости от того, рядом с тобой дети или человек просто – я помню, женщина бросила машину, побежала, её в спину застрелили. Ну ладно, это криминальные вещи. Возьмём Афганистан: там одним ударом по 120 человек убивали, свадьбы уничтожали — раз и два. Допустим, это ошибка, такое тоже бывает. Но расстрел с беспилотников или вертолётов явно гражданских лиц в Ираке – это что такое? Кто несёт за это ответственность? Кто убийца?
Или по правам человека. Послушайте меня, Гуантанамо до сих пор работает. Вообще не соответствует ничему: ни международному праву, ни американским законам — ничему, а до сих пор существует. Тюрьмы ЦРУ, которые были открыты в разных странах, в том числе и в европейских государствах, где пытки применялись, – это что такое? Это права человека? Думаю, что нет, правда?
Вряд ли кто-то из сидящих в зале согласится, что так защищают права человека. Это же практика реальной политики. И мы, исходя из этой практики, понимая, что это делалось и может делаться, выстраиваем и своё отношение к тому, о чём я только что говорил, в том числе и к тем лицам, которые получают деньги из-за рубежа, чтобы отстаивать интересы тех, кто им платит.
Вопрос: Мурад Газдиев, RT.
Вопрос про Арктику. Вы говорили, что о ней разговаривали.
США уже долгое время обвиняет Россию в милитаризации Арктики и её союзники тоже. Недавно, в мае, мы слышали от госсекретаря Блинкена о его озабоченности действиями российских военных. Что именно говорилось?
В.Путин: Да, эту тему мы обсуждали в широком формате и достаточно подробно. Очень важная, интересная тема, имея в виду, что освоение Арктики вообще и Северного морского пути в частности представляет огромный интерес для экономики очень многих стран, в том числе нерегиональных.
Эти озабоченности американской стороны по поводу милитаризации не имеют под собой абсолютно никаких оснований. Мы ведь ничего там не делаем такого, чего не было в Советском Союзе. Мы восстанавливаем утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру. Да, мы делаем это на современном уровне: инфраструктуру и военную, и пограничную, и чего там не было — инфраструктуру, связанную с охраной природы. Мы там создаём соответствующую базу для МЧС — Министерства по чрезвычайным ситуациям, имея в виду возможность спасения людей на море, если до этого дойдёт, не дай бог, или защиту окружающей среды.
Я сказал нашим коллегам, что не вижу здесь никакой озабоченности. Напротив, я глубоко убеждён, что мы можем сотрудничать и должны сотрудничать по этому направлению. Россия, как и Соединённые Штаты, является одним из восьми членов Арктического совета. Россия председательствует в этом году в Арктическом совете. Больше того, между Аляской и Чукоткой проходит известный пролив: с одной стороны — США, с другой стороны — Россия. Всё это вместе должно нас подталкивать к объединению усилий.
Ситуация с использованием Северного морского пути регулируется международным правом. Собственно говоря, это два основных акта: Конвенция по морскому праву 1982 года, по-моему, и Полярный кодекс, состоящий из нескольких документов и ратифицированный в 2017 году. Я обратил внимание наших партнёров на то, что мы, Россия, намерены в полном объёме придерживаться этих международных правовых норм. Мы никогда ничего не нарушали.
Мы готовы оказывать содействие всем заинтересованным странам и компаниям в освоении Северного морского пути. Сейчас говорят, что навигация уверенно длится полгода, но на самом деле больше, и по мере изменения климата будет практически круглогодичной, со вступлением в строй наших новых ледоколов, включая «Лидер». Атомный ледокольный флот у нас, в России, самый мощный в мире. На этом направлении он в высшей степени востребован.
Напомню, что Конвенция по морскому праву посвящена тому, что описывает правовой режим мировых вод, в частности: внутренние воды, внутреннее море, территориальное море, прилегающее море, исключительная экономическая зона и свободное открытое море. Внутреннее море — это то, что находится как бы внутри территории. Затем территориальное море — 12 морских миль, прилегающее — плюс ещё 12 морских миль. По территориальному морю прибрежное государство обязано предоставить мирный проход, в том числе и военным кораблям. Мы разве против? Мы — за.
Что касается внутреннего моря, там особый режим, здесь мы ничего никому не обязаны предоставлять. Вот таких пространств внутреннего моря, чтобы вы представляли, их, дай бог памяти, пять: Обская губа, Енисейский залив и так далее – всего пять заливов, или губ, так назовём их. Общая протяжённость этой трассы – почти тысяча морских миль, 960, по-моему, миль. Это наше суверенное право — пропускать там суда или нет. Но мы не злоупотребляем этим правом, мы предоставляем [проход] всем желающим.
У нас в прошлом году тысяча заявок была. По-моему, отклонили только десять заявок – и то это в основном корабли под российским флагом, которые, как посчитали наши соответствующие контролирующие органы, не отвечали требованиям Полярного кодекса. А Полярный кодекс в свою очередь определяет качество или требования к различным судам и техническим устройствам на них.
Если мы все вместе, заинтересованные страны в том числе, а может быть и прежде всего страны — члены Северного совета, вместе будем работать над решением всех этих вопросов, – а там есть вопросы, которые требуют дополнительного рассмотрения, – я просто не сомневаюсь, мы найдём все решения, все развязки. Не вижу ни одной проблемы, которую мы не могли бы решить.
Вопрос: Добрый день, Владимир Владимирович!
Хорошие или хотя бы неплохие отношения между Россией и Америкой всегда были залогом глобальной стабильности и спокойствия. У нас сейчас отношения такие, как Вы охарактеризовали перед этой встречей. Байден с Вами согласился. Теперь Вы говорите: взаимное уважение, достаточное спокойствие и теплота были спутниками этой беседы.
До встречи Вы говорили о «красных линиях», о понятии «красных линий» для России. У американцев тоже явно есть «красные линии». Удалось ли сейчас на встрече договориться о «незаступе» именно за «красные линии»? Это касается всего во всех вопросах – вот этот «незаступ», который улучшил бы или хотя бы стабилизировал наши отношения.
Спасибо.
В.Путин: Могу Вам сказать, что в целом нам понятно, о чём говорят наши американские партнёры, им понятно, о чём мы говорим, когда речь ведём о «красных линиях».
Должен Вам сказать откровенно, так далеко и подробно расставлять акценты и что-то делить – до этого, конечно, мы не дошли. Но имея в виду, что мы договорились работать и по кибербезопасности, и по стратегической стабильности в ходе этих консультаций, так же, кстати говоря, как и по совместной работе в Арктике, по некоторым другим направлениям, я думаю, всё это постепенно должно быть предметом наших обсуждений и, надеюсь, договорённостей.
Вопрос (как переведено): Большое спасибо, что согласились ответить.
Байден неоднократно говорил, что будет отвечать на кибератаки из России, если они не прекратятся. Если не секрет, что он говорил? Какие-то угрозы, может быть? Что сделают США, если Россия не прекратит?
И вопрос по Алексею Навальному. Его Фонд борьбы с коррупцией был объявлен вне закона, был объявлен экстремистской организацией, и все, кто в ней участвуют, не могут избираться. Почему Вы этого боитесь? И чего Вы боитесь?
В.Путин: Ещё раз повторю то, что уже сказал, по различного рода так называемым иностранным агентам и по людям, которые себя позиционируют как несистемную оппозицию. Я уже отвечал Вашим коллегам, по-моему, CNN, но, видимо, таковы законы жанра, что нужно сказать, отвечая прямо на Ваш вопрос. Пожалуйста, я с удовольствием сделаю это ещё раз.
В Соединённых Штатах принят закон, согласно которому США объявили о том, что будут поддерживать определённые политические организации в России, в то же время объявили Российскую Федерацию врагом, публично сказали о том, что будут сдерживать развитие России. Вопрос: какие же политические организации Соединённые Штаты и другие участники западного сообщества должны поддерживать в России, если они при этом ещё им и платят? Ясно, что мы так же, как американцы в 1930-х годах, объявили их иностранными агентами, но работа не запрещена, они могут работать.
Объявление иностранным агентом не прекращает деятельность той или иной организации. Если организация имеет экстремистский характер, это другая история. Вот та организация, о которой Вы сказали, публично призывала к массовым беспорядкам, публично вовлекала, что противозаконно, в уличные мероприятия несовершеннолетних — это запрещено российским законом — и публично давала инструкции о том, как готовить, например, «коктейли Молотова», для того чтобы использовать их против правоохранительных органов, выставляя при этом напоказ установочные данные полицейских.
Америка совсем недавно столкнулась с тяжелейшими событиями после известных событий, после убийства афроамериканца и создания целого движения Black Lives Matter. Я сейчас не буду это комментировать, просто хочу сказать: то, что мы видели погромы, то, что мы видели нарушения закона и так далее, – мы сочувствуем американцам и американскому народу, но не хотим, чтобы это происходило на нашей территории, и сделаем всё для того, чтобы этого не допустить. И какая-то боязнь здесь совершенно ни при чём.
Вы хотите добавить? Пожалуйста. Дайте микрофон, пожалуйста.
Реплика: Вы не ответили на вопрос. Смотрите, всех Ваших политических противников – кого убьют, кого в тюрьму бросят. Это разве не сигнал обществу, что Вам не нужна честная политическая конкуренция?
В.Путин: По поводу того, кого убьют или в тюрьму бросят. С политическими требованиями люди вошли в Конгресс США после выборов. Против 400 человек возбуждены уголовные дела, им грозит тюремное заключение до 20, а может быть, до 25 лет. Их объявляют внутренними террористами, обвиняют в ряде других преступлений. 70 было арестовано сразу после этих событий, и 30 из них до сих пор находятся под арестом. На каком основании — тоже непонятно, ведь никто из официальных властей Штатов нас об этом не информирует. Там погибло несколько человек, одну из участниц полицейский просто застрелил на месте, при этом она не угрожала полицейскому оружием. Во многих странах происходит всё то же самое, что у нас. Хочу ещё раз подчеркнуть: мы сочувствуем тому, что произошло в США, но мы не хотим допустить, чтобы то же самое происходило у нас.
Вопрос: Здравствуйте!
Дмитрий Лару, газета «Известия».
Удалось ли с американской стороной договориться о возвращении некоторых россиян, которые отбывают наказание в американских тюрьмах? Если да, то когда это может произойти?
Спасибо.
В.Путин: Мы говорили об этом. Президент Байден поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы в Российской Федерации, мы это пообсуждали. Там могут быть найдены определённые компромиссы. Министерство иностранных дел России и Госдеп США поработают в этом направлении.
Вопрос: Здравствуйте!
Михаил Антонов, телеканал «Россия-1».
Вы сказали, что обсуждали с Байденом торговлю – это, наверное, та самая позитивная повестка, которая может быть. Бизнес обеих стран заинтересован в развитии. Какие Вы здесь видите перспективы?
Спасибо.
В.Путин: Это зависит не от нас, это зависит от американской стороны. Мы же не вводим никаких ограничений. Я думаю, что после введения определённых ограничений в сфере экономики, товарообменов Соединённые Штаты потеряли не меньше, чем Россия. Да, это как-то повлияло на наше развитие, отчасти в этом смысле США выполнили свою задачу сдерживания развития России, но ничего критического здесь нет абсолютно. Это первое.
Второе – это касается заинтересованности американского бизнеса. Самая большая делегация на Петербургском экономическом форуме, 200 человек, – американская делегация. В результате того что введены ограничения, в том числе для американских компаний, некоторые американцы ушли с потерями и отдали этот бизнес в руки своих конкурентов из других стран, мы говорили об этом. Ну зачем? Смысла практически никакого, а потери есть.
У нас торговый оборот с США сейчас, по-моему, 28 миллиардов долларов. В первом квартале текущего года он подрос на 16,5 процента. Если такая тенденция сохранится, мне кажется, это пойдёт на пользу всем. Мы говорили об этом.
Вопрос: Энн Симмонс, The Wall Street Journal.
Господин Президент, спасибо большое, что у меня есть возможность задать вопрос.
Несколько лет назад Вы встретились с Президентом Байденом, когда он был вице-президентом. Он сказал, что посмотрел Вам в глаза, и он не увидел там души. Вы сказали: значит, мы понимаем друг друга.
Скажите, пожалуйста, Вы посмотрели ему в глаза? И что Вы там увидели? Вы увидели человека, с которым Вы можете работать? Скажите, пожалуйста, Президент Байден пригласил Вас посетить Белый дом? Если так, Вы согласились туда поехать?
Спасибо.
В.Путин: Президент Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не сделал такого приглашения. Мне кажется, что для таких поездок, для таких встреч, для таких визитов должны созреть условия.
Что касается «посмотреть в душу», увидеть, не увидеть там чего-нибудь – я слышу это не в первый раз. Честно говоря, я такого разговора не помню, но допускаю, как-то это прошло мимо моего внимания. Но если Вы меня спросили о том, каков собеседник и партнёр Президент Байден, я могу сказать, что очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал, очень опытный, это сразу видно.
Он вспоминал немножко о своей семье, о том, о чём с ним мама говорила, – это важные вещи. Они не имеют вроде бы прямого отношения к делу, но тем не менее всё-таки показывают уровень или качество его моральных ценностей. Это всё достаточно привлекательно, и мне кажется, что мы в целом говорили на одном языке. Это совсем не значит, что мы должны обязательно заглядывать в душу, в глаза и клясться в вечной любви и дружбе, – совсем нет. Мы защищаем интересы наших стран, народов, и эти отношения всегда прежде всего носят прагматический характер.
Андрей, пожалуйста.
Вопрос: Андрей Колесников, газета «Коммерсант».
Владимир Владимирович, и всё-таки по результатам этой встречи у Вас появились какие-то новые иллюзии?
В.Путин: У меня и старых-то не было, а Вы говорите про новые. Откуда Вы взяли про иллюзии? Иллюзий никаких нет и быть не может.
Вопрос: Здравствуйте!
Павел Ремнёв, телеканал «Звезда».
Владимир Владимирович, два вопроса тоже. Относительно глобальных изменений в климате говорили ли Вы с Президентом Байденом?
И второй вопрос относительно американских СМИ. Вы недавно давали большое интервью NBC. Вам кажется справедливым, что Вы даёте интервью американским средствам массовой информации, в то время как американские президенты не дают интервью нашим средствам массовой информации? Находите ли Вы влияние этих интервью позитивным, если Ваши слова искажают постоянно и, честно говоря, разговаривают не очень уважительно?
Спасибо.
В.Путин: Вы знаете, по поводу искажений, недомолвок или, наоборот, каких-то атак – такова практика международных отношений сегодня. Ничего здесь не сделаешь, я к этому привык давно, и с этим мы все живём десятилетиями.
Что касается того, кто какие интервью даёт, – это решает соответствующий лидер или сторона, если хочет что-то донести дополнительно до людей. Мы стараемся это сделать, мои интервью американской прессе именно с этим связаны.
Что касается деятельности наших средств массовой информации вообще: например, Президент Байден поставил вопрос о работе «Свободы» и «Свободной Европы» в России, которых мы объявили иноагентами. У меня создалось впечатление, что члены американской делегации не знали, что до этого – у нас всего-то два таких средства массовой информации, которые работают на зарубежную аудиторию, Russia Today и Sputnik – до этого американская сторона объявила их иноагентами у себя, лишила аккредитации, и то, что мы сделали, сделали в ответ. При этом Russia Today выполняет все требования американского регулятора и закона, соответствующим образом там регистрируется и так далее, хотя им создают достаточно много проблем с наймом персонала, с финансовыми проводками и так далее.
У нас таких проблем нет, и, к сожалению, американские средства массовой информации не выполняют до конца требования российского закона.
Мы объяснились на этот счёт. Надеюсь, что и в этом направлении нам удастся через Министерство иностранных дел работу наладить.
Вопрос: Галина Полонская, Euronews.
Мы все видели, как Вы пожали руку Джо Байдену в самом начале. Мой вопрос таков: удалось ли всё-таки выйти на новый уровень взаимопонимания и, главное, доверия с Президентом США? Считаете ли Вы реалистичным на данном этапе выйти на новый этап отношений, когда они будут абсолютно понятными, прозрачными, – собственно, то, к чему обе страны хотят прийти?
В.Путин: Знаете, Лев Толстой как-то сказал: в жизни нет счастья, есть только зарницы его, дорожите ими. Мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но «зарницы» его, мне кажется, промелькнули.
Прошу Вас, пожалуйста.
Вопрос: Иван Благой, «Первый канал».
Тема коронавируса, конечно, одна из самых важных сейчас на планете. Обсуждалась ли эта тема на встрече с американским Президентом? Если да, какие возможны перспективы работы совместно с американцами, для того чтобы побороть эту заразу? Может быть, речь идёт в том числе о взаимном признании вакцин?
В.Путин: Мы упомянули эту тему, но только вскользь.
Как Вы знаете, ещё при прежней администрации мы откликнулись на просьбу американской стороны и даже направили туда нашу технику в виде гуманитарной помощи. Америка – большая, мощная страна, и дело не в том, что у них каких-то денег не хватало, просто в тот момент они крайне нуждались в системах ИВЛ. Мы это сделали, как Вы знаете, сделали абсолютно бескорыстно. Мы готовы к сотрудничеству по этому направлению и в будущем, но подробно мы об этом сегодня не говорили.
Вопрос: Три года назад Вы встречались в том числе с Президентом Трампом. После этой встречи отношения между странами ещё более ухудшились. Есть ли какие-то факторы, которые позволяют рассчитывать на то, что это не произойдёт снова? Достигли ли мы в отношениях с США того дна, от которого можно оттолкнуться?
Спасибо.
В.Путин: Мне трудно сейчас сказать, потому что все действия, связанные с ухудшением российско-американских отношений, инициировались не нами, а американской стороной. Конгрессмены – народ изобретательный, чего они там ещё напридумывают, я не знаю.
Пожалуйста.
Реплика: Александр Гамов, «Комсомольская правда».
Я не знаю, Вы в курсе или нет, наши выиграли у финнов, счёт 1:0.
В.Путин: Молодцы! Поздравляю!
Вопрос: Если оценивать, допустим, с таких же позиций встречу Байдена и Путина, какой счёт у этой встречи?
Второй вопрос. Всё-таки американцы, до того как приехать в Женеву, чуть ли не каждый день говорили: мы будем давить на Россию, будем давить на Путина. Вы ощутили это давление и как Вы ему противостояли? Наверное, это главный вопрос, который Россию интересует, мне кажется: как наш Путин себя вёл в Женеве?
Я думаю, в принципе достаточно.
В.Путин: Я тоже так думаю.
Реплика: Спасибо.
В.Путин: Никакого давления мы не испытывали, хотя разговор был прямой, открытый и без всяких лишних дипломатических отклонений от заданных тем. Я повторяю ещё раз: ни с нашей стороны, ни с их стороны никакого давления не было, да и бессмысленно, люди же не для этого встречаются.
Первая часть Вашего вопроса?
Реплика: С каким счётом?
В.Путин: Счёт. По-моему, до нашей встречи Президент Байден сказал, что это же не какие-то спортивные соревнования, и я в этом смысле с ним полностью согласен. Что мы здесь будем счета устанавливать? Встреча была в целом результативной. Она была предметной, конкретной и проходила в атмосфере, которая настраивала на достижение результатов, а главный из них – это те «зарницы» доверия, о которых мы сейчас говорили с Вашей коллегой из Euronews.
BBC News, пожалуйста.
Вопрос: Спасибо.
Стивен Розенберг, BBC News.
Владимир Владимирович, Джо Байден призывает к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Но на Западе считается, что непредсказуемость – это черта российской внешней политики. Готовы ли Вы отказаться от непредсказуемости ради улучшения отношений с Западом?
Спасибо.
В.Путин: Вы большой компилятор и достигли в этом известного уровня искусства, Вам можно позавидовать. Первая часть Вашего вопроса: на Западе считают… А вторая часть вопроса: готовы ли Вы от этого отказаться? Ведь если на Западе считают, это совсем не значит, что так оно и есть.
Позвольте мне ответить сначала на первую часть Вашего вопроса. Вы сказали, на Западе считают, что российская внешняя политика является непредсказуемой. Позвольте послать Вам «ответную шайбу». Выход Соединённых Штатов в 2002 году из Договора по ПРО – абсолютно непредсказуемая вещь. Зачем надо было это делать, разрушая основу международной стабильности в сфере стратегической безопасности? Потом выход из Договора по ракетам средней и меньшей дальности в 2019 году. Чего же здесь стабильного? Ничего стабильного нет. Выход из Договора по открытому небу – чего стабильного-то? Почти ничего не осталось в сфере стратегической стабильности. Слава богу, Президент Байден принял абсолютно адекватное решение о продлении СНВ на пять лет.
Если Вы возьмёте ситуацию, связанную с Украиной, с Крымом, – от этого все пляшут, правда? Спрашивается, а что стабильного в том, что поддержали государственный переворот на Украине, когда бывший Президент Янукович согласился со всеми требованиями оппозиции? Он готов был, по сути, уйти от власти и через три месяца объявить новые выборы. Нет, надо было совершить кровавый госпереворот, который привёл к известным последствиям – юго-восток и Крым затем.
И Вы считаете, что мы ведём себя непредсказуемо? Нет, я так не думаю. На мой взгляд, мы ведём себя абсолютно адекватно возникающим для нас угрозам. Полагаю, для того чтобы ситуация была действительно стабильная, нам нужно договориться о правилах поведения во всех тех областях, которые мы сегодня упоминали: это и страгстабильность, это кибербезопасность, это решение вопросов, связанных с региональными конфликтами.
Мне думается, что обо всём этом можно договориться, во всяком случае, у меня сложилось сегодня такое впечатление по результатам нашей встречи с Президентом Байденом.
Давайте дадим слово кому-то из иностранных изданий. Bloomberg, давайте, и закончим на этом.
Вопрос: Bloomberg News, Илья Архипов.
Владимир Владимирович, в 2016 году, после встречи с Трампом, были очень быстро приняты американские санкции, очередной раунд. Вы получили на переговорах сегодня с Джо Байденом какие-то гарантии того, что в ближайшее время санкций с американской стороны в отношении России не будет?
И по результативности, о которой Вы говорили, что зачатки доверия обозначились. У Вас есть к Байдену с точки зрения выполнимости тех начальных договорённостей, о которых Вы сегодня разговаривали, больше доверия и уверенности, что он это сможет сделать, потому что считается, что государственный американский аппарат более солидарен с линией Президента США сейчас, чем во время правления Дональда Трампа?
И те моменты, о которых Вы говорили, по поводу консультаций по кибербезопасности, по консультациям по Украине: я не понял, будут какие-то по кибербезопасности созданы рабочие группы? И те «красные линии», о которых Вы сказали: всё-таки Вы их конкретно друг другу обозначили и можете Вы всё-таки нам сказать?
Спасибо.
В.Путин: По поводу «красных линий» я уже сказал много раз. Это понимание рождается в ходе переговорных процессов по ключевым направлениям взаимодействия. Пугать друг друга бессмысленно. Когда люди встречаются для переговоров, чтобы наладить отношения, так никогда не делается, иначе не нужно встречаться.
Что касается санкций, ограничений в экономике: я уже сказал, мы не знаем, каковы там настроения внутриполитические, не знаем расклад сил, то есть мы знаем, но не можем до деталей понять там происходящие события. Есть противники развития отношений с Россией, есть сторонники – какие там силы возобладают, мне трудно сказать.
Но если после нашей встречи начнутся шаги, о которых Вы вспомнили, как в 2016 году, то это будет означать очередную упущенную возможность.
Пожалуйста. И будем заканчивать.
Вопрос (как переведено): Добрый вечер!
Господин Президент, спасибо большое.
Тамара Альтереско, «Радио Канада».
Вы моим коллегам говорили: Вы хотели бы, чтобы задавали честные вопросы, непредвзятые. Вопрос от моей девятилетней дочки. Я поехала в командировку, и она спросила: «Что это за саммит? Почему он такой важный?» Что бы Вы ответили девятилетней девочке? Ответьте мне, как ответили бы девятилетней дочке. Почему такие сложные отношения между Россией и США? Она хочет знать, я хочу знать. Почему молодёжи не дают протестовать, выходить на протесты на улицы?
В.Путин: Это здорово, что Ваша девятилетняя дочь интересуется этими вопросами. Ответить очень просто. Надо посмотреть вокруг себя и сказать: «Видишь, как прекрасен этот мир? Взрослые люди, руководители двух стран, крупнейших ядерных держав, встречаются для того, чтобы сделать этот мир безопасным, надёжным, процветающим домом для всех жителей нашей планеты. Они будут обсуждать вопросы, связанные со страшным оружием, которое нужно ограничивать и выработать общие правила неприменения. Они будут говорить о защите окружающей среды, о том, чтобы реки были чистыми, моря были чистыми, чтобы не было наводнений, не было засухи, для того чтобы было достаточно в этой связи продовольствия для всех жителей планеты, где бы они ни находились. Они будут говорить о вопросах здравоохранения, чтобы, когда дети растут, они меньше болели, чтобы они могли учиться и смотреть уверенно в будущее».
Мне бы очень хотелось, чтобы и нашу сегодняшнюю встречу, уважаемые дамы и господа, вы освещали именно исходя из этих соображений.
Благодарю вас за внимание. Всего доброго!

Без шума и пыли
Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")
Первый визит Джозефа Байдена в Европу получился содержательным. Об итогах его встречи с Владимиром Путиным мы еще узнаем, но серия мероприятий с участием президента США в Великобритании, а потом Бельгии (переговоры с британским премьером, "семерка", НАТО, ЕС) позволяют сделать очень внятные выводы. Стратегия Соединенных Штатов стала чрезвычайно целеустремленной. Цель - торможение и сдерживание Китая.
Байден вел избирательную кампанию и выиграл ее как анти-Трамп. Соответственно, предполагалось, что политика новой администрации будет представлять собой антипод линии предшественников. По ряду знаковых направлений - прежде всего изменение климата, контроль над ядерными вооружениями и договоренности по иранской атомной программе - так и произошло. Но в других сферах линия, несмотря на кардинально иную стилистику, оказалась более чем преемственной. И направление главного удара - прежнее: Китай.
Дональд Трамп запомнился яркими антикитайскими мемами и нескончаемой похвальбой на тему о том, как он прижмет к ногтю КПК и заставит Пекин плясать под американскую дудку. Байдену подобное несвойственно, шума немного, зато эффективность - не в пример бывшему оппоненту. Европейские союзники, не пылая особым энтузиазмом, фактически приняли на вооружение антикитайскую повестку США. В итоговом документе саммита "Большой семерки" Китай упоминается четыре раза, и все - в негативном контексте: нарушение прав и свобод человека, особенно в Синьцзяне, недостаточная прозрачность по коронавирусу (участники согласились с необходимостью более детально расследовать версию о его искусственном происхождении), дестабилизирующая деятельность в южных морях и использование нерыночных методов конкуренции. Позитива никакого вообще. А заключительное коммюнике встречи в верхах НАТО впервые однозначно называет Китай риском для безопасности альянса. Напомним - Североатлантического.
Европа не имеет жгучего желания втягиваться в американо-китайскую стратегическую конфронтацию, лидеры Франции, Италии и особенно Германии на это указали. Но установочные документы приняли, а всё остальное уже лирика. Запад выстраивается в общий фронт противостояния Пекину и без всяких карнавальных боевых кличей Трампа.
Китай такой решительности, кажется, не вполне ожидал. Иллюзий отказа Вашингтона от линии на противостояние в Пекине не имели, но в основном все рассчитывали на передышку после прихода Байдена. Ничуть не бывало. С чем это связано и что это означает для России?
Сама по себе холодная война США против КНР прогнозировалась давно, вопрос был в сроках и интенсивности. Китай для США - несомненный стратегический конкурент. Вопреки ожиданиям, Байден не отказался от провозглашенной Трампом концепции великодержавного противостояния как основного содержания международных отношений на данном этапе. Многие полагали, что Байден возродит идею "глобального лидерства" Америки, которой Вашингтон руководствовался на протяжении 25 лет после окончания холодной войны. Трамп отбросил ее как ненужную, хотя эрозия данного понятия началась еще при Бараке Обаме. Байден повел себя хитроумнее. Его лозунг - не "глобальное лидерство", а "Америка возвращается". Как хочешь, так и понимай. Лидерству вроде бы и не противоречит, но и противостояние вполне вписывается.
Байден нашел способ сочетать идею конфронтации с равновеликими противниками (трамповская инновация) и идеологическую оболочку либерального превосходства (в духе глобального лидерства). Иными словами, это воспроизводство схемы первой холодной войны - деление мира и по силовой, и по идейной линии. Но это требует консолидации единомышленников, стран-союзниц, которые и так несколько начали разбредаться по интересам, а за время Трампа вовсе перепугались того, какими могут стать США. Байден был настолько желанным для Европы олицетворением дяди Сэма, что сам его приход уже заставил европейцев потянуться обратно к Новому Свету. Но для стратегического смыкания рядов против Китая этого недостаточно. И вот тут на сцену выходит привычная причина беспокойства одних и страха других в Старом Свете - Россия. Традиционный противник, ничего нового придумывать не надо. И если Россию риторически соединить с Китаем, рождается убедительная угроза: авторитарные гиганты против "свободного мира". Что и требовалось доказать.
Насколько эта элегантная схема будет работать, предсказать трудно. Повторное вхождение в одну реку не дает идентичного результата, повторить классическую холодную войну в третьем десятилетии XXI века не получится. Слишком всё изменилось. Но байденовской администрации надо отдать должное. Пока она действует весьма последовательно и демонстрирует целостность мировоззрения. Кстати, многие замечают, как технично Байден оттер в тень своего левоориентированного вице-президента Камалу Харрис, которую после выборов считали чуть ли не реальной правительницей Соединенных Штатов. Ее в духе советской традиции отправили "на сельское хозяйство", точнее, в данном случае - на борьбу с коррупцией и нелегальной миграцией. Тоже гиблое дело.
В общем, недооценивать Байдена не стоит. С интересом посмотрим, что он приготовил для президентского рандеву с Путиным. Правда, российского президента трудно чем-то удивить.

Владимир Путин: Для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России
Фундаментальные основы российской государственности, российской экономики, политической системы будут такими, что она будет твёрдо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее.
Президент России Владимир Путин встретился с журналистом телекомпании NBC Киром Симмонсом и ответил на его вопросы. В откровенной и обстоятельной беседе речь шла, в частности, о проблемах стратегической стабильности, отношениях между Россией и США, Россией и КНР, предстоящем саммите в Женеве, кибербезопасности, международном сотрудничестве в космосе, ситуации в Сирии. Запись интервью состоялась 11 июня в Кремле. Приводим выдержки из ответов главы Российского государства.
О российско-американских отношениях
У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а всё-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединённых Штатов, так и России. Поэтому здесь нет ничего необычного. На самом деле мы, несмотря на такую, казалось бы, жёсткую риторику, ожидали таких предложений, потому что внутриполитическая повестка в Штатах не давала нам возможности восстанавливать отношения на каком-то приемлемом уровне. Это должно было состояться рано или поздно.
Ну вот президент Байден проявил такую инициативу. До этого, как вы знаете, он поддержал продление Договора о СНВ, что не могло не встретить с нашей стороны поддержку, потому что мы считаем, что этот договор в сфере сдерживания стратегических наступательных вооружений достаточно проработан, отвечает нашим интересам – и российским, и американским. Поэтому такое предложение было вполне ожидаемым.
О предстоящем саммите в Женеве
Мы знаем, какие вопросы, какие проблемы хотят американцы с нами обсуждать. Мы понимаем эти вопросы и проблемы, мы готовы к этой совместной работе. Есть у нас определённые если не разногласия, то разное понимание, каким темпом и по каким направлениям мы должны двигаться. Знаем, что является приоритетным для американской стороны. В общем, это процесс, который нужно двигать на профессиональном уровне: по линии Министерства иностранных дел, Госдепа, соответственно, Пентагона и Министерства обороны России. Мы к этой работе готовы.
Мы слышали сигналы, что американская сторона хотела бы возобновления этих переговоров на профессиональном, экспертном уровне. Посмотрим. Если после встречи на высшем уровне условия будут для этого созданы – пожалуйста, мы же не отказываемся, мы готовы к этой работе.
О стабильности и предсказуемости в международных отношениях
Может быть, когда-то в чём-то наши риторики расходятся, но если вы спрашиваете сейчас мою точку зрения, то я вам говорю, в чём она заключается: самая главная ценность в международных отношениях – это стабильность и предсказуемость. Мы со стороны, как я считаю, наших американских партнёров как раз этого и не видели в предыдущие годы. Какая же стабильность и предсказуемость, если мы вспомним события в Ливии в 2011 году, когда страну разрушили? Ну и какая здесь стабильность и предсказуемость?
Всё время говорили о том, что войска в Афганистане будут оставаться. Потом раз, вдруг – бум, войска из Афганистана выводятся. Это что, стабильность, предсказуемость?
События на Ближнем Востоке – это что, стабильность и предсказуемость? К чему это всё приведёт? Или в Сирии? Что здесь стабильного и предсказуемого?
Я спрашивал у своих коллег американских: вот вы хотите, чтобы Асад ушёл, а кто на его место придёт, что будет дальше? Ответ странный: не знаю. Ну если не знаешь, что будет дальше, зачем менять то, что есть? Ведь это может быть вторая Ливия или второй Афганистан. Мы этого хотим? Нет. Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать решения, искать компромиссы, приемлемые для всех сторон, – вот так достигается стабильность. Она не может быть достигнута навязыванием одной точки зрения, «правильной» точки зрения, все остальные – «неправильные». Так же стабильность не достигается.
О Дональде Трампе и Джозефе Байдене
Я и сейчас считаю, что бывший президент США господин Трамп – человек незаурядный, талантливый, иначе он не стал бы президентом США. Он яркий человек, он может нравиться кому-то, может не нравиться. Это, конечно, не порождение американского истеблишмента, он раньше в такой большой политике никогда не был. Естественно, это нравится, не нравится, но это так и есть.
Президент Байден, конечно, кардинальным образом отличается от Трампа, потому что он профессионал, он почти что всю жизнь свою сознательную в политике. Он занимается этим многие-многие годы, я уже говорил об этом, и это очевидный факт: сколько лет он был сенатором, сколько лет он занимался вопросами, скажем, разоружения, международной политики фактически на экспертном уровне. Это другой человек. Я очень рассчитываю – есть плюсы, есть минусы, – что не будет таких импульсивных движений со стороны действующего президента, что мы будем соблюдать определённые правила общения, сможем о чём-то договариваться, находить какие-то точки соприкосновения. Вот, собственно говоря, пожалуй, всё. А что будет происходить на самом деле, это нужно будет смотреть, исходя из реальной, практической политики и её результатов. <…> Но мы все, когда мы встречаемся, разговариваем, работаем, добиваемся каких-то решений, мы действуем в интересах своих государств, своих народов. И это лежит в основе всех наших действий, помыслов, и это является побудительным мотивом для организации встреч подобного рода…
О встрече «семёрки» и НАТО
То, что президент Байден встречается со своими союзниками, здесь нет ничего необычного. Что же здесь необычного – встреча «семёрки»? Мы знаем, что такое «семёрка», я там бывал многократно, знаю ценности этой площадки. Но когда люди собираются и что-то обсуждают, это всегда хорошо, лучше, чем не собираться и не обсуждать. Потому что и в рамках «семёрки» тоже есть вопросы, требующие постоянного внимания, рассмотрения, потому что есть и противоречия, как это ни покажется странным, есть разные оценки тех или иных событий на международной арене и между ними. Ну хорошо, пусть встретятся, пообсуждают.
Что касается НАТО, я уже много раз говорил: это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно. Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, эта организация, теперь уже как-то об этом подзабыли. Мы исходим из того, что это военная организация, но это союзники Соединённых Штатов, ну, наверное, время от времени нужно с союзниками встречаться. Хотя я тоже себе представляю, как идёт там дискуссия. Понятно, что всё решается консенсусом, но всё-таки есть одно мнение правильное, а все остальные не очень – так, аккуратно, скажем. Поэтому – ну что? Встречаются союзники, и что здесь необычного? Я ничего необычного здесь не вижу.
Тем более это дань уважения к своим союзникам перед встречей президентов США и России. Наверное, это подаётся как желание узнать их мнение по ключевым вопросам современной повестки дня, в том числе и по тем вопросам, которые мы будем обсуждать с президентом Байденом. Но всё-таки я склонен думать, что, несмотря на все эти политесы, США будут продвигать в отношениях с Россией то, что они считают нужным и важным для себя и прежде всего для себя, для своих экономических, политических и военных интересов…
О «причастности» России к кибератакам
…Где же доказательства того, что это было сделано на самом деле? Я вам скажу: и это, и то, и тот сказал, и этот сказал, а доказательства-то где? На такие бездоказательные обвинения я могу вам ответить: можете жаловаться в международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?
Но это же просто разговор ни о чём. Ну хотя бы что-нибудь положите на стол, чтобы мы могли посмотреть и как-то на это отреагировать. Но ведь ничего этого нет. <…>
Вы знаете, ведь самое простое было бы нам сесть спокойненько и договориться о совместной работе в киберпространстве. Мы же предлагали это ещё администрации господина Обамы…
К. Симмонс: В сентябре.
…Где-то в октябре. Начали в сентябре, предложили в последний год его президентства. Они сначала промолчали, а где-то в ноябре ответили, что да, это интересно. Потом выборы были проиграны. Мы повторили это предложение уже администрации господина Трампа. Нам ответили, что это интересно, но до реальных переговоров это не дошло.
Есть основание полагать, что мы можем выстроить работу в этой сфере с новой администрацией. Надеюсь, что внутриполитические расклады в самих США не помешают это сделать.
Но мы же предлагали эту работу: давайте вместе посмотрим, на что мы можем выйти, договоримся о принципах совместной работы, договоримся о том, как мы выстроим противодействие этому процессу, который набирает оборот. У нас, в самой Российской Федерации, количество киберпреступлений выросло в разы за последнее время, внутри страны. Мы соответствующим образом пытаемся реагировать, ищем этих киберпреступников, если находим, наказываем их. Мы также готовы работать и с участниками международного общения, в том числе и со Штатами, но они же отказываются. Вы отказываетесь от совместной работы. Чего же мы можем сделать? Мы же не можем эту работу построить в одностороннем порядке. <…>
НАТО сказала, что считает киберпространство сферой боевых действий и готовится, и даже учения проводит. Ну что нам мешает, мы сказали бы тоже: вы так, и мы так будем делать. Но мы не хотим этого. Так же как мы не хотим милитаризации космоса, мы не хотим и милитаризации киберпространства. И предлагали много раз договариваться о совместной работе в сфере безопасности по этому направлению, а ваше правительство отказывается.
О невмешательстве во внутриполитические процессы в других странах
Мы рассчитываем на то, что никто не должен вмешиваться во внутриполитические процессы в другой стране: ни Америка в наши, ни мы в американские, ни в какие другие. Надо дать возможность народам всех стран мира спокойно развиваться. Даже если есть кризисные ситуации, они должны разрешаться народом внутри страны, без вмешательства извне.
Но мне кажется, что этот призыв к американской администрации, в том числе и сегодняшней администрации, мало чего стоит. Потому что мне так представляется, что правительство США всё равно будет вмешиваться во внутриполитические процессы в других странах, вряд ли этот процесс можно остановить, уж очень он большой оборот набрал. Но о совместной работе в киберпространстве, о предотвращении неприемлемых каких-то действий со стороны киберпреступников точно можно договариваться. Мы очень рассчитываем на то, что нам удастся наладить этот процесс вместе с американскими партнёрами. <…>
Ведь когда-то, для того чтобы добиться в ядерной сфере, в сфере противостояния в области ядерного оружия, договорились же Советский Союз и Соединённые Штаты о том, чтобы сдерживать эту гонку вооружений. Но киберпространство – это очень чувствительная сфера. Сегодня на цифровые технологии завязаны очень многие виды деятельности человека и осуществление государственных функций. Ну конечно, вмешательство в эти процессы может нанести серьёзный ущерб, серьёзный урон, все же это понимают. Я в третий раз повторяю: давайте сядем и будем договариваться о совместной работе по обеспечению безопасности в этой сфере, вот и всё. Чего здесь плохого?
О движении Black Lives Matter
Я думаю, что, конечно, внутриполитически это движение было использовано одной из политических сил в ходе предвыборной борьбы, но под этим есть определённые основания. Вспомним Колина Пауэлла, который был и госсекретарём, и Пентагон возглавлял, он в своей книге же написал, что даже он, высокопоставленный чиновник, всю свою жизнь ощущал какую-то несправедливость в отношении себя как человека с тёмным цветом кожи.
А ещё с советских времён, и мы в России, мы всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за свои права, и это имеет определённые корни, основание. Но в то же время, какими бы благородными целями кто-то ни руководствовался, если это переходит в какие-то крайности, приобретает какие-то элементы экстремизма, мы, конечно, не можем этого приветствовать. И здесь у нас отношение очень простое к этому: мы поддерживаем борьбу афроамериканцев за свои права, но мы против любых видов экстремизма, которые мы иногда тоже, к сожалению, наблюдаем сейчас.
О ситуации на границе России с Украиной
Послушайте, во-первых, сама Украина постоянно подтаскивала да, по-моему, и сейчас продолжает ещё – и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу – первое.
Второе: мы проводили плановые учения на своей территории и не только на юге Российской Федерации, а и на Дальнем Востоке, и на севере, в Арктике проводили учения. Одновременно проводились учения в нескольких регионах Российской Федерации. В это же время США проводили учения на Аляске, так, на минуточку. Вы знаете об этом что-нибудь? Нет? Наверное, нет. А я вам скажу, я знаю. Это тоже в непосредственной близости от наших границ, но это на вашей территории. Мы даже на это внимания не обратили.
А вот что происходит сейчас: сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. 40 тысяч личного состава, 15 тысяч единиц военной техники, часть из них переброшена с Американского континента прямо к нашим границам. Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь? <…> Но зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведём себя агрессивно. С какой стати? Что, Россия даже после развала Советского Союза представляла угрозу какую-то для Соединённых Штатов и для других стран Европы? Мы добровольно вывели все свои войска из Восточной Европы прямо в чистое поле. Люди страдали у нас, десятилетиями там жили семьи военных, не имея нормальных условий для проживания, в том числе для своих детей. Мы пошли на огромные издержки. А что получили в ответ? Инфраструктура здесь, у наших границ. И вы говорите о том, что мы кому-то угрожаем?
Да, мы проводим учения регулярно, в том числе проводим учения, неожиданные для наших Вооружённых Сил. Почему это должно вызывать какую-то озабоченность у партнёров по НАТО? Я просто не понимаю.
Об отношениях с Китайской Народной Республикой
Первое, что хочу сказать, – у нас с Китаем за последние годы, за последние десятилетия сложились отношения стратегического партнёрства, которых в истории наших государств мы ранее не достигали. Большой уровень доверительности и сотрудничества, причём по всем направлениям: в политике, в экономике, в сфере технологий, в военно-техническом сотрудничестве. Мы не считаем, что Китай представляет для нас угрозу. Это дружественная страна. Она же не объявляет нас врагом, как это сделали в Соединённых Штатах. Вам об этом разве ничего не известно? Это первое.
Второе: Китай – огромная, мощная страна, полтора миллиарда человек. По паритету покупательной способности экономика Китая стала больше экономики США, а по уровню товарооборота за предыдущий год Китай вышел на первое место с Европой, США отошли на второе место. Вам это известно?
Китай развивается. Я понимаю, что начинается такое противостояние с Китаем. Мы это всё видим. Все же понимают это. Что здесь прятаться и пугаться этих вопросов? Но нас это не настораживает в том числе и потому, что мы считаем, что наша оборонная достаточность, так мы об этом говорим, находится на очень высоком уровне, в том числе и поэтому. Но самое главное – это характер и уровень отношений с Китаем.
Вы сказали, у Китая будет четыре авианосца. А у США сколько авианосцев?
К. Симмонс: Намного больше.
Вот я об этом и говорю. Что нам бояться Китая с авианосцами? Кроме всего прочего, у нас огромная граница с Китаем, но она сухопутная. Вы думаете, что они направят свои авианосцы через нашу территорию, что ли? Ну это просто ни о чём для нас. А то, что их четыре будет, – это правильно.
К. Симмонс: У вас тоже есть побережье там.
Какое там побережье? Побережье, может, огромное, но основная граница с Китаем проходит по суше. То, что четыре авианосца, – это правильно, потому что один должен быть на обслуживании, один – на боевом дежурстве, один должен проходить ремонт и так далее. Ничего здесь избыточного для Китая нет.
А то, что вы сказали: Китай отказывается от переговоров – он отказывается от переговоров по сокращению ядерных наступательных вооружений. Но это вы, во-первых, у китайцев спросите, хорошо это или плохо, это им определять. Но аргументы их простые и понятные: и по количеству боезарядов, и по количеству средств доставки Соединённые Штаты и Россия намного опережают Китай, и китайцы справедливо спрашивают: «А чего нам сокращать, если мы и так меньше, чем вы? У нас всего этого меньше. Или вы хотите заморозить наш уровень ядерного сдерживания?
А почему мы должны замораживать? Почему мы, страна с полуторамиллиардным населением, не можем поставить перед собой цель хотя бы достичь вашего уровня?»
Это спорные вопросы всё, требующие внимательного рассмотрения. Но перекладывать на нас ответственность за позицию Китая – это просто смешно.
О Синьцзяне и уйгурах
Вы знаете, я встречался с некоторыми уйгурами. Всегда можно найти людей, которые критикуют центральные власти. Но я встречался с уйгурами, когда был с визитами в Китае. И уверяю вас, во всяком случае то, что я слышал своими ушами, что они в целом приветствуют политику китайских властей на этом направлении. Считают, что Китай очень много сделал для людей, проживающих в этом районе, с точки зрения экономики, поднятия культуры и так далее. Поэтому что же мне давать оценки, глядя на ситуацию со стороны? <…>
Вы знаете, мы соседи, соседей не выбирают. Мы довольны тем беспрецедентно высоким уровнем наших отношений, как я уже сказал, которые сложились за предыдущие десятилетия, мы этим дорожим. Так же как дорожат этим и наши китайские друзья, мы это тоже видим. Зачем же вы нас пытаетесь втравливать в какие-то вопросы, которые вы оцениваете так, как считаете нужным для строительства своих отношений с Китаем?
Я вам скажу совсем откровенно – можно, я откровенно скажу?
К. Симмонс: Да.
Мы видим попытки разрушить отношения между Россией и Китаем, мы видим это в практической политике. И ваши вопросы тоже связаны с этим.
Я вам свою позицию изложил. Считаю, что этого достаточно, и уверен, что китайское руководство, понимая всю совокупность этих вопросов, касающихся в том числе уйгурской части населения, найдёт необходимые решения для того, чтобы ситуация оставалась стабильной и шла на пользу всему многомиллионному китайскому народу, в том числе и уйгурской его части.
О мусульманском сообществе в России
Я посыл мусульманскому сообществу в России должен направлять политикой российских властей в отношении мусульман Российской Федерации. Россия является наблюдателем в Организации Исламская Конференция. У нас 10 процентов и даже побольше, наверное, – это исламское население.
Это граждане Российской Федерации, у которых нет другого Отечества. Они вносят колоссальный вклад в развитие нашей страны. Это касается и рядовых граждан, это касается религиозных авторитетов. Что же я буду разговаривать и выстраивать отношения с этой частью наших граждан со ссылками на ситуацию в Китае, не понимая досконально, что там происходит?
Я думаю, что вам лучше по поводу всех этих проблем справиться в госдепартаменте либо в министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики.
О проблеме Тайваня
Вам что, разве известно о планах Китая военным путём решать проблему Тайваня? Мне об этом ничего не известно.
Как мы часто говорим, в политике неуместно сослагательное наклонение. Поэтому «если бы, что бы, кабы» – я не могу комментировать ничего, что не является реалиями сегодняшнего мира. Мне кажется, просто это – вы на меня не сердитесь, пожалуйста, – вопрос в никуда. Этого же нет. Разве Китай заявил о том, что он собирается военным путём решать проблемы Тайваня? До сих пор этого не случилось. Столько лет Китай развивает отношения с Тайванем, там разные оценки: в Штатах свои, в Китае свои, на Тайване, может быть, свои. Но, слава богу, до «горячей» фазы ничего не дошло.
О международном сотрудничестве в космосе
Мы готовы работать со Штатами в космосе, и, по-моему, руководитель NASA недавно как раз сказал, что не представляет себе просто развитие космических программ без своего партнёрства с Россией. Мы приветствуем это заявление и дорожим…
К. Симмонс: Поясню. Глава российского космического агентства угрожал, что Россия выйдет в 2025 году из международного космического проекта. Он говорил о санкциях, говоря об этой угрозе.
Я, честно говоря, не думаю, что господин Рогозин – такая фамилия руководителя Роскосмоса – кому-то угрожал в этом плане. Я знаю его много лет и знаю, что он сторонник развития отношений с Соединёнными Штатами в этой сфере, в космосе.
Недавно, повторяю ещё раз, руководитель NASA высказался в таком же ключе. Я лично всячески поддерживаю, и мы с удовольствием работали все эти годы и готов работать дальше.
Просто Международная космическая станция в силу технических причин постепенно заканчивает свой ресурс, и, может быть, в этом плане у Роскосмоса и нет планов продолжения работы. Но, насколько я слышал от американских партнёров, они тоже смотрят на будущее сотрудничество вот по этому направлению как-то по-своему, но в целом сотрудничество с Соединёнными Штатами в космосе, мне кажется, является хорошим примером, где мы, несмотря ни на какие проблемы политических отношений за последние годы, сумели сохранить партнёрство и с обеих сторон дорожим им. Поэтому я думаю, что вы просто неверно поняли руководителя нашего космического агентства.
Я хочу вас заверить, что мы заинтересованы в дальнейшем продолжении работы с Соединёнными Штатами по этому направлению и будем это делать, если американские партнёры сами не будут от этого отказываться. Но это не значит, что мы должны локализовать свою работу только с США.
Мы и с Китаем работаем и будем работать дальше. Это касается самого разного рода программ, в том числе по изучению дальнего космоса. По-моему, здесь один позитив. Я здесь, честно говоря, даже не вижу никаких противоречий.
О ситуации в Сирии
Все действия наши совокупные должны быть направлены на то, чтобы стабилизировать ситуацию, вводить её в нормальное русло. При поддержке России Сирия вернула под свой контроль, сирийской власти, свыше 90 процентов сирийской территории.
И теперь нужно просто организовать гуманитарную помощь людям вне зависимости ни от какого политического контекста. Но наши партнёры на Западе, на совокупном Западе – и Штаты, и европейцы, – говорят, что Асаду помощь оказывать не будем. Но при чём здесь Асад? Помогите людям, которые нуждаются в этой помощи, самые элементарные вещи. Ведь не снимают ограничения даже на поставку медицинского оборудования и лекарственных препаратов даже в условиях коронавирусной инфекции. Это просто негуманно. Ничем нельзя объяснить такое жестокое отношение к людям.
Что касается этих переходов для доставки гуманитарной помощи: есть Идлибская зона, там боевики просто всё грабят, людей убивают и насилуют до сих пор, и ничего. Эт-Танф – есть такая зона, которая контролируется, кстати, американскими военными. Недавно мы тоже поймали группу бандитов, они оттуда пришли и прямо говорят, что у них есть определённое задание в отношении российских военных объектов.
Что касается пограничных переходов, наша позиция заключается в том, что нужно оказывать помощь, как это и положено во всём мире, как это прописано в нормах международного гуманитарного права, через центральное правительство, не нужно его дискриминировать. А если есть основание полагать, что центральное правительство Сирии что-то там украдёт или разграбит, ну поставьте, пожалуйста, контроль со стороны Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, проконтролируйте всё это. Да я и не думаю, что кто-то в правительстве Сирии заинтересован в том, чтобы там чего-то воровать из этой гуманитарной помощи, нужно делать просто через центральное правительство. Мы в этом смысле поддерживаем президента Асада, потому что другой способ поведения – это подрыв суверенитета Сирийской Арабской Республики, вот и всё.
Что касается Идлибской зоны, то там турецкие войска фактически контролируют границу между Сирией и Турцией, и там идут конвои туда-сюда в неограниченном количестве.
Об отношениях с Ираном
У нас с Ираном есть планы сотрудничества, в том числе и в сфере ВТС. Всё это в рамках решений, которые были согласованы в нашей программе, по иранской ядерной программе в рамках ооновских решений вместе с нашими партнёрами по подготовке СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий], где на определённом этапе санкции с Ирана должны быть сняты, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. У нас есть определённые программы, но это всё обычные вооружения, если до этого дойдёт, но пока мы даже к этому не перешли, пока у нас нет никакого реального сотрудничества в области обычных вооружений, поэтому что-то там кто-то придумывает по поводу современных космических технологий – это просто фантастика, просто очередной вброс, фейк.
О будущем России
Смотрите, если мы посмотрим ситуацию, в которой находилась Россия в 2000 году, она балансировала на грани сохранения своего суверенитета, целостности территориальной, количество граждан за чертой бедности было колоссальным и катастрофическим, уровень ВВП упал ниже плинтуса, 12 миллиардов были у нас золотовалютные резервы, а долгов было 120 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте говорить.
Но сейчас ситуация другая. Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придёт когда-то обязательно на моё место другой человек. И почему всё это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом, слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо.
Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России.
Поэтому если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны.
Когда-то, разумеется, – это естественный процесс, биологический, – нам всем будет замена: и вам на своём месте, мне на своём. Но я уверен, что фундаментальные основы российской государственности, российской экономики, политической системы будут такими, что она будет твёрдо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее. <…>
Самое главное – это судьба страны и её народа.

О КОМ ЗАБОТИТСЯ БИЛЛ НЕЛЬСОН? ПОСЛЕВКУСИЕ
ВАЛЕНТИН УВАРОВ
Советник генерального директора АО «Успешные ракеты», член Совета РАН по космосу, член Международного института космического права.
Заявление руководителя НАСА Билла Нельсона о том, что сотрудничество Соединённых Штатов и России в космосе является уникальным и исключительным и не должно прекращаться, вызвало достаточно много комментариев. Он сказал это в интервью газете Politico, опубликованном в минувшую пятницу. Конечно, на фоне усталости от российско-американских отношений, перешедших в категорию «хуже некуда», это как глоток чистого воздуха без примеси углерода.
В комментариях акцент делается только на слова главы НАСА о желании продлить сотрудничество с Россией на МКС, подчёркиваются его отсылки на исторический опыт международного сотрудничества. Но высказывание Нельсона следует рассматривать в контексте всех затронутых им вопросов и того, что он оставил за скобками.
Американцы действуют из своих чисто прагматических интересов, как это было и в 1975 г., когда был реализован проект «Союз – Аполлон». Возможность нештатных ситуаций и необходимость организации спасения подталкивали обе стороны к тому, чтобы отработать технологии и иметь страховку в непредвиденных ситуациях.
Нельсон говорит, что работники российской космической сферы хотят, чтобы сотрудничество с американцами продолжалось. Но это чистой воды спекуляция, если не сказать даже – манипуляция. Так же можно оценить и призывы к здравому смыслу в части того, что запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) предполагает продление работы МКС после 2024 года. С одной стороны, первое и второе звучит правдиво, так за последние десятилетия российская космическая промышленность привыкла к сотрудничеству в рамках МКС, поскольку это способствовало загрузке предприятий, а МЛМ должен был полететь к МКС почти десять лет назад. В 2014 г. собственными глазами видел его пылящимся в помещении Центра им. Хруничева рядом с музейными экспонатами после возращения с испытаний с РКК «Энергия». Считаю, что начало его работы в этом году составе МКС будет большим достижением, сколько бы ещё ни проработала станция.
Но для понимания ситуации необходимо сделать небольшой исторический экскурс, хотя и не такой отдалённый, как у Нельсона. В докладе America’s Future in Civil Space: Proceedings of a Workshop in Brief, опубликованном в 2017 г. по результатам круглого стола Американской академии наук, есть два момента, на которые хотелось бы обратить внимание. В числе целей круглого стола обозначено «Обсуждение ценности, цели и задачи международного сотрудничества в космосе». В итоговом тексте нет ни одного упоминания России как международного партнёра! В отношении же Китая сказано следующее: «То, что изменилось, предполагает наличие новых международных участников в космосе, включая впечатляющую космическую программу Китая. Эти новые участники и новые игроки отрасли, а также новые способы ведения бизнеса в отрасли предоставляют множество новых возможностей». Вывод доклада звучит в виде риторического вопроса: «Возможно, гражданский космос США будет мотивирован международной конкуренцией (может быть, с Китаем) или сотрудничеством (например, с Китаем и другими новыми и устоявшимися космическими державами)?»
Что же касается МКС, то позиция Соединённых Штатов сформулирована следующим образом: «2028 г. является ключевой датой для МКС и будет определять решения и действия сейчас, в то время как от ряда участников также поступает настойчивый сигнал о том, что нам необходимо продолжать планировать программу НАСА, которая выходит за пределы МКС и за пределы низкой околоземной орбиты».
Лукавство Нельсона состоит в том, что американские партнёры ещё во времена Барака Обамы приняли решение «передать» низкую околоземную орбиту в руки частников. На этом направлении работают несколько американских компаний, в том числе AxiomSpace и Nanoracks. Первой руководит бывший руководитель программы МКС в НАСА Майкл Саффредини, а второй – ветеран американского частного космоса Джефф Манбер. Ветеран, потому что работал над тем, чтобы частные компании стали самостоятельными игроками в космосе, с конца 1980-х годов. Больше всего продвинулась AxiomSpace, дочерняя компания давнишнего подрядчика НАСА и Пентагона Stinger Ghaffarian Technologies, Inc. Модули Ax 1-4 первоначально должны пристыковаться к МКС, с которой будет безопаснее обживать и доводить новую станцию, а первый модуль планируется запустить к 2024 году. В планах НАСА поддержать эволюционный путь прихода частников на низкую околоземную орбиту. Мне довелось участвовать в заседании Рабочей группы по изучению возможностей МКС по дальнейшему освоению космоса в Нордвайке (апрель 2015 г.) ещё за несколько месяцев до того, как Саффредини покинул НАСА. Тогда было видно, что агентство намерено продолжить руководить этим процессом и за пределами 2024 г., и это результат того что произошло с российской космонавтикой после 1991 года.
О «втором пришествии МКС» я ранее писал в статье «Космическое завещание Трампа», полагая, что демократы не будут столь агрессивны в стремлении в одиночку покорить космос, как Дональд Трамп. Демократы считают, что влияние страны исходит от настойчивой дипломатии, поддерживаемой угрозой силы, а не силы, поддерживаемой надеждой на дипломатию. Пока не созрел другой проект, кроме «Артемиды», который был начат при Трампе и отражал излишне прямолинейный подход бывшего президента – America the Beautiful. Его подвергли критике даже в странах союзниках США.
Если почитать интервью внимательно, обнаружится, что Нельсон упоминает о финансовых проблемах, которые испытывает НАСА в финансировании своей инфраструктуры и лунной программы «Артемида». Он подтверждает, что будет бороться за увеличение бюджета и что в планах НАСА запустить в этом году SLS. Всё работает, как было запланировано, но только не так быстро, как хотелось бы! Может быть, поэтому вдруг вспомнили о глубоко запавшем в души российских работников космической промышленности желании развивать международное сотрудничество?
В контексте наметившегося более тесного сотрудничества России и Китая обращают на себя внимание заявления Нельсона в отношении, как было сказано выше, «новых международных участников в космосе и впечатляющей космической программы Китая». По словам руководителя НАСА, он «ищет способы более тесного взаимодействия с Китаем по общим космическим проблемам, даже несмотря на строгие правовые запреты, наложенные на космическое сотрудничество с Пекином». Такой областью сотрудничества обозначена «проблема орбитального мусора, который может поразить нашу космическую станцию, а также их космическую станцию». Нельсон отмечает, что «есть области сотрудничества, в которых мы можем работать с Китаем… принимая во внимание ограничения по закону, которые были наложены на нас, а также признавая реальность того, что китайцы не были достаточно открытыми».
Всё, что говорит Нельсон, вроде бы и правда, но есть ощущение, подобное тому, что появляется при просмотре некоторых американских фильмов, когда во второй его части показывают, какие мотивы движут героями на самом деле.
Был и остаюсь сторонником международного сотрудничества в космосе и считаю, что таким международным проектом может быть проект по активному удалению космического мусора (ADR). Этой темой занимаюсь уже несколько лет, в мире есть технические решения, которые можно использовать, но наиболее серьёзным препятствием являются политические и организационные проблемы. Только создав совместного оператора, основные космические державы могут решить проблему космического мусора, а иначе, когда кто-то попытается что-то убрать на орбите, будут немедленно возникать подозрения, что испытывается противоспутниковое оружие. Это очень деликатная тема, но, как и «Союз – Аполлон» во времена первой холодной войны, такой проект может стать платформой для коллективных усилий в космосе.
Другим проектом могло бы быть создание международной системы по мониторингу основных климатически активных веществ. В климатической повестке космос имеет первостепенное значение. И в одном, и другом случае есть сходство по масштабу задач и универсальному характеру проблем в силу того, что космический мусор не знает границ, а влияние выбросов углерода и метана нельзя ограничить территориями отдельных стран.
Это там, а что у нас? Широко освещённое заявление Нельсона о намерении продолжать сотрудничество с русскими в космосе и его забота о миролюбивых работниках российской космической промышленности вызвали резонанс, что «злобный “Роскосмос” тормозит международное сотрудничество». Не скажу, что, будучи в “Роскосмосе”, был внутренне согласен со всеми установками. Так, например, считаю, что Россия могла бы более активно использовать в своих интересах возможности, которые даёт реализация Руководящих принципов долгосрочной устойчивости космической деятельности. Однако в данном случае полностью согласен с тем, что, если Соединённые Штаты пытаются использовать ситуацию и «интерпретируют» подходы к международному сотрудничеству, исходя из своих интересов, то Россия может и должна использовать ситуацию таким же образом.

ТРУМЭН, А НЕ НИКСОН: СТРАТЕГИЯ США В НОВОМ ВЕЛИКОДЕРЖАВНОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ
МАКСИМ СУЧКОВ
Директор Центра перспективных американских исследований ИМИ МГИМО МИД России; доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО МИД России; научный сотрудник инициативы по диалогу в рамках второго направления дипломатии в Институте Ближнего Востока в Вашингтоне.
Пандемия нанесла ощутимый удар по США и самой модели «либеральной демократии». Но она и высвободила немало новых пространств, за которые Вашингтон готов побороться в холодной войне 2.0. Идеологические оформление Байденом нового противоборства в терминах «демократия vs авторитаризм» – аллюзия к эпохе Трумэна и началу первой холодной войны.
Чтобы понять современную политику Соединённых Штатов и спрогнозировать её развитие в будущем, международники часто обращаются к историческим аналогиям. США – молодая нация, опыт накоплен относительно небольшой, но существуют уже устоявшиеся паттерны поведения и сформированные политико-идеологические нарративы. Использование этих схем помогает «рационализировать» американское поведение на международной арене, особенно когда в самой Америке и окружающем мире всё неспокойно и сложно. История, как известно, «не повторяется, а рифмуется», и относиться к такому подходу нужно аккуратно. Но американская политика в некоторых современных сюжетах действительно во многом отображает логику поведения в прошлых схожих обстоятельствах – важно не ошибиться в выборе самой исторической аналогии.
Президентство Ричарда Никсона – самый частый период, к которому обращаются, когда размышляют об американской стратегии в новом великодержавном противостоянии. Тогда республиканцы хотели уклониться от двойного сдерживания СССР и Китая, и Генри Киссинджер реализовал политику усугубления откола Пекина от Москвы и даже перехода КНР в прямую конфронтацию с СССР для ослабления последнего. Сегодня «первый номер» – Китай, ослаблять нужно именно его, а Москву, соответственно, уводить от взаимодействия с ним. Поскольку это кажется рациональным и соответствует имеющемуся у США опыту, многие не без основания полагают, что в такой парадигме и будут складываться отношения в треугольнике в ближайшие годы. В этой же логике Белому дому предлагают действовать и некоторые близкие к администрации Байдена аналитики.
Отдельные попытки вбить клин между Россией и КНР имеют место и будут продолжаться, но скорее на тактическом уровне, как способ предотвратить сопряжение потенциалов двух противников. Стратегически же администрации Байдена ближе подход президента Трумэна.
Доктрина Трумэна 2.0
12 мая 1947 г. Гарри Трумэн запросил у Конгресса помощь греческому и турецкому правительствам на фоне сворачивания британской экономической поддержки Афин и Анкары. Трумэн исходил из конкретных геополитических интересов в набиравшем обороты противостоянии с СССР, но американская пропаганда акцентировала идеологическое усиление Советского Союза в оставленных британцами «вакуумах». Трумэн убеждал, что США больше не могут стоять в стороне и допускать «насильственную экспансию советского тоталитаризма на свободные, независимые страны», потому что национальная безопасность Америки зависела не только от физической безопасности американской территории. Речь Трумэна заложила основы одноимённой доктрины США. Её декларируемая цель была в оказании политической, военной и экономической помощи «всем демократическим странам, находящимся под угрозой со стороны внешних или внутренних авторитарных сил». Доктрина Трумэна разворачивала внешнюю политику Соединённых Штатов от «изоляционизма» в виде отказа от региональных конфликтов, напрямую не затрагивающих США, к позиции возможного вмешательства в заморские конфликты. В стратегическом смысле это было намерением закрепить статус глобальной державы и попыткой форсированного захвата ключевых географических и политических пространств в новом послевоенном мире.
Четыре года президентства Трампа воспринимаются американским истеблишментом как четыре года новой мировой политической войны. Войны, где Америка только уступала и проигрывала, а «авторитарные бегемоты» – Россия и Китай – наступали и торжествовали.
Пандемия нанесла ощутимый удар по США и самой модели «либеральной демократии». Но она и высвободила немало новых пространств, за которые Вашингтон готов побороться в холодной войне 2.0.
Идеологические оформление Байденом нового противоборства в терминах «демократия vs авторитаризм» – тоже аллюзия к эпохе Трумэна и началу первой холодной войны. Сам президент убеждён, что приоритетом для Америки сейчас является создание «общей повестки» (common cause) с союзниками против Китая, особенно в области экономики и технологий. Советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан называет такой подход «построением ситуации силы» (building a situation of strength), повторяя знаменитую формулировку госсекретаря Трумэна Дина Ачесона. В своё время Ачесон вкладывал в эту фразу необходимость усилить западный альянс как предварительное условие для любых переговоров с Советским Союзом. Отсюда, к слову, стремление Байдена укрепить союзническую дисциплину в НАТО и G7, мобилизовать QUAD и ангажировать ЕС на самоотторжение от Китая. При этом по-настоящему США рассчитывают только на себя. «Единственный верный друг в Вашингтоне – это собака», – известное изречение Гарри Трумэна о внутриамериканской политике, которое в равной степени применимо к международным делам.
США – КНР: секутор против ретиария
Американский нарратив о противостоянии с Пекином можно метафорически передать в виде поединка двух типов римских гладиаторов – секутора и ретиария. Первый был оснащён шлемом, латами, прямоугольным щитом и мечом. Второй – трезубцем, кинжалом и сетью и выступал без доспехов. Их противостояние было конкуренцией разных школ ведения боя. Хорошо защищённый секутор чувствовал себя увереннее в ближнем бою: он стремился подойти к противнику на близкое расстояние и нанести разящий удар. Ретиарий делал ставку на большую мобильность, изматывание противника через набросы сетки и выжидание, пока тот устанет под тяжестью своего снаряжения.
Китай в этой картине представляется американцам современным «ретиарием». Авторитарная политическая система, директивное управление ЦК КПК и исполнительная дисциплина делают его более «мобильным» в скорости принятия решений по сравнению с запаянной в латы процедур, согласований и законов американской [демократической] бюрократии. Китай как будто умеет выжидать и не торопиться, надеясь, что груз внутренних проблем и усталость американцев от тотального доминирования будут снижать конкурентные преимущества Америки и заодно её глобальные аппетиты.
США не могут позволить этому случиться – нынешнее поколение американских элит не представляют себе иной кроме «единственной супердержавы» формации существования в мире. Соглашаться на статус «нормальной великой державы» это поколение американских лидеров не готово. Тем более что и конкурентный потенциал Америки всё ещё достаточно велик – в военной сфере, технологиях, экономике и финансах, контроле за глобальными институтами и идеологии. Именно по этим пяти направлениям американцы будут противостоять восхождению Китая.
Многие истолковали саммит в Анкоридже как символическую точку отсчёта в этом противостоянии и как провал американской дипломатии. Но мало кто обратил внимание, что сама администрация Байдена оценила саммит позитивно с точки зрения выяснения «истинного лица противника». Стратеги Байдена исходили из того, что организация отношений с Китаем на основе сотрудничества «теоретически желательна», но недостижима в обозримом будущем. Лесть китайцев Байдену как более желанному для Пекина президенту, чем Трамп, изначально воспринималась в Белом Доме как «ловушка», чтобы заставить Соединённые Штаты отказаться от конкуренции с Китаем в обмен на сотрудничество, которое никогда не материализуется. Любая «перезагрузка», таким образом, была бы чисто риторической: Китай продолжал бы двигаться своим курсом. Байдену пришлось бы в конечном счёте изменить линию на более жёсткую, но уже на менее благоприятных для США условиях. Выбрав вместо этого стратегию «конкурентного взаимодействия» – встречаться с китайцами, но рассматривать их через призму конкуренции – команда Байдена, в представлении её членов, сэкономила время и обнажила истинные намерения Пекина на экономическое и технологическое превосходство, а не на сотрудничество с Америкой. Иными словами, словесные провокации Блинкена и Салливана сработали, а значит, как считают в Вашингтоне, на Аляске они одержали важную психологическую победу. Всё это нужно иметь ввиду перед саммитом Путина и Байдена в Женеве.
Проблема соотношения трумэнского и никсоновского подходов в политике Байдена в том, что «стартовые условия» одного и второго не совпадают с тем, что должен делать Байден сейчас. Трумэн начинал конфронтацию с одной супердержавой – СССР. Никсон – должен был эту супердержаву ослаблять посредством отторжения важного идеологического союзника – Китая. Байден желал бы сфокусироваться на сдерживании Китая, но вынужден отвлекать внимание и ресурсы на «назойливую» Россию.
Россия как спойлер, угроза и горячая картошка
Говорить о полноценной стратегии по «вовлечению России» Соединёнными Штатами, «открытии» её миру или тем более «сближению» с ней, как это было с Китаем в 1970-е гг., не приходится. Нечто подобное, вероятно, представлял себе Трамп, не исключено, что США к этому ещё вернутся, но вряд ли в ближайшие годы. Саммит Байдена с Путиным тоже не про это.
Причин, почему никсоновский подход в отношении России не подходит для Байдена, минимум, три.
Во-первых, сама база для какого-то сближения между Россией и Соединёнными Штатами сегодня отсутствует. Никсону и Киссинджеру удалось найти компромиссную для китайцев формулу общения по главному для КНР раздражителю – Тайваню. У администрации Байдена нет ни малейшего желания искать аналогично компромиссное решение по главному раздражителю для России – Украине. Напротив – Вашингтон не упускает возможности активно использовать ситуацию в этой стране в качестве рычага давления на Москву.
Во-вторых, на текущем этапе российско-китайские отношения крайне далеки от кризисного состояния, которое было между СССР и КНР. Наоборот – в вопросах мироустройства две державы пока как будто смотрят в одну сторону, хоть и каждый через призму своих интересов. Но американцы убеждены, что противоречия между Москвой и Пекином на самом деле гораздо глубже и в конечном счёте дадут о себе знать. Достаточно набраться терпения и точечно работать на усугубление расхождений –для этого заниматься «сближением» с Россией не обязательно.
Промежуточная цель – внести больше отчуждённости в российско-китайские отношения и переформатировать их нынешнюю формулу c «не всегда вместе, но никогда друг против друга» в «не всегда друг против друг друга, но лишь бы никогда вместе». Окончательная цель – лишить Китай возможности сместить Соединённые Штаты с позиций доминирующей супердержавы и ослабить Россию до состояния, при котором Москва не сможет выступать ни дееспособным самостоятельным игроком, ни «усилителем» возможностей других стран, стремящихся к стратегическому суверенитету в отношениях с Западом. По этим вопросам сегодня в США устойчивый двухпартийный консенсус.
В-третьих, почему нынешнюю американскую политику не стоит рассматривать в контексте «никсоновской» парадигмы – видение в Вашингтоне самой России. Пресловутая токсичность «российской темы», помноженная на гипертрофированное влияние внутренних дрязг на внешнюю политику США, сильно ограничивает пределы конструктивного взаимодействия с Москвой. В разные избирательные циклы республиканцы и демократы могут меняться местами в критике «недостаточной жёсткости» в отношении Кремля или, напротив, говорить о «вынужденном сотрудничестве». Но на деле восприятие России как «спойлера» к сотрудничеству не располагает. Даже там, где национальные интересы Америки диктуют необходимость более плотной коллаборации, никто в Вашингтоне не желает жертвовать ради этого своим политическим капиталом.
Вместе с тем военные и разведка по-прежнему оценивают Россию как главную военную угрозу. Недавний доклад Национального разведсообщества США прямо говорит о том, что Россия наиболее опасна в трёх сферах – ядерное и высокоточное оружие, киберпространство и космос. «Российская военная угроза» кратно увеличивается, когда Россия выступает, по мнению американцев, «мультипликатором боевых возможностей» (force multiplier) Китая. Поэтому для Вашингтона важно в первую очередь не упустить из-под контроля российский потенциал в этих сферах и по возможности удерживать за собой инициативу по предложениям.
Профессиональное общение с Москвой, таким образом, должно вращаться вокруг этих тем: здесь должны оговариваться значимые для США «красные линии», здесь допустимо создание рабочих групп, диалоговых механизмов, мониторинга и тому подобное. Если станет возможным управлять конфронтацией в этих сферах, давление на Россию в идеологическом и санкционно-экономическом поле можно будет продолжать в относительно незатратном для себя режиме, а основное внимание и ресурсы сконцентрировать на главном системном противнике XXI века – Китае.
Разумеется, Соединённые Штаты и мир образца 2021 г. сильно отличаются от того, что было в конце 1940-х годов. Рассчитывать на машинальное воспроизведение той стратегии в современных условиях было бы наивно. Однако и паттерны поведения государств – особенно в лучшую сторону – меняются не так часто, как того хотелось бы. Тем более – трумэновские заветы для Америки, испытывающей дефицит новых идей, выглядят сегодня достаточно привлекательно, если не сказать – спасительно.

CАММИТ, «КОТОРЫЙ СМОГ»
ТИМОТИ КОЛТОН
Профессор государственного управления Гарвардского университета.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ «ВАЛДАЙ»
Миллионы американских детей обожают сказку «Паровозик, который смог», впервые опубликованную в 1900-х годах и с тех пор играющую важную роль в культуре США. Речь в ней идёт о маленьком локомотиве, который тянет тяжёлый поезд на крутой холм. Мораль заключается в важности оптимизма и стойкости. С трудом поднимаясь в гору, паровозик напевает: «Я думаю, что смогу, я думаю, что смогу». По окончании подъёма поезд движется дальше, к новым холмам и долинам. В эту среду российско-американский саммит на швейцарской вилле будет в некоторой степени выступать в роли маленького паровозика.
На фоне месяцев жёстких заявлений, начавшихся ещё с инаугурации Джо Байдена, и паутины, сотканной администрацией Трампа, двум лидерам потребовалось проявить волю, чтобы вообще встретиться. Ещё несколько недель назад в обеих столицах велись споры о том, состоится ли саммит.
Стимулы Владимира Путина не встречаться с Байденом были далеко не тривиальны. Возможно, в его непосредственном политическом окружении у него не так уж много проблем и противников, но он имеет длительный и неоднозначный послужной список во внешней политике, абсолютно не склонен признавать прошлые или настоящие ошибки или упущения, а также рефлекторно противодействует любому давлению. Он заставил Байдена дожидаться согласия на встречу: хотя президент США предложил это во время видеозвонка 13 апреля, приглашение не было публично принято и о планах приехать в Женеву не объявлялось вплоть до 25 мая.
Байден, со своей стороны, тоже мог легко отказаться от встречи. Его команда в Белом доме в начале этого года настойчиво старалась уверить всех том, что Россия будет для неё гораздо менее приоритетной, чем для её предшественников, что российское направление в некотором роде безнадёжно и что в любом случае оно не должно мешать решению более серьёзных и интересных проблем, таких как Китай и климат. Байден вполне мог уступить тем фигурам в исполнительной власти, в Конгрессе и в аналитических центрах, которые считают любые контакты с нынешним Кремлём бессмысленными или вредными. Или он мог бы взять на себя некий вариант «священного обязательства» перед испытывающими угрозы партнёрам по НАТО, о котором он упомянул на днях в Брюсселе.
Таким образом, оба лидера, и в особенности Байден, пошли на определённые жертвы ради того, чтобы хотя бы организовать встречу с противником.
Британский учёный Джефф Берридж писал, что дипломатия сейчас «в огромной мере» воплощается в личных встречах между главами государств и правительств, подобных той, которая вот-вот состоится в Женеве. Такие встречи проводились веками, но приобрели особое значение в 1960-х и 1970-х годах. Хотя в некоторых случаях на них могут обсуждаться важные дела, саммиты, по мнению Берриджа, «ценятся главным образом за свой огромный символический или пропагандистский потенциал». Телевидение превращает саммиты в новостной фейерверк, а социальные сети теперь вызывают отклики во всём мире. Встречи на высшем уровне могут быть многосторонними, как встречи «Большой семёрки» и НАТО, на которых только что присутствовал Байден, или двусторонними. В каждой категории Берридж выделяет три подтипа: «регулярные саммиты», происходящие через определённые промежутки времени, «рабочие саммиты» и «обмены мнениями на высоком уровне», часто происходящие в кулуарах другого мероприятия.
Сам по себе американо-российский саммит не является чем-то новым. После медленного старта таких встреч было много – пятьдесят шесть, если быть точным, – во время и после холодной войны. По классификации Берриджа они принадлежали к разным типам. В разделе «История» на сайте Госдепартамента США есть полезная, хотя и небрежная хронология с несколькими смехотворными пробелами.
Если взглянуть на всё это с американской стороны, то президент Дуайт Эйзенхауэр дважды встречался со своим советским коллегой Никитой Хрущёвым и отменил третью встречу, когда в мае 1960 г. был после сбит U-2; Джон Ф. Кеннеди однажды встречался с Хрущёвым в Вене; Ричард Никсон трижды садился за стол с Леонидом Брежневым (на сто часов в общей сложности), а Джеральд Форд и Джимми Картер встречались с Брежневым по разу. Рональд Рейган ускорил темп, шесть раз встретившись с Михаилом Горбачёвым. У Джорджа Буша было три встречи с Горбачёвым и две – с первым президентом новой России Борисом Ельциным. С Ельциным у Билла Клинтона было десять личных встреч – они установили хорошие личные отношения несмотря на разницу в возрасте, – а с Путиным – две. Затем наступила кульминация – двенадцать встреч Джорджа Буша с Путиным и одна – с Дмитрием Медведевым. Барак Обама и «перезагрузка» привели к семи встречам на высшем уровне с Медведевым и двум – с Путиным после его переизбрания на пост президента. Дональду Трампу выпало всего две встречи с Путиным, хотя они провели около двадцати телефонных разговоров. Если пересчитать это с российской точки зрения, то Путин – чемпион с восемнадцатью саммитами, за ним идут Ельцин (двенадцать саммитов), Горбачёв (девять саммитов), Медведев (восемь саммитов), Брежнев (пять саммитов) и Хрущёв (три саммита).
Что касается предстоящей встречи, пятьдесят седьмой по счёту, то это вопрос интерпретации, соответствует ли она второму или третьему типу по классификации Берриджа, или не укладывается в неё вообще. Двусторонние специальные встречи на высшем уровне обычно готовятся «шерпами» заблаговременно, проходят пару дней или дольше и часто включают подписание существенного соглашения или соглашений, согласованных помощниками. Саммит Байден – Путин плохо вписывается в строгое определение специальной встречи на высшем уровне, поскольку приготовления были спешными, встреча будет ограничена частью одного дня и ни слова не просочились о заранее подготовленных сделках, подлежащих формализации.
Подобно классическому обмену мнениями на высоком уровне, этот саммит будет иметь разную повестку дня и в какой-то мере будет посвящён прежде всего знакомству – не первому знакомству, естественно (Путин был премьер-министром, а Байден вице-президентом, когда они встретились в Москве в 2011 г.), а прежде всего – процессу знакомства с позициями друг друга в нынешних обстоятельствах. С другой стороны, встреча вряд ли выполнит ту роль, для которой, по мнению Берриджа, обмен мнениями подходит лучше всего, – а именно, подтолкнёт стороны к продолжению переговоров или спасёт то, что зашло в тупик по какому-то конкретному вопросу.
Насколько плодотворной будет встреча в Женеве? Все заинтересованные стороны последовали практически единогласному совету экспертов по данной теме: не ждите многого, чтобы плохой результат не разочаровал. «Мы не ожидаем больших результатов», – заявила на прошлой неделе пресс-секретарь Байдена Джен Псаки. И скорее всего, она права.
Однако скудные ожидания здесь – не только результат медиа-менеджмента. Вглядываясь в зеркало заднего вида, можно сказать, что с течением времени частота и теплота встреч на высшем уровне между США и Россией часто становится не только признаком состояния отношений, но и их определяющим фактором.
Основная причина, по которой саммит 2021 г. вряд ли приведёт к сенсационным результатам, заключается в том, что отношения, как все признают, напряжены почти так же, как в 1980-х гг., и продолжают ухудшаться. Другими словами, успех порождает успех, а неудача порождает неудачи.
Россия заявляет о стремлении к лучшим отношениям, но обвиняет Соединённые Штаты в стремлении сменить режим в Москве, а радикальных оппозиционеров – в коллаборационизме с янки. Соединённые Штаты проповедуют международный порядок, основанный на правилах, но вводят множество санкций, которые часто имеют мало общего с правилами, и в последнее время заставляют своих союзников усерднее работать над принуждением России к соблюдению требований Вашингтона (пример: «Северный поток – 2», где, правда, в последние недели администрация Байдена несколько ослабила давление). Политический застой в России делает Путина единственным российским лидером, с которым приходилось сталкиваться большинству американских официальных лиц, что способствует нездоровой персонализации, а иногда и демонизации «Другого».
Печальная ирония ситуации заключается в том, что разговоры между лидерами сейчас важнее, чем в 1990-х или 2000-х гг., потому что альтернативные каналы иссякли.
Россия была исключена из G8 в 2014 г. после кризиса в Крыму и на Украине, тем самым прервалась надёжная серия встреч на высшем уровне, на которых два вождя могли хотя бы коснуться базовых проблем. Санкции, контрсанкции и снова контрсанкции привели к отзыву послов и закрытию консульств в обеих странах, тем самым подорвав общение между людьми и взаимодействие между экспертами, в том числе между отдельными лицами и институтами, которые не понаслышке знают о проблематике международной безопасности. COVID-19 только усугубил ситуацию, а приложения Zoom недостаточно, чтобы заполнить почти полный вакуум.
Позитивно то, что оба правительства неоднократно заявляли о своей заинтересованности в «стратегической стабильности» и в более предсказуемых и управляемых отношениях. Отчасти это сотрясание воздуха, но не во всём.
Чтобы определить, способны ли руководители двух стран преобразовывать слова в дела, нужно будет посмотреть, будут ли у встречи 16 июня хотя бы один или два конкретных результата.
Здесь вырисовываются три перспективы: начало восстановления дипломатического представительства в Москве и Вашингтоне на взаимной основе; объявление о создании группы экспертов для работы над заменой нового договора СНВ, который уже продлён Байденом и Путиным на пять лет; и создание некоего механизма для работы в опасной зоне на пересечении оружия массового уничтожения и кибертехнологий.
Эта небольшая встреча на высшем уровне в лучшем случае может принести скромные результаты. Но, как часто бывает в жизни, это было бы предпочтительнее, чем альтернативный вариант.
Международный дискуссионный клуб «Валдай»

Американский президент, «Большая семерка», климат и не только…Мнение
Лидеры стран G7 дали понять, что эпоха сырьевой ренты неуклонно приближается к концу
Мировая политическая жизнь на днях существенно оживилась, несмотря на непрекращающуюся пандемию, — американский лидер Джо Байден начал свое первое зарубежное турне после избрания на пост президента США. Визит Байдена в Европу построен с использованием элементов театральной драматургии с прологом, несколькими актами и эпилогом-развязкой — очень насыщенная программа встреч: вначале один на один с западными лидерами, затем саммит лидеров стран G7, перетекающий в саммит НАТО, встреча с английской королевой и в финале — Женева и двухсторонние переговоры с российским визави Владимиром Путиным.
Голова кругом идет от большого количества самых разнообразных новостей и совместных заявлений, которые спровоцированы всеми вышеперечисленными мероприятиями. Например, один только саммит «Большой семерки» требует отдельного осмысления и систематизации решений и инициатив, принятых лидерами G7: выборы в Белоруссии и самолет в Минске, налог на прибыль международных корпораций, Олимпийские игры в Токио, Мьянма, денуклеаризация Корейского полуострова, сотрудничество с Китаем, ядерная сделка с Ираном, пандемия коронавируса, борьба с киберугрозами и коррупцией, «нормандский формат», Афганистан, выборы в Ливии, ситуация в Тайванском проливе, ну и, конечно же, Парижское соглашение по климату.
Остановимся на последнем. Для мировой нефтегазовой отрасли, несомненно, важным является официальное совместное заявление лидеров G7 об ускорении перехода от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к автомобилям с нулевыми выбросами CO2, а также другим видам транспорта, включая автобусы, поезда, корабли и самолеты. В заявлении подчеркивается, что добиться нулевых выбросов СО2 в своих странах «Большая семерка» планирует как можно быстрее и не позднее 2050 года. Кроме того, в итоговом заявлении отмечается готовность крупнейших экономик мира отказаться от углеводородного сырья в энергетике уже в 2030-х годах.
Все вышесказанное означает только одно: эпоха сырьевой ренты для российской экономики неуклонно приближается к концу, и ключевые западные экономики (среди которых основной энергетический партнер России Германия) будут делать все, что от них зависит, для ускорения энергоперехода. Есть ли у нашей нефтегазовой отрасли альтернативный сценарий, пока неясно, поскольку одним только водородом ситуацию не исправишь.
Ну, а мы продолжаем с интересом следить за драматургическим турне американского президента. Впереди Женева.
Вячеслав Мищенко
Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Интервью американской телекомпании NBC
Владимир Путин ответил на вопросы журналиста телекомпании NBC Кира Симмонса. Запись интервью состоялась 11 июня в Кремле.
К.Симмонс (как переведено): Господин Президент, Вы уже давно не давали интервью американским журналистам. Мне кажется, три года прошло. Спасибо, что нашли время. Есть масса тем для обсуждения. Я уверен, что мы много успеем обсудить.
Начну вот с чего. Сегодня пришли новости из США, там заявляют, что в течение следующих нескольких месяцев Россия готовит новые взломы военных объектов для иранской ядерной программы. Это правда?
В.Путин: Ещё раз повторите, пожалуйста, вопрос: мы готовим взломы каких объектов?
К.Симмонс: Сегодня вышел доклад, пошли сообщения, что Россия готовится передать Ирану спутниковую технологию, которая позволит Ирану отслеживать и наносить удары по военным целям.
В.Путин: Нет, у нас нет таких программ с Ираном, это просто чушь очередная. У нас с Ираном есть планы сотрудничества, в том числе и в сфере ВТС, всё это в рамках решений, которые были согласованы в нашей программе, по иранской ядерной программе в рамках ооновских решений вместе с нашими партнёрами по подготовке СВПД, где на определённом этапе санкции с Ирана должны быть сняты, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества. У нас есть определённые программы, но это всё обычные вооружения, если до этого дойдёт, но пока мы даже к этому не перешли, пока у нас нет никакого реального сотрудничества в области обычных вооружений, поэтому что-то там кто-то придумывает по поводу современных космических технологий — это просто фантастика, просто очередной вброс, фейк. Я о таком ничего не знаю, во всяком случае. Те, кто говорит об этом, знают лучше, чем я, наверное. Ну чушь.
К.Симмонс: То есть Вы согласны с тем, что передать Ирану такие спутниковые технологии — это поставило бы под угрозу американских военнослужащих, получи Иран от России такие технологии, ведь они могли бы передавать такую информацию хуситам в Йемене, могли передавать информацию «Хезболле». И факт передачи таких технологий Ирану был бы опасным развитием событий.
В.Путин: Послушайте, что мы обсуждаем проблемы, которых не существует? Нет предмета для обсуждений. Кто-то что-то выдумывает, я не знаю, может, это вброс, связанный с тем, чтобы вообще ограничить любое военно-техническое сотрудничество с Ираном. Я повторю ещё раз: это просто фейковый вброс, о котором мне вообще ничего неизвестно, я от Вас это впервые слышу. Нет у нас таких намерений. Не знаю, технологически готов ли Иран воспринимать даже такое сотрудничество. Это же отдельная тема, очень высокотехнологичная.
Да, действительно, мы не исключаем, что возможно наше сотрудничество со многими странами мира в космосе. Но, наверное, всем хорошо известна наша позиция по поводу того, что мы категорически против милитаризации космоса вообще. Мы считаем, что космос должен быть свободен от любых видов оружия, размещённого на околоземном пространстве, и так далее. Поэтому у нас нет таких планов, особенно по передаче технологий такого уровня, о котором Вы сейчас сказали.
К.Симмонс: Хорошо.
Следующий вопрос по саммиту с Президентом Байденом. Перед этим он встречается с лидерами «большой семёрки», с натовскими партнёрами, с лидерами европейских государств. Это его первая поездка, первый визит в Европу. Это подаётся как попытка сплотить ряды мировых демократий. Теперь он собирается встретиться с Президентом, которого подают как диктатора, автократа.
В.Путин: Я не знаю, кто-то подаёт под таким соусом, кто-то смотрит на развитие ситуации и на Вашего покорного слугу по-другому. Всё это подаётся публике так, как считается целесообразным для правящих классов в той или другой стране.
То, что Президент Байден встречается со своими союзниками, здесь нет ничего необычного. Что же здесь необычного — встреча «семёрки»? Мы знаем, что такое «семёрка», я там бывал многократно, знаю ценности этой площадки. Но когда люди собираются и что-то обсуждают, это всегда хорошо, лучше, чем не собираться и не обсуждать. Потому что и в рамках «семёрки» тоже есть вопросы, требующие постоянного внимания, рассмотрения, потому что есть и противоречия, как это ни покажется странным, есть разные оценки тех или иных событий на международной арене и между ними. Ну хорошо, пусть встретятся, пообсуждают.
Что касается НАТО, я уже много раз говорил: это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно. Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, эта организация, теперь уже как-то об этом подзабыли. Мы исходим из того, что это военная организация, но это союзники Соединённых Штатов, ну, наверное, время от времени нужно с союзниками встречаться. Хотя я тоже себе представляю, как идёт там дискуссия. Понятно, что всё решается консенсусом, но всё-таки есть одно мнение правильное, а все остальные не очень — так, аккуратно, скажем. Поэтому — ну что? Встречаются союзники, и что здесь необычного? Я ничего необычного здесь не вижу.
Тем более это дань уважения к своим союзникам перед встречей президентов США и России. Наверное, это подаётся как желание узнать их мнение по ключевым вопросам современной повестки дня, в том числе и по тем вопросам, которые мы будем обсуждать с Президентом Байденом. Но всё-таки я склонен думать, что, несмотря на все эти политесы, США будут продвигать в отношениях с Россией то, что они считают нужным и важным для себя и прежде всего для себя, для своих экономических, политических и военных интересов.
Послушать то, что думают на этот счёт союзники, наверное, никогда не вредно, так что ничего, рабочий процесс.
К.Симмонс: Тогда ещё немножко вопросов по поводу саммита. Как Вы знаете, Президент Байден запросил эту встречу, он не выдвигал никаких предварительных условий. Это Вас не удивило?
В.Путин: Нет. У нас отношения двусторонние деградировали до самой низкой планки за последние годы, а всё-таки есть вопросы, которые требуют сверки часов, определения каких-то позиций взаимных, для того чтобы вопросы, представляющие взаимный интерес, решались эффективнее в интересах как Соединённых Штатов, так и России. Поэтому здесь нет ничего необычного. На самом деле мы, несмотря на такую, казалось бы, жёсткую риторику, ожидали таких предложений, потому что внутриполитическая повестка в Штатах не давала нам возможности восстанавливать отношения на каком-то приемлемом уровне. Это должно было состояться рано или поздно.
Ну вот Президент Байден проявил такую инициативу. До этого, как Вы знаете, он поддержал продление Договора о СНВ, что не могло не встретить с нашей стороны поддержку, потому что мы считаем, что этот договор в сфере сдерживания стратегических наступательных вооружений достаточно проработан, отвечает нашим интересам — и российским, и американским. Поэтому такое предложение было вполне ожидаемым.
К.Симмонс: Вот Вы поедете на саммит. Вы планируете сразу после этого проводить дополнительные этапы переговоров по контролю над вооружениями, потому что Байден продлил СНВ на пять лет, и считается, что это начало диалога, а не его конец?
В.Путин: Мы знаем, какие вопросы, какие проблемы хотят американцы с нами обсуждать. Мы понимаем эти вопросы и проблемы, мы готовы к этой совместной работе. Есть у нас определённые если не разногласия, то разное понимание, каким темпом и по каким направлениям мы должны двигаться. Знаем, что является приоритетным для американской стороны. В общем, это процесс, который нужно двигать на профессиональном уровне: по линии Министерства иностранных дел, Госдепа, соответственно, Пентагона и Министерства обороны России. Мы к этой работе готовы.
Мы слышали сигналы, что американская сторона хотела бы возобновления этих переговоров на профессиональном, экспертном уровне. Посмотрим. Если после встречи на высшем уровне условия будут для этого созданы — пожалуйста, мы же не отказываемся, мы готовы к этой работе.
К.Симмонс: Президента Байдена интересует стабильность и предсказуемость. А Вас?
В.Путин: Это самая главная ценность, можно сказать, в международных делах. Если бы нам удалось…
К.Симмонс: Извините, что перебиваю, но он ведь говорил, что это Вы чините нестабильность и это Вы источник как раз таки непредсказуемости.
В.Путин: Он говорит одно, я говорю другое. Может быть, когда-то в чём-то наши риторики расходятся, но если Вы спрашиваете сейчас мою точку зрения, то я Вам говорю, в чём она заключается: самая главная ценность в международных отношениях — это стабильность и предсказуемость. Мы со стороны, как я считаю, наших американских партнёров как раз этого и не видели в предыдущие годы. Какая же стабильность и предсказуемость, если мы вспомним события в Ливии в 2011 году, когда страну разрушили? Ну и какая здесь стабильность и предсказуемость?
Всё время говорили о том, что войска в Афганистане будут оставаться. Потом раз, вдруг — бум, войска из Афганистана выводятся. Это что стабильность, предсказуемость?
События на Ближнем Востоке — это что, стабильность и предсказуемость? К чему это всё приведёт? Или в Сирии? Что здесь стабильного и предсказуемого?
Я спрашивал у своих коллег американских: вот вы хотите, чтобы Асад ушёл, а кто на его место придёт, что будет дальше? Ответ странный: не знаю. Ну если не знаешь, что будет дальше, зачем менять то, что есть? Ведь это может быть вторая Ливия или второй Афганистан. Мы этого хотим? Нет. Давайте вместе сядем, будем разговаривать, искать решения, искать компромиссы, приемлемые для всех сторон, — вот так достигается стабильность. Она не может быть достигнута навязыванием одной точки зрения, «правильной» точки зрения, все остальные – «неправильные». Так же стабильность не достигается.
К.Симмонс: Давайте перейдём к другой теме. Хотел поговорить о Ваших отношениях с Президентом Байденом. Это уже не саммит в Хельсинки, Байден не Трамп. Вы когда-то говорили, что Трамп — человек незаурядный, талантливый. Как Вы опишете Президента Байдена?
В.Путин: Я и сейчас считаю, что бывший Президент США господин Трамп — человек незаурядный, талантливый, иначе он не стал бы Президентом США. Он яркий человек, он может нравиться кому-то, может не нравиться. Это, конечно, не порождение американского истеблишмента, он раньше в такой большой политике никогда не был. Естественно, это нравится, не нравится, но это так и есть.
Президент Байден, конечно, кардинальным образом отличается от Трампа, потому что он профессионал, он почти что всю жизнь свою сознательную в политике. Он занимается этим многие-многие годы, я уже говорил об этом, и это очевидный факт: сколько лет он был сенатором, сколько лет он занимался вопросами, скажем, разоружения, международной политики фактически на экспертном уровне. Это другой человек. Я очень рассчитываю — есть плюсы, есть минусы, — что не будет таких импульсивных движений со стороны действующего Президента, что мы будем соблюдать определённые правила общения, сможем о чём-то договариваться, находить какие-то точки соприкосновения. Вот, собственно говоря, пожалуй, всё. А что будет происходить на самом деле, это нужно будет смотреть исходя из реальной, практической политики и её результатов.
К.Симмонс: Президент Байден говорил, что вы как-то встречались, что вы лицом к лицу очно виделись, и он говорил Вам, он так утверждает: я смотрю Вам в глаза и не вижу никакой души. А Вы сказали: мы друг друга понимаем. Вы помните этот разговор?
В.Путин: Насчёт души я не знаю, надо ещё подумать, что такое душа. Но я не помню этой части наших разговоров, честно говоря, не помню. Но мы все, когда мы встречаемся, разговариваем, работаем, добиваемся каких-то решений, мы действуем в интересах своих государств, своих народов. И это лежит в основе всех наших действий, помыслов, и это является побудительным мотивом для организации встреч подобного рода.
Насчёт души — это в церковь, пожалуйста.
К.Симмонс: Да, Вас часто описывают как религиозного человека, и он говорил, что он прямо в лицо сказал: Вы бездушный человек.
В.Путин: Я такого не помню. «Что-то с памятью моей стало».
К.Симмонс: Он говорит, что 10 лет назад это было, когда он был вице-президентом.
В.Путин: У него хорошая память, наверное. Я не исключаю, но я такого не помню. Вообще, при личных встречах люди стараются вести себя как-то корректно. Я не помню некорректных элементов поведения со стороны моих коллег, до сих пор ничего подобного не было. Ну может быть, что-то он и сказал, но я не помню.
К.Симмонс: По-вашему, неуместно такие вещи говорить?
В.Путин: Смотря в каком контексте, смотря в какой форме. Понимаете, можно же по-разному это всё сказать, по-разному может быть подано. Но вообще-то люди встречаются для того, чтобы наладить отношения и создать условия для совместной работы, для достижения каких-то позитивных результатов. А если нужно выяснять отношения друг с другом и собачиться, как у нас говорят в России, ругаться, зачем тогда встречаться, время тратить? Лучше заняться вопросами бюджетной и социальной политики внутри страны. У нас много вопросов, которые мы должны решать. Ну какой смысл? Просто бессмысленная трата времени, и всё.
Можно, конечно, это подавать для внутриполитического потребления, что, по-моему, в Соединённых Штатах в последние годы и делалось, — российско-американские отношения приносились в жертву всё время острой внутриполитической борьбе в самих США.
Мы это видим, мы хорошо знаем, нас в чём только не обвиняли: во вмешательстве в выборы, кибератаках и так далее. Причём ни одного раза не удосужились предъявить какие-то доказательства, просто голословные обвинения. Я удивлён, почему до сих пор нас не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter, — тоже хорошая была бы линия атаки. Но мы не делали это.
К.Симмонс: Что Вы думаете о движении Black Lives Matter?
В.Путин: Я думаю, что, конечно, внутриполитически это движение было использовано одной из политических сил в ходе предвыборной борьбы, но под этим есть определённые основания. Вспомним Колина Пауэлла, который был и Госсекретарём, и Пентагон возглавлял, он в своей книге же написал, что даже он, высокопоставленный чиновник, всю свою жизнь ощущал какую-то несправедливость в отношении себя как человек с тёмным цветом кожи.
А ещё с советских времен, и мы в России, мы всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за свои права, и это имеет определённые корни, основание. Но в то же время, какими бы благородными целями кто-то ни руководствовался, если это переходит в какие-то крайности, приобретает какие-то элементы экстремизма, мы, конечно, не можем этого приветствовать. И здесь у нас отношение очень простое к этому: мы поддерживаем борьбу афроамериканцев за свои права, но мы против любых видов экстремизма, которые мы иногда тоже, к сожалению, наблюдаем сейчас.
К.Симмонс: Вы упомянули кибератаки и отрицаете причастность России к этим атакам. Но, господин Президент, сейчас есть огромное количество доказательств, и определённые кибератаки, которые, видимо, были спонсированы государством. Пять приведу.
Разведывательное сообщество США сказало, что в 2016 году Россия вмешивалась в выборы, и те, кто отвечает за выборы, говорили, что в 2020 году Россия вмешивалась в выборы. Те, кто отвечает за кибербезопасность, говорят, что хакеры вмешивались в использование и в разработки вакцины от коронавируса.
SolarWinds также была самой плохой кибератакой, самой тяжёлой кибератакой, там было девять ведомств США, которые пострадали. И незадолго до саммита «Майкрософт» заявила о том, что была ещё очередная атака и целями были организации, которые критиковали вас, господин Президент.
Господин Президент, вы ведёте кибервойну против Америки? Так ли это?
В.Путин: Дорогой Кир, Вы сказали, что есть целый набор доказательств кибератак со стороны России, а потом перечислили те официальные американские ведомства, которые об этом заявили, так?
К.Симмонс: Я просто передаю Вам информацию относительно того, кто об этом сказал, чтобы Вы могли ответить.
В.Путин: Да, Вы мне передаёте информацию о том, кто сказал. Но где же доказательства того, что это было сделано на самом деле? Я Вам скажу: и это, и то, и тот сказал, и этот сказал, — а доказательства-то где? На такие бездоказательные обвинения я могу Вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?
Но это же просто разговор ни о чём. Ну хотя бы что-нибудь положите на стол, чтобы мы могли посмотреть и как-то на это отреагировать. Но ведь ничего этого нет.
Насколько мне известно, одна из последних атак была на трубопроводную систему США.
К.Симмонс: Да.
В.Путин: Насколько мне известно, акционеры этой компании приняли решение даже заплатить выкуп. Они откупились от кибербандитов. Но если Вы перечислили целый набор уважаемых специальных служб США, они мощные, глобальные, они могут найти тех, кому заплачен выкуп в конце концов или нет? Надеюсь, они убедятся в том, что Россия не имеет к этому отношения.
Теперь какая-то кибератака на мясокомбинат какой-то. Потом на крашеные яйца, скажут, атака совершена, понимаете? Это просто превращается в какой-то фарс, бесконечный фарс. Вы сказали: много-много доказательств, — но ни одного опять не привели. Это же разговор в пустоту, в пользу бедных совсем. О чём мы говорим?
К.Симмонс: Вы перешли к вопросу этого выкупа и преступников. Русскоязычные преступники всегда, как говорят, угрожают американскому образу жизни, больницам, системам водообеспечения, продуктами питания. Почему, как Вы считаете, эти преступники разрушают российскую дипломатию? Вы не хотите понять, кто вообще за этим стоит, чтобы они не портили имидж России?
В.Путин: Вы знаете, ведь самое простое было бы нам сесть спокойненько и договориться о совместной работе в киберпространстве. Мы же предлагали это ещё Администрации господина Обамы…
К.Симмонс: В сентябре.
В.Путин: …где-то в октябре. Начали в сентябре, предложили в последний год его президентства. Они сначала промолчали, а где-то в ноябре ответили, что да, это интересно. Потом выборы были проиграны. Мы повторили это предложение уже Администрации господина Трампа. Нам ответили, что это интересно, но до реальных переговоров это не дошло.
Есть основание полагать, что мы можем выстроить работу в этой сфере с новой Администрацией. Надеюсь, что внутриполитические расклады в самих США не помешают это сделать.
Но мы же предлагали эту работу: давайте вместе посмотрим, на что мы можем выйти, договоримся о принципах совместной работы, договоримся о том, как мы выстроим противодействие этому процессу, который набирает оборот. У нас, в самой Российской Федерации, количество киберпреступлений выросло в разы за последнее время, внутри страны. Мы соответствующим образом пытаемся реагировать, ищем этих киберпреступников, если находим, наказываем их. Мы также готовы работать и с участниками международного общения, в том числе и со Штатами, но они же отказываются. Вы отказываетесь от совместной работы. Чего же мы можем сделать? Мы же не можем эту работу построить в одностороннем порядке.
К.Симмонс: Я не Правительство, господин Президент, я просто журналист, и я спрашиваю, задаю несколько вопросов. Но если Вы хотели бы вести такие переговоры, наверное, нужно запросить перемирия, потому что сейчас идёт война. Когда идёт война, какие могут быть переговоры?
В.Путин: Вы знаете, что касается войны, то, скажем, НАТО официально, я хочу обратить Ваше внимание на это, официально объявила о том, что считает киберпространство сферой боевых действий и проводит военные учения в киберпространстве. Мы об этом не говорим никогда.
К.Симмонс: И Вы участник этих боевых действий.
В.Путин: Нет.
К.Симмонс: Россия на этом поле ведёт войну. Так это?
В.Путин: Нет, не так. Это не так.
К.Симмонс: Правда?
В.Путин: Если бы мы хотели это делать… НАТО сказала, что считает киберпространство сферой боевых действий, и готовится, и даже учения проводит. Ну что нам мешает, мы сказали бы тоже: вы так, и мы так будем делать. Но мы не хотим этого. Так же как мы не хотим милитаризации космоса, мы не хотим и милитаризации киберпространства. И предлагали много раз договариваться о совместной работе в сфере безопасности по этому направлению, а ваше правительство отказывается.
К.Симмонс: Я видел Ваши предложения от сентября, они были сделаны в сентябре. То есть Вы предлагаете, что если вы можете прийти к согласию, к соглашению относительно хакерских атак и вмешательства в выборы, тогда вы отзовёте эти все, собственно, действия, если Америка не будет комментировать и вмешиваться в ваши политические действия и политических оппонентов?
В.Путин: Мы рассчитываем на то, что никто не должен вмешиваться во внутриполитические процессы в другой стране: ни Америка в наши, ни мы в американские, ни в какие другие. Надо дать возможность народам всех стран мира спокойно развиваться. Даже если есть кризисные ситуации, они должны разрешаться народом внутри страны, без вмешательства извне.
Но мне кажется, что этот призыв к американской Администрации, в том числе и сегодняшней Администрации, мало чего стоит. Потому что мне так представляется, что Правительство США всё равно будет вмешиваться во внутриполитические процессы в других странах, вряд ли этот процесс можно остановить, уж очень он большой оборот набрал. Но о совместной работе в киберпространстве, о предотвращении неприемлемых каких-то действий со стороны киберпреступников точно можно договариваться. Мы очень рассчитываем на то, что нам удастся наладить этот процесс вместе с американскими партнёрами.
К.Симмонс: Если бы Вы были в Америке, чего бы Вы боялись следующего — того, что отключат свет? Это, например, какие-то действия, которые были в Украине в 2015 году?
В.Путин: Я не понял: если бы я был в Америке, чего бы я боялся? Если бы я был американцем или что?
К.Симмонс: Чего американцам бояться и опасаться? Что может случиться, если не будет соглашения по противодействию кибербандитизму?
В.Путин: Так же как милитаризация космоса, это очень опасная сфера. Ведь когда-то, для того чтобы добиться в ядерной сфере, в сфере противостояния в области ядерного оружия, договорились же Советский Союз и Соединённые Штаты о том, чтобы сдерживать эту гонку вооружений. Но киберпространство — это очень чувствительная сфера. Сегодня на цифровые технологии завязаны очень многие виды деятельности человека и осуществление государственных функций. Ну конечно, вмешательство в эти процессы может нанести серьёзный ущерб, серьёзный урон, все же это понимают. Я в третий раз повторяю: давайте сядем и будем договариваться о совместной работе по обеспечению безопасности в этой сфере, вот и всё. Чего здесь плохого?
Я Вас не спрашиваю, не хочу Вас ставить в сложное положение, но для меня как для рядового гражданина было бы непонятно, почему ваше Правительство отказывается от этого? Обвинения продолжают сыпаться вплоть до вмешательства в кибератаки на мясокомбинат какой-то, а наши предложения начать переговоры на эту тему отклоняются. Ерунда какая-то! Но ведь именно это же и происходит.
Повторяю ещё раз: надеюсь, что нам удастся выйти на позитивную работу и в этой сфере.
Чего там бояться? Ведь почему мы предлагаем договариваться? Потому что то, чего могут бояться в Америке, может представлять опасность и для нас. Соединённые Штаты — высокотехнологичная страна. Если НАТО объявила о том, что киберпространство — это сфера боевых действий, то, значит, они чего-то там планируют, чего-то там готовят. Конечно, это не может не вызывать у нас беспокойства.
К.Симмонс: Вы боитесь, что американская разведка глубоко проникла в российскую систему и может вам навредить в киберобласти?
В.Путин: Я не боюсь, но я имею в виду, что это возможно.
К.Симмонс: Давайте я задам вопрос о правах человека. Это вопрос, который поднимет Президент Байден. Он будет говорить об Алексее Навальном, о разных убийствах, о том, кто сейчас в тюрьме. Почему Вас так пугает оппозиция, господин Президент?
В.Путин: Кто вам сказал, что нас пугает оппозиция или меня пугает оппозиция? Кто вам это сказал? Вы знаете, это даже смешно.
К.Симмонс: Простите, российский суд сейчас признал вне закона организацию, которая связана с господином Навальным. И вся несистемная оппозиция сейчас сталкивается с уголовными обвинениями, также журналисты, многим дают статус иностранных агентов, и это вызывает, собственно, серьёзный сбой в их деятельности. То есть инакомыслие в России больше не терпят.
В.Путин: Это вы подаёте это как инакомыслие и нетерпимость к инакомыслию в России. Мы на это смотрим совсем по-другому. И Вы упомянули закон об иностранных агентах. Но это не наше изобретение, это ещё в 30-е годы закон об иностранных агентах был принят в США, и он гораздо более жёсткий, чем у нас, направлен в том числе на предотвращение вмешательства во внутриполитическую жизнь Соединённых Штатов. И в целом, в общем, я считаю, что он оправдан.
К.Симмонс: Но, господин Президент, просто в Америке мы называем то, что Вы сейчас делаете, «а сами-то вы что, на себя посмотрите» — вот так говорят в Америке. Прямой вопрос задам, откровенный.
В.Путин: Дайте мне ответить, Вы же мне задали вопрос. Вам не нравится мой ответ, и Вы меня сразу прерываете. Это некорректно.
Так вот в Америке давно принят этот закон, он работает, и санкции гораздо жёстче, чем у нас, вплоть до лишения свободы и так далее.
К.Симмонс: Вы опять говорите про Соединённые Штаты.
В.Путин: Да, я сейчас скажу, я сейчас вернусь к нам, не беспокойтесь, я не останусь только на площадке проблем Соединённых Штатов. Я сейчас вернусь, прокомментирую то, что у нас происходит.
К.Симмонс: Я думал, что Вы считаете, что страны не должны вмешиваться во внутренние дела других стран и комментировать не должны политику, а Вы опять это делаете сейчас.
В.Путин: Нет. Если Вы наберётесь терпения и дадите мне сказать до конца то, что я хочу сказать, Вам всё станет ясно. Но Вам не нравится мой ответ, Вы не хотите, чтобы мой ответ слышали Ваши зрители, вот в чём проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?
К.Симмонс: Ответьте, пожалуйста.
В.Путин: Ну так вот, в США был принят закон. Мы его приняли совсем недавно с целью защитить наше общество от вмешательства извне. Если в некоторых штатах иностранные наблюдатели приближаются к избирательному участку, прокурор говорит: только ещё несколько метров ближе — и посажу вас в тюрьму. Это нормально? Это демократия в современном мире? А в некоторых штатах это практика. У нас ничего подобного нет.
Когда я говорю об этих законах, о невмешательстве или попытках вмешательства, что я имею в виду применительно к России? Многие структуры так называемого гражданского общества… Почему говорю «так называемого»? Они финансируются из-за рубежа, готовятся соответствующие программы действий, активисты проходят подготовку за рубежом, и когда наши официальные структуры видят это, с целью предотвращения такого вмешательства в наши внутренние дела мы принимаем соответствующие решения и законы, и они мягче, чем ваши.
У нас есть такая пословица: нечего на зеркало пенять, если рожа кривая. Это к Вам лично не имеет никакого отношения, но если нам кто-то что-то ставит в вину, вы посмотрите на себя, вы там себя в зеркале увидите, а не нас. Здесь нет ничего необычного.
Что касается политической деятельности и политической системы, она развивается. У нас 34 партии зарегистрированы, по-моему, сейчас 32 будут принимать участие в различных выборных процессах по всей стране в сентябре.
К.Симмонс: Но это зарегистрированная оппозиция.
В.Путин: Есть несистемная оппозиция. Вы сказали о том, что кто-то задержан, кто-то находится в местах лишения свободы — да, это тоже бывает. Вы упоминали некоторые фамилии.
К.Симмонс: Да, я о них.
В.Путин: Да-да, сейчас скажу. Сейчас скажу, я не пропущу ни одного Вашего вопроса, не беспокойтесь.
К.Симмонс: Алексей Навальный его зовут.
В.Путин: Не важно.
К.Симмонс: Задам прямой вопрос: Вы приказали его убивать или нет?
В.Путин: Конечно, нет. У нас нет такой привычки кого-то убивать, это первое.
Второе — я хочу Вас спросить: а вы приказали убить женщину, которая вошла в Конгресс и которую застрелил полицейский? А Вы знаете, что у вас 450 человек арестованы после захода в Конгресс? И они пришли не для того, чтобы украсть там компьютер, они пришли с политическими требованиями. 450 человек арестованы, им грозит тюремное заключение от 15 до 25 лет, и они пришли с политическими требованиями. Разве это не преследование за политические взгляды? Некоторых обвиняют в заговоре с целью захвата власти. Некоторых вообще в грабеже обвиняют. Они пришли не грабить.
Люди, о которых Вы упомянули, — да, они осуждены за нарушение режима людей, которые осуждены были условно. Дважды человека осуждали условно. По сути, это просто предупреждали, чтобы не нарушал действующего в России законодательства. Нет, полное игнорирование требований закона. В конце концов суд вынес соответствующее решение, поменяв меру пресечения на содержание под стражей. Таких вот, я Вам скажу, в год в России тысячи, которые нарушают режим условного содержания, не отмечаются, игнорируют требования закона. Тысячи! И они не имеют никакого отношения к политической деятельности. А если кто-то прикрывается политической деятельностью, для того чтобы решать свои дела, в том числе коммерческие, то соответствующим образом нужно за это ответить.
К.Симмонс: Вот смотрите, Вы же снова так говорите: а в Америке как? а в Америке как? Задам такой вопрос. Вот Вы говорили про американский Конгресс. Опять же прямой вопрос: звучат обвинения, неоднократно они звучат в США, ныне покойный Джон Маккейн прямо в Конгрессе назвал Вас убийцей, и Байден этого тоже не отрицал, и даже Трамп это не отрицал. И когда Байдена спросили напрямую, он тоже ответил. Так вот, господин Президент, Вы убийца?
В.Путин: Послушайте меня, я привык за время своей работы к атакам с разных сторон по очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это не удивляет. Мы с теми людьми, с которыми работаем, спорим на международной арене, — мы не жених и невеста, не клянёмся друг другу в вечной любви и дружбе. Мы партнёры и в чём-то соперничаем друг с другом.
Вот что касается жёсткой риторики, то мне кажется, что это вообще проявление отчасти общей американской культуры. Конечно, скажем, в Голливуде есть — вспомнили про Голливуд в начале нашей беседы — глубокие вещи, которые, безусловно, можно отнести к произведениям искусства в области кинематографии. Но чаще всего это такой мачизм. Это в американской, в том числе политической, культуре вроде считается нормально. Кстати говоря, у нас нет. Но если после этой риторики следует предложение встретиться и обсудить двусторонние вопросы и вопросы международной политики, я воспринимаю это как желание к совместной работе. Если это желание серьёзное, мы готовы это поддержать.
К.Симмонс: Но Вы же, по-моему, напрямую на вопрос не ответили.
В.Путин: Ответил. Я сейчас добавлю, если Вы позволите.
Я таких обвинений слышал десятки, особенно в период наших тяжёлых событий во время нашей борьбы с терроризмом на Северном Кавказе. Я при этом всегда руководствуюсь интересами российского государства и русского народа, и вот эти сентенции по поводу того, кто, как, чего и кого называет, меня абсолютно не волнуют.
К.Симмонс: Вот, пожалуйста, список имён: Анна Политковская застрелена, Литвиненко отравлен полонием, Сергей Магнитский, предположительно избитый, скончался в тюрьме, Борис Немцов в нескольких метрах от Кремля застрелен насмерть, Михаил Лесин умер от физических увечий в Вашингтоне. Это всё Ваши жертвы.
В.Путин: Знаете что, мне не хочется казаться грубым, но это похоже на какое-то такое несварение желудка, только словесное.
Вы перечислили много людей, которые действительно пострадали и погибли в разное время по разным причинам от рук разных людей.
Лесина Вы упомянули. Он работал у меня в Администрации, я к нему очень хорошо относился. Погиб он в США, умер или погиб — я не знаю, но мы у вас должны спросить, как он там погиб. Мне, например, до сих пор жалко, что он ушёл из жизни. На мой взгляд, очень порядочный, приличный человек.
Что касается других, кого-то мы нашли, кого-то нет – из тех преступников, которые совершили те или другие преступления, кто-то в тюрьме сидит. Мы готовы и дальше работать в таком же ключе и в таком же режиме, выявляя всех, кто идёт против закона и своими действиями приносит ущерб, в том числе имиджу Российской Федерации. Но вот так всё подряд вываливать — это просто бессмысленно, некорректно и не имеет под собой никаких оснований. Если представить себе это как линию атаки, пожалуйста, давайте я послушаю это ещё раз. Повторяю, я слышал это многократно, но это меня абсолютно не сбивает с толку. Я знаю, в каком направлении нужно двигаться, чтобы обеспечить интересы Российского государства.
К.Симмонс: Хорошо, сменю Вам тему.
Украина и Беларусь — эти две страны явно будут подниматься на встрече с Президентом Байденом. Вы знали заранее, что будет принуждение к посадке авиалайнера, что арестуют двух людей, высадят из него и арестуют?
В.Путин: Я об этом не знал. Я не знал ни о каком лайнере и о людях, которые там были арестованы, тоже ничего не слышал. Узнал об этом из средств массовой информации. Знать не знал о каких-то задержанных, понятия не имею. Для нас это не представляет никакого интереса.
К.Симмонс: Вы как будто бы согласны, одобряете такой поступок. Вы ведь встречались сразу после этого с Лукашенко.
В.Путин: Я не то чтобы одобряю и не то чтобы осуждаю. Так случилось. Я рассказывал недавно в одном из разговоров с европейским коллегой, версия господина Лукашенко, о которой он мне рассказал, заключается в том, что к ним самим поступила информация, что на борту находится взрывное устройство. Они проинформировали пилота, не принуждали его к посадке, и пилот принял решение садиться в Минске. Вот и всё.
К.Симмонс: И Вы верите, что это правда?
В.Путин: А почему мне ему не верить? Вы спросите у пилота. Самое простое — спросить у командира корабля: тебя принуждали к посадке или нет? Спросите у него. Вы спрашивали у него? Что-то я ни разу не слышал интервью этого командира корабля, который сел в Минске. Почему бы его не спросить: тебя что, силой принуждали садиться? Почему не спрашиваете-то у него? Это даже странно. Все обвиняют Лукашенко, а у пилота не спрашивают.
Вы знаете, я не могу не вспомнить другого случая подобного рода, когда самолёт Президента Боливии по приказу американской Администрации посадили в Вене. Борт №1 Президента, вот так принудительно приказали сесть. Президента вывели из самолёта, обыскали самолёт, и Вы об этом даже не вспоминаете. Вы считаете, это нормально? Там было хорошо, а Лукашенко поступил плохо? Послушайте, давайте как-то будем говорить на одном языке и какими-то одинаковыми понятиями оперировать. Вот «Лукашенко – бандит». А там хорошо? Тогда в Боливии восприняли это как общенациональное унижение, но все промолчали, чтобы не обострять отношения. Никто не вспоминает, и это, кстати, не единственный случай. Не единственный. Ну так чего же Лукашенко? Если это он, значит, вы показали ему пример.
К.Симмонс: Вы об этом говорили, но это совершенно другой пример. Господин Президент, мы сейчас говорим о коммерческом рейсе. Смотрите, у людей ведь должно быть право купить билет на самолёт и спокойно прилететь, не боясь, что их собьёт истребитель, что их не принудят к посадке, что не будут ссаживать и арестовывать журналистов.
В.Путин: Послушайте меня, я ещё раз Вам говорю то, что мне сказал Президент Лукашенко. У меня нет оснований ему не верить. Спросите у пилота в конце концов, третий раз Вам говорю. Ну почему Вы не спросите-то? Его принуждали, его пугали? То, что прошла информация о том, что на борту находится взрывное устройство, что люди, пассажиры, граждане, которые не имеют никакого отношения к политике или к каким-то внутренним конфликтам, ещё к чему-то, как-то могли воспринять это негативно, могли переживать на этот счёт, — конечно, это плохо. Чего же здесь хорошего? Мы, разумеется, осуждаем всё, что связано с этим делом: с международным терроризмом, с использованием воздушных судов и так далее. Конечно, мы против.
Вы мне сказали, что посадка самолёта с Президентом Боливии — это другой случай. Другой, да, только он просто хуже в десять раз, чем то, что было сделано, если что-то было сделано, в Белоруссии. И вы не хотите это просто признавать, пропускаете мимо ушей и хотите, чтобы миллионы людей во всём мире этого не замечали или забыли назавтра. Не получится.
К.Симмонс: Хорошо, Украина — ваш сосед. Раньше, в начале этого года, ЕС заявлял, что было большое скопление вооружённых сил, военнослужащих России на границе с Украиной. В чём была причина? Для чего это было сделано?
В.Путин: Послушайте, во-первых, сама Украина постоянно подтаскивала да, по-моему, и сейчас продолжает ещё — и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу — первое.
Второе: мы проводили плановые учения на своей территории и не только на юге Российской Федерации, а и на Дальнем Востоке, и на севере, в Арктике, проводили учения. Одновременно проводились учения в нескольких регионах Российской Федерации. В это же время США проводили учения на Аляске, так, на минуточку. Вы знаете об этом что-нибудь? Нет? Наверное, нет. А я Вам скажу, я знаю. Это тоже в непосредственной близости от наших границ, но это на вашей территории. Мы даже на это внимания не обратили.
А вот что происходит сейчас: сейчас на наших южных границах происходят учения Defender Europe. 40 тысяч личного состава, 15 тысяч единиц военной техники, часть из них переброшена с Американского континента прямо к нашим границам. Мы перебросили свою технику к американским границам? Нет. А что вы волнуетесь?
К.Симмонс: Очень часто эти учения, которые мы проводим, это же в ответ на ваши действия и на ваши учения. Ваше противостояние с НАТО во многом ведь усугубило ситуацию, и НАТО своего рода играет в оборону.
В.Путин: Ничего себе оборона! В период Советского Союза ещё Горбачёву, он, слава богу, жив-здоров, спросите у него, устно, но всё-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Две волны расширения…
К.Симмонс: Где написано, где было закреплено это обещание?
В.Путин: Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка — у нас так в народе говорят. Надо всё закреплять на бумаге.
Но зачем надо было расширять НАТО на восток, приближая инфраструктуру к нашим границам? И вы говорите, что это мы ведём себя агрессивно. С какой стати? Что, Россия даже после развала Советского Союза представляла угрозу какую-то для Соединённых Штатов и для других стран Европы? Мы добровольно вывели все свои войска из Восточной Европы прямо в чистое поле. Люди страдали у нас, десятилетиями там жили семьи военных, не имея нормальных условий для проживания, в том числе для своих детей. Мы пошли на огромные издержки. А что получили в ответ? Инфраструктура здесь, у наших границ. И Вы говорите о том, что мы кому-то угрожаем? Да, мы проводим учения регулярно, в том числе проводим учения, неожиданные для наших Вооружённых Сил. Почему это должно вызывать какую-то озабоченность у партнёров по НАТО? Я просто не понимаю.
К.Симмонс: Но сейчас вы бы взяли обязательство больше не направлять военнослужащих России на суверенную территорию Украины, отдельного государства?
В.Путин: Послушайте меня, разве мы говорили о том, что собираемся направлять какие-то наши вооруженные формирования куда-то? Вот Вы говорите: а сейчас вы могли бы? Мы проводили учения на своей территории. Как же это не понятно? Я ещё раз говорю и хочу, чтобы услышали ваши зрители, ваши слушатели на экранах телевизоров и в интернете: мы проводили учения на своей территории.
Представим себе, что мы бы свои войска послали бы в непосредственную близость к вашим границам, как бы вы отреагировали? Мы же этого не делали, мы на своей территории. Вот вы на Аляске проводили — ну и дай вам бог здоровья! Но вы-то приехали через океан к нашим границам, привезли тысячи солдат и тысячи единиц техники. И вы считаете, что мы ведём себя агрессивно, а вы нет. Здрасьте, приехали.
К.Симмонс: Хорошо. Следующая тема.
Представители Администрации Байдена заявляли, что Пол Уилан и Тревор Рид будут обменяны на этом саммите. Это бывшие морпехи США. Тревор Рид заболел коронавирусом в тюрьме. По-вашему, этот жест доброй воли хороший был бы жест?
В.Путин: Я знаю, что у нас есть некоторые американские граждане, которые находятся в местах лишения свободы, осуждены. Но если взять количество граждан Российской Федерации, которые находятся в тюрьмах Соединённых Штатов Америки, то это несопоставимое количество. США в последние годы взяли практику в третьих странах отлавливать граждан России, тащить их в нарушение всех норм международного права к себе и сажать в тюрьму.
Сейчас, секундочку.
К.Симмонс: Просто время поджимает. Но если нам больше времени выделят, с удовольствием поговорим.
В.Путин: Ладно. Здесь я определяю время, поэтому не переживайте.
Ваш парень, морпех, — просто пьяница и хулиган. Он нажрался, как у нас говорят, напился водки и устроил потасовку, в том числе ударил полицейского. Ничего там особенного нет, бытовщина на самом деле.
Что касается возможных переговоров на этот счёт — пожалуйста, можно поговорить. Мы, естественно, поставим вопрос о наших гражданах, которые в тюрьме сидят в США. Это предмет для разговора. Пожалуйста. Но, правда, американская Администрация вроде вопрос так не ставила, но мы готовы и к этому, поговорить на эту тему.
У нас лётчик Ярошенко сидит у вас уже сколько, 15 или чуть ли не 20 лет уже. Там тоже вроде чисто уголовные дела. Надо поговорить. Но не разговариваем же на эту тему. Может, представится возможность. Если американская сторона готова пообсуждать эту тему, мы готовы, пожалуйста.
К.Симмонс: Вы знаете, его семье больно слышать такие слова, что, дескать, хулиган. Вы рассматриваете возможность «обмена пленными»?
В.Путин: Что здесь обидного-то? Он напился водки, драку устроил, подрался с полицейскими. Что здесь обидного-то? Ну бывает так в жизни, ничего такого страшного здесь нет. Ну что, и с нашими мужиками бывает: водки махнут себе да в драку. Что такого-то? Ну нарушил закон, посадили в тюрьму его. А у вас бы, если он подрался с полицейскими, его бы просто застрели на месте, вот и дело с концом, не так ли?
К.Симмонс: А что касается обмена заключёнными, Вы могли бы рассмотреть такую возможность и обсудить это во время встречи с Президентом Байденом?
В.Путин: Конечно. Ещё лучше было бы обсудить возможность заключения соглашения о выдаче лиц, которые находятся в местах лишения свободы. Это обычная мировая практика, у нас с некоторыми странами есть такие соглашения. Мы и со Штатами готовы это обсудить.
К.Симмонс: Просто хочу понять, какие российские граждане, которые в США, кого Вы хотите вернуть обратно в Россию, кого из них? Поимённо.
В.Путин: У нас там целый список. Вот я сейчас назвал, лётчик у нас там Ярошенко, которого из третьей страны вывезли в США, дали ему там довольно большой срок. У него большие проблемы со здоровьем, но как-то администрация мест лишения свободы не обращает на это внимания. Вот на коронавирус вашего гражданина Вы обратили внимание, а болезни нашего гражданина — никто об этом не вспоминает.
Мы готовы к обсуждению этих вопросов. Даже более того, я думаю, что это целесообразно. Есть вопросы, как Вы правильно сказали, я с Вами полностью согласен, гуманитарного характера. Ну почему не обсудить это? Касается здоровья и жизни конкретного человека, их семей. Конечно.
К.Симмонс: Прежде чем я перейду к следующей теме… Опять же что касается Алексея Навального: Вы можете пообещать, что Алексей Навальный покинет тюрьму живым и здоровым?
В.Путин: Послушайте, у нас такие решения принимает не Президент, такие решения принимает суд — освобождать, не освобождать. Что касается здоровья, то за всеми людьми, которые находятся в местах лишения свободы, соответствующим образом отвечает администрация того или другого заведения соответствующего. Есть далеко, наверное, не в самом лучшем состоянии находящиеся лечебные заведения в местах лишения свободы, в учреждениях подобного рода. Они и следят за этим. Я надеюсь, что должным образом.
Если по-честному сказать, я давно не был в местах подобного рода, когда-то в Петербурге был, на меня произвели тяжёлое впечатление медицинские службы мест лишения свободы. Но за это время, надеюсь, кое-что сделано для того, чтобы ситуация улучшилась. Исхожу из того, что и к человеку, о котором Вы упомянули, будут применяться такие же методы, не хуже, это совершенно точно можно сказать, чем ко всем другим лицам, находящимся в местах лишения свободы.
К.Симмонс: Его зовут Алексей Навальный. Вы не готовы сказать, что он выйдет из тюрьмы?
В.Путин: Слушайте меня внимательно. Его могут называть как угодно, он один из людей, находящихся в местах лишения свободы. Для меня он один из граждан Российской Федерации, который осуждён российским судом и находится в местах лишения свободы, таких много. Кстати говоря, у нас так называемое тюремное население — люди, которые находятся в заключении, — сократилось за последние годы почти в два раза. Это большая, я считаю, победа с нашей стороны и серьёзный признак гуманизации нашей правовой системы. Поэтому не хуже, чем к другим. Никакого эксклюзива никому мы делать не должны, и это неправильно будет, все должны быть в равном положении, это называется «принцип наибольшего благоприятствования», не хуже, чем кому-либо другому. И того человека, о котором Вы упомянули, это тоже касается.
К.Симмонс: Спасибо, что уделили нам время, господин Президент, мы две недели сидели на карантине, это очень важное для нас интервью.
Хочу задать вопрос по Китаю. Китай сейчас работает над четвёртым авианосцем, у них два, у России один, и он сейчас не на дежурстве. Китай отказывается участвовать в переговорах, в прошлом году он отказался от переговоров по контролю над вооружениями. Вы жалуетесь о НАТО на Западе. Почему вы не жалуетесь о милитаризации Китая на Востоке?
В.Путин: Первое, что хочу сказать, — у нас с Китаем за последние годы, за последние десятилетия сложились отношения стратегического партнёрства, которых в истории наших государств мы ранее не достигали. Большой уровень доверительности и сотрудничества, причём по всем направлениям: в политике, в экономике, в сфере технологий, в военно-техническом сотрудничестве. Мы не считаем, что Китай представляет для нас угрозу. Это дружественная страна. Она же не объявляет нас врагом, как это сделали в Соединённых Штатах. Вам об этом разве ничего не известно? Это первое.
Второе: Китай — огромная, мощная страна, полтора миллиарда человек. По паритету покупательной способности экономика Китая стала больше экономики США, а по уровню товарооборота за предыдущий год Китай вышел на первое место с Европой, США отошли на второе место. Вам это известно?
Китай развивается. Я понимаю, что начинается такое противостояние с Китаем. Мы это всё видим. Все же понимают это. Что здесь прятаться и пугаться этих вопросов? Но нас это не настораживает в том числе и потому, что мы считаем, что наша оборонная достаточность, так мы об этом говорим, находится на очень высоком уровне, в том числе и поэтому. Но самое главное — это характер и уровень отношений с Китаем.
Вы сказали, у Китая будет четыре авианосца. А у США сколько авианосцев?
К.Симмонс: Намного больше.
В.Путин: Вот я об этом и говорю. Что нам бояться Китая с авианосцами? Кроме всего прочего, у нас огромная граница с Китаем, но она сухопутная. Вы думаете, что они направят свои авианосцы через нашу территорию, что ли? Ну это просто ни о чём для нас. А то, что их четыре будет, — это правильно.
К.Симмонс: У вас тоже есть побережье там.
В.Путин: Какое там побережье? Побережье, может, огромное, но основная граница с Китаем проходит по суше. То, что четыре авианосца, — это правильно, потому что один должен быть на обслуживании, один — на боевом дежурстве, один должен проходить ремонт и так далее. Ничего здесь избыточного для Китая нет.
А то, что Вы сказали: Китай отказывается от переговоров — он отказывается от переговоров по сокращению ядерных наступательных вооружений. Но это Вы, во-первых, у китайцев спросите, хорошо это или плохо, это им определять. Но аргументы их простые и понятные: и по количеству боезарядов, и по количеству средств доставки Соединённые Штаты и Россия намного опережают Китай, и китайцы справедливо спрашивают: «А чего нам сокращать, если мы и так меньше, чем вы? У нас всего этого меньше. Или вы хотите заморозить наш уровень ядерного сдерживания? А почему мы должны замораживать? Почему мы, страна с полуторамиллиардным населением, не можем поставить перед собой цель хотя бы достичь вашего уровня?» Это спорные вопросы всё, требующие внимательного рассмотрения. Но перекладывать на нас ответственность за позицию Китая — это просто смешно.
К.Симмонс: Что Вы думаете о том, как Китай обращается с национальными меньшинствами в Синьцзяне, с уйгурами?
В.Путин: Вы знаете, я встречался с некоторыми уйгурами. Всегда можно найти людей, которые критикуют центральные власти. Но я встречался с уйгурами, когда был с визитами в Китае. И уверяю Вас, во всяком случае, то, что я слышал своими ушами, что они в целом приветствуют политику китайских властей на этом направлении. Считают, что Китай очень много сделал для людей, проживающих в этом районе, с точки зрения экономики, поднятия культуры и так далее. Поэтому что же мне давать оценки, глядя на ситуацию со стороны?
К.Симмонс: Действительно, Вы знаете, многие уйгуры этого не говорят, что Америка обвинила Китай в геноциде, и Госсекретарь обвинял Китай в геноциде, миллион уйгуров сейчас находится в концлагере. А Вы какой посыл мусульманскому сообществу в бывшем Советском Союзе хотели бы направить в связи с этой ситуацией?
В.Путин: Я посыл мусульманскому сообществу в России должен направлять политикой российских властей в отношении мусульман Российской Федерации. Россия является наблюдателем в Организации Исламская Конференция. У нас 10 процентов и даже побольше, наверное, — это исламское население.
Это граждане Российской Федерации, у которых нет другого отечества. Они вносят колоссальный вклад в развитие нашей страны. Это касается и рядовых граждан, это касается религиозных авторитетов. Что же я буду разговаривать и выстраивать отношения с этой частью наших граждан со ссылками на ситуацию в Китае, не понимая досконально, что там происходит?
Я думаю, что Вам лучше по поводу всех этих проблем справиться в Госдепартаменте либо в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики.
К.Симмонс: Это просто вопрос относительно того, готовы ли Вы критиковать Китай. Например, Китай воздержался в Совете Безопасности по Крыму, и крупнейшие банки Китая не поддержали американские санкции против России. То есть у вас стопроцентная поддержка со стороны Китая, Вы так считаете?
В.Путин: Вы знаете, мы соседи, соседей не выбирают. Мы довольны тем беспрецедентно высоким уровнем наших отношений, как я уже сказал, которые сложились за предыдущие десятилетия, мы этим дорожим. Так же как дорожат этим и наши китайские друзья, мы это тоже видим. Зачем же вы нас пытаетесь втравливать в какие-то вопросы, которые вы оцениваете так, как считаете нужным для строительства своих отношений с Китаем?
Я Вам скажу совсем откровенно — можно я откровенно скажу?
К.Симмонс: Да.
В.Путин: Мы видим попытки разрушить отношения между Россией и Китаем, мы видим это в практической политике. И Ваши вопросы тоже связаны с этим.
Я Вам свою позицию изложил. Считаю, что этого достаточно, и уверен, что китайское руководство, понимая всю совокупность этих вопросов, касающихся в том числе уйгурской части населения, найдёт необходимые решения для того, чтобы ситуация оставалась стабильной и шла на пользу всему многомиллионному китайскому народу, в том числе и уйгурской его части.
К.Симмонс: Вы, конечно, понимаете, я просто пытаюсь задать Вам вопрос относительно позиции России в отношении Китая и Соединённых Штатов. Я спрошу по-другому: вы отделяетесь от космической программы США, идёте в сторону Китая?
В.Путин: Нет, почему? Мы готовы работать со Штатами в космосе, и, по-моему, руководитель NASA недавно как раз сказал, что не представляет себе просто развитие космических программ без своего партнёрства с Россией. Мы приветствуем это заявление и дорожим…
К.Симмонс: Поясню. Глава российского космического агентства угрожал, что Россия выйдет в 2025 году из международного космического проекта. Он говорил о санкциях, говоря об этой угрозе.
В.Путин: Я, честно говоря, не думаю, что господин Рогозин — такая фамилия руководителя «Роскосмоса» — кому-то угрожал в этом плане. Я знаю его много лет и знаю, что он сторонник развития отношений с Соединёнными Штатами в этой сфере, в космосе.
Недавно, повторяю ещё раз, руководитель NASA высказался в таком же ключе. Я лично всячески поддерживаю, и мы с удовольствием работали все эти годы и готов работать дальше.
Просто Международная космическая станция в силу технических причин постепенно заканчивает свой ресурс, и, может быть, в этом плане у «Роскосмоса» и нет планов продолжения работы. Но, насколько я слышал от американских партнёров, они тоже смотрят на будущее сотрудничество вот по этому направлению как-то по-своему, но в целом сотрудничество с Соединёнными Штатами в космосе, мне кажется, является хорошим примером, где мы, несмотря ни на какие проблемы политических отношений за последние годы, сумели сохранить партнёрство и с обеих сторон дорожим им. Поэтому я думаю, что Вы просто неверно поняли руководителя нашего космического агентства.
Я хочу вас заверить, что мы заинтересованы в дальнейшем продолжении работы с Соединёнными Штатами по этому направлению и будем это делать, если американские партнёры сами не будут от этого отказываться. Но это не значит, что мы должны локализовать свою работу только с США. Мы и с Китаем работаем и будем работать дальше. Это касается самого разного рода программ, в том числе по изучению дальнего космоса. По-моему, здесь один позитив. Я здесь, честно говоря, даже не вижу никаких противоречий.
К.Симмонс: Позвольте задать ещё по-другому вопрос. Хочу просто понять взаимоотношения между Китаем и Россией и Америкой. Если, например, Китайская освободительная армия на Тайвань войдёт, как отреагирует на это Россия?
В.Путин: Вам что, разве известно о планах Китая военным путём решать проблему Тайваня? Мне об этом ничего не известно.
Как мы часто говорим, в политике неуместно сослагательное наклонение. Поэтому «если бы, что бы, кабы» — я не могу комментировать ничего, что не является реалиями сегодняшнего мира. Мне кажется, просто это — Вы на меня не сердитесь, пожалуйста, — вопрос в никуда. Этого же нет. Разве Китай заявил о том, что он собирается военным путём решать проблемы Тайваня? До сих пор этого не случилось. Столько лет Китай развивает отношения с Тайванем, там разные оценки: в Штатах свои, в Китае свои, на Тайване, может быть, свои. Но, слава богу, до «горячей» фазы ничего не дошло.
К.Симмонс: Мне говорят, что уже пора закругляться. Но хочу ещё пару вопросов Вам задать.
Андреа Митчелл в этом месяце была в Сирии. Она видела, что люди живые… Вы говорите, что будет закрыт этот пограничный переход в июле, в Совете Безопасности об этом говорили. Почему вы это делаете, учитывая то, что это приведёт к смерти беженцев?
В.Путин: Послушайте, там, к сожалению, очень много и так трагедий. Все действия наши совокупные должны быть направлены на то, чтобы стабилизировать ситуацию, вводить её в нормальное русло. При поддержке России Сирия вернула под свой контроль, сирийские власти, свыше 90 процентов сирийской территории.
И теперь нужно просто организовать гуманитарную помощь людям вне зависимости ни от какого политического контекста. Но наши партнёры на Западе, на совокупном Западе — и Штаты, и европейцы, — говорят, что Асаду помощь оказывать не будем. Но при чём здесь Асад? Помогите людям, которые нуждаются в этой помощи, самые элементарные вещи. Ведь не снимают ограничения даже на поставку медицинского оборудования и лекарственных препаратов даже в условиях коронавирусной инфекции. Это просто негуманно. Ничем нельзя объяснить такое жестокое отношение к людям.
Что касается этих переходов для доставки гуманитарной помощи: есть идлибская зона, там боевики просто всё грабят, людей убивают и насилуют до сих пор, и ничего. Эт-Танф — есть такая зона, которая контролируется, кстати, американскими военными. Недавно мы тоже поймали группу бандитов, они оттуда пришли и прямо говорят, что у них есть определённое задание в отношении российских военных объектов.
Что касается пограничных переходов, наша позиция заключается в том, что нужно оказывать помощь, как это и положено во всём мире, как это прописано в нормах международного гуманитарного права, через центральное правительство, не нужно его дискриминировать. А если есть основание полагать, что центральное правительство Сирии что-то там украдёт или разграбит, ну поставьте, пожалуйста, контроль со стороны Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, проконтролируйте всё это. Да я и не думаю, что кто-то в правительстве Сирии заинтересован в том, чтобы там чего-то воровать из этой гуманитарной помощи, нужно делать просто через центральное правительство. Мы в этом смысле поддерживаем Президента Асада, потому что другой способ поведения — это подрыв суверенитета Сирийской Арабской Республики, вот и всё.
Что касается идлибской зоны, то там турецкие войска фактически контролируют границу между Сирией и Турцией, и там идут конвои туда-сюда в неограниченном количестве.
К.Симмонс: Я знаю, что в России были внесены поправки в Конституцию: Вы можете быть Президентом до 2036 года. Как Вы считаете, чем дольше Вы находитесь у власти, чем дольше нет кого-то, кто может Вас сменить, не получится так, что найдётся преемник, а потом всё это обрушится в одночасье?
В.Путин: А что обрушится в одночасье? Смотрите, если мы посмотрим ситуацию, в которой находилась Россия в 2000 году, она балансировала на грани сохранения своего суверенитета, целостности территориальной, количество граждан за чертой бедности было колоссальным и катастрофическим, уровень ВВП упал ниже плинтуса, 12 миллиардов были у нас золотовалютные резервы, а долгов было 120 миллиардов долларов, если в долларовом эквиваленте говорить.
Но сейчас ситуация другая. Сейчас много проблем, но ситуация абсолютно другая. Придёт когда-то обязательно на моё место другой человек. И почему всё это должно рухнуть, что ли? Мы боролись с международным терроризмом — слава богу, задушили его на корню. Это должно опять возродиться, что ли? Думаю, что нет. Другое дело, что на политической сцене могут появляться разные люди, с разными взглядами. Ну и хорошо.
Вы знаете, я настолько связал всю свою судьбу с судьбой страны, для меня в жизни нет никакой другой, более значимой задачи, чем укрепление России.
Поэтому если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны.
Когда-то, разумеется, — это естественный процесс, биологический — нам всем будет замена: и Вам на своём месте, мне на своём. Но я уверен, что фундаментальные основы российской государственности, российской экономики, политической системы будут такими, что она будет твёрдо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее.
К.Симмонс: И вот Вы смотрите на этого человека. Вы будете ожидать от него такой же защиты, как в своё время предложили Президенту Ельцину, что он тоже защищать будет Вас?
В.Путин: Я даже не думаю об этом, это вопросы вообще третьестепенного значения. Самое главное — это судьба страны и её народа.
К.Симмонс: Понял.
Спасибо большое за Ваше время, господин Президент. Я знаю, что и так уже подзатянулось интервью. Спасибо за очень интересный разговор.

Алексей Подберёзкин: Россия выступает за укрепление стратегической стабильности
16 июня в Женеве состоится встреча российского и американского лидеров, призванная наладить полноценный диалог в интересах обеспечения международной безопасности.
Мир, оказавшийся на грани глобальных потрясений, замер в ожидании встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Практически всех сегодня волнует вопрос, чем завершатся эти переговоры, смогут ли они сдвинуть отношения двух стран с мёртвой точки и помочь перезапустить полноценный диалог между ними, как скажутся на системе обеспечения международной безопасности и стабильности, дадут ли толчок выработке новой модели контроля над вооружениями. Этой теме посвящена и беседа нашего обозревателя с директором Центра военно-политических исследований МГИМО МИД России доктором исторических наук, профессором Алексеем Подберёзкиным.
– Алексей Иванович, начнём нашу беседу с Договора по открытому небу – одного из важнейших соглашений в сфере международной безопасности. Как известно, на днях Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации этого соглашения.
– Прежде всего хочу напомнить, что подписанный в 1992 году Договор по открытому небу – The Treaty on Open Skies – многостороннее соглашение, разрешающее свободные полёты невооружённых, специально оборудованных самолётов в воздушном пространстве стран-подписантов.
Целью договора являлось содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. На 2017 год участниками соглашения являлись 34 государства. Российская Федерация ратифицировала ДОН в 2001 году, однако фактически участвовала в нём с самого начала.
В соответствии с этим договором государства, подписавшие его, взяли на себя обязательство предоставления возможности совершать наблюдательные полёты (инспекции) над своей территорией на основании запроса в рамках установленных квот. Полёты проводились на уведомительной основе. Договор предусматривал «пассивные» (для наблюдаемой стороны) и «активные» (для наблюдающей стороны) годовые квоты.
Установленная на самолётах аппаратура проходила освидетельствование представителями государств, участвующих в договоре. На борту всегда присутствовали представители той страны, над территорией которой проходит полёт. Полёты осуществлялись с определённых аэродромов. В России такие аэродромы были расположены в подмосковной Кубинке, Улан-Удэ, Магадане и Воркуте.
Хочу также отметить, что инициатором подписания такого договора была американская сторона, которая, начиная с 1950-х годов, настойчиво доказывала, что без такого контроля прогресс в области ограничения вооружений и военной деятельности невозможен. Скажу откровенно, что в Москве так не считали. Советская сторона исходила из того, что США и их союзники будут стремиться получить информацию о тех районах, куда был закрыт доступ иностранцам и где их космические средства были малоэффективны.
Тем не менее Россия пошла на подписание этого соглашения, посчитав, что всё же это послужит большей транспарентности и укрепит доверие между государствами-партнёрами в военной области. То есть договор укрепит систему безопасности в мире. Однако вскоре американская сторона, как всегда, захотела получить односторонние преимущества, закрыв своё воздушное пространство для полётов российских самолётов, но сохранив инспекцию российской территории со стороны других участников договора – союзников США. Нужен был лишь предлог.
В связи с появлением новых российских инспекционных самолётов в США прошла кампания по их запрету в связи с высокими разведывательными характеристиками. Пик кризиса пришёлся на апрель 2014 года, когда американская газета Weekly Standard опубликовала письмо четырёх членов сенатского комитета по разведке, в котором заявлялось, что Россия вводит новые самолёты, которые «поддерживают оборудование для цифровой фотосъёмки, РЛС бокового обзора с синтезированной аппаратурой и инфракрасное оборудование». В итоге 18 апреля того года США запретили России инспекционный полёт.
После этого претензии США к России стали нарастать. Так американцы начали обвинять нашу страну, что она не допускает их контролёров в зону российско-украинской границы. Потом в Вашингтоне решили добиваться полётов «над всей Москвой, Чечнёй, Калининградом» и воздушной съёмки пограничной зоны вблизи Абхазии и Южной Осетии. У России были свои вопросы к американцам. Мы предлагали решать все спорные проблемы в рамках специальной комиссии. Но в Вашингтоне предпочли выйти из договора, о чём Дональд Трамп заявил в мае прошлого года.
Пришедшая к власти администрация Джо Байдена подтвердила это решение, официально уведомив в мае нынешнего года Москву о неготовности возвращаться в ДОН – Договор по открытому небу. В этой связи наша страна была вынуждена пойти на денонсацию договора. То есть это был ответный шаг России на действия США.
– Как известно, Договор по открытому небу далеко не единственный договор, от которых отказались США. По сути, на сегодня система международной безопасности осталась без инструментов контроля над вооружениями, если, конечно, не считать Договор СНВ-3, который Россия и США договорились продлить ещё на пять лет…
– Это не случайно. Ещё в 1990-х США потеряли всякий интерес к ограничению и сокращению вооружений и военной техники, а также военной деятельности потому, что в России шёл бурный процесс самоликвидации военных возможностей, а страны – бывшие члены Организации Варшавского договора активно превращались в членов НАТО. Учитывая это, США сознательно развивали параллельно два процесса: во-первых, наращивали свои военные возможности по всему спектру – от стратегических наступательных и оборонительных вооружений до сил специальных операций и, во-вторых, уничтожали договорённости по ограничению и сокращению вооружений либо вообще шли на ликвидацию созданных прежде институтов международной безопасности.
Систематически и, главное, последовательно все эти три десятилетия шёл процесс ликвидации всей системы контроля над вооружениями, так как в Вашингтоне считали и продолжают, по сути, считать, что единственной оставшейся сверхдержаве такая система не нужна.
Они могут заключать временные соглашения, которые преследуют цель ограничить развитие тех или иных конкретных систем России или других стран, которые имеют преимущество над США в каких-то областях. Так было, например, когда мы опережали США в области систем ПРО – был подписан Договор по ПРО от 1972 года. Или в области стратегических наступательных вооружений, когда США пытались – и небезуспешно – ограничить развёртывание наших «тяжёлых» МБР.
Переговоры по контролю над вооружениями, повторю, всегда нужны Соединённым Штатам только как временные ограничения, налагаемые на СССР, а теперь – Российскую Федерацию. Такими они для них и останутся. Иллюзий питать не стоит.
– То есть вы хотите сказать, что в Вашингтоне руководствовались именно этими соображениями, пойдя на продление СНВ-3?
– Как известно, предыдущая, республиканская, администрация, откладывая продление этого соглашения, надеялась на то, что мы пойдём на односторонние уступки. Прежде всего в области испытания и развёртывания новых систем оружия, например тяжёлых ракет повышенной дальности с маневрирующими боеголовками, гиперзвуковых систем, неядерного высокоточного оружия, способного выполнять функции Стратегических ядерных сил… Кроме того, в Вашингтоне считали, что к двустороннему соглашению Москва должна привлечь Пекин, который категорически отказывался от участия в каких-либо переговорах по сокращению стратегического или любого другого оружия.
После того, как эти надежды не оправдались, Белый дом при новой администрации всё же пошёл на продление СНВ-3. Этот договор позволяет им продолжать отслеживать ход развития и модернизации стратегических сил ядерного сдерживания. А с другой стороны, США взяли паузу для развития новых систем оружия, причём не только и даже не столько стратегических, сколько высокоточного оружия в неядерном оснащении, но способного выполнять стратегические задачи.
Так, например, на сегодняшний день на море и на суше, а также в воздушных носителях уже размещено порядка шести тысяч крылатых и аэробаллистических ракет, которые, как показывает опыт Сирии, могут нанести высокоточные и синхронизированные удары с разных стратегических направлений и разных носителей – самолётов, надводных кораблей, подводных лодок. Задача – повысить точность и дальность этих ракет нового поколения, которые, кстати, не ограничены договорённостями.
При всех этих расчётах Соединённых Штатов нельзя не подчеркнуть, что продление СНВ-3 выгодно и России и миру в целом. Прежде всего тем, что договор избавляет нас от нового витка дорогостоящей и опасной гонки вооружений. А кроме того, даёт нам возможность знать, что и как делают США в области своих стратегических ядерных сил. И не только в этой области. Договор позволяет нам быть в курсе, как будет проходить модернизация ядерных вооружений США.
– Вопросы обеспечения стратегической стабильности станут, как ожидается, одними из главных на встрече Владимира Путина и Джо Байдена, которая запланирована на 16 июня…
– Бесспорно, вопросы обеспечения стратегической стабильности и поддержания контроля над вооружениями остаются центральной темой российско-американских отношений. И не приходится сомневаться, что они займут должное место на переговорах Владимира Путина и Джо Байдена. Конечно, хотелось бы, чтобы эта встреча послужила толчком для начала совместной работы по выработке новой модели контроля, которая бы в большей мере отражала военно-политические и военно-технические реалии XXI века.
Однако следует учитывать то обстоятельство, что мы совершенно по-разному понимаем, что такое «стратегическая стабильность». Россия видит в ней основу для развития сотрудничества со всеми странами на основе взаимного уважения, равноправия, поиска баланса интересов. И посему наша страна выступает за укрепление стратегической стабильности. С этой целью она сегодня продвигает целую серию инициатив по недопущению полного развала договорённостей в сфере контроля над вооружениями.
Соединённые Штаты в понятие стратегической стабильности вкладывают возможность продвижения по планете американских интересов, навязывания другим странам своего образа жизни, в том числе и с помощью применения военной силы. Поэтому есть основания утверждать: в Вашингтоне не заинтересованы в обеспечении равной безопасности для всех государств и действительной стратегической стабильности.
Дело в том, что, как, видимо, предполагают американцы, при определённых условиях – а именно когда другие силовые средства (экономические, информационные, когнитивные, политико-дипломатические и т.д.) против России окажутся бесполезны – им придётся перейти к политике «силового принуждения». А она, замечу, включает и военный этап эскалации, который должен быть для них максимально безопасным, менее рискованным, то есть не привести к катастрофическим последствиям.
Поэтому, повторюсь, вопросы стратегической стабильности будут, конечно же, обсуждаться на встрече лидеров России и США, но что касается конкретных решений…
– Будем ждать известий из Женевы. А что в целом вы ожидаете от этой встречи в верхах?
– В принципе любая встреча лидеров хороша. Тем более сегодня, когда отношения между Россией и США находятся в глубоком кризисе, когда все контакты на официальном уровне оказались прерванными и стороны регулярно обмениваются жёсткими заявлениями, порой выходящими за рамки обычной дипломатической практики. Чтобы диалог был успешным и принёс позитивные результаты, надо, чтобы «танго танцевали двое», как образно на днях выразился министр иностранных дел России
Сергей Викторович Лавров. Если кто-то танцует брейк-данс, то танго не получается…
– Сегодня в медиа- и экспертном сообществе высказываются различные прогнозы относительно тактики наших американских партнёров на переговорах, можно встретить и мнение, что дело может дойти до ультиматумов…
– Естественно, при такой позиции не может быть и речи об улучшении российско-американских отношений. Россия готова к диалогу, но на равных условиях. Так или иначе в любом случае откровенно обменяться мнениями на высшем уровне, даже при наличии расхождений, которые многим кажутся непреодолимыми, будет полезно.
– Переговоры лидеров России и США пройдут после саммита НАТО, на котором Вашингтон намерен добиваться от своих союзников наращивания усилий по «сдерживанию России и Китая». Что вы скажете по этому поводу? Идёт возврат к дотрамповской политике?
– Во-первых, Джо Байден постарается на саммите НАТО продемонстрировать европейским союзникам, что он готов восстановить с ними отношения, которые были значительно подорваны при Трампе. Как известно, одним из проблемных вопросов был объём бюджетных трат участников Североатлантического альянса на оборону. Дональд Трамп на протяжении своего президентского срока последовательно критиковал европейских союзников за то, что те, по его мнению, выделяют на эти цели меньше предписанных правилами альянса двух процентов от ВВП. Кроме того, в 2019 году он добился утверждения новой формулы бюджета альянса, согласно которой доля отчислений США сокращалась с 22 до 16 процентов.
Вряд ли Байден откажется от этих требований, но в их продвижении он будет действовать не столь категорично, как Трамп, и всячески подчёркивать единение интересов союзников по НАТО.
Во-вторых, Байден будет настаивать на наращивании усилий альянса в противостоянии технологической и экономической мощи Китая при нейтрализации, как выражаются за океаном, «оппортунистического» влияния России, которое может этому помешать.
Если обобщать, то на саммите НАТО будет подтверждена верность широкой «западной коалиции», продекларирована единая внешняя и технологическая политика по отношению к Китаю и России. Кстати, на это направлена и новая стратегическая концепция НАТО, в разработке которой главную скрипку играл Пентагон и которую планируется принять на нынешнем саммите альянса. Представляя её в феврале, генсек НАТО Йенс Столтенберг указывал, что цель концепции состоит в объединении всех сил для того, «чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, – таким странам, как Россия и Китай».
В самом документе отмечается, что мир возвращается к «геополитической конкуренции» и «противостоянию систем», однако и сам становится многополярным. Альянс вновь сталкивается с вызовами и должен быть готов реагировать на новые угрозы, которые могут иметь вид как цифровых дезинформационных кампаний, так и атак с применением химического оружия или «разрушительных технологий» – например гиперзвукового оружия.
Поэтому, если концепция будет принята на саммите – а что именно так и произойдёт, нет никаких сомнений – Джо Байден получит своего рода карт-бланш и моральную поддержку со стороны союзников по НАТО в разговоре с лидером России. И он постарается ею воспользоваться в ходе женевских переговоров.
– Выступая за укрепление международной безопасности и восстановление доверия на мировой арене, Россия тем не менее не может не учитывать те военные приготовления, которые ведут у её границ США со своими союзниками по НАТО, и вынуждена уделять повышенное внимание обеспечению своей обороноспособности.
– Здесь не может быть никаких сомнений. Нам нужно трезво оценивать складывающую военно-политическую обстановку в Европе и мире в целом. Не стоит искусственно насаждать оптимизм, что уже однажды дорого нам стоило. Руководство страны это прекрасно понимает и принимает самые активные и эффективные меры по укреплению обороноспособности нашего государства, повышению боеготовности Вооружённых Сил РФ.
Наша армия ежегодно получает тысячи новых и модернизированных образцов военной техники. Сегодня доля современных вооружений в войсках превышает 70 процентов. Россия занимает лидирующие позиции в мире по целому списку военных технологий. Взять тот же ракетный комплекс «Авангард», противокорабельный «Циркон» или авиационный «Кинжал».
Не сомневаюсь, что на НАТО отрезвляюще подействовали и недавние слова министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу о том, что в ответ на военные приготовления Североатлантического альянса Россия уже в этом году разместит на своих западных рубежах почти 20 новых соединений и частей. И они все будут оснащены современными вооружениями и техникой.
Вместе с тем считаю, что в ответе за безопасность Отечества не только Вооружённые Силы, но и все государственные структуры, всё общество. Жизнь показывает, что нужна также идеологическая и организационная мобилизация, концентрация общества, избавление, простите за резкость, от «вечных конформистов». Особую важность приобретает сегодня работа с молодёжью, подрастающим поколением. Они нуждаются в государственной поддержке и предсказуемости жизненных перспектив. Необходимо также активизировать патриотическое воспитание молодого поколения, основной задачей которого должно стать формирование у него гордости за свою Родину, за её народных героев, заинтересованности в укреплении государственности и державности России, обеспечении её национальной безопасности. Ведь в конечном счёте побеждают не военные системы, а люди, которые ими управляют и командуют.
Беседовал
Владимир Кузарь, «Красная звезда»

ЧЕГО ОЖИДАТЬ ОТ ВСТРЕЧИ ПРЕЗИДЕНТОВ БАЙДЕНА И ПУТИНА В ЖЕНЕВЕ?
АЛЕКСАНДР ЛУКИН
Д.и.н., профессор, руководитель департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», директор Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО.
РОССИЯ ГОТОВА К СОТРУДНИЧЕСТВУ С США, НО МОЖЕТ ОБОЙТИСЬ И БЕЗ НЕГО
В России среди большинства наблюдателей нет завышенных ожиданий от встречи в Женеве. Позиция России всегда была неизменной: она готова обсуждать с США любые вопросы, которые готовы обсуждать они сами. Однако Москва не будет предъявлять каких-то односторонних требований или проявлять инициативу, так как в Вашингтоне это может быть воспринято как излишняя заинтересованность.
Все высказывания российских политиков сводятся к тому, что Россия готова к сотрудничеству, но, с другой стороны, может обойтись и без него. Соединённые Штаты должны понять, зачем им нужно сотрудничество с Россией и в каких именно областях, и обсуждать именно эти моменты.
Объявленная и, судя по всему, согласованная повестка включает вопросы стратегической стабильности (прежде всего, судьба закончившего действие и продлённого на один год Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) и некоторые глобальные и региональные проблемы: окружающая среда и изменение климата, информационная безопасность, ситуация в Сирии, на Корейском полуострове и в Афганистане, иранская ядерная сделка. Возможно обсуждение и перспектив сотрудничества в космосе, где новый раунд американских санкций затронул ряд российских компаний, которые участвуют в этом сотрудничестве. В ответ российская компания «Роскосмос» заявила, что выйдет из проекта Международной космической станции, отсоединит от неё свой модуль и будет развивать собственные космические станции.
Трудно предсказать, какой линии будет придерживаться Вашингтон на переговорах. До сих пор его политика строилась на выдвинутой Байденом формулировке о том, что «можно идти и жевать жвачку одновременно», то есть и подвергать оппонента резкой критике, и сотрудничать с ним в ряде областей. Этот подход противоречит традиционной дипломатии, в рамках которой считалось, что для достижения договорённости надо проявлять сдержанность и вежливость. Рассчитан он в основном на внутреннюю аудиторию: с одной стороны, надо удовлетворить критиков из оппозиции, которые ругают Байдена за недостаток жёсткости, с другой – показать, что новый президент может лучше добиваться целей путем сотрудничества, чем предыдущая администрация Трампа. Этот подход американцы попробовали применить на переговорах с Китаем в Анкоридже, но он провалился, так как дело закончилось взаимной перепалкой.
В последнее время влиятельные американские аналитики стали высказывать мнение о том, что российско-китайское сближение представляет большую опасность и с этим надо что-то делать, например, улучшать отношения с Россией. Показательный пример: статья “China and Russia’s Dangerous Convergence”, опубликованная в марте этого года в журнале Foreign Affairs. Ранее говорилось о том, что одна из её авторов Андреа Кендалл-Тейлор близка к команде Байдена и может стать директором Совета национальной безопасности по России и Центральной Азии.
Эта и подобные статьи и высказывания отличаются от прошлых, в которых обычно говорилось, что Россия и Китай никогда не станут союзниками из-за больших противоречий между собой. Теперь проблема признаётся, однако рецепты того, как её решать, весьма слабые. В основном говорится о том, что Россию надо убеждать в опасности Китая, но при этом всё равно жёстко её критиковать и не идти на серьёзные уступки. Ясно, что этот подход ни к чему не приведёт, так как доверие к США в России полностью утеряно и структура российско-китайского взаимодействия уже достигла такой степени, что оторвать Россию от Китая будет крайне трудно.
Поэтому в России ожидают несколько более конструктивного подхода, однако готовы и повторению сценария Анкориджа.
Высказывания президента Путина о Соединённых Штатах, сделанные в нескольких недавних выступлениях, в частности, на Петербургском международном экономическом форуме, были вежливы по форме, но довольно резки по содержанию. При этом он затронул ряд внутренних американских проблем. Поэтому, если американская сторона опять начнёт с публичных обвинений и полемики, российская сторона ответит вежливо, но жёстко.
Но если Байден станет обсуждать практические вопросы в конструктивном ключе, Россия также проявит конструктивность. В целом Россия заинтересована в нормальных отношениях с США хотя бы по ограниченному кругу вопросов, хотя и не ожидает от переговоров многого. Неурегулированность отношений с Соединёнными Штатами и Западом в целом воспринимается в Москве как ситуация, потенциально опасная для внутренней стабильности, а именно внутренняя стабильность больше всего заботит российские власти. Однако американские требования относительно изменения российской внутренней и внешней политики, выдвигаемые Вашингтоном в качестве предварительных условий нормализации, также могут подорвать стабильность российской власти. Поэтому Москва пытается найти оптимальный баланс между жёсткостью и конструктивностью.

Ремонт конфронтации
Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")
Российско-американские встречи в верхах неизменно вызывают чрезвычайное оживление. Даже когда обе стороны настойчиво призывают не преувеличивать ожидания и не планировать несбыточное, все равно что-то подобное происходит. Всем хочется чуда.
Встреча президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена в Женеве имеет шанс стать вехой в отношениях, но не стоит рассчитывать на перелом тренда или воссоздание конструктивного взаимодействия. Речь о другом. Надо избавиться от совершенно ненормальной, нездоровой и иррациональной атмосферы, сложившейся между двумя странами в последние годы. Как странно это ни прозвучит, России и США нужна упорядоченная конфронтация - осознание реальных противоречий, их иерархия (что более, что менее принципиально) и хотя бы базовое представление о рамках и допустимых гранях.
На протяжении большей части минувшего десятилетия происходило скатывание в конфронтацию хаотическую, зачастую лишенную разумной мотивации и густо замешанную на обоюдных внутренних страхах. Крайней степени это достигло в период предыдущей американской администрации. В силу специфики Дональда Трампа, склонного к эпатажу, но неспособного придерживаться договоренностей, российско-американские политические контакты превратились в фарс. Довершала его истерическая атмосфера внутренней политики в США. В результате, несмотря на взаимное любопытство, которое испытывали друг к другу Трамп и Путин, отношения двух стран пришли в состояние руин. А если добавить нарастающий дисбаланс на мировой арене в целом и эрозию всех международных институтов, не приходится удивляться, что схема организации взаимодействия Москвы и Вашингтона времен холодной войны стала восприниматься чуть ли не как золотой век.
Можно привести множество убедительных аргументов, почему нынешнее взаимное неприятие России и Соединенных Штатов неправильно называть новой холодной войной. Да, совершенно иные структура международной системы, соотношение сил и отличающийся характер противостояния. Отсутствует внятно сформулированный идеологический конфликт. Но атмосфера вполне сопоставима с холодной войной по степени недоверия. А главное - не стоит задача совместно решать какие-то проблемы, участвовать в общих проектах. Цель снова одна - минимизация рисков, связанных с военно-политическим соперничеством.
Пожалуй, полноценное размежевание началось десять лет назад во время "арабской весны". Совместная работа 2013 года с уничтожением сирийского химического оружия так и осталась изолированным эпизодом, а Украина-2014 окончательно зафиксировала новый статус-кво - не поиск взаимоприемлемых решений, а лишь избегание ненужных коллизий. За пределами вопросов классической безопасности все пошло вразнос.
Основная причина - вплетение в межгосударственные отношения внутриполитических вопросов, точнее - растущее ощущение уязвимости и рисков воздействия извне на внутренние процессы. Россия традиционно крайне болезненно относилась к свойственной США уверенности, что они вправе не только комментировать, а еще и корректировать политику других стран. Но по мере углубления общественно-политического раскола призрак вмешательства и усугубления кризиса, доходящий до паранойи, накрыл и Америку. Туго завязавшийся клубок страхов, подозрительности и неуверенности в себе привел ситуацию к упомянутому нездоровому состоянию.
Успехом предстоящей встречи станет возвращение к классическим сюжетам конфронтации, в основе которой всегда лежала так называемая стратегическая стабильность. Пока Россия и США обладают ядерными арсеналами, способными физически уничтожить друг друга, им придется заниматься этими темами. Если по итогам женевских переговоров Путин и Байден объявят, что поручают профессионалам (военным, дипломатам, ученым) заняться обсуждением новых принципов укрепления той самой стратегический стабильности (с учетом меняющихся видов вооружений, роли киберпространства, роста ядерных игроков помимо двух сверхдержав и пр.), это будет достижением. Иными словами, во главе угла должна вновь оказаться силовая военно-стратегическая составляющая, та, по которой Россия и Соединенные Штаты, во-первых, сопоставимы друг с другом, во-вторых, обладают уникальным опытом. Да, это прежде всего опыт холодной войны, но в данном случае его обновление и усовершенствование полезно и перспективно.
Все остальное - от региональной геополитики до экономических интересов - играет подчиненную роль. Но может несколько продвинуться в случае успеха по главной теме. А вот то, что касается вопросов внутреннего устройства государств (Байдена призывают поставить их ребром), должно быть отложено в сторону, поскольку ничего, кроме всплеска острой подозрительности и желания ответить зеркально, это не даст. На словах США этого сделать не могут и не будут. Но опыт Байдена может прибавить ему гибкости на деле.

ПУСТОЙ ЗВУК: ГРОМКИЕ НАЗВАНИЯ ВОЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ МАСКИРУЮТ НЕУВЕРЕННОСТЬ НАТО
АНАТОЛЬ ЛИВЕН
Профессор Джорджтаунского университета в Катаре. Его новая книга «Изменение климата и национальное государство: взгляд реалиста» («Climate Change and the Nation State: The Realist case») опубликована издательством «Penguin Books» в Великобритании и «Oxford University Press» в США.
Ещё не знаю сам,
Чем отомщу, но это будет нечто
Ужаснее всего, что видел свет.
Уильям Шекспир. Король Лир
Европейцам остаётся надеяться, что название масштабных учений НАТО Steadfast Defender («Стойкий защитник»), где будет отрабатываться быстрое развёртывание сил США в помощь Европе в случае войны с Россией, было выбрано лучше, чем для операций Resolute Support («Решительная поддержка») в Афганистане, Unified Protector («Союзный защитник») в Ливии или Enduring Freedom («Несокрушимая свобода») для плана Буша на Ближнем Востоке.
Мне всегда казалось, что громкие идеологические названия маскируют глубокую неуверенность, и это ощущение слишком часто подтверждается результатами операций. Лучше выбирать нейтральные названия «Оверлорд» или «Нептун», пробуждающие воспоминания о высадке союзников в 1944 году. Или варианты вроде Bold Alligator («Дерзкий аллигатор» – серия учений на Восточном побережье США), которые по крайней мере вызывают улыбку.
Если НАТО планирует использовать фауну для названия будущих операций, которое должно отражать внутренний настрой альянса, я бы предложил вариант «Взбешённый дикобраз» («Поднявши дыбом каждый волосок, Как иглы на взбешённом дикобразе» // Шекспир. Гамлет). Потому что европейские члены НАТО не верят в готовность США стойко их защищать в случае войны, абсолютно не верят в собственные силы, но тем не менее не хотят предпринимать ни малейших усилий для укрепления своих военных возможностей.
Поддерживая родственную связь названий, часть нынешней операции можно обозначить как «Бредящий ёж». Речь о той части операции, которая предполагает размещение сил НАТО в Чёрном море, чтобы воевать с Россией на Украине. Ещё лучше подходит вариант «Лживый ёж», потому что после Грузии-2008 и Украины-2014 мы точно знаем: альянс не будет защищать эти страны. Кроме того, «план» НАТО, по-видимому, не учитывает: для того, чтобы военные корабли вошли в Чёрное море, нужно пройти через Босфор, который принадлежит Турции, а это не самый надёжный член альянса сегодня, особенно если речь идёт о конфликте с Россией.
Если, не дай бог, новая война на Украине всё же случится (например, потому что украинцы повторят ошибку Грузии и действительно поверят, что Вашингтон им поможет), название для стратегии НАТО можно позаимствовать из «Зимней сказки» Шекспира – «Убегает, преследуемый медведем». Ну а для попыток Украины заручиться поддержкой альянса для защиты от России подходит название «Бесплодные усилия любви».
Обращение к дикобразам и ежам – не просто изощрённый юмор и не просто критика НАТО. Потому что только очень глупый ёж вылезет из норы, чтобы бороться с медведем. Но, с другой стороны, только очень глупый медведь попытается съесть ежа, находясь в здравом уме. Ёж прекрасно подготовлен к самозащите, а количество мяса никак не оправдывает боль при попытке его переварить.
Иными словами, Североатлантический альянс в своих границах отлично защищён. Ничто в действиях России за последние тридцать лет не свидетельствует о том, что Москва планирует атаковать члена НАТО. Какие выгоды могут оправдать колоссальные риски и экономические потери для России, не говоря уже о затяжной партизанской войне на оккупированной территории? Путин – жёсткий лидер, но при этом он абсолютно рационален и хладнокровен. Он никогда не шёл на подобные риски в прошлом и вряд ли будет это делать.
Украина и Белоруссия – другой случай. Россия присутствует там уже сотни лет, и российский истеблишмент (не только Путин) воспринимает это как жизненно важные интересы страны, которые в случае необходимости надо защищать. С точки зрения Москвы, действия России на Украине и в Белоруссии оборонительные. При этом никто в Москве не думает так о нападении на Польшу или страны Балтии.
Поэтому дикобразу НАТО не стоит так беситься, пока он остаётся на своей поляне и выпускает иголки лишь время от времени – выпускает решительно, если хотите, чтобы напомнить всем, что он на месте. Вся остальная натовская пропаганда и учения – это пустой звук.
Responsible Statecraft

Марк Карена, «Макдоналдс»: «Сейчас все больше людей отдает предпочтение бизнесу, который занимается общественными проектами и демонстрирует эмпатию»
По его словам, компания планирует сохранить качество еды, улучшить сервис и поддерживать цены на низком уровне
Генеральный директор «Макдоналдс» в России Марк Карена рассказал о том, как рестораны быстрого питания и их сотрудники работали в пандемию и почему экологическая устойчивость важна для развития бизнеса.
Прошел год, который был потерян с точки зрения прямого общения между представителями бизнеса и между бизнесом и госструктурами. Что нового нашла ваша компания за время пандемии, какие решения были придуманы в преддверии этого форума?
Марк Карена: Безусловно, минувший год был непростым для индустрии общественного питания. В марте начался локдаун, который продлился до июня, в результате чего нам пришлось закрыть часть предприятий. Это было непросто. В первую очередь мы заботились о здоровье наших сотрудников и гостей: это было нашей главной задачей. Мы ввели множество дополнительных мер безопасности и потратили на это более 500 млн рублей. Также мы сделали нечто уникальное: мы решили повысить зарплаты всем нашим сотрудникам, в это было вложено более 600 млн. Более того, мы выплатили специальные премии всем, кто выходил на работу во время пандемии, чтобы поддержать их. Эти работники получили дополнительный бонус к зарплате. Мы сделали это потому, что считаем: сейчас время инвестировать, а не сокращать. Если изучить поведение потребителей, сейчас все больше людей отдает предпочтение бизнесу, который предлагает что-то большее, чем просто бренд, который занимается общественными проектами, создает вокруг себя сообщество и демонстрирует эмпатию. Поэтому в период пандемии мы предпринимали активнейшие действия не только в интересах наших работников, но также делали огромное количество пожертвований как правительству, так и системе здравоохранения. Например, мы предоставили более 500 тысяч обедов работникам скорой помощи и медикам. И в целом мы предпринимали всяческие усилия для поддержания экономики в этот период, в частности, увеличили, а не снизили число работников, а также увеличили темпы открытия новых точек. Так что да, это был сложный год. Но в целом, как мы считаем, нам удалось использовать этот период, чтобы инвестировать в наших работников, клиентов и наш бренд, что привело к очень существенному росту нашей доли рынка. Темпы прироста стали рекордными за последние восемь лет.
Соответствовали ли вы критериям получения какой-либо поддержки от правительства?
Марк Карена: Да, мы могли получить поддержку, но решили не запрашивать ее без необходимости, чтобы больше средств досталось малому и среднему бизнесу. Так что финансовой поддержки мы не получали.
Насколько важными для вашего бизнеса во время пандемии стали сервисы доставки?
Марк Карена: Доставка еды стала очень важна во время пандемии, когда рестораны были частично закрыты и мы не могли принимать клиентов внутри помещения. Для потребителя доставка стала чем-то вроде вынужденного выбора, потому что других вариантов не было. Таким образом, мы зафиксировали огромный скачок роста в этом сегменте — более 300%. Но доставка все равно не стала для нас основным источником продаж, потому что у нас есть много пунктов «МакАвто» и очень многие ими пользовались. Где-то мы также открывали двери ресторанов и организовали выдачу заказов у входа в помещение. На самом деле, на пике пандемии 3/4 наших продаж все равно обеспечивались заказами через окошко или через пункты «МакАвто». Доставка играла гораздо меньшую роль, но, безусловно, большую, чем когда-либо.
Итого, какую долю вашего нормального объема продаж вам удалось сохранить во время пандемии?
Марк Карена: К счастью, мы уже опубликовали данные за минувший год. В целом, даже при том, что почти три месяца мы были частично закрыты, общие продажи сократились всего на 3%.
Прекрасно. А если сравнивать с другими рынкам: Западной Европой, США, может быть с Азией?
Марк Карена: Давайте сначала сравним с Россией. По нашим оценкам, в целом российский рынок общепита сократился на 22% в прошлом году. С другими рынками сравнивать сложнее. К примеру, в Австралии практически не было локдаунов. Так же в Южной Корее или даже в Китае. С другой стороны, есть Германия, Франция или Испания, которые были практически полностью закрыты. На этих рынках мы понесли большие потери. Но, если говорить о средних показателях, российский рынок перенес произошедшее лучше других стран.
Вы, конечно, знаете «индекс Биг Мака», который довольно популярен в России, потому что он показывает, насколько недооценен российский рубль. Но сейчас весь мир столкнулся с серьезной инфляцией на пищевом рынке. Если сравнить Россию, скажем, с соседними регионами или на глобальном уровне — где это более заметно?
Марк Карена: Если говорить о пищевой инфляции, в связи с девальвацией рубля давление на продуктовые цены довольно велико и даже несколько выше, чем мы ожидали. Мы в «Макдоналдс Россия» решили попытаться нивелировать этот эффект и постараться сохранить цены настолько доступными, насколько это возможно. Даже в этом году, хотя ожидается, что общая инфляция будет около 5%, а пищевая может достичь даже 10%, мы не намерены повышать цены больше чем на несколько процентов. Мы считаем, что после пандемии для потребителей, которые едва сводят концы с концами и наблюдают падение своих доходов, очень важно иметь возможность питаться доступно и качественно. Мы планируем сохранить качество еды, улучшить сервис и поддерживать цены на низком уровне.
Но подорожал ли «Биг Мак» за этот период?
Марк Карена: Мы не повышали цены за время пандемии, ничего существенно не подорожало. Мы сочли, что сейчас не время это делать. И сейчас «Биг Мак» стоит столько же, сколько и во время предыдущей индексации. Мы изучаем разные регионы и ценовые возможности, но если изменения и будут, они будут небольшими. Так что индекс останется таким же, а мы останемся первыми — если в этом был ваш вопрос.
Но возможно ли поддерживать цены таким образом? Скажем, ингредиенты «Биг Мака»: мясо стоит примерно столько же, но начало дорожать, хлеб — нет, а салат подорожал. Что еще? Как вам удается сохранять те же цены?
Марк Карена: У нас есть глобальные соглашения о поставках с крупными организациями. Много ингредиентов мы закупаем локально, здесь тоже есть долгосрочные соглашения. Мы следим за тем, чтобы цены были стабильными. В целом мы работаем по довольно сложной системе, которая позволяет нам быть более конкурентоспособными с точки зрения цен по сравнению с другими игроками. Именно поэтому мы считаем, что, несмотря на глобальный рост цен на продукты, мы сможем удерживать рост наших потребительских цен ниже уровней пищевой инфляции как сейчас, так и в будущем.
Теперь о новом термине, который обсуждается на этом форуме может быть даже впервые. Три буквы: ESG. На Западе они доминируют в повестке, наверное, уже год. Как глобальная компания, американская компания — как бы вы это описали? Как это работает на практике?
Марк Карена: Должен сказать, что принципы ESG были важны для «Макдоналдс», еще когда мы открылись в России 31 год назад. Вот несколько примеров. Все наши продукты мы получаем из источников, которые отбираются с учетом экологической устойчивости. На первых этапах соблюдать это было непросто, поскольку на рынке не было такого запроса. Мы обычно платим за продукты больше, чем кто-либо другой. Например, наша курица выращивается на открытом воздухе. Так что наши закупочные цены по определению выше, чем предлагают большинство производителей. Мы очень серьезно относимся к принципам благополучия и здоровья животных, и это зафиксировано в наших корпоративных правилах. Также, например, мы не применяем какие-либо антибиотики или гормоны роста при производстве курицы или говядины. Это делает продукты дороже, но мы верим, что в долгосрочном периоде это правильный подход, который начался еще 31 год назад. Теперь о том, что мы начали делать недавно. Мы стали первой сетью общественного питания в России, которая ввела раздельный сбор отходов еще в 2019 году. Но мы не только разделяем мусор, но и перерабатываем его. Мы работаем в плотной связке с несколькими компаниями в Москве и окрестностях, чтобы перерабатывать как можно большую долю отходов производства, а не просто отвозить все на свалку, как это делается сейчас. Наша цель — к 2025 году начать разделять отходы всех наших предприятий в России. Что еще более важно, мы также планируем к 2025 году сделать так, чтобы все наши упаковки либо производились с учетом экологической устойчивости, либо подлежали переработке. Мы также стремимся сократить использование пластика до нуля к 2025 году. Это не требования правительства или что-то такое — просто мы считаем, что необходимо с самого начала стремиться к экологической устойчивости. И мы продолжили делать то, что делали и раньше, и теперь пытаемся ускорить эти процессы здесь, в России. И не важно, какие меры будет или не будет принимать в этом направлении правительство, какие требования будет предъявлять потребитель. Мы считаем, что потребитель будет все больше придавать значения этим вопросам, как вы и сказали. На то, чтобы экологическая повестка в России стала столь же популярной, как в некоторых странах Западной Европы, может уйти еще три-пять лет. Но мы хотим быть первыми, хотим быть лидером и хотим предпринимать действия в этом направлении даже раньше, чем нас кто-либо попросит об этом.
Разве потребителям это действительно важно? Думаете, для них важно, сделана ли упаковка из бумаги или пластика? К тому же «Макдоналдс» никогда особенно не использовал пластик, не так ли?
Марк Карена: Мы наблюдаем, что потребители очень обеспокоены вопросами мусора. Идет много дискуссий о мусоре и свалках. Вы правы, что на фоне сокращения реальных доходов населения потребителей больше интересует, как свести концы с концами или как найти деньги на еду, а не материалы упаковки. Я соглашусь, что сейчас запрос может быть не таким уж и сильным. Но мы также знаем, что потребители — особенно из молодого поколения — более 30% из них принимают решение о поддержке той или иной компании в зависимости от ее экологических инициатив. Мы считаем, что этот тренд будет набирать обороты. Пока что в России он не очень силен. С точки зрения бизнеса это не первоочередная задача. Но мы считаем, что мы должны это сделать даже в ущерб финансовым показателям, потому что в будущем — через три, четыре, пять лет — это станет нашей отличительной чертой. И если мы будем первыми, нас будут считать лидером в этой области, это позволит нам застолбить лидерские позиции и быть крупнейшей компанией в этом сегменте.
Считаете ли вы, что искусственное мясо — это следующий шаг для следующего поколения?
Марк Карена: Мясо на растительной основе уже применяется в продукции «Макдоналдс» в некоторых странах. Мы начали в Канаде, позднее в Германии, провели определенные исследования. Сейчас у нас есть платформа под названием MacPlant, которая уже работает в Швеции и Дании, мы проводим оценку ее успешности и уже поняли, что мясо на растительной основе меньше подходит вегетарианцам или веганам — это скорее продукт для флексетарианцев. Это люди, которые обходятся без мяса несколько дней в неделю, но в целом его любят. Мы рассматриваем подобные возможности и в России, но видим, что пока процент людей, которые хотят есть мясо на растительной основе, очень невелик. Мы продолжим наблюдать за рынком и, возможно, решим запустить такой продукт в будущем. Мы готовы сделать это в любой момент, на сегодня в России это будет очень нишевый продукт.
Илья Копелевич

НЕ РАСКОЛОТЬ СТРАУСИНОЕ ЯЙЦО: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ ПОСЛЕ УХОДА США И НАТО ИЗ АФГАНИСТАНА
ПЁТР ДУТКЕВИЧ
Профессор Карлтонского университета (Канада).
Для России стабильность и успешное сотрудничество с Центральной Азией – возможность продемонстрировать привлекательность взаимодействия с ней внутри её традиционной сферы влияния. Ставки высоки, так как евразийский проект либо снова сделает Россию ключевым элементом формирующейся континентальной системы, либо усугубит её статус важной, но одинокой региональной державы.
США начали вывод войск из Афганистана. Он должен завершиться к 11 сентября 2021 г. – символической дате двадцатилетия терактов 2001 г., которые привели американские войска в Афганистан. Для афганского правительства, соседних стран и их ключевых союзников, России и Китая, это означает больше проблем и головной боли.
Эксперты не раз указывали на угрозу перетекания войны из Афганистана в Центральную Азию[1]. Некоторые называли эти предупреждения избитым клише[2], которое используется в политических целях. Но с уходом США и семитысячного контингента войск НАТО предполагаемые многочисленные столкновения в регионе и активизация террористов становятся вполне реалистичным сценарием. Что, конечно, сильно повлияет на региональную безопасность и внутреннюю политику центральноазиатского пространства. Как отреагируют страны региона? Что смогут сделать Россия и Китай?
Следует всерьёз рассмотреть вероятность того, что после ухода США и НАТО афганское государство попросту развалится под напором талибов. Оставленные в стране военные активы попадут в руки «Талибана» (запрещено в России – прим. ред.) или других радикальных группировок, как это произошло в Ираке. Гражданская война ещё больше расколет страну. Кеннет Маккензи – американский генерал, ответственный за Центральное командование, открыто выразил озабоченность по поводу «способности афганской армии удержать те позиции, на которых она сегодня находится»[3]. Аналогичные выводы содержатся в одном из последних докладов американской разведки: «“Талибан”, скорее всего, получит преимущества на поле боя, и афганскому правительству будет крайне сложно усмирить его, если оно лишится поддержки со стороны коалиции»[4]. Авторы доклада Афганской исследовательской группы, недавно опубликованного Институтом мира США (USIP), предупреждают, что «риски краха государства и возобновления конфликта чрезвычайно велики»[5].
Есть и доводы в пользу того, что присутствие Соединённых Штатов и НАТО в Афганистане с 2001 г. укрепило безопасность стран Центральной Азии[6]. Граничащие с Афганистаном государства были бесплатными бенефициарами благ безопасности, американское присутствие препятствовало проникновению к ним радикально настроенных боевиков. Почти двадцать лет США и афганская армия де-факто были силами безопасности для всего региона. Обеспечение разведывательных операций, воздушной мощи, охраны границ, уничтожение лидеров боевиков, не говоря уже о других полезных действиях американского контингента прекращаются. Это оставляет правительства региона неготовыми к угрозе, с которой они вскоре могут столкнуться.
Страны Центральной Азии напоминают яйцо страуса, да позволят мне читатели использовать эту странноватую метафору. У него очень твердая скорлупа, но внутри мягкое содержимое. Видимость сильного руководства и гарантированной безопасности идёт рука об руку с институциональной и военной слабостью. Растущее социальное неравенство и низкие экономические показатели подрывают поддержку властей обществом.
Многие согласятся с оценкой Ивана Сафранчука, что государства Центральной Азии «вряд ли хотя бы примерно понимают или даже размышляют о некоторых дилеммах в сфере безопасности, которые формируют их внешнюю и экономическую политику»[7]. Короче, большинство центральноазиатских режимов достаточно уязвимы, если их внутренние проблемы ещё и стимулировать с территории Афганистана. До сих пор масштабы внутренней фронды позволяли полагаться на точечные меры подавления. Так, Казахстан составил список из более 23 террористических, экстремистских группировок; в Киргизии задержано около 520, а в Таджикистане более 13 тысяч радикалов, в Узбекистане – 18 тысяч[8]. Но после ухода западной коалиции из Афганистана рассчитывать только на эффективность внутренних репрессий будет трудно. Многие группы боевиков (такие как «Джамаат Ансарулла», «Исламский джихадистский союз», «Исламское движение Узбекистана» и «Исламское государство Хорасан», или ИГХ), угрожавшие стабильности, просто выжидают ухода иностранных войск для перегруппировки, восстановления цепочек снабжения и возобновления войны.
По словам посла России в Таджикистане Игоря Лякина-Фролова, ИГХ, являющееся филиалом террористической организации «Исламское государство» (запрещено в России – прим. ред.), имеет на вооружении 3 тысячи боевиков в Северном Афганистане (хотя по оценке государственных афганских источников их как минимум втрое больше)[9]. Без внешней опоры перетекание возобновлённого афганского конфликта на территории соседей может вызвать новый виток нестабильности в регионе. Россия и Китай обеспокоены, потому что под угрозой безопасность их крупных региональных проектов в Евразии – инициативы «Пояс и путь» (ПИП) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Для России стабильность и успешное сотрудничество с Центральной Азией (после провала проекта интеграции России в западное сообщество и инициатив по воссоединению бывшего советского пространства) – третья возможность продемонстрировать привлекательность сотрудничества с ней внутри её традиционной сферы влияния.
Ставки высоки, так как евразийский проект либо снова сделает Россию ключевым элементом формирующейся континентальной системы, либо усугубит её статус важной, но одинокой региональной державы.
Уход США, несомненно, подтолкнёт Россию к тому, чтобы укреплять безопасность своих союзников (особенно Таджикистана и Киргизии). Её задача – не только помогать им, но и показывать другим региональным игрокам, включая Китай, что Россия может быть действенным гарантом региональной безопасности. Это одна из козырных карт Москвы, но в обозримом будущем такая позиция взвалит на Россию решение проблемы базирующихся в Афганистане боевиков.
Похоже, что военные стратеги России уже действуют [10]. «Сотрудничество между Россией и Таджикистаном в сфере обороны становится всё более важным», – отметил посол Игорь Лякин-Фролов, подчёркивая важность 201-й военной базы России. База служит надёжным гарантом безопасности и стабильности – как в Таджикистане, так и во всём регионе [11]. По словам Лякина-Фролова, «таджикские вооружённые силы получили современные вооружения и военное оборудование от России в рамках их модернизации. Эта программа также включала военную подготовку в российских университетах при Министерстве обороны и на 201-й военной базе».
Тем временем Китай обеспокоен тем, что его грандиозный, необычайно дорогой и сложный проект «Пояс и путь» может оказаться под угрозой из-за нескольких тысяч боевиков. Как указывает Сергей Суханкин, «Пекин уже ищет разные средства для нейтрализации этой угрозы. С 2015 по 2020 гг. Китай много инвестировал в безопасность Центральной Азии, увеличив на 18 процентов свою долю в поставках вооружений в этот регион. Китай также усилил координацию в сфере безопасности со странами Центральной Азии, в частности с помощью антитеррористических учений «Сотрудничество-2019», проведённых в августе 2019 г. совместно с таджикскими войсками. Кроме того, он рассматривает новые меры по защите китайских инвестиций в Азию в рамках ПИП – в том числе более интенсивное использование частных охранных предприятий (ЧОПов), таких как Группа пограничных услуг (ГПУ)[12]. И это, не считая одиннадцати военных погранзастав, которые Китай обустраивает на таджикско-афганской границе[13]. Эти инвестиции обеспечат КНР не только дополнительную безопасность, но и более строгий контроль за политикой и ресурсами Таджикистана, что Россия может, в свою очередь, недооценивать.
Есть все основания полагать, что, если вывод войск США и НАТО пойдёт по графику, регион снова станет более беспокойным уже в конце года. Чтобы обеспечить стабилизацию, страны Центральной Азии, Россия и Китай должны научиться координировать свои действия.
Это потребует от Москвы и Пекина выйти из зоны комфорта и начать согласовывать продажи оружия, строительство инфраструктуры, а также военные учения и планирование. Не обойтись без более энергичных усилий по обеспечению безопасности региональных институтов и организаций (например, ПИП и ЕАЭС). Региональным игрокам пора действовать сообща, потому что это отвечает будущим интересам региона. Времени терять нельзя.
--
СНОСКИ
[1] Sakwa R., Dutkiewicz P., Lukyanov F. (eds.) Eurasia on Edge: Man- aging Complexity. Lanham: Lexington Books, 2018. 324 p.
[2] Putz C. US Afghan Envoy Visits Uzbekistan, Tajikistan // The Diplomat. 6.05.2021. URL: https://thediplomat.com/2021/05/us-afghan-envoy-visits-uzbekistan-tajikistan/ (дата обращения: 6.06.2021).
[3] US general ‘concerned’ about Afghan troops after US withdrawal // Al Jazeera. 22.04.2021. URL: https://www.aljazeera.com/news/2021/4/22/us-general-concerned-over-afghan-troops-ability-to-hold-ground (дата обращения: 6.06.2021).
[4] Hernandez M. US intelligence report says Afghan peace deal unlikely // Anadolu Ajansı. 14.04.2021. URL: https://www.aa.com.tr/en/americas/us-intelligence-report-says-afghan-peace-deal-unlikely/2209182 (дата обращения: 6.06.2021).
[5] Afghan Study Group Report // Afghanistan Study Group. February, 2021. URL: https://www.usip.org/sites/default/files/2021-02/afghanistan_study_group_final_report_a_pathway_for_peace_in_afghanistan.pdf. (дата обращения: 6.06.2021).
[6] Exploring Three Strategies For Afghanistan // U.S. Senate, Committee on Foreign Relations. 16.09.2009. URL: https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-111shrg55538/html/CHRG-111shrg55538.htm (дата обращения: 6.06.2021).
[7] Safranchuk I. Central Asian Regimes Stability and Reform, in Eurasia on the Edge Managing Complexity / Sakwa R., Dutkiewicz P., Lukyanov F. (eds.) Eurasia on Edge: Man- aging Complexity. Lanham: Lexington Books, 2018. P. 181.
[8] Sukhankin S. The Security Component of the BRI in Central Asia, Part One: Chinese and Regional Perspectives on Security in Central Asia // The Jamestown. 15.07.2020 (Publication: China Brief Volume: 20 Issue: 12). URL: https://jamestown.org/program/the-security-component-of-the-bri-in-central-asia-part-one-chinese-and-regional-perspectives-on-security-in-central-asia/ (дата обращения: 6.06.2021).
[9] Pannier B. Will Central Asia Host U.S. Military Forces Once Again? // Radio Free Europe/Radio Liberty. 23.04.2021. URL: https://www.rferl.org/a/u-s-military-bases-in-central-asia-part-two-/31219781.html (дата обращения: 6.06.2021).
[10] «Россия развернёт системы ПВО на своей военной базе в Киргизии и будет развивать инфраструктуру для беспилотников», – сообщил замминистра обороны Николай Панков 11 февраля 2020 г., выступая в Думе. Поправки к соглашению между Россией и Киргизией о военной базе позволят создать подразделение дронов на военной базе Кант. См.: Russia helps Tajikistan in responding to security threats posed by Afghanistan: Ambassador // Daily Excelsior. 26.01.2019. URL: https://www.dailyexcelsior.com/russia-helps-tajikistan-in-responding-to-security-threats-posed-by-afghanistan-ambassador/ (дата обращения: 6.06.2021).
[11] Об участии посла России в Таджикистане И.С.Лякина-Фролова в торжественном праздновании Дня России на территории 201-й Российской военной базе // МИД РФ. 16.06.2021. URL: https://www.mid.ru/posledniye_dobavlnenniye/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/id/4166083 (дата обращения: 6.06.2021).
[12] Sukhankin S. The Security Component of the BRI in Central Asia, Part One: Chinese and Regional Perspectives on Security in Central Asia // The Jamestown. 15.07.2020 (Publication: China Brief Volume: 20 Issue: 12). URL: https://jamestown.org/program/the-security-component-of-the-bri-in-central-asia-part-one-chinese-and-regional-perspectives-on-security-in-central-asia/ (дата обращения: 6.06.2021).
[13] Putz C. China in Central Asia: Building Border Posts in Tajikistan // The Diplomat. 26.09.2016. URL: https://thediplomat.com/2016/09/china-in-central-asia-building-border-posts-in-tajikistan/ (дата обращения: 6.06.2021).

Роман Жиц: мы создаем экосистему для частной космонавтики в России
В мире высокими темпами идет развитие частной космонавтики – от создания ракет-носителей и спутников до пилотируемых кораблей и орбитальных станций. У всех на слуху выдающиеся достижения американских компаний SpaceX, Blue Origin, Virgin Galactic и Rocket Lab, есть успехи у китайских "частников", но при этом о российских коммерческих космических компаниях не слышно почти ничего. О том, что необходимо сделать, чтобы в России стали воспринимать всерьез частные космические компании, какие прорывные проекты сейчас осуществляются, и как им может помочь "Роскосмос", в интервью корреспонденту РИА Новости Андрею Красильникову рассказал руководитель направления "Аэронет" Национальной технологической инициативы по частной космонавтике Роман Жиц.
– Роман Юрьевич, какие космические проекты сейчас реализует "Аэронет"?
– Два основных продукта, которые "Аэронет" помогает разрабатывать силами частных компаний, – это ракета-носитель сверхлегкого класса и межорбитальный буксир. Помимо этого, мы оказываем поддержку частной компании "Спутникс" в создании универсальной спутниковой платформы, проект которой прошел акселерацию в "Аэронет" для того, чтобы получить грант Национальной технологической инициативы (НТИ) на свою реализацию.
– Вы много лет работали в Исследовательском центре Эймса НАСА. На ваш взгляд, почему в последние десятилетия заметен всплеск коммерческого космического рынка в США?
– Начну с того, что космонавтика в США всегда была частной. Государственное там только агентство НАСА, которое выполняет очень важные функции: определяет цели, которые нужно достичь на национальном уровне в космосе, использует деньги налогоплательщиков для финансирования частных американских компаний, чьими руками эти цели достигаются, и практически бесплатно делится с ними знаниями и технологиями, которые НАСА генерирует в виде отчетов, статей и патентов.
Действительно, в последние 15 лет в Штатах стало заметно появление новых космических компаний, но они не возникли сами по себе. Дело в том, что в 90-е годы американский аэрокосмический бизнес был монополизирован крупными компаниями Boeing и Lockheed Martin, которые затем в разы вздули цены на пусковые услуги. Поэтому НАСА, не желая тратить огромные деньги на покупку услуг, стало стимулировать новых частников. И вот сейчас, благодаря новым частным компаниям, не боящимся брать на себя технологические риски, на американском рынке возникла ожесточенная конкуренция, ставящая под вопрос уже выживание космического бизнеса старых компаний.
Кроме того, новые компании имеют харизматичных основателей, движимых не только желанием сделать деньги, но и альтруизмом, который они как разумные бизнесмены пытаются поставить на коммерческую основу. А старыми компаниями управляют советы директоров – это группы людей с большими деньгами, которым абсолютно все равно, на чем делать деньги. Как правило, они движимы показателями годовой прибыли, у них нет видения дальней перспективы, они всегда стараются уйти от любых рискованных решений и поэтому возникает стагнация.
Старые компании, напоминающие разжиревших котов, стараются все свести к минимальным модификациям уже выпускаемых образцов космической техники, а новые – и это хорошо видно на примере компаний SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса – строят принципиально новые прототипы для летных испытаний и за счет их итеративного улучшения довольно быстро доводят новую технику до коммерческой эксплуатации.
– А почему такого нет в России?
– У нас первые попытки создать частную космонавтику начались 10 лет назад. Тогда в инновационном сообществе бытовала иллюзия, что достаточно горящего энтузиазма в глазах – и мы все сможем. Но опыт показал, что нельзя сделать космическую технику на коленке в гараже – этот подход не работает.
Проблема наших пионеров частной космонавтики, таких как "Космокурс" и "Лин Индастриал", заключалась в том, что они двигались практически в одиночку. Когда они начинали, не существовало, прежде всего, достаточной нормативно-правовой и нормативно-технической базы для частных космических компаний. Если частная компания сделала какое-то изделие, которое должно функционировать в космосе, оно должно пройти испытания и сертификацию. А у нас в стране исторически сложилось так, что вся космонавтика была государственная, и к этому процессу как регулятора космической деятельности нужно привлекать "Роскосмос", у которого тогда еще не было отработанного регламента работы с частниками.
К тому же, зачастую, инженерный уровень коллективов частных космических компаний недостаточно высокий, не хватает профильных специалистов и сертифицированного программного обеспечения. Иными словами, в отличие от США у нас еще не развита вся необходимая поддерживающая инфраструктура для космических частников.
Три года назад, когда в "Аэронет" НТИ создавали дорожную карту частной космонавтики, мы понимали, что для повышения вероятности успеха ее реализации нужна, по крайней мере, инфраструктурная поддержка "Роскосмоса". В госкорпорации тогда нам четко сказали, что на частную космонавтику денег не будет, однако в связи с проектом "Сфера" они проявили интерес к приобретению услуг запуска малых спутников нашей сверхлегкой ракетой. Для ее создания силами частных компаний "Роскосмос" заключил с нами соглашение и предложил свою помощь, как экспертизой процесса проектирования ракеты, так и инфраструктурой для испытаний самой ракеты и ее компонентов. В соответствии с этими договоренностями, мы уже провели конкурс инженерных записок по обоснованию облика ракеты и космического буксира, в котором участвовало шесть компаний с проектами ракеты и пять компаний с проектами буксира. Проекты рассматривались конкурсным жюри из 11 человек, среди которых были эксперты от "Роскосмоса", ЦНИИмаш и организации "Агат", а также представители от ФПИ и потенциальных инвесторов, в частности, VEB Ventures. Конкурсное жюри отобрало по три компании с лучшими проектами в обеих номинациях, которые теперь будут участвовать в следующем этапе конкурса – разработке аванпроектов ракеты и буксира.
Также с учетом уже полученного опыта работы с частниками "Роскосмос" поручил "Агату" разработать более дешевый финансовый механизм, чтобы частные компании могли "потянуть" испытания двигателей на стендах "Роскосмоса". Раньше такого не было: частники приходили в организации госкорпорации, и те выкатывали огромные счета, по инерции рассматривая эти компании как больших промышленных партнеров. Помимо этого, по инициативе "Роскосмоса" идет работа по сбору технической документации со снятием, где возможно, грифов секретности, чтобы сделать ее доступной частникам, эта работа будет завершена через год-полтора.
Таким образом, мы сейчас создаем экосистему, которая позволит частным космическим компаниям приходить в "Аэронет" и получать экспертную, сертификационную и испытательную помощь при поддержке "Роскосмоса". Мы считаем, что при наличии такой экосистемы у потенциальных инвесторов появится смысл вкладываться в космические проекты, поскольку у них будет более высокая степень уверенности в успехе самих проектов и прибыли, которые они принесут.
Помимо этого, ежегодно НТИ проводит ряд образовательных интенсивов для стартапов, в рамках которых те могут познакомиться с инвесторами и представителями корпораций, представить свои наработки, получить обратную связь и развивать их. Этим летом пройдет интенсив в Великом Новгороде "Архипелаг 2121", где индивидуальные разработчики и стартапы представят свои рабочие проекты и решения, в том числе в области космонавтики. По итогам интенсива они при желании смогут объединиться в команду и создать свою компанию.
– С чем связано, что российский коммерческий рынок покинул такой заметный игрок, как компания "Космокурс"?
– На мой взгляд, из-за того, что "Космокурс" сразу взялся за создание пилотируемой суборбитальной системы. Когда на борту человек, то требования к надежности и, соответственно, сложность проектирования возрастает на порядок. Для начинающей частной компании, тем более в России, эта задача была явно не по зубам, и большая часть усилий вынужденно "уходила в бумагу". Думаю, что даже у десяти потенциальных инвесторов на это не хватило бы ресурсов. Это первопричина, почему компания потерпела неудачу, хотя коллектив у нее был профессиональным.
– Расскажите о следующих этапах создания частных сверхлегкой ракеты и разгонного блока.
– "Аэронет" выступает основным партнером "Роскосмоса" в этом проекте. К своей цели мы совместно с частниками идем путем проведения конкурса, в котором на каждом этапе проводится отбор лучших проектов и последовательно уменьшаются технические и организационные риски их создания. Конкурс состоит из этапов инженерной записки, аванпроекта, эскизного проекта, рабочей конструкторской документации и создания прототипа.
Сейчас готовим конкурс на аванпроект, который планируем начать в августе. Он будет рассчитан на полгода, причем техническое задание на аванпроект будет максимально близко по уровню детальности к отраслевому, и сейчас мы проводим его согласование с ЦНИИмаш. В результате отберут по две команды на этап эскизного проекта.
Конкурс на эскизный проект продолжительностью 9 месяцев начнется в марте 2022 года и будет иметь две части: первая – расчетная, вторая – создание макетов-демонстраторов технологий с частично работающими системами. По итогу выберут по одной компании-интегратору на ракету и буксир – эти головники, в свою очередь, образуют кооперацию с теми командами, которые не дойдут до финала конкурса.
По оптимистичной оценке, прототипы ракеты и буксира начнут создаваться со второй половины 2023 года с возможным выходом на запуск первого летного образца в 2025 году.
Пускать сверхлегкую ракету планируется с действующих космодромов, скорее всего, это будет Восточный. "Роскосмос" не против частного космодрома, но его создание займет длительное время, прежде всего из-за согласования безопасности, полей падения, с военными.
– Каковы техническая и экономическая составляющие проекта?
– Проведенный конкурс инженерных записок показал, что частные компании нашли решения, позволяющие сделать сверхлегкую ракету массой не более 20 тонн и стоимостью пуска не выше трех миллионов долларов. Эталоном для сравнения мы выбрали американскую сверхлегкую ракету Electron с ценой пуска 5-5,5 миллиона долларов. Мы понимаем, что к тому времени, когда наш продукт попадет на международный рынок, пусковые услуги, наверняка, будут дешевле. Поэтому надо искать способы, которые позволят частной компании не только производить ракету и оставаться в прибыли, но и пускать ее за цену, которая через пять лет будет чуть ниже или на уровне конкурентов.
Наша ракета планируется двухступенчатой, скорее всего, с кислородно-метановыми двигателями. Ей предстоит выводить полезную нагрузку массой 250 килограммов на орбиту высотой 500 километров. Соответственно, использование буксира массой 80 килограммов в качестве опциональной третьей ступени ракеты позволит доставлять спутники массой до 150 килограммов на орбиты высотой от 800 до 1500 километров.
Мы оцениваем стоимость создания ракеты в сумму от 3,5 до 5 миллиардов рублей. По расчетам компаний, примерно после 10-15 пусков уже можно выйти в ноль, по нашим прикидкам – после 20-30 пусков. С учетом международной конкуренции мы можем рассчитывать, как минимум, на 10-15 пусков в год, из них 5-6 – для российских потребностей.
Аванпроекты ракеты и буксира будут финансироваться за счет "Аэронет". Каждому участнику аванпроекта мы заплатим по три миллиона рублей за работу над проектом ракеты и по миллиону за буксир, при этом каждый из участников должен принести равную сумму для софинансирования своей работы.
Если НТИ одобрит финансирование на инфраструктурный проект по созданию транспортной космической системы, то на эскизный проект и создание макетов-демонстраторов технологий "Аэронет" сможет выделить около 250 миллионов рублей.
– Какие еще задачи планируются для разгонного блока?
– Варианты буксира с электроракетными двигателями, предложенные в инженерных записках, достаточны для того, чтобы отправить полезную нагрузку массой 40-50 килограммов на отлетную траекторию к Луне. Если цена пуска ракеты с буксиром будет порядка четырех миллионов долларов, то университеты типа МГУ и МГТУ смогут позволить себе запустить небольшой аппарат к Луне или Марсу. Он мог бы решать уже не только популяризаторские, но и научные задачи. Еще одной задачей для буксира может стать сервисное обслуживание между орбитами.
– А как идет создание спутниковой платформы компанией "Спутникс"?
– Компания сознательно старается перейти от "кубсатов" к спутникам массой порядка 200 килограммов, которые имеют очень хорошие перспективы благодаря гораздо большему полезному функционалу. По прогнозам, лет через пять основная часть спутников будет такой размерности, и "Спутникс" имеет хорошие шансы найти спрос на свою платформу на международном рынке. Их платформа позволит делать спутники для дистанционного зондирования Земли, связи и интернета вещей. К ней уже имеется определенный интерес со стороны иностранных заказчиков.
"Спутникс" уже получил положительное заключение ЦНИИмаш по эскизному проекту своей спутниковой платформы. Более того, по мнению ЦНИИмаш, некоторые решения, предлагаемые в платформе, интересны и для "Роскосмоса". Через два года "Спутниксу" предстоит создать летный прототип и, если он покажет свою работоспособность, то не исключено, что платформа будет покупаться "Роскосмосом".

Французский бизнес рассказал о проблемах из-за санкций США против России
Французский бизнес сталкивается с ужасными проблемами из-за санкций, которые США вводят против третьих стран, рассказал директор аналитического центра "Обсерво" при Франко-российской торгово-промышленной палате Арно Дюбьен, выступая на ПМЭФ.
"Есть ужасная проблема на повседневном уровне с открытием счетов для потенциальных российских инвесторов в наших банках. Это невозможно де-факто, сколько бы ни боролся, допустим, господин Шевенман (спецпредставитель Франции в России), мало что меняется. При этом отрицают проблему наши власти", - сказал Дюбьен.
Он подчеркнул, что французское правительство поддерживает развитие торгово-экономических отношений России и Франции, но, по его словам, дает понять, что каких-то существенных изменений ждать не стоит. "Санкции здесь надолго. Это надо понять. Бизнес это понял", – сказал он.
По словам Дюбьена, Европа находится в двусмысленном положении: она является одновременно и инициатором, и жертвой санкций. Он напомнил, как французский банк BNP Paribas в 2017 году был оштрафован на 9 миллиардов долларов за нарушение санкционного режима. "Это был большой шок, который породил страх и неуверенность – думаю, в этом и была цель", - сказал Дюбьен. Он также напомнил, как после введения санкций против Ирана французские автоконцерны были вынуждены прекратить там весь свой бизнес, несмотря на то что занимали более трети иранского рынка.
"Но есть и более смачные моменты: например, мало кому известно, что во многих штабах французских компаний в Париже сидят чиновники американского OFAC (Управление контроля иностранных активов, которое следит за исполнением санкций – ред) и следят за транзакциями. Это уже доступ к очень чувствительной информации", - подчеркнул он.
"В нашем парламенте французском, и в Брюсселе этот вопрос экстерриториальных санкций американских обсуждается все активнее и активнее. И осознание, что есть проблема – это уже хорошо", - сказал Дюбьен. В частности, по его словам, европейские политики даже обсуждали создание собственной OFAC. "Но никто здесь не верит, что будет консенсус, и что 27 членов ЕС согласятся создать этот орган,а тем более ввести санкции против каких-то американских предприятий", – признал спикер.
Более того, на фоне попыток сближения Евросоюза с новой администрацией президента США Джо Байдена, по его словам, существует риск, что эта проблема начнет казаться менее острой. "Хотя политика новой администрации США мало чем отличается от политики предыдущей", – уверен Дюбьен.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

МОГУТ ЛИ СОЕДИНЁННЫЕ ШТАТЫ СОЗДАТЬ АЛЬЯНС ДЕМОКРАТИЙ?
ТОМАС ГРЭМ
Заслуженный сотрудник Совета по международным отношениям, работал старшим директором по России в Совете по национальной безопасности при президенте Джордже Буше.
Могут ли Соединённые Штаты после четырёх лет отступления от демократии и в условиях внутриполитической напряжённости сами возглавить глобальный демократический альянс – это вопрос, который задают многие американские союзники и партнёры. Администрация Байдена любит повторять, что «Америка вернулась». Но ей необходимо доказать, что американская демократия и предсказуемость вернулись в долгосрочной перспективе, иначе за Вашингтоном никто не пойдёт.
В своём выступлении на совместном заседании палат Конгресса 29 апреля президент США Джозеф Байден предупредил, что XXI век будет определяться исходом титанической борьбы между демократиями и автократиями и что автократы уверены в своей победе. Байден же полон решимости доказать, что они неправы: «Ставить против Америки никогда, никогда не было хорошей идеей, и до сих пор это так». Он поклялся, что Америка возвращается к своей ведущей роли в мире и сплотит мировые демократии ради этой задачи.
Восстановление связей Америки с её демократическими союзниками в Европе и Восточной Азии – один из главных приоритетов внешней политики и первый крупный шаг на пути формирования альянса демократий. Позже в этом году администрация планирует созвать саммит демократий, чтобы подчеркнуть возвращение США в качестве лидера демократического сообщества и приступить к разработке идей о том, как продвигать демократию после многих лет отступления во всём мире, включая США.
После четырёх лет сугубо деловой, свободной от ценностей внешней политики Дональда Трампа устремления Байдена знаменуют собой возвращение к мейнстриму американской политической традиции. С момента своего основания почти 250 лет назад Соединённые Штаты продвигали демократию либо собственным примером «сияющего града на холме», либо с помощью миссионерства в различных странах мира.
Со времён Первой мировой войны и правления Вудро Вильсона Соединённые Штаты представляли глобальную конкуренцию как экзистенциальную борьбу между свободой и тиранией, между светом и тьмой – и видели свою миссию в том, чтобы возглавить силы свободы.
Призывы Байдена почти наверняка получат широкую поддержку со стороны внешнеполитического истеблишмента и страны в целом, по крайней мере на уровне риторики.
Однако претворить громкую риторику в конкретную политику всегда непросто. Это особенно видно в мире, переживающем переломный момент, когда меняется глобальный баланс сил; новые технологии меняют способы общения, работы и конфронтации; национализм, популизм и фундаментализм разжигают в людях страсти и привлекают сторонников под свои знамёна. Создать альянс демократий, достаточно мощный, чтобы изменить траекторию глобального развития, но не настолько крупный, чтобы сама идея демократии была фатально скомпрометирована, а борьба идей превратилась в грубую борьбу за власть, – это трудная задача. Здесь требуется тщательное сочетание амбиций и проницательности. В связи с этим администрация Байдена сталкивается с тремя серьёзными вызовами.
Прежде всего, необходимо найти правильный баланс между идеологическими устремлениями и геополитическими потребностями. Показательный пример – холодная война. Стремясь сдержать Советский Союз, Соединённые Штаты в качестве лидера «свободного мира» часто поддерживали сомнительные авторитарные режимы, особенно в так называемом третьем мире, против вдохновлённых марксизмом повстанческих движений. В критически важных стратегических точках Вашингтон вступал в союз с авторитарными государствами, такими как Саудовская Аравия и шахский Иран на Ближнем Востоке. Он установил тесные отношения с коммунистическим Китаем, чтобы подорвать СССР. Основанием для компромисса в принципиальных вопросах было то, что сдерживание Москвы было необходимо для создания мира, в котором могла бы развиваться свобода, – аргумент, который нелегко сбросить со счетов. Тем не менее такой подход позволял обвинять Соединённые Штаты в лицемерии и цинизме, чем не преминула воспользоваться советская пропаганда.
Сегодня проблема не менее серьёзна, поскольку администрация Байдена определяет автократический Китай как главный стратегический вызов. Закроет ли Вашингтон глаза на авторитарные тенденции Нарендры Моди, чтобы заручиться поддержкой Индии в качестве партнёра в борьбе против Китая? Пригласит ли Байден Реджепа Тайипа Эрдогана или Виктора Орбана, несмотря на их серьёзные отступления от принципов демократии, потому что они являются важными союзниками в сдерживании России в Европе? А если этого не произойдёт, каковы будут последствия для НАТО, которая сейчас преподносится как союз демократий, или для ЕС, который гордится тем, что сегодня является ведущей нормативной (демократической) силой в мире? Независимо от того, решит ли администрация Байдена поставить геополитические интересы выше демократических ценностей или наоборот, ей всё равно придётся кое-что объяснять.
Не менее сложная задача возникает из-за манихейского выбора между свободой и тиранией, который ставит Байден. Намеренно или нет, но этот выбор подпитывает представления о мире, разделённом между демократическим блоком под руководством США и автократическим лагерем под руководством Китая. Однако биполярность плохо сочетается с миром, который становится всё более взаимосвязанным и многополярным. Ведущие демократии, такие как Франция, Германия, Великобритания и Япония, будут сопротивляться давлению с целью выбора стороны, особенно когда их экономическое благополучие зависит от поддержания хороших связей с Китаем. То, что ЕС подписал всеобъемлющий инвестиционный договор с Китаем накануне инаугурации Байдена, свидетельствует о сопротивлении, с которым столкнётся американский президент. Весьма приглушённые протесты демократических стран против подавления Китаем свободы Гонконга и грубых нарушений прав уйгуров из-за опасений нарушить широкие связи с Китаем подчёркивают предстоящие трудности. Следовательно, для того чтобы любая значительная группа демократических стран пришла к соглашению о том, как продвигать демократию в современном мире, потребуется тщательный баланс между политическими, экономическими и геополитическими интересами государств-участников, и это почти наверняка гарантирует, что соглашения о решительной защите принципов по Байдену достигнуто не будет.
Последний вызов исходит от самой Америки.
Могут ли Соединённые Штаты после четырёх лет отступления от демократии и в условиях продолжающейся внутриполитической напряжённости сами возглавить глобальный демократический альянс – это вопрос, который задают многие американские союзники и партнёры.
Небезосновательные опасения, что фигура, похожая на Трампа, если не сам Трамп, может вновь стать президентом в 2024 году, лишь заставляют сомневаться в долгосрочной жизнеспособности предложений Байдена. Это не означает, что ведущие союзники США откажутся присутствовать на саммите Байдена; это также не означает, что они не выразят своей глубокой приверженности укреплению демократии внутри своих стран и её продвижению за рубежом. Но список совместных усилий или обязательств друг перед другом вряд ли будет обширным, не говоря уже об отсутствии энтузиазма в отношении любых совместных усилий после саммита. Администрация Байдена любит повторять, что «Америка вернулась». Но ей необходимо продемонстрировать, что американская демократия и предсказуемость вернулись в долгосрочной перспективе, иначе союзники не будут готовы идти на значительные риски для совместных действий с Вашингтоном.
Союз демократий – это не утопическая мечта. Но для его создания потребуется время, и успех далеко не гарантирован. В этих обстоятельствах разумным первым шагом может быть организация небольшой группы ведущих демократических стран для обсуждения предстоящих задач и контуров возможных совместных действий. Это было бы похоже на то, что делали ведущие развитые демократии в 1970-х годах, когда они сформировали «большую семёрку» для обсуждения и управления глобальными экономическими проблемами. В этом году G-7 пригласила Австралию, Индию, Южную Африку и Южную Корею принять участие в некоторых обсуждениях. Как предполагают многие наблюдатели, эти одиннадцать стран составят хорошую стартовую группу для обсуждения проблематики демократии, к которому стремится администрация Байдена, и вполне могут составить ядро будущего альянса демократий, масштаб которого может постепенно увеличиваться в зависимости от обстоятельств. В то же время Соединённым Штатам необходимо будет заняться возрождением собственной демократии, чтобы превратить этот альянс в эффективного игрока на мировой арене. Конечно, это трудная задача, но отнюдь не невыполнимая.
Международный дискуссионный клуб «Валдай»
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

























