Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Владимир Кулишов: крымский участок границы РФ стал наиболее укрепленным
Обстановка на государственной границе России никогда не бывает безмятежной – ее по-прежнему осложняют многие факторы, среди которых увеличение военной активности НАТО едва ли ни по всему периметру границы, сохраняющиеся очаги военно-политической напряженности на сопредельных территориях, незаконные попытки проникновения в Россию мигрантов, террористов и экстремистов, деятельность контрабандистов и перевозчиков наркотиков. Ко всему этому с прошлого года добавилась и пандемия коронавируса. А наиболее сложная обстановка сейчас сложилась на границе с Украиной в Крыму. О том, как российские пограничники несут службу в этих условиях, как они противостоят попыткам Киева и его западных кураторов устроить провокации в Черном море, насколько хорошо защищен Крымский мост, и почему Украина прекратила рыть широко разрекламированный ею ров на границе с Россией, в первой части интервью РИА Новости в преддверии Дня пограничника рассказал первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.
– Владимир Григорьевич, первый вопрос традиционный: какова сейчас оперативная обстановка на периметре государственной границы России – самой протяженной в мире? С какими основными результатами Пограничная служба подошла к своему празднику?
– Обстановка на государственной границе Российской Федерации остается динамичной. На ее развитие преимущественное влияние оказывают сложная эпидемиологическая ситуация в мире и принимаемые в связи с этим международным сообществом меры по защите населения от распространения коронавирусной инфекции, сохранение вблизи российских границ очагов военно-политической напряженности, рост военной активности Североатлантического альянса, а также нарастающее санкционное давление на Российскую Федерацию со стороны западных стран.
Сохранялись риски проникновения на российскую территорию лиц, причастных к деятельности международных террористических и религиозно-экстремистских организаций, а также контрабанды средств диверсии и террора. В 2020 году пограничными органами выявлено более 400 лиц, имеющих отношение к террористической деятельности, и около 2,5 тысячи человек, находившихся в розыске. В пунктах пропуска и на приграничной территории изъято свыше 120 единиц огнестрельного оружия, около 125 килограммов взрывчатых веществ и более 18 тысяч боеприпасов, выявлено 105 экземпляров литературы экстремистского содержания и символик международных террористических организаций.
Предпринимались попытки нарушения государственной границы иностранцами, следовавшими в Россию с миграционными целями, а также использовавшими территорию Российской Федерации для незаконного убытия в страны Европы. Так, в пунктах пропуска через государственную границу выявлено более 25 тысяч лиц с недействительными документами, свыше 20 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства, въезд которым в Российскую Федерацию не разрешен.
В сфере борьбы с трансграничной преступностью пограничными органами пресечена деятельность более 80 организаторов каналов незаконной миграции, задержано свыше 240 иностранных граждан, изыскивавших возможность незаконного убытия в страны Западной Европы (преимущественно на границе с Финляндией и странами Балтии).
Оставались актуальными риски контрабанды наркотиков, культурных и исторических ценностей, а также незаконного перемещения стратегического сырья, товаров и грузов, включая контрафактную и секционную продукцию, подпадающую под действие ответных российских экономических мер.
В прошлом году пограничниками выявлено свыше 430 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, более 300 килограммов сильнодействующих препаратов. По нашей информации взаимодействующими органами из незаконного оборота изъято еще около 300 килограммов наркотиков и иных запрещенных препаратов.
Пресечено 679 попыток незаконного перемещения грузов, товаров и животных стоимостью около 610 миллионов рублей.
Сохранялись предпосылки к росту противоправной деятельности, связанной с незаконным промыслом морских биоресурсов. В ходе осуществления государственного контроля инспекторами пограничных органов выявлено около 7 тысяч нарушений законодательства о рыболовстве. Пресечена противоправная деятельность порядка 650 судов и маломерных плавсредств, из незаконного оборота изъято более 420 тонн рыбной и иной продукции.
В целом в ходе повседневной деятельности пограничными органами в 2020 году задержано более одной тысячи нарушителей границы, свыше 32 тысяч нарушителей ее режима. Выявлено около 40 тысяч нарушителей правил пограничного режима и режима в пунктах пропуска.
– Пандемия коронавируса коснулась любой области, и пограничники тоже не стали исключением. На первый взгляд, ограничения на сообщение между странами должны были облегчить работу пограничных пунктов пропуска. Сколько человек пересекло границу в прошлом году?
– Масштабы и опасность распространения в 2020 году новой коронавирусной инфекции COVID-19 вызвали необходимость принятия беспрецедентных мер по усилению санитарно-карантинных ограничений, которые, в первую очередь, коснулись государственных границ.
В 2020 году по сравнению с показателями предыдущего года в 3,3 раза сократился объем пассажиропотока. Через государственную границу Российской Федерации пропущены свыше 49 миллионов человек (в 2019 году – 163 миллиона). Вдвое снизилось количество транспортных средств, следующих через пункты пропуска (2020 – 10,4 миллиона, в 2019 – 24,2 миллиона). Вместе с тем снижение объемов пропуска лиц и транспортных средств не упростило работу пограничников в пунктах пропуска. Это связано с тем, что введенные правительством Российской Федерации режимные ограничения предусматривают пропуск через государственную границу определенных категорий граждан, что потребовало применения дифференцированного подхода к осуществлению пограничного контроля лиц, следующих через границу, а также проведения активной разъяснительной работы.
– С другой стороны, наверняка на фоне "схлопывания" этого потока возникли сложности с тем, что не все люди соблюдали новые правила пересечения границ, из-за чего возникала путаница, люди застревали в пунктах пропуска. Можно также предположить, что находились и те, кто незаконным путем хотел въехать в нашу страну или, наоборот, ее покинуть – в том числе мигранты, а то и откровенные преступники. И все это на фоне того, что надо было принимать меры защиты личного состава от заразы. Как в итоге пограничники справлялись с этими сложностями? Проведена ли вакцинация личного состава от COVID-19?
– С введением ограничений (в марте 2020 года) организована слаженная работа подразделений государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу, что позволило обеспечить беспрепятственный пропуск определенных правительством России категорий лиц и транспортных средств. Информация о порядке и условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из страны своевременно размещалась на сайтах правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, в том числе и на сайте ФСБ России, что способствовало оперативному информированию граждан о порядке пересечения границы в условиях карантинных ограничений.
Вместе с тем риски незаконного пересечения государственной границы не снижались. Предпринимались попытки проникновения в Российскую Федерацию членов террористических организаций, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке. На международных авиарейсах неоднократно выявлялись граждане, в отношении которых имелась информация об их участии в боевых действиях в составе незаконных вооруженных формирований либо приверженности к радикальным организациям. Фиксировались попытки въезда в нашу страну иностранных граждан с криминальным прошлым.
В условиях ограничений наметилась тенденция смещения маршрутов трудовой миграции с казахстанского на белорусское направление. На данном участке границы выявлено около 6,7 тысячи граждан третьих государств, что составляет более 45% от всех иностранцев, задержанных на государственной границе Российской Федерации. Основную часть из них составляли граждане стран постсоветского пространства, следовавшие в Россию с целью трудоустройства. Для въезда на территорию России трудовые мигранты нередко использовали различные ухищрения, в том числе фиктивные приглашения на лечение в российских медучреждениях, либо пытались въехать в качестве вторых водителей грузовых автомобилей и экспедиторов.
В 2020 году пограничными органами пресечено порядка 10 тысяч попыток незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан по недействительным медицинским приглашениям либо по чужим и поддельным водительским удостоверениям.
С целью сохранения здоровья сотрудников пограничных органов и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в ФСБ России были своевременно приняты меры по обеспечению личного состава средствами индивидуальной защиты. В плановом порядке осуществляется вакцинация личного состава.
– Продолжая эту тему: возможность трансграничного заноса в Россию новых инфекций отнесена к угрозам национальной безопасности нашей страны. Но первым барьером на пути таких "невидимых врагов" тоже оказываются пограничники. Принимает ли сейчас Погранслужба дополнительные меры по выявлению этих угроз и предупреждению их практического проявления? Как здесь организована работа с соответствующими структурами Минздрава, ФМБА, Роспотребнадзора, Минобороны?
– Как вам известно, в пунктах пропуска через государственную границу совместно с пограничными и таможенными органами работают сотрудники подразделений Роспотребнадзора, которые осуществляют санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия, выявляют в пассажиропотоке лиц с признаками заболевания, а также отслеживают санитарно-эпидемиологическую обстановку в сопредельных государствах. Непосредственно с этими подразделениями пограничники осуществляют самое тесное взаимодействие в интересах предупреждения распространения на территории России новой коронавирусной инфекции.
– Насколько на фоне эпидемиологических ограничений актуальна проблема, связанная с тем, что проживающие в Крыму граждане иногда скрывают факты выезда в страны дальнего зарубежья через территорию Украины по заграничным паспортам украинского же образца?
– Необходимо отметить, что в соответствии с российским законодательством выезд за рубеж, в том числе на территорию Украины, гражданами России осуществляется по действительным заграничным паспортам, выдаваемым уполномоченными государственными органами. Мы располагаем информацией, что отдельные граждане Российской Федерации, проживающие в Крыму, сохранили украинские паспорта и пользуются ими для выезда через территорию Украины в страны дальнего зарубежья, в том числе с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Это создает риски завоза на территорию Российской Федерации коронавирусной инфекции, включая ее новые штаммы. Вместе с тем по возвращении к постоянному месту жительства совместно с подразделениями Роспотребнадзора в отношении данной категории лиц наравне с иностранцами проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, что позволяет выявлять риски распространения COVID-19 на территории России. Таким образом, данные обстоятельства не являются в настоящее время серьезной проблемой.
– Российско-украинская граница по-прежнему не знает покоя. Еще свежа в памяти провокация, устроенная сопредельной стороной в Азовском море в конце 2018 года. Время от времени приходят сообщения о попытках проникновения из Украины в Россию разных лиц и с разными целями, в том числе террористическими, в обход пунктов пропуска. Можно ли говорить, что украинская сторона пытается проверить на прочность охрану границы со стороны России, чтобы потом устроить новую громкую провокацию? В целом как изменилась ситуация на границе с Украиной за минувший год?
– Обстановка на границе с Украиной остается напряженной. Наиболее динамично она развивается в Азовско-Черноморском регионе, что преимущественно обусловлено сохранением военной активности стран-членов Североатлантического альянса.
Сохранялись риски провокационных действий со стороны Украины в отношении российских объектов морской экономической деятельности и торгового флота в Черном и Азовском морях. В минувшем году подразделениями береговой охраны неоднократно пресекались попытки приближения кораблей и катеров ВМС и ГПС Украины к внешней границе территориального моря России и к районам нефтедобычи в Черном море.
Сохранялись предпосылки проведения провокаций украинскими националистами на сухопутном участке крымского направления. В частности, представителями запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа" планировалось проведение в мае 2020 года так называемого Марша достоинства с участием сторонников меджлиса, украинских националистических формирований и крымско-татарских диаспор третьих стран. Предпринимались попытки распространения украинскими националистами агитационных и пропагандистских материалов, в том числе с использованием воздушных шаров.
Необходимо также отметить, что нами продолжают фиксироваться случаи уклонения украинских партнеров от выполнения международных обязательств в части, касающейся предоставления сведений, необходимых для установления личности задержанных лиц за нарушение режима государственной границы из Украины в Россию, что не позволяет своевременно принять меры по привлечению их к ответственности.
– Наблюдают ли российские пограничники продолжение рытья рва на сопредельной украинской территории? Какова ваша как профессионала оценка этих работ? Со стороны это выглядит как пропагандистский ход Киева, а на самом деле – просто "закапывание" денег.
– С 2014 года мы наблюдаем за реализацией Украиной проекта "Европейский вал", в рамках которого наращивалось инженерно-техническое прикрытие российско-украинского участка государственной границы, включая установку сигнализационных комплексов, инженерных заграждений и сооружений, оборудование контрольно-следовых полос и рокадных дорог, а также возведение опорных пунктов и огневых позиций, в том числе для боевой техники.
В прошлом году украинской стороной активных строительных работ не проводилось, что, по всей видимости, связано с недостаточным финансированием проекта.
– Как сейчас обустроена российско-украинская сухопутная граница на участках соприкосновения с ДНР и ЛНР? Насколько она технически оснащена? Есть ли необходимость ее укрепления и оснащения новейшими средствами контроля с учетом дальнейшего обострения отношений между двумя странами?
– Правительством Российской Федерации на оснащение и обустройство государственной границы, в том числе и российско-украинского участка, ежегодно выделяются необходимые финансовые средства. Сухопутный участок российско-украинской границы оборудован в соответствии с установленными Пограничной службой ФСБ России требованиями к техническому прикрытию государственной границы, что позволяет осуществлять контроль за соблюдением административно-правовых режимов в ходе пограничной деятельности. Учитывая динамику развития обстановки на данном направлении, а также недружественные действия украинской стороны в отношении Российской Федерации, нами принимаются адекватные меры по укреплению и увеличению плотности охраны государственной границы, а также плановому наращиванию ее технического оснащения. В настоящий момент наши пограничные подразделения располагают всем необходимым для выполнения задач по охране государственной границы в мирное время и в случае обострения обстановки.
– Полностью ли оборудован и обеспечен необходимыми средствами связи, контроля, техникой, вооружением участок сухопутной границы России с Украиной в Крыму?
– Безусловно, крымский участок остается приоритетным по всем направлениям деятельности Пограничной службы ФСБ России. Нами приняты исчерпывающие меры по созданию современной пограничной инфраструктуры, позволяющей выявлять и нейтрализовывать все существующие и возможные угрозы в пограничной сфере. В настоящий момент по уровню обустроенности и оснащенности данный участок сухопутной границы России является одним из наиболее укрепленных. Именно здесь апробируются все новые и перспективные средства вооружения пограничной деятельности.
– Насколько надежно защищен Керченский (Крымский) мост с учетом многочисленных провокационных заявлений украинских радикалов о том, что они готовы его взорвать или нанести удар ракетами "Нептун"? Охрана моста находится исключительно в ведении Погранслужбы или осуществляется во взаимодействии с другими ведомствами (Минобороны, МЧС и другими)?
– Основная часть таких заявлений на Украине делается с популистскими целями и не предполагает конкретных действий по их реализации. Вместе с тем мы внимательно отслеживаем обстановку и оцениваем риски возможных провокаций или диверсий в районе транспортного перехода. Поэтому Крымский мост как стратегически важный объект, соединяющий полуостров с материковой частью страны, охраняется не только с моря, но и на суше, в воздушном пространстве и под водой. Для обеспечения безопасности транспортного перехода и энергомоста через Керченский пролив задействуются силы и средства Пограничной службы совместно с подразделениями Минобороны и Росгвардии, оснащенные самым современным вооружением и военной техникой для предупреждения и пресечения возможных провокаций.
– Есть ли планы увеличения количественного состава кораблей и катеров морской Погранслужбы в районе Керченского пролива с учетом планов Украины закупить в США и Великобритании корабли и катера для базирования в Мариуполе с целью противодействия "российской агрессии"?
– Активные антироссийские действия и эскалация напряженности в регионе используются Украиной как предлог для получения финансовой и военной помощи от США и ЕС в целях реформирования морской военной и пограничной инфраструктуры. Нам известно о поставках из США на Украину катеров, в основном отслуживших значительный срок службы, а также о контрактах на строительство Францией, Великобританией и другими странами НАТО новых катеров для украинской стороны. В настоящее время сил и средств подразделений береговой охраны достаточно для выполнения поставленных задач в Азово-Черноморском регионе. В случае формирования новых угроз количество кораблей и катеров будет увеличено в достаточно короткий срок.
– В какой мере оперативную обстановку на наших границах с Украиной осложняет возросшая активность стран НАТО: увеличение числа полетов иностранных самолетов-разведчиков в Черноморском регионе, заходы кораблей США в Черное море, в том числе для учений? Есть ли данные о том, что параллельно с такими действиями иностранные разведслужбы, используя современные технические средства, в том числе дроны, пытаются "вскрыть" особенности системы охраны государственной границы России не только в районе Черного моря, но и в других местах, определить оперативные возможности наших пограничников для действий в том или ином случае?
– Практически по всему периметру наших границ мы наблюдаем увеличение военной активности НАТО, которая сопровождается наращиванием интенсивности мероприятий оперативной подготовки войск альянса, а также осуществлением разведывательной деятельности, в том числе с использованием самолетов и беспилотных летательных аппаратов, оснащенных новейшими техническими средствами контроля наземной и надводной обстановки и позволяющих осуществлять пристальное наблюдение за российской территорией.
Наибольшее количество разведполетов вблизи Крымского полуострова отмечается в период нахождения кораблей стран – членов НАТО в акватории Черного моря и проведения военных учений альянса в регионе. Мы пристально отслеживаем недружественную деятельность западных партнеров у наших границ, которые направлены, прежде всего, на демонстрацию военной силы в целях сдерживания якобы "агрессивной политики России в регионе", и готовы к различным сценариям развития обстановки, включая предупреждение и пресечение провокаций на море, направленных на подрыв легитимности правовых режимов российских акваторий и демонстрацию пренебрежения суверенитета Российской Федерации.
Так, 13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря, воспользовавшись правом мирного прохода. На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды.
Увеличение количества полетов БПЛА также отмечается на сухопутном участке российско-украинской государственной границы. При содействии западных партнеров ГПСУ постоянно наращивает парк беспилотной авиации, используемой в пограничной деятельности. Украинской стороной активно изучается опыт применения турецких и израильских разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов для возможного задействования в зоне конфликта на юго-востоке страны.
Вторая часть интервью будет опубликована в пятницу, 28 мая.

Скука и ее причины
Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")
Международная политика обретает черты трагифарса, все более затейливого. Эпизод с самолетом, посаженным в Минске, - очередная мизансцена того же жанра. Подобная трансформация международных практик имеет разные последствия, одно из них - выхолащивание (вплоть до полной утраты смысла) политического экспертного диалога. Речь не о дипломатах, чиновниках или государственных деятелях, а именно о специалистах-международниках, дискуссии которых всегда сопровождали официальную линейку переговоров.
Традиционная точка зрения состоит в том, что даже в моменты самой безысходной конфронтации необходимо поддерживать разговор, чтобы понимать настрой друг друга и избегать худшего. В условиях сколько-нибудь упорядоченной международной политики так и есть. К сожалению, нам о таких условиях остается только мечтать. А когда внешнеполитические действия в быстро растущей степени определяются сиюминутными внутренними задачами, рациональное обсуждение возможностей разрядки становится почти невозможным.
Попытки, тем не менее, не прекращаются, организовать их стремятся по двум знакомым из недавнего прошлого моделям. Первая питается наследием периода непосредственно после холодной войны. Тогда считалось, что сотрудничество возможно только на основе определенного набора ценностей, соответствие которым и является критерием успеха. Это прежде всего европейский подход. Вторая, к которой тяготеют российские эксперты и часть американских, реанимирует схемы времен холодной войны. Какие бы ни были разногласия, есть общая ответственность двух сверхдержав за стратегическую стабильность, и поэтому надо находить сегменты плодотворного взаимодействия.
С первым все уже достаточно понятно. Разговор на идеологической основе был возможен (не синоним - продуктивен), когда все его участники признавали наличие универсальных принципов. В нашем общении с Западом это продолжалось (затухая) примерно до середины 2000-х годов. Потом началось все более явное разночтение, приведшее к полному идейно-политическому размежеванию в середине прошлого десятилетия.
Проблема нынешнего общения с Европой, например, заключается в том, что европейские собеседники по инерции следуют в этой колее, хотя никто уже не считает, что она куда-то приведет. Другого варианта не придумали и в обозримом будущем не придумают, поскольку, по крайней мере, с европейской стороны возможность переосмысления упирается в неразбериху внутри самого Евросоюза. Отсюда удивительная скудость ассортимента мер политики. Первой реакцией на любые трения является угроза санкций, а потом вокруг этой угрозы начинается хореография внутри ЕС, результатом которой, как правило, становятся символические меры. Символические, поскольку пойти на реальный пересмотр отношений в сторону признанной конфронтации мешают все еще довольно крупные экономические интересы и отсутствие консенсуса в Союзе. Примечательно, что скромность реальных мер стараются компенсировать наиболее вызывающей формой их подачи, что, говоря словами классиков, атмосферу тоже не озонирует.
Со вторым подходом несколько сложнее. Разумная часть политического истеблишмента, естественно, понимает, что некоторые темы требуют не идеологического, а сугубо прикладного подхода. И отношения в сфере ядерного оружия, а также других способов нанесения серьезного военного урона друг другу нуждаются в прагматике. На уровне военных здравое отношение сохранилось, но как только делается шаг в политическом направлении - гарантии нет. Даже когда профессионалы понимают важность обсуждения и знают, о чем его вести, внутриполитическое потрясения могут вмешаться в любой момент. В этом смысле всех переплюнула предшествующая администрация США. При ней едва ли не вся внешнеполитическая активность Вашингтона, в том числе в важнейшей стратегической сфере, была подчинена интересам внутренней борьбы. Нынешний Белый дом в этом плане более традиционен, что ему плюс, но угроза вторжения идеологических факторов туда, где они только мешают, не исчезает ни на секунду.
Диктат внутренних вопросов сказывается и на качестве экспертного или неформального диалога. Фигуры умолчания и обязательные мантры имелись всегда, но сейчас они вытесняют все остальное. Вплоть до того, что стирается различие между публичными и непубличными формами общения, а различия эти были всегда, и без определенной степени откровенности в кулуарах контакты становятся декоративными. Это, помимо прочего, продукт всеобщей экзальтации и поляризации позиций.
Все вышеописанное делает работу экспертов по налаживанию международных связей не только и не столько ненужной, сколько скучной. Все становится предсказуемо. Но это на западном направлении. Зато только сейчас начинает налаживаться реально содержательный разговор с китайскими коллегами (долгое время они не снимали маску вежливой лозунговости). Предметные вопросы обсуждаются на встречах с коллегами из Центральной Азии (свежий пример - центральноазиатская конференция клуба "Валдай" в Казани). Идет поиск тем и форм разговора с турками, представителями арабских стран, Восточной Азии. В этих контактах нет идеологической предзаданности, а есть желание достичь результата. С Западом мы к этому тоже придем. Но не сразу.

БАЙДЕН НЕ МОЖЕТ РЕШАТЬ, ЧТО СЧИТАТЬ «ДЕМОКРАТИЕЙ»
ИВАН КРАСТЕВ
Председатель Центра либеральных стратегий (г. София), ведущий научный сотрудник Института наук о человеке (г. Вена).
Прошедший год борьбы с пандемией сделал демократии и авторитарные режимы менее различимыми, чем прежде. Некоторые европейцы даже не уверены, что живут в демократии. Представление о том, что составляет демократическое управление, было искажено тем, что в умах людей царит страх и неопределённость. Новый авторитаризм выставляет себя не в качестве альтернативы демократии, а в качестве реальной демократии, где правит большинство.
Демократия лежит в нокдауне, но президент Байден говорит, что хочет дать достойный ответ. Он планирует созвать саммит демократий и мобилизовать широкую коалицию демократических правительств, чтобы сдержать дальнейшее усиление таких авторитарных держав, как Китай и Россия. Подобное решение выглядит разумным и находит отклик у прогрессивной части американских избирателей, поскольку многие американцы решительно настроены на то, чтобы исправить свою демократию, сделав её более справедливой и инклюзивной.
Но есть одна загвоздка: чтобы преуспеть в создании демократической коалиции против авторитарных держав, Соединённым Штатам нужно будет отказаться от своей монополии на определение демократий: какие страны следует считать «демократичными». Если они этого не сделают, то, в конце концов, получат коалицию, которая будет слишком ограниченной, чтобы служить стратегическим интересам Америки, либо которая выставит Вашингтон в крайне неприглядном свете, так что у него не получится оправдать своё лицемерие.
В докладе, опубликованном в марте, шведская исследовательская организация “V Dem” приходит к выводу, что «уровень демократии, имеющийся в распоряжении у среднестатистического жителя мира в 2020 г., упал до уровней 1990 года». По мнению V Dem, избранная автократия (политический режим, при котором демократия низводится до уровня ничем не сдерживаемой власти большинства) – сегодня наиболее распространённый тип правления. Яркими примерами являются Индия, Турция и Венгрия. Эти новые авторитарные режимы сильно отличаются от своих «родственников» времён холодной войны, которые часто были военизированными.
Однако они пересекают границы между демократией и авторитаризмом почти так же часто, как контрабандисты пересекают государственные границы.
Многие современные новые недемократии фактически являются бывшими демократиями. И во многих из этих стран граждане голосовали за авторитарных популистов именно в надежде сделать демократию работающей в их интересах. Люди, поддерживающие правительство в электоральных автократиях, таких как Индия и Венгрия, или электоральных демократиях, таких как Польша (страны, которые организации вроде “V Dem” или её американского прототипа “Freedom House” считают отступниками от демократических идеалов), будут настаивать, что живут в демократиях. По состоянию на январь процент индусов, доверявших премьер-министру Нарендре Моди, существенно превышал число американцев или европейцев, доверявших своим лидерам. Справедливости ради стоит отметить, что популярность г-на Моди существенно снизилась за последний месяц, когда COVID-19 катком прошёлся по Индии – во многом потому, что многие описывают действия правительства как самую вопиющую некомпетентность со времени обретения страной независимости.
Новый авторитаризм выставляет себя не в качестве альтернативы демократии, а в качестве реальной демократии, где правит большинство.
Концепция «отступления от демократии», которая так часто используется Государственным департаментом, ослепила многих в американском правительстве в отношении того, что простого континуума времён холодной войны с демократией на одном конце и авторитаризмом на другом конце уже недостаточно. «Отступничество» – понятие, введённое миссионерами для объяснения того, как недавно обращенные в христианство язычники «возвращаются к своим дохристианским обычаям и нравам» – скорее путает, чем что-то объясняет, поскольку для миссионеров отступники были хуже безбожников.
Либеральные демократии этого мира утратили монополию на определение того, что такое «демократия», не просто потому что новые авторитарные лидеры предъявляют все необходимые атрибуты демократии (они победили в результате свободных, хотя и не всегда честных выборов). Они её утратили также и потому, что, как показало исследование, недавно проведённое социологической организацией “Pew Research”, подавляющее большинство американцев и французов глубоко разочарованы своими политическими системами. Некоторые даже не уверены, что живут в демократии. Это также справедливо и для многих других европейских стран.
Что же случилось? Я подозреваю, что ответ отчасти следует искать в глобальном карантине и связанными с ним ограничениями, которые длятся уже год.
Представление о том, что составляет демократическое управление, было искажено тем, что в умах людей царит страх и неопределённость.
Прошедший год борьбы с пандемией во многих местах сделал демократии и авторитарные режимы менее различимыми, чем прежде. По типу режима невозможно предсказать, насколько хорошо или плохо государство будет реагировать на пандемию. Не только демократии типа Южной Кореи и Новой Зеландии, но и такие автократии, как Китай, успешно справляются с пандемией. По типу режима также нельзя предсказать, какие ограничения гражданских свобод введёт то или иное правительство или какую экономическую политику оно будет проводить. По словам политического философа Дэвида Рансимена, «при карантине демократии показывают, что у них общего с другими политическими режимами: здесь политика также нацелена на сохранение власти и порядка».
Стирание границ между демократиями и недемократиями имеет далеко идущие последствия, когда речь заходит о мировой политике. Если администрация Байдена будет руководствоваться рейтингами “Freedom House” или “V Dem”, то таким странам, как Индия, не место в этом альянсе. Однако, если Индия будет ориентирована на стратегические интересы Америки, тогда она обретёт важнейшее значение для любых попыток Запада сдерживать влияние Китая в Азии.
Так что у Вашингтона есть выбор. Ему придётся либо лицемерно притворяться, что ради сдерживания Китая страны, подобные Индии и Турции, должны считаться демократиями, либо риторически отсоединить свои усилия по сдерживанию Китая и России от попыток возрождения демократии в мире. Я предлагаю администрации Байдена избрать второй путь. В нашем мире, пропитанном социальными СМИ, лицемерие – главный порок. И, если легитимность демократических активистов исходит от их способности говорить правду власти, международная легитимность демократических правительств исходит из их способности говорить правду о власти.
The New York Times

Выход из лабиринта
Известный архитектор Даниэль Либескинд объединяет и Запад, и Восток
Текст: Жанна Васильева
Даниэль Либескинд - один из самых известных сегодня архитекторов мира - родился в Польше, учился в Израиле, США, Англии. Получил профессиональное образование как музыкант, архитектор и историк архитектуры. Здания по его проектам построены в Берлине и Варшаве, Манчестере и Нью-Йорке, Сеуле и Гонконге, Оттаве и Брюсселе, Милане и Торонто… Предложенный им проект победил в конкурсе на строительство нового Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и мемориального комплекса погибшим 11 сентября 2001 года.
Но, наверное, самые известные его проекты связаны с музеями. Это Еврейский музей в Берлине, Имперский военный музей в Манчестере, новое здание для Королевского музея провинции Онтарио в Торонто, Музей искусств в Денвере, США, Военно-исторический музей в Дрездене и, если говорить о недавних завершенных проектах, здание частного Музея современного искусства в Вильнюсе.
Если вспомнить, что именно Даниэль Либескинд создавал пространство легендарной выставки "Москва - Берлин" в Берлине, то приглашение его фактически как сокуратора в совместный проект Третьяковской галереи и Государственных художественных собраний Дрездена, Альбертинума "Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии", выглядит продолжением традиции. О том, почему он, словно Дедал, выстроил лабиринт в Новой Третьяковке, где для него границы компромисса и почему он воспринимает Малевича как архитектора, Даниэль Либескинд рассказал "РГ".
Мы живем в трудное время в прагматичном мире. Актуален ли романтизм сегодня?
Даниэль Либескинд: Поиск свободы, мечта о ней в современном мире заложены в эпоху романтизма. Возможно, XIX столетие - самое важное для нас. Этот век - ключ к тому, какими мы стали. Ключ к нам самим. Он соединил технологии, политику, нашу идентичность, открытие природы. Он создал фундамент современности.
Мистические пейзажи Каспара Фридриха, живопись Александра Иванова, работы Карла Маркса о революции появляются примерно в одно время. Каким образом, мы не совсем понимаем сегодня. Мы не понимаем, потому что мы - результат той романтической эпохи. Мы все из нее вышли. Поэтому мечты о свободе романтиков так отзываются в нашем сердце. Думаю, люди откроют для себя очень много нового, когда придут на выставку. Она фиксирует очень важный момент.
А для вас были ли открытия на этой выставке?
Даниэль Либескинд: По крайней мере, одно для меня стало потрясением. Здесь я обнаружил, насколько близки русские и немецкие романтики, русские и немецкие мыслители. Если не смотреть на этикетки, непросто догадаться, русским или немецким художником написан тот или иной пейзаж. Каким-то таинственным образом их миры были очень близки по духу: их мир, идеи свободы, переживания схожи.
И, конечно, очень сильное впечатление оставляет центр лабиринта, где рядом сконцентрированы работы Карла Густава Каруса, Каспара Давида Фридриха и Александра Иванова, Алексея Венецианова. Для меня откровением оказалась перекличка мотивов, тем, сюжетов в их живописи …
Романтики мечтали о свободе, безграничности пространства. Но для выставки вы создали лабиринт, в котором надо искать выход. Чем обусловлено такое архитектурное решение?
Даниэль Либескинд: На мой взгляд, свобода - отнюдь не широкий открытый проспект. Свобода всегда борьба. И в наше время, и во времена романтизма. Она труднодоступна. Ее нельзя купить. Напряжение, заложенное в архитектуре выставки, дает посетителю возможность выбора пути, шанс самому исследовать пространство экспозиции с ее темами и работами разных художников. Думаю, нет противоречия между сложным комплексом лабиринта и его разрезами, дарующими чувство свободы. Оно позволяет доминировать над лабиринтом, в котором вы оказались.
Новая Третьяковка на Крымском Валу - модернистское здание, несущее память о конструктивизме начала ХХ века. Внутрь вы помещаете выставочное пространство в традициях деконструктивизма. Это противопоставление важно для вас?
Даниэль Либескинд: Важно в том смысле, что мы живем в другую эру. Догма универсального конструктивизма, если так можно выразиться, превалировала в эпоху модернизма. Она во многом предопределила то, как мы сегодня видим пространство, движение, свет и залы музея. Вероятно, это неизбежный импульс - движение к контрастной противоположности в здании, проект которого был создан в середине ХХ века.
Вы и архитектор, и профессиональный музыкант. Гофман называл музыку самым романтическим из искусств, потому что она имеет дело с бесконечностью. Архитектура - искусство ограничений. Как в вас уживаются эти противоречия?
Даниэль Либескинд: Оказавшись в центре пересечения "разрезов" лабиринта, вы увидите, что в конце проходов нет ни картин, ни скульптур. Там пустая стена. Это своего рода выход за границы выставки, если угодно - обещание продолжения. Иначе говоря, экспозиция обладает тем свойством музыкальности, которое Гофман связал с бесконечностью. Взгляд через разрезы в лабиринте - это взгляд, который не блокируется преградой.
Но, конечно, музыка очень важна. Любопытно, что мы очень хорошо знаем, музыку и литературу XIX века, как русскую, так и немецкую, но значительно хуже знакомы с живописью того времени. Мне хотелось бы открыть заново искусство того времени для зрителей. Показать важность русской живописи и картин немецких романтиков, показать, как много у них общего в мечте о свободе, в жажде понять реальность. Это важно не только для понимания прошлого, но и для сегодняшнего дня.
По-вашему, архитектура - искусство компромисса. А где границы этого компромисса?
Даниэль Либескинд: Если вы живете в демократическом обществе, вы должны идти на компромисс, потому что должны учитывать чужую точку зрения, не только свою. Это неизбежно. При создании архитектурного проекта, вообще чего-то значимого, должно быть ощущение целостности, единства проекта. И даже идя на компромисс, вы должны суметь сделать то, что считаете важным. Речь не о том, чтобы действовать, как персонаж в посредственной комедии положений. В этой несовершенной системе взаимовлияний разных мнений вы все равно несете ответственность - за создание проекта, который отвечает вашему замыслу.
Тут нет противоречия. Вы можете написать для себя музыкальное произведение, картину, стихотворение. Но в случае архитектуры вы имеете дело с публичным пространством. Даже если речь о частном доме, который виден с улицы. Поэтому изначально архитектура - политическое искусство. Греческое слово означает "права граждан". Архитектура - единственное искусство, которое является подлинно политическим, потому что основано на публичности. Поэтому она фантастически интересна и сложна.
Для вас важны ощущения человека внутри пространства, которое вы выстраиваете. Как соотносятся внутренний мир и внешний?
Даниэль Либескинд: Не думаю, что есть четкая линия раздела между внутренним и внешним миром. Мы не можем провести ее внутри нашей головы. Все связано - внутренний мир и внешний. Мы уже в мире. Это целостный мир. В этом мой подход как архитектора. Речь не о том, чтобы создать что-то для внутреннего или внешнего мира.
Вы создавали пространства для многих музеев. Что важнее всего для отношений музея, города, посетителей?
Даниэль Либескинд: Музеи глубинно связаны с творчеством. Именно потому, что у людей есть потребность в творчестве, они хотят видеть, узнавать, понимать новое. Музеи дают такую возможность. Но именно поэтому музеи не сводятся к общей формуле: все разложить по коробочкам и разделам. Речь о соответствии духу музея. Слово "музей" в греческом происходит от слова "музы". Мать муз - Мнемозина. Память - матерь муз. Для меня хороший музей - тот, который хранит память об этой давней связи с музами. В пространстве архитектуры, в свете здания что-то должно вдохновлять посетителей увидеть мир заново - как фантастически удивительное место, в котором нам дано жить.
Вы жили в трех разных странах - Польше, Германии, США. Вы чувствуете себя гражданином мира или для вас важно ощущение глубокой связи с традицией?
Даниэль Либескинд: Я не верю, что корни традиции - в почве, границах или крови. Мы принадлежим миру. Мы не выбираем, где нам родиться. В один прекрасный момент мы обнаруживаем себя в мире. И в этом красота мира. В этом смысле мы всегда в процессе перехода - из одного мира в другой. И - из одного места в другое. В этом движении пишется история человечества.
Мир - это дом. Вы можете найти его где угодно с другими людьми, разделяя любовь к семье, к месту, к будущему, к детям. Мы все здесь ограниченное время. Мы все путники. Мы не обладаем этим миром. Корни - это мистическая вещь. Корни человечества скорее духовные. И будущее человечества, вероятно, не сводится к разделительным линиям на контурной карте.
Конечно, мы испытываем глубокие чувства к месту, где родились. Я родился в Польше, польский был моим языком в детстве. И, конечно, я сохраняю к Польше привязанность. Вы рождаетесь и становитесь итальянцем, американцем, русским, немцем, поляком, евреем. Но, несмотря на все, что нас отличает друг от друга, люди связаны друг с другом. И, на мой взгляд, более важная вещь - солидарность с людьми во всем мире.
Актуальный сюжет
О русской традиции и "гении места".
Если говорить о "гении места", то какие ассоциации у вас связаны с Москвой?
Даниэль Либескинд: Москва - один из немногих знаковых городов мира, интересный, запоминающийся, полный жизни и богатый традициями. Это не просто комплекс отдельных замечательных зданий, этот город - единая ткань истории. Лет десять назад, на короткое время оказавшись в Москве, я пошел смотреть иконы Рублева. Быть в Москве и не увидеть Рублева - это невозможно.
Чем вас привлекает русская культура?
Даниэль Либескинд: С детства я люблю Пушкина. Я даже купил полное собрание сочинений Пушкина на русском. Мои родители говорили по-русски. В детстве я мог неплохо читать по-русски. Даже сегодня я могу сравнивать переводы Пушкина на английский с русским текстом. "Евгений Онегин" - одно из любимых произведений.
В целом русская литература, русская музыка, русская искусство и архитектура повлияли на меня очень основательно. Не думаю, что я был бы тем, кем я являюсь, если бы не был частью мира этой культуры.
Вы имеете в виду русскую архитектуру?
Даниэль Либескинд: Я считаю, что живописцы тоже могут быть архитекторами. Малевич, например. В России искусство, философия, архитектура всегда существовали в единой взаимосвязи. Они не были лишь отдельными дисциплинами. Все вместе они говорили о жизни. И в этом сила русской традиции - страсть к "живой жизни". На меня это оказало огромное влияние.

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ НОВОГО КОНЦЕРТА ДЕРЖАВ
Нику Попеску, Директор программы Wider Europe Европейского совета по международным отношениям.
Алан Александрофф, Директор Global Summitry Project, сопредседатель диалога «Китай – Запад», преподаёт в Школе глобальных отношений и государственной политики Мунка, Университет Торонто.
Колин Брэдфорд, Приглашённый старший научный сотрудник Института Брукингса, сопредседатель диалога «Китай – Запад», сотрудник Global Solutions Initiative в Берлине.
Ричард Хаас, Президент Совета по международным отношениям.
Чарльз Капчан, Старший научный сотрудник Совет по международным отношениям, профессор мировой политики факультета внешней службы и государственного управления Джорджтаунского университета.
СТАРОЕ СРЕДСТВО НЕ ПОМОЖЕТ НЫНЕШНЕМУ ПРОБЛЕМНОМУ МИРОПОРЯДКУ
Придерживаться статус-кво или перекраивать существующие институты – не лучший вариант в условиях нарастающего соперничества великих держав и сворачивания международного сотрудничества. Если новый концерт держав так и не возникнет, наиболее вероятным результатом станет либо никем не управляемый мир, либо возврат к сферам влияния.
Прошлое не всегда является прологом
Нику Попеску
В глобальной политике сегодня царит сумбур, поэтому привлекает мысль обратиться к истории, чтобы найти способы навести порядок, как недавно предложили Ричард Хаас и Чарльз Капчан в статье «Новый концерт держав». Но стоит быть осторожным, извлекая из истории уроки. Хаас и Капчан утверждают, что Европейский концерт XIX века – модель регулирования отношений великих держав, позволяющая избежать крупных войн и сбалансировать нестабильность в мире. Это важные цели, но Европейский концерт в итоге не смог их достичь. То же самое случится с любой новой аналогичной организацией.
В 1815 г. Австрия, Франция, Пруссия, Россия и Великобритания основали концерт, призванный поддерживать их власть и стабилизировать ситуацию на континенте, измученном войнами и революционными восстаниями. Период существования концерта иногда называют золотым веком дипломатии – дипломаты и государственные деятели демонстрировали взаимное уважение, поддерживали баланс сил, старались не вторгаться в сферы влияния друг друга, а войне предпочитали совместные выезды в оперу и поздние дискуссии за стаканом виски с сигарами.
Это ошибочное представление. Европейский концерт базировался на идее, что несколько великих держав могут управлять миром. На самом деле концерту не удалось ни предотвратить войны между его членами, ни сохранить баланс сил на протяжении длительного времени.
Его достижения оказались краткосрочными, а ошибки – катастрофическими.
Хаас и Капчан утверждают: концерт продемонстрировал, что «находящаяся у руля группа ведущих стран в состоянии сдерживать геополитическое и идеологическое соперничество, которое характерно для многополярности», а подходы концерта к государственному управлению и кризисам представляли собой «важные инновации», которые помогли «сохранить мир в многополярном мире». Но мирная фаза «Европейского концерта» составила всего 38 лет – от Венского конгресса 1815 г. до начала Крымской войны в 1853 году. В этот период не было войн между членами концерта, но они участвовали в различных военных конфликтах, революциях и вооружённых интервенциях.
38 лет относительного мира вряд ли можно считать золотым веком. Для сравнения: холодная война, другой вариант недопущения конфликта великих держав, позволяла избегать прямой войны между Советским Союзом и США на протяжении 43 лет. Однако немногие захотят вернуться к такому мироустройству. После окончания холодной войны пошёл уже 32-й год, и если Китаю, России и Соединённым Штатам удастся избежать войны ещё шесть лет, нынешняя изношенная международная система сравняется с Европейским концертом по показателю предотвращения войн между великими державами.
То, что произошло после относительно мирной фазы концерта, также дискредитирует его как модель. В 1853 г. Европа погрузилась в столетие войн между участниками концерта. Сначала Франция и Великобритания вступили в войну с Россией, которая атаковала Турцию. Затем в 1866 г. Пруссия сошлась на поле боя с Австро-Венгрией, и, наконец, в 1870 и 1871 гг. Франция воевала с Германией, в итоге проиграла, что нарушило хрупкое равновесие на континенте.
Все эти войны были обусловлены тем, что Европейский концерт не выполнил свою главную задачу – не обеспечил баланс сил. Начиная с 1850-х гг. Пруссия приступила к укреплению армии и принялась развязывать войны с соседями. Концерт не предвидел такого развития событий и не смог его предотвратить, фактически подтолкнув континент к череде конфликтов, продолжавшихся почти столетие, а кульминацией стали две мировые войны. В результате система концерта потребовала войны, а не тихой дипломатии, чтобы восстановить баланс сил. Даже в первые десятилетия существования концерта, когда превалировал мир, дипломатия работала только потому, что постоянно присутствовала угроза войны между участниками концерта, дипломатам приходилось прикладывать усилия, чтобы сдерживать эту угрозу.
Хаас и Капчан говорят, что новая многосторонняя организация, аналогичная Европейскому концерту, сможет справиться с вызовами современного турбулентного миропорядка. Но подумайте о сложностях, с которыми столкнулась бы подобная группа, реагируя на кризисы, которые мир пережил в последние годы. Если бы новый концерт, предлагаемый Хаасом и Капчаном, существовал в 2014 г., когда Россия направила свои войска на Украину, вряд ли Китай присоединился бы к антироссийским санкциям США и ЕС, не говоря уже о том, чтобы угрожать Москве в военном плане. В 2015 г., после того как Турция сбила российский самолет, трудно представить, что США и ЕС выступили бы на стороне России, поставив солидарность великих держав выше единства НАТО.
Даже если бы предлагаемый Хаасом и Капчаном концерт всё-таки был создан, он бы долго не просуществовал – развалилась бы либо западная система альянсов, включая НАТО и ЕС, либо сам новый концерт.
Кроме того, система концерта абсолютно не подходит для эпохи ядерного оружия. Дипломатия Европейского концерта сработала несколько раз – например, сдержав посягательства России на Османскую империю, – из-за постоянной угрозы, что несколько участников концерта объединятся и атакуют оппонента. Но в современной версии концерта, когда все его члены являются ядерными державами, вероятность этого значительно меньше из-за фактора ядерного сдерживания, соответственно, вряд ли любой участник концерта будет угрожать войной своему визави, потому что это будет равноценно катастрофе. В отсутствие призрака войны у нового концерта будет гораздо меньше стимулов искать дипломатические способы урегулирования разногласий.
Хаас и Капчан справедливо отмечают нарастающую опасность соперничества великих держав, которое может привести к войне. Но не стоит забывать, что Европейский концерт не был золотым веком отношений великих держав. Концерт строился на готовности этих держав развязать войну против любого оппонента в случае провала дипломатии. На смену концерту пришло разрушительное столетие, и появление новой организации, созданной по его подобию, может привести к аналогичному результату.
Нику Попеску, директор программы Wider Europe Европейского совета по международным отношениям
Алан Александрофф и Колин Брэдфорд
В недавней статье «Новый концерт держав» Ричард Хаас и Чарльз Капчан прямо признают ряд фактов, которые многие эксперты по глобальной политике склонны игнорировать: трения между ведущими державами являются доминирующей тенденцией в международных отношениях. Китай сегодня становится ровней Соединённым Штатам по многим аспектам, а западные ценности, сформировавшие эпоху после Второй мировой войны, уже не доминируют в современном многообразном и многополярном мире.
Ответ Хааса и Капчана – «руководящая группа великих держав», или глобальный концерт держав. Подобная организация, полагают они, «лучший вариант для управления интегрированным миром, где больше нет гегемона». В группу должны войти Китай, Индия, Япония, Россия, США и Евросоюз. Авторы утверждают, что организация будет более гибкой, чем существующие международные институты, и сможет быстрее и лучше справляться с геополитическими и идеологическими разногласиями.
Хаас и Капчан описывают, как сказали бы теоретики международных отношений и торговые эксперты, систему многостороннего управления (plurilateralism) – нечто среднее между биполярностью и многополярностью, когда небольшое количество государств объединяются, чтобы продвигать конкретный вопрос. При определённых обстоятельствах подобная многосторонность более эффективна, чем её альтернативы. Она даёт возможность для инклюзивного глобального лидерства и позволяет избежать какофонии голосов и мнений, характерной для многополярности. Однако такая система работает лучше не отдельно, а как составная часть более широкой организационной структуры, в которой группы влиятельных держав создают постоянно меняющиеся коалиции на базе консенсуса, чтобы обеспечить коллективное управление в определённые моменты и по определённым вопросам. В таких крупных многосторонних структурах, как G20, подобная динамичность помогает странам избежать жёстких блоков, которые душат соглашения и выхолащивают политику.
Предлагаемому Хаасом и Капчаном концерту будет трудно воспроизвести такую систему. В комнате просто будет недостаточно игроков. Представим, к примеру, как трудно придётся Индии и Японии разрешать застарелые разногласия с Китаем, Россией, да ещё в условиях неоднозначных отношений ряда участников с США и Европой. Лучший способ решать обозначенные Хаасом и Капчаном проблемы – действовать на базе существующих институтов, прежде всего G20. Это достаточно крупная организация, чтобы обеспечить государствам пространство для манёвра в сложных переговорах или при посредничестве между ведущими державами. Получив необходимые полномочия, G20 поможет избежать тупиковых ситуаций, укрепить доверие и уважение, а также добиться прогресса по сложным вопросам.
В условиях нынешней геополитической напряжённости ведущие державы вряд ли смогут создать новый глобальный институт, который предлагают Хаас и Капчан, особенно если приоритет в нём должны получить лишь шесть крупных игроков.
Из всех возможных вариантов G20 – лучшая возможность урегулировать геополитические разногласия и управлять глобальной экономикой.
G20 – неформальная и достаточно гибкая организация, чтобы приспособиться к идеологическому разнообразию, что, по мнению Хааса и Капчана, необходимо для сдерживания соперничества великих держав. За столом собраны нужные действующие лица. Плюралистичное лидерство в рамках G20 – жизненно необходимо участие Китая – потребует учитывать разнообразные интересы, перспективы и факторы давления при решении насущных вопросов. G20 более всеобъемлющая организация, чем полагают Хаас и Капчан, и предусматривает министерские встречи по широкому спектру вопросов. Так, до следующего полноценного саммита, намеченного на ноябрь, запланированы одиннадцать встреч. G20 организует официальные рабочие группы по наиболее острым проблемам энергетики, здравоохранения, инфраструктуры и цифровой экономики. К работе привлекают представителей частного сектора, профсоюзов, гражданского общества, молодёжных организаций, научного сообщества и аналитических центров.
Хаас и Капчан отмечают нерегулярность работы G20, но на самом деле это не только саммиты, но и постоянные мероприятия и переговоры, в которых участвуют сотни официальных лиц и лидеры общественного мнения. Особое значение имеет деятельность так называемых шерп, которые представляют национальных лидеров и встречаются регулярно, чтобы сформировать повестку саммитов и согласовать финальные декларации и коммюнике.
Тем не менее Хаас и Капчан справедливо отмечают, что G20 может стать более сильным институтом. Одна из главных уязвимостей группы – отсутствие связи с гражданами стран-членов. G20 практически не занимается коммуникацией – редко объясняет значение совей работы, влияние реализуемой политики и взаимосвязь между мероприятиями группы и тем, что происходит в странах-членах. Если G20 всё же обращается к публике, то в основном ориентируется на финансовую, торговую, деловую и политическую элиту, а не общество в широком смысле. В результате декларации группы переполнены технократическим жаргоном и поэтому непонятны рядовым гражданам.
Чтобы преодолеть эти и другие проблемы, требуются институциональные изменения. На саммитах основное внимание должно быть сосредоточено на системных и долгосрочных вопросах, беспокоящих общество, а детали можно оставить министрам. Шерпы должны выносить эти вопросы на повестку. А министры G20 – иметь право прорабатывать совместный план действий по актуальным вопросам, например, глобального здравоохранения или финансовой стабильности. При этом они должны взаимодействовать с лидерами, но не ждать их. В G20 существует и проблема реализации: страна-хозяйка меняется каждый год, поэтому трудно координировать имплементацию конкретной политики. Небольшой, но работающий на постоянной основе секретариат решил бы эту проблему, контролируя реализацию от начала до конца и затем донося результаты работы до публики.
Самое главное, чтобы действовать как глобальный концерт, G20 нужно не только изменить рабочие процессы. Вместо того чтобы ограничивать себя экономическими, социальными и экологическими проблемами, группа должна функционировать как форум глав государств, министров иностранных дел и обороны и других официальных лиц, которые смогут обсуждать стратегические вопросы и политическую безопасность. Периодически G20 поднимает эти вопросы, но это скорее исключение, чем правило. Расширив свою роль, G20 превратится в ключевую площадку для урегулирования геополитических разногласий.
Система многостороннего управления может сработать. Меняющиеся коалиции ослабят напряжённость, обеспечат взаимоуважение и проложат путь к решению важнейших вопросов. Именно эти атрибуты, как отмечают Хаас и Капчан, необходимы глобальным институтам, чтобы не допустить биполярного соперничества Китая и США. При правильном подходе, реформах, сосредоточенности на вопросах безопасности и включении Китая в руководящую группу, G20 может стать моделью плюрилатерализма – и тогда не придётся создавать с нуля новый глобальный концерт.
Алан Александрофф, директор Global Summitry Project, сопредседатель диалога «Китай – Запад», преподаёт в Школе глобальных отношений и государственной политики Мунка, Университет Торонто
Колин Брэдфорд, приглашённый старший научный сотрудник Института Брукингса, сопредседатель диалога «Китай – Запад», сотрудник Global Solutions Initiative в Берлине
Ответ Хааса и Капчана
Наше предложение создать глобальный концерт вызвало активную дискуссию, отражающую интерес к свежим идеям о международном порядке в эпоху возобновления соперничества великих держав, идеологического разнообразия, формирующейся многополярности и технологического динамизма. Мы обратились к Европейскому концерту как к историческому примеру, так как ему удавалось сохранять мир между пятью ведущими державами посредством диалога и консенсуса, несмотря на различия в подходах и целях.
Нику Попеску прав, отмечая, что концерт XIX века давал привилегированные права и обязанности крупных государств за счёт более слабых. Но в этом и есть суть. Руководящие группы великих держав работают потому, что за столом переговоров именно те государства, которые должны там быть. Попеску также прав в том, что «мирная фаза» концерта длилась всего 38 лет, он не смог предотвратить Крымскую войну и конфликты, обусловленные объединением Германии. Но мы ищем лучший подход к управлению многополярным миром, а не вечный мир.
Если новому глобальному концерту удастся предотвратить крупную войну, урегулировать трения между великими державами и продвигать даже ограниченное сотрудничество по региональным и глобальным вопросам в период до 2060 года, мы будем искренне рады.
Попеску также утверждает, что включение Китая и России в глобальный концерт поставит крест на его эффективности или приведёт к коллапсу западной системы альянсов. Учитывая склонность Пекина и Москвы к агрессивному поведению, отмечает он, Соединённым Штатам в итоге придётся выбирать: отказываться от концерта или расставаться со своими демократическими союзниками. Но это ложный выбор. Новый концерт не заменит, а станет дополнительной опорой существующей международной архитектуры. Американоцентричная сеть альянсов сохранится. США и их демократические партнёры, то есть четыре из шести предполагаемых участников концерта, постараются, чтобы новая группа предотвратила или сгладила разногласия с Китаем и Россией, а не приспособилась к актам агрессии.
Во взаимозависимом мире, где Китай при поддержке России становится равноправным конкурентом Америки, кооперация вопреки идеологическим различиям необходима. Конечно, поиск точек соприкосновения с Пекином и Москвой по таким вопросам, как геополитическая стабильность, кибербезопасность, глобальное здравоохранение и изменение климата, будет трудным и может не оправдать ожиданий. Но если не попытаться и даже не надеяться на то, что статус-кво трансформируется в нечто более стабильное, это фактически гарантирует более опасный и беспорядочный мир.
В отличие от Попеску, Алан Александрофф и Колин Брэдфорд признают необходимость новых подходов к регулированию отношений великих держав в многополярном мире. Они согласны с нашим призывом к неформальному объединению крупных держав для решения актуальных вопросов, но полагают, что G20 – более подходящая площадка, поскольку включает двадцать, а не шесть стран. Чем больше, тем лучше, утверждают они, потому что более широкое представительство «обеспечит государствам пространство для манёвра в сложных переговорах или при посредничестве между ведущими державами».
Мы не видим в этом логики. Объединение двадцати стран более громоздкое. Практически всегда существует обратная зависимость между инклюзивностью и эффективностью. Неслучайно небольшие форматы – шестисторонние переговоры по Северной Корее, ядерные переговоры с Ираном по формуле «P5+1», «нормандский формат» по Украине, состоящий из четырёх участников – предпочтительные механизмы сегодняшней дипломатии. G20 – важная площадка для дискуссий, но даже с учётом рекомендаций Александроффа и Брэдфорда по институциональному реформированию трудно представить, что это объединение станет руководящей группой, решающей ключевые проблемы мира. G20 обладает ценностью при координации политики по экономическим, социальным и экологическим вопросам, но она всегда воздерживалась от решения проблем безопасности. Из-за своего размера и многообразия группа не подходит для рассмотрения актуальных геополитических вопросов. Имеет смысл создать глобальный концерт из шести ключевых стран-участниц и, как мы предлагаем, при необходимости привлекать других акторов.
Как мы отмечали в статье, наше предложение создать глобальный концерт имеет свои недостатки и ограничения. Тем не менее придерживаться статус-кво или перекраивать существующие институты – не лучший вариант в условиях нарастающего соперничества великих держав и сворачивания международного сотрудничества. Если руководящая группа великих держав так и не возникнет, наиболее вероятным результатом станет либо никем не управляемый мир, либо возврат к сферам влияния. При таком исходе организовать коллективные усилия по решению глобальных проблем станет ещё сложнее, чем сейчас.
Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям, автор книги The World: A Brief Introduction
Чарльз Капчан, профессор международных отношений Джорджтаунского университета, автор книги Isolationism: A History of America’s Efforts to Shield Itself from the World
Foreign Affairs

Комментарий Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова для СМИ по итогам переговоров с Государственным секретарем США Э.Блинкеном, Рейкьявик, 19 мая 2021 года
Как вы видите, мы проговорили больше, чем планировали. Беседа показалась мне конструктивной. Есть понимание необходимости преодолеть нездоровую ситуацию, которая сложилась в отношениях между Москвой и Вашингтоном в предыдущие годы. «Завалов» очень много. Разгребать их непросто. Почувствовал у Э.Блинкена и его команды нацеленность на то, чтобы это сделать. За нами дело не станет. Как не раз подчеркивал Президент России В.В.Путин, на основе равноправия, взаимного уважения, поиска баланса интересов готовы рассматривать и решать любые вопросы, стоящие на нашей двусторонней повестке дня, и в том, что касается региональных и глобальных проблем, конфликтов, кризисов.
Затронули тему дипломатических «присутствий» России в США и США в России. «Порочный круг» ударов был начат бывшим президентом США Б.Обамой. Когда он уходил из Белого дома, по сути рейдерскими захватами конфисковали нашу дипломатическую собственность в США, выгнали российских дипломатов с семьями в неподобающей, грубой манере. Мы долго терпели. Думали, что новая администрация Д.Трампа пересмотрит эти решения. Этого не произошло. Напротив, в 2017 г. США приняли новые антироссийские, антидипломатические решения. Тогда уже были вынуждены отвечать. Эта цепная реакция никого не устраивает. Почувствовал сегодня у американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения для наших президентов по этим вопросам и по развитию диалога по стратегической стабильности – это ключевая задача, о решении которой волнуется большинство государств в международном сообществе. Это обязанность России и США как крупнейших ядерных держав. Подтвердили наше предложение начать диалог, рассматривая все факторы, влияющие на стратегическую стабильность: ядерные, неядерные, наступательные, оборонительные. Не увидел отказа от такой концепции, но экспертам предстоит над этим еще поработать.
Договорились продолжать совместные действия, достаточно успешно развивающиеся, по региональным конфликтам, где интересы России и США совпадают: ядерная проблема Корейского полуострова; ситуация с усилиями по восстановлению СВПД по иранской ядерной программе; Афганистан, где активно работает расширенная «тройка» в составе России, Китая, США и Пакистана. Говорили о том, как на данном этапе можем сделать более эффективными все наши совместные действия.
Считаю, что это был очень полезный разговор. Будем докладывать нашим президентам. Встреча состоялась по итогам телефонной беседы В.В.Путина и Дж.Байдена в апреле с.г. Надеюсь, они определят дальнейшие пути общих усилий по исправлению явно нездоровой ситуации в двусторонних отношениях.
Вопрос: А Россия дала добро на саммит?
С.В.Лавров: Мы не таможня, чтобы «давать добро».

Станислав Смагин: Украина, как и прежде, обладает достаточно скромной субъектностью в определении собственной судьбыИнтервью
Очередное обострение российско-украинских отношений — самое значительное после событий 2014 года — совершенно обоснованно можно рассматривать в контексте последних трендов глобального рынка энергоносителей.
К прежним линиям напряженности вокруг украинского газового транзита и проекта «Северный поток-2» добавляются амбиции Турции по превращению в крупный энергетический хаб, стремление Катара резко нарастить мощности по производству СПГ, приход к власти в США Джо Байдена, чья семья имеет давние газовые интересы на Украине, и другие события последних месяцев. Как и прежде, Украина среди всех вовлеченных в конфликт стран обладает наименьшей политической субъектностью, но упорно придерживается прежней линии: главное — как можно громче заявить о себе. О том, как связаны между собой старые и новые аспекты этого сюжета, в интервью «Нефти и Капиталу» рассказал Станислав Смагин, специализирующийся на российско-украинской проблематике политолог, редактор портала Politema.ru.
«НиК»: В какой степени динамика конфликта на Донбассе определяется продвижением «Северного потока-2» и санкционных усилий в его отношении? Может ли СП-2 оказаться той разменной картой, которая позволит достичь хотя бы худого мира с Украиной?
— СП-2, на мой взгляд, является крайне важным, но не главным фактором, определяющим содержание и динамику конфликта. Скажем, для Трампа, человека делового склада характера, к тому же крепко связанного с американским топливно-энергетическим лобби, СП-2 был неприятен не с точки зрения ценностей, идеологии и даже абстрактно взятой геополитики, а как угроза и конкурент сжиженному газу Мade in USA. Соответственно, и свою борьбу с проектом он вел исходя из этого. Для Байдена, или, точнее сказать, «коллективного Байдена», вопрос стоит по-другому: СП-2 противен идеологически и геополитически, а как угроза американскому газу — ну, постольку поскольку. Поэтому продолжаю придерживаться мнения, что за некую запредельно огромную цену Вашингтон даст добро на достройку и последующее функционирование газопровода — возможно, в увязке с украинской «корзиной».
Но есть еще одна любопытная коллизия. До поры до времени Германия выступала в роли единомышленницы РФ по вопросу «Потока». Однако сейчас — возможно, на уровне даже не закулисных договоренностей, а невербального совпадения мыслей — мне кажется вероятной новая смычка. Злые — и в кавычках, и без кавычек — США выставляют суровый «ценник» и Москве, и Берлину, а немцы, показывая, как тяжело им сопротивляться давлению (и правда тяжело), вешают на Россию свою часть издержек. В частности, по энергетическому обеспечению Украины после запуска СП-2 — этот момент американцы включают в качестве минимально возможных условий, без которых любое обсуждение можно и не начинать.
«НиК»: Насколько вообще СП-2 сохраняет свою стратегическую значимость в нынешних реалиях? Или же его завершение — это сугубо вопрос престижа для российской элиты?
— Главный вопрос заключается в пределе, за которым российский правящий класс при серьезных экономических проблемах и понимании, что СП-2 — это давно уже про репутацию и красивую вывеску, а не про доходы, может плюнуть и отказаться от проекта. Для США такой поворот не критичен и вполне допустим, хотя для Германии, стремящейся к диверсификации своего энергетического рынка, крайне неприятен. Но в Берлине наверняка понимают, что беспроигрышных вариантов завершения эпопеи нет. Все сценарии чреваты издержками, рисками либо тем и другим одновременно.
«НиК»: В какой степени газовая и энергетическая тема определяет внутреннюю текущую динамику украинской политики? Можно ли рассматривать действия Зеленского на донбасском и крымском направлениях как некую попытку отвлечь внимание общественности и радикалов от критической ситуации в энергетике как в части плачевного состояния инфраструктуры, так и в плане резкого повышения тарифов для населения?
— Эта тема важна для украинской внутренней политики, и хороших новостей по ней, как и по другим социально-экономическим отраслям, мало. Собственно, здесь кроется одна из причин, по которым Владимир Зеленский и его круг вполне допускают «маленькую победоносную войну». Она может оказаться отличным способом сбросить внутреннее социально-экономическое напряжение, в очередной раз утилизировать национал-радикалов на фронте, а заодно и выставить Зеленского главным украинским националистом. Кроме того, таким образом украинский президент стремится завоевать расположение «коллективного Байдена». Ведь само президентство Зеленского и формирование им административно-правительственных структур было результатом сложных компромиссов и отстройки балансов между командой Трампа и ее демократическими оппонентами, причем у трампистов как на тот момент «партии власти» имелось в этой конфигурации преимущество. Соответственно, дальнейшее ужесточение внутриамериканской борьбы непосредственно сказывалось на «игре престолов» внутри Украины, а украинские дела разных американских «престолов» на Украине в свою очередь проецировались на внутриамериканскую повестку.
«НиК»: Как со всем этим могут быть связаны газовые интересы семьи Байдена на Украине? Где в этом сюжете проходит граница между конспирологией и реальными проектами по добыче газа с участием американских инвесторов? Есть ли у них сейчас интерес к активизации этих проектов?
— Сланцевый газ Украины, семья Байденов и компания Burisma — это, конечно, не конспирология, хотя тему затрепали и мифологизировали до степени превращения ее в некий мем. И проекты есть, и живой американский интерес. Недавно начата добыча сланцевого газа под Славянском, что вызвало протесты экологов и общественных активистов на территории Донбасса, находящейся под украинской юрисдикцией. Но, полагаю, сейчас для Байдена (уже не коллективного, а конкретного) и его семьи чуть приоритетнее нейтрализация информационного выхлопа от предыдущих украинских приключений. Развить бизнес-достижения они успеют.
Тем не менее демократы ставят в вину Зеленскому-то, что именно при нем, пусть и не по его прямой инициативе, появился компромат на Джо Байдена и его сына Хантера относительно их украинских коррупционно-политических махинаций. Не добавил Зеленскому очков от демократов и его осторожный публичный нейтралитет (надо признать, довольно обоснованный) во время президентской гонки в США.
Рождавшийся в долгих муках телефонный звонок Байдена киевскому коллеге лишний раз подчеркнул, что украинский статус американского вассала отнюдь не равен одобрению и горячей поддержке персонально Зеленского.
Следовательно, есть нужда в потеплении. И тот факт, что звонок все же состоялся, служит намеком и демонстрацией «дорожной карты». Одним словом, Украина, как и прежде, обладает достаточно скромной субъектностью в определении собственной судьбы.
«НиК»: Насколько сказанное вами о новой специфике отношения Евросоюза к Украине проецируется на их отношения в сфере энергетики? Доволен ли Евросоюз тем, как на Украине идет реализация его указаний по поводу реформирования газовой отрасли и электроэнергетики?
— Украинская власть выполняет рекомендации европейских структур по отраслевым реформам и отладке институтов непоследовательно, путано, а часто имитационно и в духе карго-культа. Впрочем, в большинстве восточноевропейских и постсоветских стран институты, выстроенные по западным лекалам, служат инструментом или вообще драпировкой подчинения этих стран тем или иным западным «партнерам» на фоне всамделишной деиндустриализации, хозяйственно-экономического упрощения и развала социального государства. Негативную, разрушительную часть работы украинское государство реализует активно, а вот с отладкой институтов хотя бы до витринного уровня — загвоздка. Но основные претензии европейцев не в этом, а в том, что в списке выгодополучателей указанных процессов их теснят уже не только американцы, но и турки. При том что кредиты и разнообразную поддержку Киев от Европы получать все равно желает.
«НиК»: С чем, на ваш взгляд, связан хронический кризис в украинском Минэнерго после прошлогодней смены правительства страны? Казалось бы, миллиардер Ринат Ахметов смог поставить своего человека премьером, но почему он так и не смог установить контроль над Минэнерго, где уже, кажется, четвертый за год руководитель с приставкой «врио»? Какие еще лоббистские группы Украины ведут борьбу за этот пост?
— Олигархов все больше оттесняют от министерств, ведомств и других важных участков украинской политики и управления — это обычная практика для стран, где США захватывают «контрольный пакет акций».
Дело, конечно, не в заботе об интересах этих стран, а в том, что олигархи мешают единоначалию и стройности вертикали. Впрочем, попутно и роста рейтинга власти среди простого народа можно добиться.
На Украине чувствовать себя в безопасности не могут даже давно установившие тесные дружеские контакты с американской Демпартией олигархи типа Виктора Пинчука и Петра Порошенко. К Порошенко в Вашингтоне относятся неплохо, но больше как к политику, а не как к олигарху, повышающему свою капитализацию благодаря политике. Ахметов же и вовсе не в числе явных фаворитов. Поэтому для него и для других олигархов сейчас стоит вопрос не о новых достижениях и отвоеванных министерствах, а о фиксации убытков и месте в списке «прижимаемых к ногтю» ниже, чем у коллег.
«НиК»: Чем может закончиться недавняя попытка Зеленского установить контакты с Катаром, который является союзником России и Турции, но в то же время крайне заинтересован в расширении сбыта своего газа?
— Катар — крохотное государство с огромным геополитическим и геоэкономическим потенциалом, ближневосточный аналог средневековой Венеции. Оно тесно связано с турками и американскими глобалистами — двумя главными союзниками Киева, а также с Британией — важной союзницей Турции. Кроме того, Катар входит в число главных акционеров «Роснефти» и один раз уже серьезно повлиял на российскую внешнеполитическую повестку. Речь о гибели нашего самолета над Синаем, в причастности к которой небезосновательно подозревают катарцев. Там, правда, суть была в катарских противоречиях с Саудовской Аравией, а наши сограждане оказались удобной жертвой, да и зверское избиение нашего посла в Дохе местными полицейскими 10 лет назад сложно забыть. В общем, игрок опасный и неприятный для России.
Поэтому визит Зеленского в Катар на фоне резкого донбасского обострения — нормальный и неглупый с точки зрения украинской тактики рабочий ход. Неизвестно, правда, насколько инициированный самим Зеленским, но лишний раз подтверждающий концепцию Южной геополитической дуги и ее ответвлений, которую я сформулировал несколько лет назад. Эта дуга простирается от Украины до Северной Африки, а все конфликты, интриги и проблемные узлы на ее траектории связаны одними и теми же участниками, в первую очередь — Россией и Турцией. Боковыми ответвлениями дуги можно считать Балканы, зону Персидского залива и Среднюю Азию. После совместной с Азербайджаном победы во второй Карабахской войне турки сделали мощную заявку на окончательное утверждение себя в статусе лидера дуги.
Помощь Украине в донбасской войне может закрепить этот статус, сделать Турцию главным и почти равноценным конкурентом Китая в Евразии, а Россию официально превратить в младшего ведомого контрагента Анкары касаемо всех тем, представляющих общий интерес.
И турки, и американцы будут помогать Киеву, но исходя из своих интересов и старясь потеснить «друга-врага», тем паче что при Байдене отношения двух стран еще заметнее осложнились. Так что визит Зеленского в Катар вполне вписывается в контекст сближения Украины с Турцией.
«НиК»: С чем связана недавняя смена владельца Новошахтинского НПЗ, который раньше принадлежал структурам, близким к «самому пророссийскому» украинскому политику Виктору Медведчуку? Какова в целом сила этого игрока, в том числе в российских кругах?
— Виктор Медведчук — типичный образчик «воображаемого» пророссийского политика. На самом деле он никакой не пророссийский, а удобный для финансово-экономических интересов определенных кругов правящего класса в РФ (и то с разными фигурами в Москве у него разные отношения). Впрочем, и формальную пророссийскость он пытался изображать. Приезжая в Москву, он рассказывал своим собеседникам, что еще чуть-чуть усилий и вложенных в него средств — и он придет к власти, дабы вернуть все в благословенные времена до 2014 года. В Москве делали вид, что верили, так как верить хотелось, — не исключаю, что эти соображения сыграли свою роль в запутанной истории с переходом под контроль структур Медведчука НПЗ в Ростовской области. Но вместе с активом новые владельцы получили и серьезные обязательства по его модернизации, а дела на Украине у Медведчука сейчас идут из рук вон плохо.
Если раньше Медведчук и его политические силы входили в послемайданный общественно-политический консенсус, пусть и на маргинальных, самых крайних из допустимого ролях, то сейчас рамка допустимого сузилась, и Медведчук оказался вне ее со всеми очевидными последствиями. Плюс пресловутая украинская деолигархизация, а в партии ОПЗЖ Медведчука активно подсиживает крыло Сергея Бойко и Сергея Левочкина, делающее ставку на плодотворное сотрудничество с американскими кураторами и участие в их политических комбинациях. В данных обстоятельствах сколько-нибудь заметных шансов выбраться из ямы я у господина Медведчука не вижу. Неплохой ход и единственный шанс перезагрузки если не его лично, то его политического бренда — выход на авансцену его супруги Оксаны Марченко. Оксана — известная теледива, она неглупа, хороша собой, харизматична, привлекательна для русской Украины и свободна от негативных черт, особенностей и противоречивой биографии самого Медведчука. Но и ее электоральная ниша ограничена, а шансы в элитных играх еще меньше.
Беседовал Анатолий Радченко

ЛУННАЯ ГОНКА 2.0
АЛЕКСАНДР БАУРОВ
Врио директора исследовательско-аналитического центра ГК «Роскосмос» в 2018–2019 годах.
Почему сейчас, спустя несколько десятилетий забвения, Луна снова стала целью сразу нескольких государств? Что является ключевым элементом лунной инфраструктуры? Как будет выстраиваться правовой режим во время одновременного пребывания на Луне космонавтов и роботизированных систем из разных, зачастую жёстко конкурирующих на Земле держав?
Начало года ознаменовалось не только повышенной международной активностью в вопросах практического освоения Марса, но и примечательными решениями в части международного сотрудничества в деле предстоящего прикладного освоения нашего естественного спутника и ближайшего крупного небесного тела – Луны.
В марте генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и руководитель КНКА Чжан Кэцзянь в формате видеоконференции подписали от имени правительств России и Китая Меморандум о взаимопонимании между правительством Китайской Народной Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции (МНЛС). В нём подтверждалось, что Госкорпорация «Роскосмос» и КНКА, руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнёров с целью укрепления научно-исследовательского взаимодействия и продвижения исследований и использования космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества.
А в конце апреля Госкорпорация «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управления (CNSA) выступили с совместным заявлением о сотрудничестве при создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Станция, согласно тексту заявления, будет представлять собой комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите вокруг Луны с возможным привлечением других стран, международных организаций и других международных партнёров. Она будет предназначена для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий, с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой обеспечения присутствия человека.
На 2021 г. к Луне было запланировано сразу несколько миссий: первый полёт сверхтяжёлой американской ракеты-носителя SLS с беспилотной версией корабля «Орион», отечественная миссия «Луна-25» на ракете Союз-2.1Б и полёт индийского космического аппарата «Чандраян-3» на ракете GSLV Mk.3. Однако по последним сообщениям прессы – индийская миссия плавно уходит как минимум на 2022 год.
Активность наглядно демонстрирует, что подготовка освоения нашего естественного спутника идёт полным ходом, хотя несколько предыдущих десятилетий тема закрепления и пребывания на Луне находилась на задворках глобальных космических программ после сворачивания триумфальной американской программы «Аполлон». Становясь мейнстримом долгосрочных государственных и частных космических программ, лунная тематика ставит несколько глобальных вопросов – почему сейчас, спустя несколько десятилетий забвения, Луна снова стала целью? Что является ключевым элементом лунной инфраструктуры? Как будет выстраиваться правовой режим во время одновременного пребывания на Луне космонавтов и роботизированных систем из разных, зачастую жёстко конкурирующих на Земле держав? Можно дать следующую оценку этих вопросов-вызовов.
Освоение Луны и закрепление на ней присутствия человека в ближайшие двадцать лет неизбежно. Оно вызвано тем, что за десятилетия, прошедшие с окончания миссий «Аполлон» (последняя в декабре 1972 г.), в мире произошёл качественный скачок в микроэлектронике, скорости вычислений и новых материалах. Скачок, который позволяет длительное время удерживать на Луне роботизированные и посещаемые объекты. Основная проблема – дороговизна реактивных средств движения. Сжигать огромные ракеты, чтобы отвезти на наш естественный спутник несколько процентов общей массы в виде полезной нагрузки, категорически неэффективно. Какие бы технологии удержания и вторичного использования деталей ракет-носителей ни демонстрировали компании Space 2.0 – законы физики это не изменит. Качественное изменение ситуации, которое сейчас просматривается в решении проблемы использования реактивного движения на химическом горении, это транспортно-грузовой модуль на ядерной тяге – космический буксир с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ), который, согласно заявлениям «Роскосмоса», может быть отправлен в испытательный полёт уже в 2030 году.
Важно понять, что при освоении Луны средства доставки людей, грузов и роботизированной техники будут несравнимы по загруженности. Ключевая технология будет не у тех, кто будет возить людей для «установки флага», а у тех, кто сможет обеспечить планируемое регулярное грузовое снабжение. Это будущий огромный рынок, на котором в последующие десятилетия появится множество государственных и частных заказчиков. Тот, кто успеет занять его первым, сможет влиять на процессы создания инфраструктуры всех остальных участников, задавая новые технологические стандарты и ведя соответствующую сертификацию грузов, будет иметь право подтолкнуть других участников Лунной гонки перестроиться под свои технологические особенности.
Другой важнейший вопрос: как будет проходить правовая реформа «раздела Луны»?
6 апреля 2020 г. президент США Дональд Трамп подписал указ о поддержке коммерческого освоения ресурсов на Луне и других небесных телах. В нём подчёркивается тот факт, что США отказываются считать ресурсы Луны и других небесных тел достоянием человечества.
В вопросах освоения космоса, как и во всех остальных вопросах, международное право тяготеет к фиксации задним числом того, что достигнуто прежде технологическим и военным превосходством, политическими и дипломатическими успехами. Именно так возник Тордесильясский договор 1494 г. – когда папа Римский Александр IV разрешил спор Португалии и Испании миром, обозначив каждой из держав широчайшие возможности экспансии без пересечения во вновь возникающих сферах интересов. Предложение папы было ущербным для Португалии, даже после его доработки, тем не менее договор позволил Лиссабону следующие двести лет строить свою заморскую империю в относительном мире.
Могут ли США вновь высадить двух-трёх человек, роботов и виртуально «огородить» огромную часть Луны, например размером с Техас, назвав эту территорию своей собственностью? Могут. Они могли это сделать всегда, с начала 1970-х гг., но не делали. Является ли это вызовом? Нет, потому что право сильного всегда было источником возникновения договоров и фиксации статус-кво. Причём необходимость договариваться возникала только перед угрозой насилия – как в случае несостоявшейся португальско-испанской колониальной войны в конце XV века.
Поэтому международные договоры по реальному «разделу Луны» так же актуальны сейчас, как договоры по разделу Марса, Ио, Европы, Титана или экзопланет далёких звёздных систем. Они ничего не значат, пока не подкреплены постоянным военным и техническим присутствием. США могут развернуть на Луне любое оружие, и никакие прежде заключённые договоры ни к чему их не принудят, кроме размещения рядом другого равноценного оружия державой-соперником, готовой его применять. Лишь после эскалации наступает время формирования реальной дипломатической повестки с последующей разрядкой, но не прежде.
В текущем политическом ландшафте долгосрочные соглашения между Москвой и Пекином выглядят логичным и ожидаемым альянсом «догоняющих», но амбициозных держав. Они предполагают технически и информационно поддерживать друг друга, чтобы не допустить опасного прецедента «национализации» лунных ресурсов страной лидером лунной гонки.
Ведь «лунные ресурсы» – это отнюдь не только материалы в породах лунного грунта или возможность возить туристов в «лунные отели». Это ещё и уникальная локация для наблюдения и контроля как земной поверхности, так и шагов других держав по мере их продвижения в большой космос Солнечной системы. Это, безусловно, важная точка присутствия в XXI веке как с военной, так и с научной и коммерческой точек зрения. Так что участникам новой лунной гонки может показаться несправедливым, если Луна окажется вписана в чьё-то узконациональное правовое поле.

НОВЫЙ ВЕК АВТАРКИИ
СКОТТ МАЛКОМСОН
Руководитель Strategic Insight Group и FutureMap, автор книги Splinternet: How Geopolitics and Commerce Are Fragmenting the World Wide Web.
ПОЧЕМУ ТЕ, КТО БОЛЬШЕ ДРУГИХ ВЫИГРАЛ ОТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ, СЕГОДНЯ СТРЕМЯТСЯ К САМОДОСТАТОЧНОСТИ
Самая удивительная геополитическая особенность последних четырёх лет – не биполярность или многополярность и даже не конфликт великих держав. Мы видим, как крупные экономики стали стремиться к самодостаточности и частичному отказу от глобализации, чтобы обеспечить свою безопасность, инновационный потенциал, внутреннюю стабильность и экономические перспективы. США, Китай и Индия заняты парадоксальным предприятием – пытаются укрепить свой глобальный статус, сосредоточившись на внутренних делах.
После окончания холодной войны предполагалось, что глобальная экономическая конвергенция неизбежна и экономическая взаимозависимость стран будет только нарастать. Теперь можно сказать, что предположение было ошибочным. Но даже несколько лет назад немногие прогнозировали, что три ведущих бенефициара глобализации перейдут к различным вариантам автаркии или что глобальный тренд самодостаточности будет доминировать в геополитике.
Китай, Индия и США – самые населённые страны мира сегодня и крупнейшие экономики. В совокупности они составляют 60 процентов глобальной экономики – гораздо больше, чем в период холодной войны. Тем не менее Соединённые Штаты при Дональде Трампе перешли к «экономическому национализму», а Китай при Си Цзиньпине и Индия при Нарендре Моди выбрали самодостаточность («цзыли гэншэн» на китайском и «атманирбхар» на хинди). В отличие от большинства крупных экономик, эти три государства увеличили ВВП на душу населения за последние десять лет и уменьшили торговую уязвимость, то есть долю торговли в ВВП. Эта модель дифференциальной глобализации свидетельствует о распространении новой автаркии, которая будет доминировать среди крупных экономик в ближайшее десятилетие или дольше.
Автаркическая традиция?
Хотя в 1990-е гг. и в начале нового тысячелетия все три государства приветствовали глобализацию, у них есть давние традиции относительной изолированности от мировых рынков. Соединённые Штаты всегда импортировали капитал и трудовые ресурсы и экспортировали товары, но главным источником роста был внутренний рынок. В 1960-е гг. торговля составляла лишь 10 процентов американского ВВП, немногим больше, чем у автаркических коммунистических обществ – СССР (4 процента) и КНР (5 процентов). В этом отношении США – уникальный пример среди состоятельных стран. У других богатых экономик с сопоставимым внутренним рынком доля торговли в ВВП в 1960-е гг. была значительно выше – 25 процентов во Франции и 41 процент в Великобритании. Американцы постепенно глобализировались до 2011 г., когда доля торговли в ВВП достигла пика – 31 процента. После этого показатель снизился до 27 процентов, и политика президента Байдена, скорее всего, будет способствовать сохранению этой траектории.
Самодостаточность давно являлась целью Китая, хотя нередко призрачной. С конца XVII до середины XIX века страна культивировала продуктивность внутреннего рынка, а также контролируемый, но прибыльный сектор экспорта. Но путь к прогрессу резко оборвался с началом опиумных войн в 1839 г., когда Китай вступил в «столетие унижения» иностранными державами. Этот период закончился в 1949 г., когда Компартия Китая победила своих противников-националистов, которых поддерживали иностранные державы, прежде всего США. Но ещё в 1945 г. лидер коммунистов Мао Цзэдун отмечал националистический и суверенный аспект самодостаточности: «На какой основе должна строиться наша политика? На нашей собственной силе, а это означает возрождение благодаря нашим собственным усилиям» («цзыли гэншэн»). Председатель КНР Си Цзиньпин вернулся к этой идее в 2018 г., заявив, что «обособленность и торговый протекционизм распространяются, и это вынуждает нас идти по пути самодостаточности». В этом русле Си Цзиньпин продвигает развитие высокотехнологичной военно-промышленной базы, чтобы не допустить второго унижения Китая, на этот раз мощью американских технических инноваций.
Подобно США и Китаю, Индия позиционировала себя как нацию, способную процветать благодаря огромному внутреннему рынку при разумном объёме экспорта. По оценкам историков, Индия производила около четверти мирового ВВП в 1700 г., но затем пережила два столетия унижения, когда Великобритания постепенно разрушала её промышленную базу, чтобы выкачать сырьё и создать рынок для британских производителей. После провозглашения независимости в 1947 г. Индия проводила государственную политику полуавтаркии под видом «неприсоединения», которое из военно-политического курса превратилось в модель развития на основе модных тогда идей защиты новых отраслей и импортозамещения.
Индия начала открывать свою экономику в начале 1990-х гг., но процесс был управляемым, а после избрания Нарендры Моди премьер-министром в 2014 г. принял националистические черты. В Индии проживает почти 18 процентов мирового населения, и страна продолжала придерживаться политики неприсоединения в эпоху глобализации, используя китайские и американские технологии и инвестиции в разработку собственных альтернатив. Цель политики «атманирбхар» Моди – достичь сходного с китайским уровня собственных инноваций и самодостаточности, чтобы создать индийским компаниям прочную базу для ведения бизнеса за рубежом, как это делали их китайские (и американские) предшественники.
Конкурентная самодостаточность
Китай, Индия и США имеют традиции самодостаточности, которые заложили фундамент для нынешнего поворота к автаркии, но в первую очередь все три государства отвечают на новые вызовы, возникшие с обострением конкуренции между крупными державами. Главный нарратив Китая с 1980-х гг. основывался на безопасности и фокусировался на возвращении статуса великой державы, который был утрачен из-за действий западных стран, а затем Японии. В 2015 г. Пекин объявил политику «военно-гражданского слияния», нацеленную на развитие национальной промышленности в рамках плана ликвидировать зависимость страны от внешних сил и обеспечить технологическую самодостаточность в будущем.
На фоне военной модернизации и впечатляющих успехов КНР в технологическом секторе американцев стало тревожить присутствие китайских технологий в цепочках оборонных поставок, а роль Китая в строительстве интернет-инфраструктуры вызывает подозрения по всему миру. Значительная часть цифровой карты мира может оказаться под влиянием Пекина – такая перспектива вынудила Соединённые Штаты подходить к китайскому экономическому подъёму именно с точки зрения безопасности. Вскоре оба государства стали более жёстко контролировать наиболее динамичные и глобализированные секторы экономики. Пекин стимулировал развитие технологических гигантов с помощью кампании по очищению, а США начали борьбу с влиянием Кремниевой долины, поддержанную обеими партиями.
Проблемы безопасности воздействуют и на технологическую политику Индии: правительство Моди стремится к так называемому цифровому неприсоединению. За последние двадцать лет китайские компании и инвесторы, а также – в меньшей степени – их западные коллеги – выстроили индийский технологический сектор и инфраструктуру. Однако теперь, когда индийские компании могут конкурировать, правительство Моди начало регулировать иностранное присутствие (и даже вытеснять китайские компании) с целью укрепить технологическую самодостаточность и обеспечить безопасность страны.
Автаркические различия
Все три государства считают автаркию эффективным ответом на проблемы безопасности, отчасти из-за размера своих экономик. У них достаточно большие внутренние рынки, чтобы поддерживать устойчивую диверсификацию отраслей, не жертвуя преимуществами специализации. Иными словами, они способны стать относительно самодостаточными. Но размер не объясняет, как этим странам удалось стать менее зависимыми от торговли, в то время как зависимость других крупных экономик только возросла.
В Индии и Китае культура, промышленная политика и другие структурные факторы облегчили переход к автаркии. У обеих стран огромные рынки труда с высоким уровнем мобильности и низким уровнем развития профсоюзных организаций, жёстко выстроенная промышленная политика, обеспечивающая географическое распределение отраслей, и культура, в которой высоко ценится мастерство и предпринимательский дух. Кроме того, по меньшей мере два поколения китайских и индийских бизнесменов убеждены, что их процветание зависит от участия в глобальных цепочках стоимости, приобретения интеллектуальной собственности и продажи продуктов на внутреннем рынке. Эти качества присущи не только Китаю и Индии, но именно там они сочетаются с огромным внутренним рынком и активной господдержкой местных компаний. Оба правительства не только защищают свои компании от иностранных конкурентов, но и препятствуют монополизации конкретных секторов. Таким образом они сохраняют преимущества внутренней конкуренции.
Тем не менее Китай и Индия зависят от ряда аспектов взаимосвязанной глобальной экономики. Они глубоко интегрированы в глобальные цепочки поставок, которые и обеспечили их впечатляющий рост. Драйверами процветания стали не масштабные государственные индустриальные проекты, как в Японии и Южной Корее на начальном этапе глобализации, а тесно связанный мир взаимозаменяемых продавцов, которые конкурируют за каждое звено глобальной цепочки поставок. Однако, как заявил Си Цзиньпин, обращаясь к предпринимателям в июле 2020 г., Китай от других стран отличает «огромный внутренний суперрынок», который он намерен укреплять «благодаря процветанию внутренней экономики и беспрепятственному внутреннему циклу, что обеспечит восстановление мировой экономики. В этом смысле самодостаточность является целью внешней политики КНР. Помимо прочего, Си Цзиньпин намерен стимулировать внутренний спрос на конечную и промежуточную продукцию, чтобы в стране был устойчивый, защищённый и контролируемый рынок, который можно будет разумно использовать на международном уровне. Его цель – не глобализация, а глобализированный меркантилизм, который также является целью политики Моди.
Несколько иная картина складывается в США, где переход к экономическому национализму был в меньшей степени обусловлен культурой и структурными факторами. Ключевую роль сыграла неудовлетворенность общества неолиберализмом, что, в свою очередь, обеспечило поддержку новой индустриальной политики. Экономический национализм Трампа наиболее ярко проявился в убыточных тарифных и торговых войнах (его предвыборные обещания об увеличении инфраструктурных расходов так и не были выполнены). Но эта политика разрушила чары глобализации – причём за недорого. Потребительское доверие в США достигло исторического максимума до пандемии COVID-19, а безработица упала до 3,5 процента. Средняя заработная плата ежегодно росла на 3 процента в первые три года президентства Трампа. Произошёл непропорциональный рост занятости афроамериканцев и выходцев из Латинской Америки, которые ещё больше интегрировались в экономику. Росли доходы среднего класса, а по темпам роста ВВП США опережали другие экономики.
Экономические успехи Трампа помогли легитимировать идею государственного вмешательства в экономику. В 2020 г. Джейк Салливан, ветеран администрации Обамы и советник Байдена по национальной безопасности, в соавторстве написал статью для Foreign Policy, в которой отмечалось: «Поддержка промышленной политики (в широком смысле действий правительства по реформированию экономики) когда-то считалась неприличной, сегодня стала практически очевидной». В ходе предвыборной кампании Байден обещал выделить 400 млрд долларов на программу «Покупай американское» и 300 млрд долларов на исследования и разработки, направленные на повышение технологической самодостаточности и защиту военно-промышленной базы. Придя в Белый дом, администрация Байдена выступает за масштабные инвестиции во внутренние возможности, особенно в инфраструктуру. «Ни один контракт не пропадёт, – заявил Байден, представляя инфраструктурный план на 2 трлн долларов. – Все средства пойдут американским компаниям с американскими продуктами и в итоге дойдут до американских рабочих».
Инновационный вызов
Как долго будет продолжаться эта новая эра автаркии, зависит отчасти от длительности и интенсивности конкуренции крупных держав. «Большая тройка», скорее всего, будет стремиться к самодостаточности, пока продолжится напряжённое соперничество в сфере безопасности – а в случае с США и Китаем, Индией и Китаем оно может длиться очень долго.
Однако пока политические силы будут укреплять тренд экономического национализма, рыночные силы станут действовать в противоположном направлении. Автаркия душит инновации и долгосрочный рост. Надежды Индии на устойчивый рост основаны на успешности сектора информационных технологий и инновационном потенциале. Соперничество Соединённых Штатов и Китая строится на императиве инноваций: каждая из сторон опасается, что соперник обойдет её в технологическом и, следовательно, в военном аспекте. Но инновации часто требуют масштабных частных инвестиций – особенно в Индии, которой не хватает государственной и академической инфраструктуры для НИОКР, как в Китае и США. А для частных инвестиций нужны рынки. Эту логику подтверждают примеры китайской Huawei, которая процветает благодаря иностранным рынкам, и американской Qualcomm, получающей две трети прибыли в Китае.
Американские технологические гиганты зарабатывают почти половину своих доходов на зарубежных рынках. Без этих доходов крупные компании с трудом смогут финансировать собственные НИОКР, чтобы поддерживать конкурентоспособность. Из десяти ведущих американских компаний, работающих с Китаем, только одна – Wynn Resorts – не связана с инновационными технологиями. Технологии, которые производят эти компании и которые потребляет Китай, имеют как военное, так и коммерческое применение, и зависимость Китая от них – рычаг американского воздействия. Пекин стремится устранить этот рычаг, став более технологически самодостаточным. Если он преуспеет, американские компании, на которые опираются американские военные и американская экономика, потеряют доходы. Если компании не найдут альтернативных рынков, чтобы заменить Китай, пострадают инновации в США.
Результатом станет ужесточение конкуренции между американскими и китайскими технологическими компаниями за рынки третьих стран, а также активные действия правительств по контролю над технологиями, чтобы смягчить риски безопасности. Соединённые Штаты сосредоточатся на более богатых странах-союзниках в Северной Америке, Европе и Азии. Китай и Индия займутся менее состоятельными странами Азии, Ближним Востоком, Африкой и, возможно, Латинской Америкой. Если западные и восточноазиатские компании станут пренебрегать этими регионами, китайские, индийские и другие незападные компании сформируют глобализацию в период автаркии. Эта новая глобализация будет непохожа на предыдущую. Она в равной степени будет базироваться на самодостаточности и открытости, а на смену интернационализму придут национализм, меркантилизм и что-то близкое к империализму.
Глобализация не как во времена наших родителей
Мир необязательно станет более опасным. Автаркия крупных держав – это, по сути, защитная политика, которая может привести к военному консерватизму и индустриальной конкуренции, что пойдёт на пользу всем. Главная угроза заключается в том, что крупные державы могут попытаться блокировать конкурентам доступ к ресурсам, как неоднократно угрожал сделать Китай с редкоземельными металлами, которые необходимы для многих высокотехнологичных продуктов. Кроме того, крупные державы в состоянии защитить интеллектуальную собственность или препятствовать распространению технологий, включив в понятие «стратегические ресурсы», к примеру, всё, что связано с дизайном чипов для искусственного интеллекта. Соединённые Штаты предприняли нечто подобное в отношении СССР в годы холодной войны, что привело к упадку советской экономики и активному промышленному шпионажу.
Вряд ли события будут разворачиваться аналогичным образом. Помимо «большой тройки» есть множество влиятельных игроков, которые предпочтут технологическое неприсоединение и смогут генерировать собственные инновации. Кроме того, компаниям стремящихся к автаркии государств нужны иностранные доходы для поддержания собственной военно-промышленной базы. Как ни парадоксально это звучит, лучше других глобализируется то автаркическое государство, которое будет успешно развиваться.
Как писал в 1917 г. американский историк Джордж Луис Бир, «экономическая самодостаточность предполагает состояние войны». Тогда мир двигался к окончанию одной из тяжелейших войн в истории. К той войне привели действия крупных держав, стремившихся избежать зависимости друг от друга. Спустя чуть больше века диффузия и фрагментация производства сделали повторение той трагедии маловероятным. Тем не менее державам, стремящимся к автономии, стоит быть осторожными в своих желаниях, потому что самодостаточность может стать источником как силы, так и слабости.
Foreign Affairs

Александр Бен Цви: то, что арабы и Израиль не могут жить в мире – это миф
На этой неделе многолетнее противостояние Израиля и Палестины снова вошло в острую фазу. Почти непрерывно с палестинской территории происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Израиль, в свою очередь, нанес удары по сектору Газа, в результате чего, по имеющимся данным, погибли более 100 человек. Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Татьяне Кукушкиной, готова ли израильская сторона к переговорам с палестинцами, что для этого нужно, не перерастет ли нынешняя ситуация в полномасштабную войну в регионе, и будет ли наземная операция израильской армии в секторе Газа. Он также сообщил, что для урегулирования ситуации могут сделать Россия и другие страны, будет ли Израиль обращаться к США за военной помощью, и что в его стране думают о перспективах созыва "квартета" ближневосточных посредников.
– Когда может начаться и может ли вообще начаться наземная операции Армии обороны Израиля в секторе Газа?
– Пока этого не предвидится и не намечается, но если не будет обострения. Меня спрашивают – может ли быть хуже? Да, конечно, может быть хуже. Но я надеюсь, что такого не произойдет. При этом если будет хуже, мы ничего не можем исключать.
– Как вы в целом оцениваете риски того, что из-за последнего обострения регион стоит на пороге новой полномасштабной войны?
– Нет, нет, нет. Последняя полномасштабная война была в 1973 году и в 1982 году с Ливаном. Подобные инциденты случаются, они очень неприятны – по территории Израиля было выпущено 1600 ракет. Ни одна страна не позволила бы себе оставить такое без реакции. Соответственно, мы реагируем и наносим ответные удары по тем точкам, откуда ракеты были выпущены. К сожалению, ХАМАС держит ракеты в Газе в густонаселенных районах: возле школ, мечетей, больниц, жилых домов. Они должны понимать, что если оттуда стреляют, то туда же будет нанесен ответный удар. Поэтому сейчас они используют своих жителей в качестве "живого щита", это самое опасное. При этом палестинцы стреляют не по каким-то специфическим целям, например, военным объектам, а по городам. Уже в одном этом заключается военное преступление – они ведут обстрелы гражданских объектов.
Причины нынешнего обострения надо искать внутри палестинских организаций. Там должны были быть выборы, они были отменены, перенесены на неопределенный срок. Из-за этого возникли внутренние палестинские противоречия. ХАМАС надеялся по итогам выборов взять лидерство в палестинском движении. Когда Абу Мазен (лидер ПНА Махмуд Аббас – ред.) это увидел, он выборы отменил, найдя разные причины, в том числе обвиняя Израиль, но эти обвинения беспочвенны.
– Были сообщения, что несколько ракет по Израилю были запущены с территории Ливана. Израиль будет отвечать на такие действия?
– Не совсем ясно, что произошло. Не надо спешить. Надо проверить, что произошло. Есть группировки, которые никому не подчиняются и делают все, что хотят. Поэтому мы проверяем, что случилось. К счастью, удары не привели к жертвам и разрушениям. Мы не будем в этом случае спешить с ответом. Но предупреждаем, что если будут такого рода атаки, Израиль без колебаний ответит. При этом надо помнить, что с территории Ливана не было ударов по Израилю уже более 15 лет. Почему? Потому что они знают, что будет серьезный ответ.
– Израиль отказался от посредничества Египта в урегулировании последнего обострения. А что может сделать Россия?
– Повлиять на то, чтобы были прекращены обстрелы Израиля – все, кто могут это сделать. Для того, чтобы было прекращение огня не нужны какие-то особые миротворческие усилия, просто перестаньте стрелять.
– Один из лидеров ХАМАС заявил, что движение прекратит обстрелы, когда прекратятся силовые акции у мечети Аль-Акса…
– Что значит "силовые акции у мечети Аль-Акса"? Когда идут демонстрации, когда закидывают камнями людей, которые идут молиться, полиция вмешивается. Но посмотрите, накануне был мусульманский праздник Ид-аль-Фитр (праздник завершения поста после мусульманского месяца Рамадан – ред.), прошла молитва в мечети Аль-Акса без каких бы то ни было происшествий. Люди пришли молиться, они молятся, никто им не мешает. Ни одного инцидента не было. Значит, дело в другом – кто-то подогревает атмосферу. Возвращаясь к причинам обострения. Она одна, и эта причина внутрипалестинская – это противоречия между ХАМАС и Абу Мазеном. И всегда в таких ситуациях они прибегают к провокациям против Израиля, чтобы была реакция на их действия. Кто хочет соблюдать тишину, ее соблюдает. Кто хочет идти молиться в мечеть Аль-Акса – идут туда и молятся, а те, кто хочет провоцировать беспорядки, получат ответ.
– У Израиля есть какие-то встречные условия для прекращения ракетных ударов?
– Да, чтобы они прекратили стрелять. И все. Это наше первое условие. Чтобы они занимались вопросами здравоохранения, канализации, обучения и так далее в Газе. Они же вроде как ей руководят? Пусть занимаются тем, чтобы жителям Газы хорошо жилось, пускай занимаются экономическими вопросами, а не пускают ракеты по Израилю.
Посмотрите, что происходит в отношениях Израиля с арабскими странами. В один прекрасный день страны Персидского залива сказали, что их интересы важнее, чем какие-то не совсем понятные интересы кого-то другого. И подписали с нами соглашения. Сейчас развиваются товарообмен, проекты в области науки и техники и многое другое. Теория о том, что арабский мир не может сосуществовать с Израилем, беспочвенна, я уже не говорю про мусульманский мир вообще. Возьмите в качестве примера страны Средней Азии, с которыми у нас потрясающие отношения. Факты налицо. Миф о том, что арабы и Израиль не могут жить в мире, – глупость.
– Если вернуться к тому, что может сделать Россия для урегулирования ситуации. Планируются ли сейчас какие-то экстренные переговоры на высшем уровне?
– Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху говорили по телефону несколько дней назад. Мы все время ведем переговоры с Россией, я постоянно нахожусь на связи со своими коллегами из министерства иностранных дел, также посол России в Израиле Анатолий Викторов встречается с руководителями нашего МИД, в Москву приезжал министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази. У нас все время идет диалог с Россией. Мы не всегда во всем соглашаемся, но всегда ведем диалог – нас стараются переубедить в чем-то, мы стараемся это сделать. Не всегда получается, не всегда наши позиции совпадают, но это нормально – у каждого свои интересы. Но я не хочу вдаваться в подробности, оставлю это для моих переговоров с МИД, а не для публичного обсуждения.
– Россия ранее много раз предлагала организовать на своей площадке встречу лидеров Израиля и Палестины. Сейчас в контактах с российской стороной этот вопрос поднимается?
– Этот вопрос всегда поднимается в контактах. Но надо посмотреть, что сейчас будет происходить,и что уже происходит. С другой стороны, есть еще и новая администрация в Вашингтоне, которая тоже заинтересована в том, чтобы участвовать в урегулировании. Пока надо подождать, чтобы все утряслось. Вообще на этот конфликт надо смотреть спокойно, без эмоций. К сожалению, не всегда это удается.
– Израиль готов на прямые переговоры с палестинцами?
– Конечно, мы это повторяем все время. Это именно то, что мы хотим – прямые переговоры без предварительных условий. Мы никогда во время переговоров не говорим, что вот, например, об этом говорить нельзя. Все вопросы на столе, но именно во время переговоров. Нам говорят – переговоры только на базе границ 1967 года. О чем же мы тогда будем вести переговоры? Что вообще такое переговоры? Я всегда пользуюсь примерами из теории игр. Есть разные сценарии, например, "игра с нулевой суммой" – когда один выиграл, другой проиграл. Есть сценарий, который называется win-win, когда оба выигрывают. Но это не наш случай. Единственный сценарий из теории игр, который может подойти к нашей ситуации – это lose-lose, когда оба должны проиграть, чтобы выиграть. Приведу простой пример: вы видите в магазине красивую вещь и спрашиваете продавца, сколько она стоит? Он вам отвечает, например, пять тысяч рублей, но для вас эта цена неприемлема. Начинаются переговоры, вы говорите: "Больше двух тысяч не дам", и в конце концов вы договариваетесь о цене – три тысячи. Оба проиграли, потому что вы хотели заплатить две тысячи, а заплатили три. Продавец хотел получить пять тысяч, а получил три. Оба проиграли, но оба выиграли – у вас есть красивая вещь, у продавца есть деньги. Именно это единственный вариант – каждый должен понимать, что он должен что-то проиграть, что-то отдать.
– То есть Израиль готов на некие уступки в переговорах?
– Конечно. Мы уже два раза это предлагали. В 2000 году премьер-министр Израиля Эхуд Барак предложил Ясиру Арафату 94% всех территорий, ответ был отрицательный. В 2008 году премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предложил примерно тоже самое Абу Мазену, который тоже отказался. Мы уже предлагали, были конкретные предложения. А какие предложения мы получаем с другой стороны? Или все, или ничего. Поэтому надо сесть и разговаривать. Когда ранее были переговоры, и на них о чем-то удавалось договориться – эти договоренности до сих пор функционируют, хорошо или плохо, об этом можно спорить. Но, например, есть координация по вопросам безопасности между палестинской полицией и израильской. Мы для них, например, собираем налоги. И факт остается фактом – у нас такие соседи, и мы должны с ними договориться. Вопрос не стоит в том, чтобы созывать какие-то огромные международные конференции. Они ничего не дадут. Это все мы уже проходили. Единственный действенный путь – это когда садятся и друг с другом разговаривают. А расстояние между Рамаллой и Иерусалимом – 20 километров.
При этом, например, Абу Мазен боится, что любая уступка с его стороны будет считаться предательством родины и палестинских интересов, и что что-то с ним произойдет. Хотя, такие примеры в арабском мире у были – Анвар Садат в Египте.
– Палестина настаивает на необходимости созыва встречи "ближневосточного квартета". Израиль поддерживает эту идею?
– Надо понять, для чего она будет созываться. Потому что если он просто соберется и что? Главная проблема и интерес Израиля – это наша безопасность.
– Если вернуться к ситуации "на земле". После обстрелов Тель-Авива и его пригородов, ряд экспертов заговорили о том, что система "Железный купол" не совсем эффективна. Израиль разделяет эти опасения?
– Она эффективная. Нельзя сказать, что 100%, но большую часть ракет она сбивает. Но я не эксперт в этой области.
– В свете последнего обострения Израиль планирует обратиться к США за дополнительной военной помощью?
– Нет, на данном этапе нет. У нас в целом с США есть соглашение о военной помощи. Когда в 1973 году была масштабная война, у нас не хватало боеприпасов, и мы обращались к США. Но с тех пор наша индустрия справляется.
– Россия ранее передавала Палестине 50 БТР. Нет ли опасений у Израиля, что российское оружие будет использовано сейчас против него?
– Эта поставка была по соглашению с нами. Более того, мы в 1992-1993 годах вооружали палестинскую полицию, 30 тысяч человек. Мы это принимаем во внимание, но это было нужно для охраны порядка, и мы с этим согласились.
– Ряд компаний, в том числе российские, отменяют рейсы в аэропорт Бен-Гурион. Есть какие-то специальные рекомендации для граждан РФ или тех кто летит из России?
– Во-первых, сейчас нет особенных рекомендаций, потому что туризма пока нет. Вне зависимости от того, что сейчас происходит в Израиле, страна пока не открыта для туристов из-за пандемии. Относительно закрытия аэропорта – это временно. Посмотрим, как будет дальше, хотя наша авиакомпания летает. Аэропорт полностью не закрыт, были точечные инциденты, некоторые рейсы перенаправляли в Эйлат. Но в целом это не влияет никак на туризм, потому что туризма сейчас как такового нет. В Израиль могут прилетать только израильские граждане или люди по спецразрешениям.
Когда мы откроем границы для туризма? Надо будет решать другие вопросы, например, как проверять людей на коронавирус. В Израиле введена система проверки на антитела. Неважно, какая была сделана прививка, или человек просто переболел, как я – а я переболел. Главное, чтобы были антитела. Главное – это проверка на антитела. Хотя в аэропорту есть также проверка тестом ПЦР. Но пока проблема в том, что у нас нет еще системы – как делать оперативно проверку на антитела для больших групп туристов. В конце мая власти Израиля хотят начать пускать туристов маленькими группами, но пока не ясно, как это будет организовано. Так что, думаю, что придется подождать с туризмом в Израиль по крайней мере до середины лета.
– Обострение на туристическую привлекательность Израиля не повлияет?
– Думаю, что не повлияет. Я считаю, что это обострение скоро закончится.
– Вы говорите о системе проверки на антитела. То есть вопрос о взаимном с РФ признании сертификатов о вакцинации снят?
– Переговоры идут. Мы начали этот процесс с Россией, израильский Минздрав передал черновик соглашения в российский Минздрав. Мы ждем реакции.

Один из самых знаменитых стартапов 2020 года: как выходцы из МФТИ создали в Калифорнии первый в мире самолет с водородным двигателем
Глава европейского направления компании ZeroAvia Сергей Киселев дал интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу
В компанию ZeroAvia, созданную в Калифорнии выходцами из России, вложились фонды Билла Гейтса и Джеффа Безоса. Тема — водородный авиадвигатель. Ноль выбросов. Не в проекте, а в металле. В прошлом году прошел первый полет, за что Time включил его в список лучших изобретений 2020 года. Попробуем проследить путь этих людей из российской физики в топ мирового инновационного бизнеса. С главой европейского направления компании ZeroAvia Сергеем Киселевым беседовал главный редактор Business FM Илья Копелевич. Этот материал доступен в виде подкаста.
Наш гость сегодня Сергей Киселев, он находится в Калифорнии, мы разговариваем в Zoom. Он директор европейского направления компании ZeroAvia, прославившегося стартапа в 2020 году, потому что запустил первый — правда, маленький — самолетик с водородной силовой установкой. Я предлагаю вначале чуть-чуть посвятить нашу публику в тему водородного топлива, потому что в России она, мягко говоря, пока не популярна и совсем не на слуху. Пара вводных слов. Все знают водород, при соединении с кислородом он выделяет большое количество энергии, но все мы знаем, что это очень летучий газ. Правда, в этом химическом процессе не образуется углекислого газа, с которым теперь вся планета борется, именно поэтому это сейчас настолько в топе внимания, особенно на Западе, пока не у нас. Но при этом все мы знаем из химии, что водород очень летучий, занимает большой объем, поэтому как приспособить водород непосредственно к двигателю — в этом основная проблема. ZeroAvia — стартап, основанный нашими соотечественниками, Валерием Мифтаховым и вами, знаменит тем, что вы запустили самолет. Давайте расскажем вкратце. Это маленький самолетик, да?
Сергей Киселев: Да, действительно мы запустили маленький самолетик, но компания на самом деле является разработчиком и производителем двигателя. То есть нас можно рассматривать как возобновляемый Rolls-Royce. Все знают, что Rolls-Royce производит большие двигатели, они потребляют авиационный керосин. В нашем случае действительно вместо традиционного топлива мы используем водород. Водород является действительно самой легкой молекулой — с одной стороны, с другой стороны, очень энергоемкой. И преимущество водорода в том, что действительно при взаимодействии с водой выделяется очень много энергии. И если сравнить водород с другими видами топлива, то он является лидером по количеству энергии на килограмм. Проблема в том, что он объемный. Частичный способ, как решить эту проблему, — это сжать водород с тем, чтобы в единицу объема поместилось гораздо больше молекул. И то, как эту проблему решила автомобильная промышленность, это достижение рабочего давления где-то 350 либо 700 атмосфер.
Серьезная цифра, мы прекрасно понимаем, сравнив хотя бы с давлением в покрышках, то есть это на два нуля большее давление. Но как в авиации? Там все-таки нужно, чтобы все было компактно.
Сергей Киселев: Как раз сжатие водорода до такого давления частично решает эту проблему. Но все равно у нас получается разрыв с точки зрения количества энергии на объем, мы отстаем от обычного топлива. Это проблема и не проблема, потому что, если говорить о маленьких самолетиках или о следующем классе, который мы сейчас разрабатываем, мы сейчас действительно летали на шестиместном самолете, сейчас мы начали программу 19-местного самолета — это уже, наверное, самый маленький размер, с которым работают авиалинии. Существуют региональные или субрегиональные авиалинии, которые работают как раз с самолетами такого размера. Мы подвешиваем цилиндры с водородом на крылья, как на бомбардировщики, и, таким образом, мы решаем проблему с объемом или вместимостью. Мы просто расширяем эту возможность, частично решаем эту проблему.
Один вопрос я как скептик все-таки задам сразу. Я так понимаю, что пока это только двигатель с пропеллером. Я говорю для тех, кто плохо понимают в авиации, но понимают, что есть моторы с большими пропеллерами, которые крутятся, а есть такие, у которых реактивные турбины. Пропеллер можно крутить электромотором, а электромотор — подпитывать водородной энергетической установкой. Но мы знаем, что большие самолеты, которые летают на большие расстояния на достаточно больших скоростях, — это турбореактивные самолеты. И тут никакой электродвигатель не поможет, потому что физический принцип другой — там расширение горючей массы обеспечивает тягу, а не вращение винта как такового. Для больших турбореактивных самолетов вообще в перспективе вы видите, как приспособить водородное топливо? Или пока это удел именно таких винтовых самолетов?
Сергей Киселев: Если все-таки сравнить пропеллерные самолеты, например, с Boeing 737 или Airbus А320, то самая большая разница между ними и большими турбопропами... Турбопроп — это как раз самолет, у которого есть пропеллер, но в то же время источник этой движущей силы все равно турбина. Что происходит, когда мы переходим к большому самолету типа А320? Эти лопасти или пропеллер, которые мы видим снаружи, просто находятся внутри. А турбина как была там, так и осталась. То есть переход от больших турбопропов, допустим, к А320 в том, что, по большому счету, спрятали пропеллер, увеличили скорость вращения лопастей и модифицировали турбину. У нас существует уже дизайн, в котором реализованы эти идеи, мы сделали примерно такой же переход между турбопропом и тем, что мы называем турбоселом. Мы разработали уже какой-то концепт для а-ля А320, в котором мы спрятали пропеллер тоже внутрь, и если вы посмотрите на наш концепт, дизайн, большой разницы с роллс-ройсовским двигателем, по крайней мере снаружи, вы не увидите.
Я, конечно, вообще не техник, но, тем не менее, со школы имею общее представление. Я знаю, что в реактивном двигателе есть камера сгорания, где воздух сгорает с горючим, в данном случае это керосин, достигается расширение. Пропеллер обеспечивает повышенное давление в этой камере, а двигают двигатель уже не лопасти, а вырывающаяся под давлением, расширяющаяся от нагревания рабочая масса. То есть там нужно горение в этом объеме. С водородом, я так понимаю, так не получается?
Сергей Киселев: В нашей конфигурации не получается. Существуют, конечно, идеи того же Rolls-Royce о том, чтобы использовать в модифицированных стандартных турбинах вместо авиационного керосина водород, но они должны пройти через определенные изменения, потому что там и температуры другие, и коэффициенты сжатия другие и так далее.
Но водороду нужна очень низкая температура. Мы, наверное, не будем увлекаться чересчур физико-техническими деталями, хотя вы именно доктор физико-математических наук. Но просто для понимания скажите, пожалуйста, двигатель для большого самолета, на ваш взгляд, на водородном топливе возможен? И, если возможен, виден ли уже технический проект, как это будет делаться, или пока только ясно, как вращать электродвигателем большой пропеллер, но это все-таки на самолетах чуть меньшего размера, чуть меньшей дальности?
Сергей Киселев: Решения для маленького реактивного самолета, типа Airbus A320, у нас есть, и мы не видим каких-то больших ограничений с точки зрения реализации. Это дело времени, это, конечно же, дело человеческих и финансовых ресурсов, но мы видим, что в этом десятилетии мы, в принципе, должны реализовать данный проект. Мы верим в то, чтобы есть слона по кусочкам. То есть мы сначала полетали на шестиместном, следующий шаг — мы запустим 19-местный. Коммерческая продажа этого двигателя начнется в 2024 году. Через три года после этого, где-то в 2027-2028 годах, мы собираемся также начать продавать уже двигатели для самолетов класса 50 пассажиров и больше, это будет тоже турбопроп. И где-то через десятилетие мы видим, что самые маленькие Airbus A320 могут быть уже нашего вида конфигурации.
Компания ZeroAvia основана, если я ничего не путаю, только в 2018 году. А в 2020-м вы сделали двигатель, на котором пролетел первый шестиместный самолет, и основатель компании ZeroAvia Валерий Мифтахов летал в этом самолете, чтобы доказать, что это нестрашно. Это довольно удивительно, мы знаем, что какие сложные технологические и совершенно технологически новые вещи вроде бы делаются очень долго. Каким образом этот путь был пройден всего за два года?
Сергей Киселев: Мы работаем не в вакууме, мы используем достаточно большие наработки, которые были сделаны уже не нами, но в автомобильной индустрии. И таким образом, соединяя наши знания и знания, умения нашей команды и те наработки, которые уже были с точки зрения тех же электродвигателей, сначала мы летали на литий-ионных батарейках, потом топливный элемент начали интегрировать, и тот опыт, который был наработан в автомобильной индустрии, мы привнесли сюда. Плюс, конечно же, использовали инженерные навыки и умения тех людей, которые с нами работали. То есть мы, по большому счету, поженили...
Tesla с авиацией? Но в Tesla нет водородного двигателя. Я пока не знаю ни о каких готовых автомобилях, которые бы на водородном топливе так активно использовались. По крайней мере, нет на слуху.
Сергей Киселев: Активно или неактивно, но почти десять лет назад Toyota Mirai представила рынку первый автомобиль на водородном топливе. Наша корпоративная машина — это Toyota Mirai, которая использует, в принципе, такую же технологию, то есть топливные элементы водорода и так далее. Единственная проблема в том, что заправляться у нас здесь, в Великобритании, не особо где есть...
Уточню, я сказал, что вы в Калифорнии, вы действительно сейчас в Калифорнии, но база, где проходят испытания вашей техники, в Великобритании. Следующий вопрос все-таки насчет этих наработок. Если Toyota сделала двигатель на водородном топливе, то у нее, наверное, есть патент, и она, наверное, не один год над ним работала. А вы говорите, что взяли эти наработки, которые в автопроме появились, поставили их в самолет, приделали электродвигатель к вращающемуся пропеллеру — и все. А так можно — взять чужие наработки и сходу их привинтить к новому месту?
Сергей Киселев: Конечно же, у Toyota существует масса наработок и патентов. Мы, конечно же, не нарушаем никакие патенты — это первое. Второе: что мы сделали в первой конфигурации — мы интегрировали существующий компонент, например, топливный элемент. Или возьмем сначала электрический самолет: он летает, у него есть пропеллер, у него есть электрический мотор. Электрический мотор — это оборудование, которое можно купить на рынке. Дальше у нас существует электроника, которая нам необходима для того, чтобы конвертировать прямой ток в переменный ток для того, чтобы этот мотор крутился. Мы выбрали компоненты, которые смогут работать, во-первых, друг с другом, во-вторых, работать в режиме, как раз необходимом для самолета, и в-третьих, мы написали программную оболочку, которая необходима для того, чтобы управлять всем этим. И сделали какие-то интеграционные усилия для того, чтобы все это полетело. Основные компоненты, такие как электрический мотор и топливный элемент, мы действительно купили на рынке у определенных поставщиков, но с которыми нам пришлось пройти достаточно длительный путь. Допустим, с производителем топливных элементов с 2018-го по 2020 год мы работали постоянно для того, чтобы они модифицировали то, что у них сейчас есть, до того, чтобы позволило нам летать. Потому что там действительно необходимо было сделать определенные изменения как с конструктивной точки зрения, так и с алгоритмической точки зрения. Когда самолеты взлетают, как вы сами понимаете, нужна полная мощность на взлете, и после этого он летит примерно на 60-70-процентной мощности, когда он уже на определенной высоте. И это серьезным образом отличается от того, что используется в автомобильной индустрии. То есть нам необходимо очень быстро набрать максимальную мощность, и в этом, наверное, основной технологический момент.
Это уже техника, меня интересует с точки зрения бизнеса. Смотрите, собралась команда наших физиков в лице Валерия Мифтахова, вас. Я знаю, что Валерий с 1990-х годов в Америке. Airbus тоже давно открыл это направление — создать водородный двигатель. И почему вы оказались проворнее огромного Airbus? Просто это непонятно.
Сергей Киселев: Наверное, в первую очередь потому, что Airbus думает сразу о 70-местном самолете. Для того чтобы нам дойти до 70-местного самолета, как я уже сказал, нам необходимо еще порядка пяти-семи лет. Если мы начинаем с маленьких размеров, то реализовывать это гораздо проще. Дальше, наверное, сыграло роль то, что в такой большой компании, как Airbus, существует большой собственный бизнес. В Airbus это строительство самолетов, Airbus не строит двигатели. Для них строительство двигателя — это новая тема. Кроме того, я хотел бы отметить, что авиаиндустрия очень сильно зарегулирована. И у людей, которые приходят из индустрии, зачастую менталитет консервативный. Поэтому те вещи, которые мы делаем, и скорость, с которой мы делаем эти вещи, конечно же, сохраняют этот менталитет, нацеленный на сохранение безопасности, поддержание безопасности, но также, наверное, с большей толерантностью к рискам. Я думаю, что за счет этого мы по крайней мере раза в два быстрее движемся, чем остальные игроки.
У меня такой вопрос, если хотите, философский. Валерий Мифтахов и вы, я так понимаю, вместе когда-то учились в МФТИ.
Сергей Киселев: Конечно, мы были однокурсниками, даже соседями по комнате в начале 1990-х.
Он вас туда перетащил, он первый туда переехал еще в 1990-е? В 1990-е была другая картина, уезжали почти все, у кого была возможность поехать учиться в американский университет, все стремились. Сейчас, наверное, чуть-чуть по-другому или не совсем так, но в 1990-е была ясная картина. Вы туда переехали следом за ним?
Сергей Киселев: Переехал я на год раньше, чем он. Но, в принципе, мы оба достаточно, наверное, романтики. Мне хотелось заниматься физикой. В 1996 году, когда я уехал, я, занимаясь физикой в Институте физических проблем имени Капицы, занимаясь низкими температурами, хотел продолжать этим заниматься. Это была одна из возможностей: можно было остаться, можно было поехать, но так как мой отец военный, для меня переезжать из одного места в другое не является какой-то диковинкой, это было естественным решением для меня. И оно отыграло достаточно неплохо. После того как я приехал и начал работать с одним из профессоров в Корнеллском университете, он получил Нобелевскую премию, но, правда, за те наработки, которые были сделаны 20 лет назад. Но я продолжил заниматься физикой. И поэтому достаточно долгое время прожил в Штатах.
Те, кого заинтересует, найдут вашу биографию в интернете, там написано, как от науки вы все-таки оказались в бизнесе, как оказались в McKinsey, как занимались digital-маркетингом, вообще интернетом, цифровыми технологиями — там всего понемножечку, но именно из науки в бизнес перешли. Это интересный переход, который в России, кстати, почему-то очень редко у кого получается. Поэтому у меня такой вопрос: предположим, если бы вы жили не в Америке, а в России к началу описываемого нами периода жизни и технологических инноваций, пришло бы вам это в голову или кому-то другому в России — попробовать сделать так, то есть быстро купить что-то у автомобилистов, что-то у авиационщиков и собрать такой самолет, который первым в мире полетел на водородной силовой установке? Это бы получилось с такой же скоростью в российских условиях, при наличии тех же мозгов, задач и интересов? Или не получилось бы, на ваш взгляд? Есть вообще какая-то принципиальная разница?
Сергей Киселев: Наверное, было бы тяжелее. За границей есть доступ к различным производителям оборудования, технологий, которые существуют уже достаточно давно. В России же, как вы сказали вначале, тема водорода еще суперновая. В России топливных элементов с мощностью, которая нам нужна, не производится. Электродвигатели производятся, но не с теми параметрами с точки зрения плотности, мощности на килограмм или на литр, таких аналогов в России нет. Здесь же мы можем найти поставщиков, которые смогут нам произвести или поставить оборудование, те же электродвигатели, с теми параметрами, которые нам необходимы.
Я знаю, что у вас все хорошо с ресурсами. Как только вы показали, чем занимаетесь, в вас вложило британское правительство, затем вложил один из венчурных фондов, которые финансируют Билл Гейтс, Джефф Безос, и вообще стоит очередь из фондов, которые готовы вас финансировать. В тех условиях, в которых вы сейчас находитесь, у вас вообще возникает вопрос: мы хотим что-то купить, но у нас нет денег, и мы год, два или пять думаем, как бы нам взять деньги, чтобы нанять людей, купить комплектующие и все это сделать?
Сергей Киселев: Слава богу, сейчас проще, таких острых вопросов не возникает. Но год назад у нас не то чтобы проблемы были, но были вопросы, потому что не было Гейтса, было действительно британское правительство, но для того, чтобы продолжать получать деньги от британского правительства, нужно на один фунт стерлингов от британского правительства положить один фунт стерлингов от компании ZeroAvia. Это была непростая задача. После того как действительно мы начали летать на водороде, эта проблема была, наверное, решена, по крайней мере на следующие несколько лет, чтобы финансировать нашу программу как с 19-местным самолетом, начать разработки двигателя для 50-местного самолета, у нас, в принципе, финансирования достаточно.
А вы с российской инновационной средой как-то знакомы, знаете, в каких они условиях живут? У вас родилась идея, но вам нужно где-то взять деньги для того, чтобы элементарно материалы купить, людей нанять, испытания проводить, дальше вы сделали образец, и вам хлынули сразу десятки миллионов долларов. По вашему мнению, если вы что-то знаете о нашей жизни, у нас эти периоды пройти за два года удалось бы кому-то или нет? Или лучше просто пойти работать в Академию наук, и там быстрее получится, чем в таком частном порядке?
Сергей Киселев: По крайней мере я знаю, что в России в принципе существуют возможности. Наверное, аналогом было бы что-то связанное с электромобилями. Если посмотреть на какие-то российские продукты, то, допустим, электробусы в Москве вы видите там постоянно на улице, другие города начали использовать их. Если решить вопрос с компонентной базой, собрать такой кубик Рубика, то, я думаю, можно сделать и в России. С точки зрения финансирования, наверное, было бы несколько сложнее, но, в принципе, сейчас существует достаточно денег, и, если есть какая-то рабочая идея, опять же, наверное, надо начинать с тех задач, которые мы сможем решить, то есть если мы видим какой-то путь для их решения. Не надо начинать с большого турбопропа или с Airbus A320, давайте начнем с маленького.
В заключение хотел поговорить еще немножко о водороде и о некоторых идеях, которые я читал в интервью Валерия Мифтахова и в ваших выступлениях. Откуда брать водород? И так ли это все в действительности экологически чисто, как нам сейчас рисуют? Да, водород, когда сгорает, не оставляет СО2, но откуда взять водород? Я читал в некоторых интервью, что все это будет браться из возобновляемого электричества, то есть процесс добычи водорода будет происходить электролизом воды, а само электричество, которое понадобится для этого в больших количествах, будет браться из ветра, воздуха, солнца — чего угодно. Я в России слышал совсем другую концепцию, что водород будет браться либо из газа, либо на атомных станциях в процессе химического процесса, который происходит в рамках ядерной реакции на атомных станциях. А у Валерия Мифтахова еще звучало, что электричество вообще будет совсем бесплатным, от ветра. У меня здесь есть некое расхождение в понимании этого дела. Водород — это хорошо, но его же надо получить. Из воды он просто так не выделяется, на это надо потратить большое количество энергии.
Сергей Киселев: Если посмотреть на сегодняшнее производство водорода, то действительно 99%, может быть даже, побольше, производится за счет различных химических процессов использования того же метана или угля. То есть это так называемый серый водород или коричневый водород. Соответственно, углеродный след от этого достаточно большой. На одну тонну произведенного водорода мы производим порядка 8 тонн СО2.
Ну вот, электрокар — это хорошо, только в этот момент городские жители не задумываются, что электричество тоже выработано с использованием углеродных источников.
Сергей Киселев: Это если использовать химические процессы. Если же использовать электролиз, то углеродный след от водорода, который мы потом соединим с кислородом и получим воду и, соответственно, не будет никаких выбросов от конечного продукта, углеродный след зависит от того, какое электричество мы используем. Если это атомная энергия, то, по-моему, этот водород называется «розовым».
«Оранжевым», по-моему. Еще пока не присвоили эти точные цветовые обозначения.
Сергей Киселев: Интересная цветовая гамма намечается. При использовании той же атомной энергии получается безуглеродный водород. Если мы используем возобновляемые источники энергии: гидро, ветер, солнце, то тоже получается безуглеродный водород, так называемый зеленый водород. Как мы видим в большинстве развитых стран, в частности, в Европе, Штатах, возобновляемая энергетика сейчас по стоимости генерации электрической энергии уже сравнялась с традиционной энергетикой. Грубо говоря, производство киловатт-часа от ветряной электростанции стоит столько же, сколько от электростанции на газе. И эта ситуация будет улучшаться с годами. Ветровая и солнечная генерация будут все более и более конкурентоспособными с существующей традиционной генерацией. Это тенденция. Та же Европа хочет уйти от нашего газа, не знаю, насколько это получится в конце концов, но большую часть электрической энергии к 2050 году будут производить из возобновляемых источников энергии. Проблема с возобновляемыми источниками в том, что ветер дует когда дует, солнце светит когда светит.
А когда холода приходят в Техас, то замерзает солнечная батарея и даже ветряной генератор.
Сергей Киселев: Да. И водород, в частности, рассматривается как один из способов сохранения энергии. Мы производим водород с помощью достаточно дешевой возобновляемой энергии, а потом сохраняем его так же, как сохраняем сейчас природный газ в газохранилищах, после этого, когда нам необходимо, мы используем этот водород для генерации электрической энергии. Это то, как рассматривается, в частности, в некоторых применениях использование водорода как среды для сохранения энергии. Эту энергию можно сохранять в тех же литий-ионных батареях, но, как оказывается, это достаточно дорогое удовольствие.
И тоже не безвредное для природы.
Сергей Киселев: Да. С точки зрения того же водорода, если мы используем возобновляемую энергетику, это, кстати, может производиться прямо на территории аэропорта. Можно установить солнечные панели рядом с аэропортом, ветряные генераторы в стороне от аэропорта, такие решения существуют. Таким образом, можно генерировать электрическую энергию рядом с аэропортом и производить собственный «зеленый» водород, который потом будет использоваться в наших самолетах.
Илья Копелевич

Мы нефтяная, а не богатая страна — откровения наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана
«Нефть и Капитал» публикует наиболее интересные ответы Мохаммеда бин Салмана на вопросы саудовского журналиста Абдуллы Аль-Мудайфера в переводе с английской версии интервью, представленной порталом Arab News.
Формальным поводом для полуторачасового интервью, которое дал национальному телевидению Саудовской Аравии фактический правитель страны Мохаммед бин Салман, стало пятилетие с момента принятия национальной стратегии Vision 2030. Главная цель этого документа, разработанного под руководством принца Мохаммеда, — диверсификация экономики королевства — вполне типична для нефтяных держав, каковой Саудовская Аравия, согласно утверждению наследника ее престола, до сих пор и остается. Однако между строк интервью легко вычитывается и политическая повестка стратегии — консолидация власти в руках кронпринца при жизни его престарелого отца, 85-летнего короля Салмана. За последние несколько лет принц Мохаммед фактически выстроил в Саудовской Аравии собственную вертикаль власти и получил в распоряжение параллельный бюджет страны — средства Государственного инвестиционного фонда (PIF), при помощи которых он планирует снижать ее зависимость от нефти. Но это не означает, что Саудовская Аравия мыслит свое будущее без нефти — совсем наоборот. Из рассуждений наследника саудовского престола вполне понятно, что саудиты делают ставку на относительно скорое исчерпание нефтяных запасов их главных конкурентов — США и России, которое позволит королевству контролировать основной объем предложения на рынке.
— Как развивалась бы Саудовская Аравия без принятия стратегии Vision 2030, если бы она по-прежнему шла по пути нефтедобывающей страны?
— Нефть, несомненно, принесла большую пользу Саудовской Аравии, но наша страна была основана еще до открытия нефти. Доходы и рост, достигнутые благодаря нефти, намного превышали то, что нам требовалось в 1930–40-е годы — они оказались в сотни раз больше того, к чему мы стремились. Из-за этого создалось впечатление, что нефть обеспечит все наши потребности.
В начальный период истории страны ее население составляло менее 3 млн человек, а в Эр-Рияде насчитывалось всего 150 тысяч жителей. Сейчас численность саудовцев достигла примерно 20 млн человек, и нефть уже едва ли сможет обеспечить тот образ жизни, к которому мы привыкли начиная с 1960-х годов. Если бы мы пошли тем же путем, то с учетом роста населения спустя два десятилетия мы бы вряд ли смогли удовлетворять свои потребности на сложившемся уровне. В этом заключался главный риск. При этом было понятно, с какими проблемами рынок нефти столкнется в ближайшие 40-50 лет — сокращение потребления, возможное снижение цен, макроэкономические неурядицы и т. д.
Второй ключевой момент, сделавший принятие стратегии Vision 2030 необходимостью, заключается в том, что у Саудовской Аравии имеется масса возможностей в различных секторах, помимо нефтяного — в горнодобывающей промышленности, туризме, сфере услуг, логистике, инвестициях и т. д.
— Цели стратегии крайне амбициозны, но остается вопрос о том, как обеспечить их реализацию.
— Многие из конкретных цифр действительно слишком высоки с точки зрения наших целей. Нефтяная проблема не исключение. Но отдельных показателей, например, по той же жилищной обеспеченности нам удалось достичь в срок: мы ставили цель в 60% до 2020 года, и теперь ориентируемся на то, что к 2025 году от 62 до 70% саудовцев будут иметь собственное домовладение.
Что касается Государственного инвестиционного фонда, то в 2020 году мы планировали довести его объем до 7 трлн риалов. Фактически в прошлом году он составлял 4 трлн риалов, однако на 2030 год ставится цель увеличить фонд до 10 трлн риалов.
Но я хотел бы вернуться к самому большому вызову, с которым мы столкнулись в 2015 году, когда король Салман взошел на престол.
У нас были министерства, другие учреждения, была целая система управления, но исполнительная власть как таковая отсутствовала, и это не позволяло проводить централизованную политику.
То же Министерство жилищного строительства получило в 2011 году 250 млрд риалов, но спустя четыре года смогло потратить только 2 млрд, потому что действия муниципалитетов не соответствовали жилищной политике. Нужна была система ипотечного кредитования недвижимости, которую можно было внедрить только с помощью законодательства о Центральном банке. Таким образом, без сильной позиции государства, которое разрабатывает политику, устанавливает стратегии, согласовывает их с различными учреждениями и наделяет каждое министерство ролью, необходимой для их реализации, ничего не будет достигнуто.
На 2015 год 80% министров были неэффективными — я бы даже не назначил их руководить мелкими компаниями. Большинство руководителей министерств занимались рутинной работой, в их деятельности не было никакого стратегического планирования. Поэтому главной задачей было создание команды, и я возглавил процесс создания комиссий для включения целей Vision в стратегии для каждого сектора — жилищного строительства, энергетики, промышленности, качества жизни и т. д. Также мы попытались создать Бюджетное бюро, функции которого не ограничивались бы обычными задачами Министерства финансов — простого казначейства, которое должно выдавать средства на основе бюджета.
Предварительная работа по определению стратегических приоритетов заняла около трех лет начиная с 2016 года, после чего государство вышло на те позиции, с которых можно было запускать реализацию Vision. Если вы считаете, что прошлогодние достижения были слабыми в сравнении с 2019 годом, то не переживайте — саудовскую экономику ждет V-образное восстановление. Мы уже проделали 70% работы по формированию эффективного государства.
— Как вы подбираете команду?
— Конечно, основа — это достоинства, эффективность, возможности людей. Но самое главное — страсть, это самая большая мотивация для действий любого чиновника и лидера. Если он не увлечен своим делом, ему будет очень трудно добиться целей. Например, принц Абдулазиз бин Турки страстно занимается спортом, и он действительно эффективен на своей должности министра спорта. То же самое могу сказать о многих наших министрах: назовите мне любое имя, и скажу вам, в чем его страсть и как он может достичь того, на что способен.
— Каковы текущие доходы Государственного инвестиционного фонда?
— Пока поступления из фонда в государственную казну равны нулю. Дело в том, что мы все еще создаем огромный фонд, чтобы после 2030 года он пополнял доходы государства. Нынешних 2,5 трлн риалов или 4 трлн в 2025 году будет недостаточно, чтобы сбалансировать доходы, которые мы получаем от нефтяного сектора. Поэтому цель заключается в том, чтобы изменить сам баланс, увеличив размер фонда до 10 трлн риалов в 2030 году. За четыре года объем активов фонда уже вырос на 300%, а в следующие несколько лет они должны увеличиться еще на 200% и более.
— Это и есть наша новая бочка с нефтью?
— Да, это новые доходы от нефтехимии и других отраслей обрабатывающей промышленности, а также нам нужны доходы от государственных инвестиций и диверсификации экономики. Правда, если раньше доходность фонда составляла 2-3%, то теперь он нацелен на 6-7%. В 2020 году инвестиции фонда в новые сферы экономики составили 90 млрд риалов, а в этом году будет потрачено 160 млрд. Для сравнения, капиталовложения из бюджета нашего государства составляют 150 млрд риалов в год, то есть фонд тратит уже больше, чем бюджет. Так будет продолжаться и дальше, пока к 2030 году инвестиции фонда не превысят 300 млрд риалов.
— Как вы хотите потратить эти деньги?
— Политика фонда предполагает, что он не должен удерживать никаких активов — от любого актива, подходящего к максимальной оценке, необходимо избавляться.
Если этот актив относится к фондовому рынку, то мы будет сокращать свою долю до такого уровня, который обеспечивает нам контроль.
Но я не могу привести конкретные примеры, поскольку это повлияет на рынок Саудовской Аравии и повредит другим игрокам.
— Означает ли все это, что Государственный инвестиционный фонд позволит нам обойтись без нефти?
— Существует ошибочное мнение, что Саудовская Аравия хотела бы обойтись без нефти. Это совершенно не так. Мы хотим задействовать все ресурсы, будь то нефтяной сектор или другие отрасли. Сейчас коллективные ожидания в нефтяном секторе предполагают, спрос на нефть будет расти до 2030 года, а ряд экспертов считают, что после этого спрос начнет постепенно снижаться до 2070 года. Но если посмотреть на ситуацию с другой стороны — со стороны предложения, то окажется, что оно сокращается быстрее, чем происходит снижение спроса на нефть.
Например, США через десять лет не будут нефтедобывающей страной.
Сегодня они производят около 10 млн баррелей в сутки, а через десятилетия едва ли будут добывать и 2 млн баррелей. Россия производит около 11 млн баррелей в сутки, а через 19-20 лет будет производить только около 1 млн баррелей сутки. Таким образом, предложение сокращается намного быстрее спроса. В дальнейшем Саудовская Аравия планирует увеличить добычу нефти, чтобы покрыть потребность в ней — это вполне многообещающая перспектива, но полагаться на нее не стоит.
Saudi Aramco намерена направлять 3 млрд баррелей нефти для использования в различных отраслях промышленности, и это еще одно измерение, которое обеспечит значительный рост нашей экономики. Возможности Aramco в различных секторах промышленности огромны. Она сможет стать одной из крупнейших в мире компаний в области судостроения, в производстве труб, кабелей и других комплектующих. Так что даже в нефтяном секторе имеются огромные возможности для диверсификации. Мы хотим увеличить выгоду, которую мы получаем от нефти для обрабатывающей промышленности и других отраслей, а затем создать другие возможности вне нефтяного сектора для диверсификации нашей экономики.
— О каких новых проектах Aramco вскоре будет объявлено?
— Я не хочу давать никаких обещаний, но сейчас обсуждается возможность продажи 1% Aramco одной из ведущих мировых энергетических компаний.
Это огромная компания, и если сделка состоится, то она будет иметь большое значение для увеличения продаж Aramco в соответствующей стране. Обсуждаются и другие варианты — например, передача части акций Aramco в Государственный инвестиционный фонд, а еще одна их часть может быть предназначена для рынка Саудовской Аравии.
— В прошлом году в Саудовской Аравии произошло трехкратное увеличение НДС с 5% до 15%. Не было ли других вариантов пополнения бюджета, кроме повышения налогов?
— Как вы хорошо знаете, треть населения Саудовской Аравии не является саудовцами, и вместе с высоким экономическим ростом эта доля может увеличиться. Уже к 2030-2040-м годам в стране может проживать половина иностранцев, и если у нас не будет НДС, особенно с открытием туристического направления, ориентированного на 600 тысяч гостей в год, наш бюджет очень много потеряет.
Конечно, повышение НДС — это обидная мера. Для меня это последнее решение, способное причинить вред гражданам Саудовской Аравии, которое я мог принять. Сам я небедный человек, у меня есть деньги. Я был богат еще до того, как приступил к работе во власти. Я не желаю никому причинять вред, но хочу, чтобы наша родина росла, а наши граждане были счастливы и процветали. Мой долг — построить для них долгосрочное будущее, обеспечить продолжение развития, а не просто удовлетворять потребности людей в течение трех или четырех лет, а затем исчерпать все возможности страны для лучшего будущего. Поэтому был принят ряд решений, включая повышение НДС. Но это временное решение — оно рассчитано максимум на пять лет, а затем все вернется на круги своя.
— Значит, НДС будет сокращен?
— Да, мы нацелены на то, чтобы ставка НДС составляла от 5 до 10% после того, как будет восстановлен баланс бюджета после пандемии — это минимум год, максимум пять лет. В Саудовской Аравии не будет подоходного налога, но один из моих главных приоритетов — стабильные финансы, которые смогут поддерживать рост экономики.
Никто не ожидал коронавируса, и сейчас мы пытаемся принять необходимые меры, чтобы ослабить влияние пандемии и сохранить наши возможности для устойчивого роста. Посмотрите на Китай, который начал свое восхождение в 1970-х годах и пришел к подлинному процветанию только в 90-х. Не ожидаю, что отказаться от использования нефти в качестве главного источника дохода, провести диверсификацию экономики, обеспечить устойчивый рост, снизить безработицу до естественного уровня и увеличить доходы можно будет без каких-либо жестких мер. Мы не утверждаем, что это займет два десятилетия, как в Китае, но потребуется, вероятно, несколько лет, и если бы не пандемия, все было бы намного лучше.
— Граждане Саудовской Аравии постоянно задают вопрос: если мы богатая страна, то почему мы повышаем цены на энергоносители всякий раз, когда цены на нефть растут?
— Мы нефтяная страна, а не богатая страна. Возьмите для сравнения Ирак или Алжир — это богатые страны? Мы были очень богаты в 1970–80-е годы, когда у нас было меньшее население и много нефти. И если мы не будем сохранять наши сбережения и не будем регулярно расширять наши инструменты диверсификации, мы превратимся в более бедную страну.
— Какова ваша философия во внешней политике?
— Интересы Саудовской Аравии.
— Есть ли какие-то разногласия между Саудовской Аравией и США после прихода в Белый дом новой администрации? Можно ли утверждать, что Вашингтон повернулся спиной к Эр-Рияду?
— Нельзя говорить об абсолютном согласии в отношениях между двумя странами.
В зависимости от конкретной администрации США наши позиции могут сближаться или отдаляться, но с администрацией Байдена у нас есть согласие по более чем 90% саудовско-американских интересов, и мы надеемся так или иначе усилить их.
Последним шагом в этом направлении было наше присоединение к группе стран, ставящих значимые цели в области «чистой» энергии и сохранения окружающей среды — в общей сложности к США в этой сфере подключились меньше десятка государств.
США, безусловно, являются стратегическим союзником Саудовской Аравии более 80 лет, и это оказало большое влияние на обе страны. Просто представьте себе, как развивались бы события, если бы в свое время контракт на закупку 10 млн баррелей нефти по очень низкой цене 3-6 долларов за баррель был заключен не с США, а с Великобританией — колониальной державой. В этом случае США вряд ли бы достигли своего сегодняшнего положения.
— А каковы перспективы отношений с Ираном? Какие усилия предпринимаются для урегулирования нерешенных вопросов между Саудовской Аравией и Ираном?
— В конце концов, Иран — наш сосед, и все, о чем мы просим, — это хорошие отношения с ним. Мы хотим, чтобы Иран процветал и рос, поскольку у нас есть взаимные интересы. Но мы сталкиваемся с проблемой недоброжелательных действий Ирана, будь то его ядерная программа, поддержка незаконных вооруженных формирований в некоторых странах нашего региона или разработка баллистических ракет. Сейчас мы работаем с нашими партнерами в регионе и во всем мире, чтобы найти решения этих проблем.
— Мы не можем говорить об Иране, не упоминая о Йемене. Саудовская Аравия недавно выдвинула инициативу по урегулированию ситуации в этой стране, но она фактически была отклонена. Каково будущее Йемена сейчас?
— Как вам хорошо известно, это далеко не первый кризис в отношениях между Йеменом и Саудовской Аравией. До того, как в 2014 году против законного правительства Йемена выступили хуситы, все эти кризисы удавалось разрешить. Но действия хуситов незаконны в глазах всего мира, ни одна страна не согласится с тем, что на ее границах действуют незаконные вооруженные группы. Мы видели последствия этого для Йемена, но по-прежнему надеемся, что хуситы сядут за стол переговоров вместе со всеми другими сторонами конфликта. Наше предложение о прекращении огня и предоставлении Йемену экономической и прочей поддержки по-прежнему открыто при условиях, что хуситы соглашаются на переговоры.
— Могут ли хуситы принять такое решение сами, или за них будет решать Тегеран?
— Должны ли мы для начала решить другой вопрос, например, об иранской ядерной программе, прежде чем хуситы согласятся вести с нами переговоры? Нет сомнений в том, что у хуситов прочные отношения с иранским режимом, но в конечном итоге они являются йеменцами, у них имеется арабский и йеменский инстинкт, который, как мы надеемся, возродится, чтобы они могли ставить на первое место собственные интересы и интересы своей страны.

Здорово стареть
Российский ученый знает, как продлить качество жизни
Текст: Юрий Медведев
Результаты уникального исследования профессора американского Университета Ратгерса Алексея Рязанова станут основой для разработки принципов "здорового старения". Об этом ученый рассказал корреспонденту "РГ".
Хотя старение изучается, наверное, столько, сколько существует современный человек, но его причины остаются тайной за семью печатями. Помню, как на одной крупной международной конференции на вопрос, что такое старение, 35 ученых дали разные ответы. Это напоминает ситуацию из знаменитой притчи про мудрецов, которые, изучая слона, по-разному ответили, что же это за животное. А вы сторонник какой гипотезы старения?
Алексей Рязанов: Возможно, вы удивитесь, но никакой. Мой подход к старению в принципе противоречит общепринятым. Как традиционно его изучают? Один ученый говорит, я считаю, что главное - уже ставшие знаменитыми теломеры, давайте изучать их, другой - винит антиоксиданты, третий - сшивки белков и далее по списку. То есть сначала выдвигают гипотезу, предлагают какой-то механизм действия, а затем в лаборатории ищут подтверждение гипотезы. И здесь надо подчеркнуть самое главное: все эти работы в подавляющем большинстве ведутся на клетках, дрожжах, мушках, смотрят, что происходит в генах. Пользуясь вашей аналогией, при таком подходе мы никогда не поймем, что же такое слон. Не разберемся в причинах старения, потому что его надо изучать в целом организме, причем животного во многом очень сходного с человеком. Поэтому я предложил: давайте отбросим все эти бесконечные гипотезы, а проверим на животных всю фармакологию и многие известные соединения. Как они влияют на старение.
Но на мышах такие исследования давно ведутся...
Алексей Рязанов: Да, ведутся, но какой масштаб? Скажем, программа в США Intervention Testing Program с 2004 года проверила на мышах всего 30 веществ. По сути, ничто, ведь одних лекарств несколько тысяч. Так мы не разберемся с "фармакологическим" слоном. Нужен принципиально другой подход. Когда десять лет назад рассказал об этом на научном семинаре, идеей заинтересовался один наш бизнесмен и предложил ее реализовать. Что мы и сделали.
Целых десять лет, чтобы прокачать через мышей фармакологию? Понимаю, что ваш подход был неожиданным, противоречил традиционному, но сама наука в данном случае, мне кажется, не такая уж и мудреная: корми препаратом и смотри, сколько мыши проживут.
Алексей Рязанов: Думаю, не имеет смысл подробно вдаваться во все детали сложных для массового читателя исследований. Напомню лишь пример, который только что приводил: в США с 2004 года проверено 30 веществ, а мы проверили более 1000 в одном эксперименте! Он продолжался почти 4 года, в нем использовали около 20 тысяч специальных долгоживущих мышей. Наше исследование очень дорогое, в него вложено более 10 миллионов долларов.
Каковы результаты? Удалось найти "молодильные яблоки"?
Алексей Рязанов: Исследовано 1033 лекарственных препарата и соединения, включая витамины, пищевые добавки и природные соединения. Мы обнаружили 60 соединений, которые продлевают жизнь на 10% и более, а 5 из них - на 16-20%. Но понадобилось еще несколько лет работы после эксперимента, чтобы на основе полученных данных разгадать два механизма продления жизни.
А конкретно, что это за вещества?
Алексей Рязанов: Они относятся к двум фармакологическим классам. Первый - хелаторы, но - особые, второй - определенные активаторы метаболизма ксенобиотиков. И те и другие отвечают за уборку из организма "мусора", то есть различных токсинов. Работают эти "дворники" по-разному. Хелаторы захватывают мусор, связывают его и выводят, а активаторы стимулируют в организме систему детоксикации, и уже она лучше выводит всевозможные токсины и "мусор". В результате на большой статистике, на больших группах мышей мы увидели, что получавшие эти вещества животные стали долгожителями по сравнению со своими обычными сородичами.
Алексей Георгиевич, в нашей науке вы по-своему историческая личность. Защитили диссертацию в 28 лет и стали самым молодым в СССР доктором биологических наук. Что это было за исследование? Тоже связанное со старением?
Алексей Рязанов: Это отдельная история. Тогда я еще не был даже кандидатом наук, более того, и традиционную докторскую диссертацию я не писал. На защите своей работы сделал научный доклад, который, по сути, был авторефератом в 10 страниц. Речь шла об открытом мною в конце 80-х годов в Институте белка РАН нового фермента - eEF2-киназа. Оказалось, что у него много самых разных свойств, например, он помогает убирать дефектные зародышевые клетки. Его выключение можно использовать при лечении онкологии. Кроме того, этот фермент можно применять для создании препаратов, которые защищают от радиации. Но чтобы в этом разобраться, понять, как он работает, потребовались многие годы. А тогда мы опубликовали в журнале Nature статью о факте самого открытия неизвестного доселе фермента.
Статья в этом журнале - мечта для любого ученого. Считается, если напечатался в Nature, значит, сделал в науке что-то очень достойное. А вы опубликовались, даже не будучи кандидатом наук. А кто же тогда значился первым в списке авторов?
Алексей Рязанов: Было три автора. Первым стояло мое имя. Тогда я был еще аспирантом. И два стажера. А моим научным руководителем был крупнейший российский биолог Александр Сергеевич Спирин. Хотя мы с ним работали в одной комнате, каждый день все обсуждали, но он считал, что этого недостаточно, чтобы стать соавтором. Нужно внести конкретный научный вклад. Это был человек высочайших этических норм. Он оказал на меня огромное влияние. И уже работая много лет в США, я каждый год приезжал в Пущино, встречался с Александром Сергеевичем, мы обсуждали ситуацию в мировой и отечественной науке. К сожалению, он недавно ушел из жизни. Это огромная потеря не только для всего научного сообщества, но и для меня лично.
После той публикации в Nature вас, наверное, завалили предложениями из иностранных научных центров. Ведь тогда вы и покинули Россию. Тем более что для российской науки настали тяжелейшие времена, десятки тысяч наших ученых потянулись на Запад.
Алексей Рязанов: Я никуда не уезжал, до сих пор являюсь гражданином России. И до 2017 года числился ведущим научным сотрудником в Институте белка, считалось, что был в командировке. А уволиться пришлось по условиям мегагранта, но это другая история.
Я поехал в США не потому, что собирался эмигрировать. Дело в том, что наш известный ученый Израиль Моисеевич Гельфанд хотел в Университете Ратгерса организовать биологическую лабораторию и пригласил меня помочь. Так я оказался в США. Два года мы этим занимались, но так ничего не получилось, но мне предложили остаться. Так что с 1991 года живу здесь, но в душе остаюсь сотрудником своего института в Пущино. Очень люблю это место, несколько раз в год сюда приезжаю.
Алексей Георгиевич, а есть у вас хобби помимо науки?
Алексей Рязанов: Конечно, есть. Например, очень увлекаюсь ездой на велосипеде, а еще кемпингом.

Киберпираты и труба
Хотелось бы надеяться, что в ближайшее время кибербезопасность станет ключевой темой сотрудничества в международной повестке вместо регулярных бездоказательных обвинений
Судя по сообщениям американских СМИ со ссылкой на «источники в структурах, связанных с обеспечением кибербезопасности», стало понятно, что во время длинных майских праздников не все россияне отдыхали. 7 мая была совершена хакерская атака на оператора крупнейшей американской трубопроводной системы Colonial Pipeline, которая прокачивает практически половину объема всего топлива (дизель, бензин, авиационное топливо и др.), поступающего из центров добычи и переработки нефти (Мексиканский залив, штат Техас) во все крупные центры потребления Восточного побережья США, включая крупнейший американский мегаполис Нью-Йорк. Протяженность трубопроводной системы Colonial Pipeline почти 9 тысяч км.
И вот почти за 50-летнюю историю существования трубопровода работа этой системы была парализована в результате хакерской атаки некой группировки под названием DarkSide, которую, по сложившейся уже в последние годы традиции, американские СМИ поспешили связать со всемогущими «русскими хакерами». И дело здесь не в несостоятельных обвинениях в сторону России, а в том, что создан еще один прецедент вмешательства внешних сил в работу инфраструктурного объекта, который отвечает за жизнедеятельность нескольких крупных регионов в крупнейшей экономике мира — США.
В результате сбоев в работе системы Colonial Pipeline в нескольких американских штатах объявлено чрезвычайное положение, рынок нефтепродуктов дестабилизирован, цены растут, трейдеры закупают дополнительные объемы на внешних рынках (в частности, на европейском рынке).
Из произошедшего инцидента необходимо извлечь прямой урок: на современном этапе развития цифровых технологий любой объект хозяйственной, социальной или военной инфраструктуры в мире может подвергнуться кибератаке в любой момент.
Последствия сложно предсказать. В этом контексте отечественным государственным и частным структурам необходимо планировать и проводить целый комплекс мероприятий, призванных максимально защитить свои объекты от атак киберпиратов. И российский ТЭК в этом смысле находится на передовой с его развитой энергетической инфраструктурой, которая является основой для обеспечения жизнедеятельности всех регионов нашей страны.
И очень хотелось бы надеяться, что в ближайшее время кибербезопасность станет ключевой темой сотрудничества в международной повестке и вместо регулярных бездоказательных обвинений международные игроки начнут реализовывать совместные проекты. Хотя, надо признаться, что надежд мало… если посмотреть на происходящую на наших глазах международную «гонку вакцин» во время пандемии.
Вячеслав Мищенко
Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Юрий Аверьянов: считаем недопустимым сдерживание России в Арктике
Россия через несколько дней возглавит Арктический совет – ведущую международную организацию, содействующую сотрудничеству разных стран в Арктике. О том, какие инициативы в этом статусе будет предлагать российская сторона, как Запад превращает тему охраны северной природы в инструмент давления и недобросовестной конкуренции, и почему диалог по Арктике может стать моделью для отношений РФ и США в других сферах, в интервью РИА Новости рассказал первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов. Он также коснулся темы биологической безопасности и пояснил, каким образом приближение к границам России военных биолабораторий США и стран НАТО может создать смертельную опасность для мирного населения.
– Юрий Тимофеевич, в мае председательство в Арктическом совете переходит к России. Какие проблемы вы считаете наиболее важными для решения в этот период?
– Предполагается, что основные усилия нашей страны как председателя в Арктическом совете будут сосредоточены на экологической, социальной и экономической проблематике развития региона. В социальной сфере на первый план выходят вопросы качества жизни коренных малочисленных народов. Это обеспечение качественного здравоохранения, образования и многие другие проблемы.
Для всех стран-участниц и наблюдателей Арктического совета в той или иной мере актуальны вопросы изменения климата, сокращения вредных выбросов в атмосферу и загрязнения окружающей среды.
Планируем продвижение российских инициатив по использованию природосберегающих технологий в промышленности, энергетике, на транспорте и в других сферах. Обменяемся опытом по сохранению уникальных экосистем, объектов животного и растительного мира. Как известно, в Арктической зоне России сформирована федеральная сеть из 12 государственных заповедников, национального парка "Русская Арктика" и федерального заказника "Земля Франца-Иосифа". Помимо охраняемых территорий федерального значения в арктическом регионе установлены особо охраняемые территории регионального значения.
– Насколько обоснованы опасения, что под предлогом охраны природы может идти вытеснение конкурентов с той или иной экономически привлекательной арктической территории?
– Такая опасность существует. Мы видим, что страны Запада все чаще превращают экологическую и природоохранную тематику в инструмент давления, дискриминации и недобросовестной конкуренции. Так, например, под предлогом защиты морской среды происходит вытеснение российских рыбопромысловых судов из рыбоохранной зоны Шпицбергена.
Влиятельные западные неправительственные экологические организации тиражируют в адрес российских властей и работающих в регионе компаний обвинения в нанесении ущерба местным экосистемам. Часто видим, как западные экологи яростно протестуют против наших проектов, хотя по другую сторону границы зарубежные предприятия продолжают работать, но в их адрес не звучит ни слова.
Зачастую иностранные экологи призывают к сохранению уязвимых экосистем Арктики именно вблизи российских стратегических объектов, на участках, где расположены перспективные с точки зрения освоения месторождения или судоходные маршруты.
И это при том, что такой огромной работы по ликвидации накопленного ущерба природе, которую Россия выполнила за последние десятилетия в Арктике, не провела ни одна другая страна. И экологическая ответственность наших компаний соответствует, а нередко существенно превышает самые прогрессивные мировые стандарты.
Очевидно, что благородный предлог здесь служит лишь прикрытием для вмешательства в наши внутренние дела и срыва стратегических проектов.
– Указом президента в прошлом году была создана межведомственная комиссия Совета безопасности России по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике. В чем заключается необходимость в этой комиссии, ведь уже действует государственная комиссия по вопросам развития Арктики?
– Межведомственная комиссия образована в связи с обострением международной конкуренции за контроль над арктическим регионом, усилением военного и экономического присутствия приполярных и внерегиональных государств, попытками дискредитации деятельности нашей страны в Арктике. Что же касается государственной комиссии по вопросам развития Арктики, то она продолжит заниматься вопросами социально-экономического развития региона.
– В положении о новой комиссии есть один примечательный пункт, который впервые обозначен в официальных документах в перечнях возможных угроз национальной безопасности России – а именно угрозы, связанные с участием иностранных компаний в реализации крупных инвестиционных проектов по освоению Арктики. О чем здесь идет речь?
– Введенные в отношении России экономические санкции и отсутствие необходимых объемов инвестиций у российских компаний сдвинули сроки начала реализации многих запланированных проектов в Арктической зоне Российской Федерации. Все это негативно сказывается на перспективах освоения арктического шельфа и модернизации портовой, энергетической и социальной инфраструктуры.
В условиях объективной недостаточности финансовых ресурсов компаниям приходится привлекать иностранные инвестиции. Вместе с тем значительные объемы зарубежных вложений порождают определенные риски, среди которых можно выделить рост экономической или технологической зависимости, что в свою очередь может быть использовано как инструмент давления. Кроме того, привлечение иностранных технологий или размещение заказов для реализации российских проектов на зарубежных предприятиях ограничивает возможности развития собственной технологической базы.
Именно в целях недопущения возникновения подобных рисков, защиты национальных интересов, поддержки и развития российских инвесторов и производителей важно пристально изучать угрозы национальной безопасности, связанные с участием иностранных компаний в реализации крупных инвестиционных проектов по освоению Арктики.
– Насколько России удается находить общий язык по арктическим проблемам с США? Каковы ожидания в этом вопросе от новой администрации Байдена?
– Арктика остается одной из немногих тем, по которым России и США удается поддерживать диалог на удовлетворительном уровне. Это прежде всего связано с тем, что на повестке дня стоят прикладные вопросы – координация работы служб береговой охраны, регулирование рыбного промысла, безопасность судоходства. Кстати, это неплохая модель и для других сфер российско-американских отношений: начинать с конкретных практических вопросов, а уже потом двигаться к более общим темам.
По линии аппарата Совета безопасности России обсуждаем Арктику с американцами. Соответствующие вопросы стояли на повестке дня переговоров секретаря Совета безопасности Николая Патрушева практически со всеми американскими чиновниками, занимавшими в последние годы должность помощника президента США по национальной безопасности. Рассчитываем, что и с Джейкобом Салливаном эта практика будет продолжена. Будем рады видеть его на международных встречах высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Что касается ожиданий от новой администрации, то, на мой взгляд, самое главное сегодня для российско-американского диалога по Арктике – это избежать его политизации.
В США находятся политики и эксперты, которые ратуют за разжигание в Арктике военной истерии. Утверждают, что "сдерживание" России необходимо распространить и на северный фланг. Считаем это недопустимым. Никакой милитаризации региона, развязывания в нем геополитических игр на базе однобоких блоковых подходов – ничего этого быть не должно. Именно такой линии традиционно придерживается наша страна, будем верны ей и впредь. Надеемся, что администрация нового президента США воздержится от нагнетания напряженности в высоких широтах.
– В соответствии с указом президента России также в прошлом году появилась и другая межведомственная комиссия Совета безопасности – по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Что собой должна представлять такая система, и как она будет функционировать?
– В настоящее время изменяются области распространения природно-очаговых инфекций, появляются новые и возвращаются старые "забытые" инфекционные заболевания, образуются очаги общих для человека и животных опасных болезней. Пример борьбы с ранее неизученным коронавирусом показывает, что выработка комплексных мер противодействия таким инфекциям может осуществляться только с использованием межведомственного и междисциплинарного подхода.
В рамках создаваемой системы планируется решить ряд принципиальных вопросов, связанных с необходимостью развития технологических платформ по созданию новых вакцин.
Другое направление – это изучение последствий вирусных инфекций, проблем устойчивости к противомикробным препаратам и создания новых антибиотиков. Кроме того, будет уделено внимание наращиванию технологической базы для разработки лекарств для специфического лечения конкретных инфекционных заболеваний, а также использования уже имеющихся лекарственных препаратов для лечения новых болезней.
– Какое место в оценках рисков и угроз, связанных с новыми инфекциями, будет занимать работа биологических лабораторий западных стран, прежде всего США, которые они расположили на постсоветском пространстве и стараются размещать по всему миру?
– В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения. Эта деятельность реализуется через жесткое навязывание программ "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения", двусторонних программ "Совместные биологические обязательства" и "Совместное сокращение угроз".
Особенную озабоченность вызывает приближение военных биологов США и их союзников по НАТО к границам России, поскольку смертельно опасные микроорганизмы, созданные в этих лабораториях, могут быть якобы "по ошибке" выпущены в окружающую среду, приведя к массовому поражению мирного населения как приграничных государств, так и населения России.
Оценкам рисков и угроз, связанных с функционированием биологических лабораторий западных стран на постсоветском пространстве, эксперты Совета безопасности России, заинтересованные ведомства и научные институты будут уделять отдельное внимание и готовить предложения по их парированию.

ДОКТРИНА БАЙДЕНА ОБО ВСЁМ
ДЖЕРЕМИ ШАПИРО
Директор по исследованиям Европейского совета по международным делам (ECFR), ранее работал в Институте Брукингса и Государственном департаменте США, признанный специалист по трансатлантическим отношениям и стратегическим вопросам.
МАНТИЯ МИРОВОГО ЛИДЕРСТВА НЕ НАЛЕЗАЕТ НА ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ ДЛЯ СРЕДНЕГО КЛАССА
Сейчас трудно понять, чего энергичная команда президента США не намерена делать во внешней политике. Она сохранила одержимость Китаем, снова начала ядерные переговоры с Ираном, написала в твиттере о своей заинтересованности в любом тлеющем гражданском конфликте, а также в расследовании любого нарушения прав человека в мире – от Эфиопии до Мьянмы. Сможет ли Америка делать меньше?
«Управлять значит выбирать», – напомнил своим согражданам французский премьер-министр Пьер Мендес-Франс, объясняя, почему некогда гордой империи, которой он руководил в 1950-е гг., следует отказаться от своих колоний в Индокитае. Вряд ли Мендес-Франс продвинулся бы слишком далеко по карьерной лестнице в современной Демократической партии США. На этом позднем этапе развития американской империи администрация президента Джо Байдена нередко выражает убеждение, что управлять во внешней политике – значит выбирать почти всё и сразу.
В своих первых речах на внешнеполитическую тематику президент Байден, следуя великой американской традиции, затронул множество возвышенных целей. Он сделает важным приоритетом демократию и права человека, чтобы «дать отпор авторитаризму, снова перешедшему в наступление» в лице Китая, России и некоторых других стран. Он сделает приоритетом союзников, «вдохнув новую жизнь в сеть альянсов и партнёрств Соединённых Штатов» и обновив обязательства защищать друзей. И он сделает приоритетом интересы среднего класса США, признавая, что «все действия, которые мы предпринимаем за рубежом, должны предприниматься с учётом американских работающих семей». Всё это звучит превосходно, но на линии фронта явно тесновато.
Конкурирующие между собой задачи продвижения демократии, мирового лидерства и проведения «внешней политики в интересах среднего класса» содержат очевидные, пусть даже и не признанные, противоречия. Отчасти причина их кроется в ограниченном времени и внимании, доступном президенту и его высокопоставленным чиновникам: то время, которое Байден потратит на защиту союзников в Южно-Китайском море, не будет потрачено на решение проблем американского среднего класса. Однако в большей степени противоречия объясняются ограниченными ресурсами и политическим капиталом, которые имеются в распоряжении Соединённых Штатов для переговоров с союзниками и с неприятелями.
Если США сделают главным приоритетом оборону Восточной Европы, они не смогут оказывать слишком большое давление на своих европейских союзников, требуя от них торговых уступок, которые позволят создать больше рабочих мест в Америке. Если Соединённые Штаты сосредоточатся на заключении новой иранской сделки, они не смогут рассчитывать, что Саудовская Аравия станет снижать цены на энергоносители или воздержится от убийства журналистов. США могли бы наложить санкции на российско-немецкий газопровод, чтобы защитить суверенитет Украины, но в этом случае пострадает экономика США, особенно если русские или немцы введут ответные санкции. Подобные компромиссы неизбежны, но политики их редко озвучивают.
До сих пор администрация Байдена настаивала – по крайней мере, риторически – что сможет выполнить все эти задачи, не принося никаких жертв и не сталкиваясь с неразрешимыми противоречиями. Такая внешняя политика широких обязательств больше нежизнеспособна. В действительности недавнее решение администрации вывести американские войска из Афганистана подразумевает, что она понимает необходимость ограничивать свои обязательства. Ключевой вопрос для формирующейся доктрины Байдена заключается в том, удастся ли снизить обязательства или Америка опутает себя избыточными обещаниями.
Мир – это слишком много
Сталкиваясь с трудным выбором, ответственные за внешнюю политику в США обычно настаивают на том, что Соединённые Штаты смогут сделать всё, занимаясь несколькими делами одновременно. Это роскошный подход к внешней политике, но он отражает представление о себе как о стране, имеющей безграничное богатство и мощь, если только у неё хватит политической воли, чтобы их использовать.
Увы, США не могут позволить себе тот уровень роскоши, которые могли себе позволить, находясь в зените могущества после падения Советского Союза. Усиление других держав, особенно Китая, означает, что у Америки больше нет возможности выделять средства на решение любой проблемы в мире. Растущая внутриполитическая поляризация выхолостила консенсус, необходимый для выработки последовательной внешней политики. А безудержно растущий долг и стареющее население, в конце концов, вынудят снижать расходы на оборону и национальную безопасность. Левые либералы на левом фланге и сторонники Трампа на правом всё время муссируют тему приоритетности экономики США при выборе внешнеполитического курса. Избиратели не оценят внешнюю политику Байдена, которая предусматривает вмешательство в решение далёких от Америки проблем во имя мирового лидерства за счёт снижения внимания к внутренним проблемам.
Однако озабоченности растворяются внутри вашингтонского внешнеполитического пузыря. Большая часть СМИ, внешнеполитических экспертов в Вашингтоне и аналитических центрах, а также некоторые фракции в Конгрессе требуют, чтобы американцы что-то делали всякий раз, когда где-то в мире возникает какая-либо проблема или кризис. В первый же месяц пребывания администрации Байдена в Белом доме протесты в России, государственный переворот в Мьянме и гражданская война в Эфиопии стали поводом потребовать решительных действий.
Это достопочтенная вашингтонская традиция. Например, в годы пребывания у руля администрации Барака Обамы внешнеполитический истеблишмент давил на правительство, требуя вмешаться в ход гражданской войны в Сирии. Обама не хотел ввязываться в эту войну, но оказываемое давление было таково, что правительство и сам Обама уделяли больше внимания и инвестировали больше политического капитала в сирийский кризис, чем в любую другую внешнеполитическую проблему, особенно с 2011 по 2013 годы. В конце концов, официальным лицам, включая президента, трудно просыпаться каждое утро и читать статьи, написанные людьми, которых они знают и уважают, о том, как бездействие администрации в какой-нибудь удалённой стране приносит огромные страдания местному населению.
Однако чисто человеческая реакция на давление со стороны коллег-экспертов необязательно отражает внешнеполитические интересы или внутриполитические реалии. Вопрос о том, что Соединённым Штатам нужно делать в Сирии, воспламенил нешуточные дебаты в Вашингтоне, но эта тема едва ли упоминалась на президентских выборах 2012 г.: голосующим избирателям не было до этого никакого дела. К президентским выборам 2016 г. кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп просто посетовал на то, что Америка принимает слишком активное участие в гражданских войнах на Ближнем Востоке. Внешнеполитические эксперты в Вашингтоне склонны утверждать, что общественность поддерживает более привычную политику и что с помощью разумных опросов общественного мнения можно добиться поддержки любых зарубежных операций США. Однако последние выборы показывают, что американцы придают гораздо большее значение внутренним делам, нежели своим мнениям по внешнеполитической проблематике, которыми они делятся с проводящими опрос социологами.
В ретроспективе очевидно, что администрации Обамы нужно было довериться инстинктам президента и проигнорировать гражданскую войну в Сирии. Несмотря на многочисленные прегрешения, администрация Трампа продемонстрировала, что можно не обращать внимание на общепринятое мнение внешнеполитического истеблишмента без каких-либо негативных политических последствий.
Важность неделания
Администрации Байдена нужна внешняя политика, признающая эти реалии и демонстрирующая избирателям, что она отвечает интересам Соединённых Штатов. Но надо избежать и ловушки Трампа, не отчуждая без надобности союзников США и не поворачиваясь спиной к международным организациям, которые в долгосрочной перспективе служат американским интересам. Похоже, что нынешняя администрация понимает необходимость такой балансировки. Как сформулировал эту мысль госсекретарь Энтони Блинкен, любое внешнеполитическое действие должно явно и чётко обосновываться интересами экономического процветания. «Мы сформулировали внешнеполитические приоритеты для администрации Байдена, – отметил Блинкен в своей первой большой речи, произнесённой в марте, – задав несколько простых вопросов. Что будет означать наша внешняя политика для американских рабочих и их семей? Что нам нужно делать у себя в стране, чтобы стать сильнее в мире?» Этот акцент на среднем классе явно отличает внешнюю политику Байдена от внешней политики Обамы, хотя во всем остальном Байден остаётся верен его курсу. Практически это означает революцию – по крайней мере, в риторике – для внешнеполитической команды, укомплектованной почти исключительно ветеранами из обамовской команды. Экономическое обрамление поможет противостоять неизбежной критике Трампа, что любая внешнеполитическая инициатива Байдена означает «плохую сделку» для экономики США.
Подход Блинкена также включает долгосрочную перспективу в разумных пределах, признающую, например, что участие в многосторонних организациях и международных договорах есть не что иное, как просвещённый своекорыстный интерес. «Там, где пишутся правила международной безопасности и мировой экономики, – пообещал он, – Америка будет в первых рядах, отстаивая в первую очередь интересы американского народа».
Намного меньше ясности в том, где Соединённых Штатов не должно быть и что команда Байдена не будет делать. Нет таких революций, которые ничего не отрицают, а лишь нагромождают новые обязательства. Подлинные изменения во внешней политике потребуют не только добавления новых задач в длинный перечень обязанностей, но и отказа от тех задач, которые стали невыполнимыми и нереалистичными. Для американских политиков, многие из которых лично заинтересованы в нынешних внешнеполитических обязательствах США, труднее уменьшить обязательства, чем принять новые. Решение администрации о выводе войск из Афганистана к сентябрю свидетельствует о понимании необходимости в снижении обязательств за рубежом. Однако впереди много препятствий: объявление о выводе войск воспламенило негодование и ярость в Вашингтоне, и есть большие сомнения в том, что администрация Байдена в действительности сделает то, что до этого также обещали Обама и Трамп.
Если команда Байдена желает перестроить внешнюю политику, ей нужно сделать больше, чем просто отозвать войска из Афганистана. Она должна систематически думать о том, как снизить обязательства США в широком понимании перед периферией для решения проблем, требующих времени, энергии и средств, но не имеющих значения для американской общественности и некритичных для поддержания национальной безопасности, даже если они надувают «вашингтонский пузырь». Конечно, Соединённым Штатам нужно по-прежнему быть ангажированными в мире, в некоторых случаях даже проводить военные операции, но президент всегда должен суметь ясно, просто и понятно объяснить, почему данная интервенция вносит прямой вклад в укрепление безопасности США и их процветание. В противном случае следует воздержаться от участия в решении периферийных проблем.
За исключением важного решения, принятого по Афганистану, на этом раннем этапе трудно понять, чего энергичная команда президента не намерена делать во внешней политике. Она сохранила одержимость Китаем, которая была свойственна Трампу, снова начала (опосредованные) ядерные переговоры с Ираном и написала в твите о своей заинтересованности, по сути дела, в любом тлеющем гражданском конфликте, а также в расследовании любого нарушения прав человека в мире – от Эфиопии до Мьянмы.
Учиться делать меньше
Чтобы научиться делать меньше, потребуется время для адаптации. Администрации Байдена следует начать с умаления значимости иранской ядерной сделки, которая стала чем-то вроде наваждения для Вашингтона, но о ней, по сути, ничего неизвестно за пределами вашингтонских политических кругов. В идеале это означало бы выход из переговоров и предоставление возможности региональным силам самостоятельно найти решение данной проблемы. В качестве альтернативы США могли бы поддержать усилия европейцев или многостороннего консорциума по ведению переговоров, не присваивая себе роль лидера. В ответ на такое предложение внешнеполитические практики в Америке, вне всякого сомнения, будут повторять мантру о том, что без деятельного лидерства Вашингтона иранский ядерный вопрос решить не удастся. Однако десятилетия активных действий демократических и республиканских администраций лишь подтолкнули Иран к ядерной программе и увеличили опасения по поводу возможного развязывания войны на Ближнем Востоке.
Наверное, самое время испытать ещё один подход, при котором признаётся, что американскому среднему классу совершенно неинтересен исход борьбы между Ираном и Саудовской Аравией за влияние в регионе; он ничего не приобретёт, если США продолжат поддерживать Саудовскую Аравию и вводить санкции против Ирана, а также стран, делающих бизнес с Ираном.
Если действительно акцентировать внешнюю политику на интересах среднего класса Америки, то Вашингтону не следует ставить Иран во главу угла. Соединённым Штатам также следует уменьшить военные обязательства за рубежом – не только в Афганистане, но и в Ираке, Европе и на большом Ближнем Востоке. Им следует, наконец, закончить «глобальную войну с террором» и прекратить гоняться по всему миру за малозаметными ближневосточными и африканскими террористическими группировками, у которых нет возможностей для нападения на США. И пора задаться вопросом, действительно ли Америка так сильно заинтересована в насаждении демократии в отдалённых регионах, не имеющих большого стратегического значения для США (таких, как Эфиопия и Мьянма), а также способна это делать.
Союзники и альянсы должны играть важную роль, но лишь в той мере, в какой президент сможет чётко объяснить американцам, как отношения с каждой из этих стран непосредственно повлияют на интересы и благополучие простых американцев. Таким критериям соответствовали бы сбалансированные альянсы, в которых союзники вносили бы вклад в укрепление безопасности США и даже помогали Соединённым Штатам снизить расходы на оборону в обмен на политическую поддержку. Труднее оправдать предоставление защиты слабым государствам-сателлитам на границах Китая и России, поскольку стратегическая польза от такой помощи сомнительна.
Подобная дисциплинированность побудила бы официальных лиц сосредоточиться на внешнеполитических вопросах, которые имеют реальное значение для американцев. Это, прежде всего, торговля, иммиграция, международные технологические стандарты и изменение климата. Это очень трудные и спорные вопросы, предполагающие нелёгкие компромиссы и запутанную внутреннюю политику. Администрация Байдена уже тратит на них много сил и средств, как видно по бешеной активности на климатическом фронте, которую развил специальный посланник Джон Керри, а также по неустанным усилиям, направленным на ослабление иммиграционного кризиса на южной границе. Однако в первых двух речах президента на внешнеполитические темы уделено мало внимания этим вопросам в сравнении с традиционными проблемами, в частности Афганистаном, Ираном и так называемым Исламским государством (запрещено в России – прим. ред.), хотя все эти вопросы стоят гораздо ниже в списке приоритетов американское общественности. Конечно, как часто отмечают специалисты по внешней политике, лидеры должны руководить. Широкая общественность не всегда (или даже редко) представляет себе свои долговременные внешнеполитические интересы. Однако, судя по внешнеполитическим конфузам и зачастую трагическим ошибкам, допущенным на протяжении нескольких последних десятилетий (самой явной из которых было катастрофическое вторжение в Ирак 2003 г.), специалисты могут быть ненамного более проницательными или прозорливыми.
Внешнеполитический истеблишмент слишком далеко выдвигается вперёд, на передовые позиции, если «руководство» общественным мнением требует раздувания угроз и выстраивания сложных причинно-следственных связей для описания того, как, к примеру, экстремистская группировка в Нигерии или Сомали может угрожать внутренней безопасности американцев.
В администрации Байдена ощущается мощное желание снова привязать внешнюю политику к конкретным нуждам и потребностям американской общественности. Но она также временами проецирует более заметный позыв вернуться к традиционному глобальному лидерству. Такой подход может быть популярен в вашингтонских политических кругах, но практически не привязан к внутренним озабоченностям простых американцев. В данный момент администрация позволяет себе роскошь следовать обоим импульсам, но в будущем придётся делать выбор.
Foreign Affairs

«Время Ч» для Си
Китай накануне больших перемен
Николай Вавилов Игорь Шнуренко
Игорь ШНУРЕНКО. Николай Николаевич, в гонконгской газете South China Morning Post, обычно критически настроенной по отношению к центральной власти Китая, неожиданно вышла статья, в которой есть следующие строки: "Политика Байдена в отношении Китая оказывается продолжением политики администрации Трампа и, возможно, превосходит её в лицемерии, высокомерии, конфронтации и милитаризме. Фундаментальная цель США — продолжение гегемонии". Причём эти выводы делает не китайский автор, а колумнист Марк Валенсия. Статья получилась полностью соответствующей линии Компартии КНР, хотя эта газета — орган деловых кругов Гонконга. Почему гонконгцы сегодня смыкают позиции с установками континентального Китая?
Николай ВАВИЛОВ. Для многих на Западе источником информации о Китае долгое время были именно гонконгские издания, и South China Morning Post здесь не исключение. Поскольку Гонконг (Сянган) — это хаб для британо-китайских корпораций, позиция этой газеты зачастую диаметрально противоположна точке зрения официальных органов КНР "Синьхуа" и "Жэньминь жибао". Но в данном случае совпадение связано с тем, что надежды деловых кругов и Китая, и Гонконга на расцвет китайско-американского сотрудничества после прихода к власти Байдена не оправдались.
В чём различие подходов администраций Трампа и Байдена к отношениям с Китаем? При внешнем давлении на КНР всё же Трамп называл Си Цзиньпина своим другом, они несколько раз встречались, пытались выстроить общую политику как антиглобалистские силы. Методы, которые использовал Трамп для давления на Китай, — это методы создания суверенной экономики США, размежевание с китайской экономикой. При этом вопрос об устранении режима Си Цзиньпина не ставился.
Администрация Байдена использует те же методы давления, но они направлены не против Китая в целом, а против режима действующей военно-политической группы, конкретно Си Цзиньпина. Ставится задача как минимум не допустить его прихода к власти на третий срок в 2023 году. Но на торговле между странами это никак не отражается, даже наоборот, закупки американцев в Китае в начале этого года увеличились на 90%, также возросли поставки сжиженного природного газа из США в КНР.
Игорь ШНУРЕНКО. В своей книге "Китайская власть" вы даёте необычный взгляд на современную политическую ситуацию в Китае. Не все знают, что помимо компартии Китая, там существует масса кланов, неформальных групп, образовавшихся внутри системы по территориальному, родственному или цеховому принципам, которые оказывают огромное влияние на принятие решений в стране. Они связаны друг с другом, сходятся или расходятся во мнениях, иногда объединяют усилия для достижения определённых целей. Поэтому порой заявления руководства страны выглядят парадоксально.
Николай ВАВИЛОВ. Да, в востоковедении часто сталкиваются с подобным диссонансом, и многие российские политики, имеющие дело с китайцами, видят их противоречивые высказывания. Например, Си Цзиньпин к 100-летию КПК запустил декларативную идеологему, что Китай победил бедность, все китайцы вышли из нищеты. Но незадолго до этого премьер Госсовета КНР Ли Кэцян говорил, что в Китае 600 миллионов граждан живут на несколько долларов в день, многим элементарно не хватает средств на пропитание. Как сопоставить эти заявления? А всё просто: Си Цзиньпин — это одна группа влияния, а Ли Кэцян — другая. Я не хочу примитивизировать китайскую политику, но в данном случае совершенно очевидно противостояние армейской суверенной группы и проамериканского клана бывших функционеров китайского комсомола.
О Китае выходит много книг, их пишут, в том числе, и наши именитые востоковеды. Но недостаток подобной литературы в том, что в ней вы найдёте скорее теоретические расклады, чем понимание китайской специфики на практике. Это всё равно, как если бы вы пошли в лес за дровами, но вместо этого стали бы фиксировать разнообразие флоры и фауны — считать количество колец на пне, смотреть, сколько здесь произрастает видов деревьев и так далее. Но этими действиями вы никак не решаете прикладную задачу — ту, что привела вас в лес.
Уверен, что Китай в ближайшее время будет иметь на нашу политику гораздо большее влияние, чем США и Евросоюз. Поэтому выстраивать отношения с ним надо не с теоретической точки зрения, а с позиций защиты собственных интересов на основе знания всех политических и экономических раскладов. Моя книга — не для теоретиков, а для практиков, хотя в ней, разумеется, рассмотрены и теоретические, и исторические вопросы.
Мы должны чётко понимать: разговоры о том, что создаётся некая "большая двойка" Китай — США, которая поделит Россию, договорившись между собой, — это вбросы западной пропаганды. Никакой "большой двойки", пока у власти Си Цзиньпин, Китай и США не создадут.
Игорь ШНУРЕНКО. В книге вы много места уделяете противоречиям между китайскими группами влияния, они, действительно, существенные. Но нет ли ощущения, что сейчас эти противоречия внутри Китая постепенно уходят на задний план, и даже можно говорить о каком-то их сближении? Неслучайно я привёл цитату из South China Morning Post. Там же несколько месяцев назад была напечатана статья некой относительно влиятельной китаянки, бывшей телеведущей CCTV, а ныне сотрудницы Школы государственного управления имени Кеннеди в Гарварде. В этой статье с заголовком: "В динамичном будущем Азии, ведомом Китаем, нет места мировоззрению США XIX века" — она пишет, что "мир выходит за рамки того порядка, который культивирует администрация Байдена, и никакое восстановление или нормализация не могут вернуть прежний статус-кво в конкурентное сосуществование… Конкурентное сосуществование — реальность для Китая, но для США — новая стратегия, Китай здесь занял уже прочную позицию, а Америка только пытается…" Не знаю, к какой группе принадлежит эта женщина, но налицо некое единство китайской элиты. Или я ошибаюсь?
Николай ВАВИЛОВ. Конечно, хорошо бы понять, что побудило комментатора так написать: желание заработать, страх перед происходящими в Гонконге переменами или собственное мнение по этому вопросу? Тем не менее, хочу объяснить, что происходит на этой территории сейчас. Гонконг де-факто присоединён к Китаю. Туда введена масштабная китайская гвардия, Народная вооружённая милиция. Квалификационная комиссия китайского парламента взяла на себя право отменять действие мандатов гонконгских депутатов. То есть установлен полный контроль над законодательной ветвью власти, которая является главной в Гонконге.
Значительно уменьшился китайско-гонконгский товарооборот, поскольку формируются свободные зоны торговли в соседнем Гуанчжоу, у которого такие же преференции, как и у корпораций Фуцзяня и свободных зон Шанхая. То есть Гонконг перестаёт быть единственным хабом и каналом связи между китайским и британским мирами, его роль размывается.
Гонконг, конечно, мечтает восстановить свои позиции, вновь стать единственным каналом, через который идут все финансовые офшорные потоки. Но и там понимают, что если уж к ним вошла китайская армия, то никто из мировых игроков не захочет, чтобы в финансовом хабе начались боевые действия или террористические акты.
Времена, когда Гонконг имел влияние на китайскую политику, закончились. Сейчас он максимально зависим от Китая. Поэтому и произошла смена риторики — даже в South China Morning Post. Не в главном, но в каких-то моментах, касающихся внутренней политики, отношения к США, Гонконг становится более красным, более китайским. Это определённо итог присоединения.
Игорь ШНУРЕНКО. Насколько соответствует реалиям российская оценка теперешнего состояния Китая? Чаще всего мы получаем информацию о нём из западных источников. А где наши журналисты, китаисты? Ничего актуального мне просто не попадалось в руки. Может быть, я не знаю, где искать? Вот ваша книга мне на многое открыла глаза, показала в динамике, как складывается система китайской власти. Скажите, кто сегодня находится в мейнстриме китаистики?
Николай ВАВИЛОВ. К сожалению, глубокие востоковеды, специализировавшиеся на описании внутрикитайского политического процесса, такие как Юрий Михайлович Галенович, ушли из жизни. Можно назвать несколько фамилий серьёзных профессионалов, но их активная исследовательская работа пришлась на середину 80-х годов, когда Китай вошёл в фазу выстраивания такой же, как и в позднем Советском Союзе, а потом и в Российской Федерации новой экономической политики. То есть в стране явно обозначился правый уклон, и критиковать его было невыгодно, так как ельцинская Россия была полностью либеральной и прозападной. Поэтому обычно оценки китаистов сводились к идеологическому восприятию событий: китайская модель продуктивная, китайский правый уклон эффективный — по сути дела, это пропаганда в чистом виде. Почти никто не исследовал, скажем, методы приватизации, её этапы. А если такие исследования появлялись, то не получали широкой огласки.
Востоковедение сильно деградировало с 90-х годов, как, впрочем, и вся российская гуманитарная наука. Востоковеды сейчас просто не дорабатывают. Про каждого персонажа, упоминаемого в моей книге: про Дэн Сяопина, Чжоу Эньлая, Цзян Цзэминя и других, — можно было бы написать по главе. Но я один не могу же заменить целый институт, который должен был бы над этим работать.
Игорь ШНУРЕНКО. Вы пишете в книге, что Чжоу Эньлай и председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин много общались между собой.
Николай ВАВИЛОВ. Да, Чжоу Эньлай выстраивал тесные отношения с Косыгиным — человеком, который положил начало правому повороту в Советском Союзе и ввёл понятие прибыли. Интересно, что он конкурировал с Андроповым, который был выходцем из ВЛКСМ и курировал кадры китайского комсомола.
Очевидно, что в Китае шанхайская группа — это правая группа, тесно связанная с национальной партией Гоминьдан, ушедшей на Тайвань, — Чан Кайши и Цзян Цзинго… Это и есть основные лоббисты мирного соединения Китая с Тайванем. Поэтому, когда к власти пришёл "шанхаец" Цзян Цзэминь, начался диалог с Тайванем.
Игорь ШНУРЕНКО. Может, и Си Цзиньпин в этом так же заинтересован?
Николай ВАВИЛОВ. Здесь нужно сначала пояснить, что в Китае, конечно, есть борьба тех или иных личностей за политическое место под солнцем, но очень сложно чего-то достичь, а тем более стать председателем КНР, не будучи хоть как-то связанным с одной из неформальных влиятельных группировок страны.
Си Цзиньпин своё политическое возвышение начал с поста главы горкома Шанхая. Но у него не получилось бы это сделать без определённого консенсуса с шанхайской группой. В момент вступления Си Цзиньпина в эту должность была совершена попытка группы комсомольских функционеров ("туаньпай") сместить возглавлявшего тогда горком Шанхая преемника Цзян Цзэминя "шанхайца" Чэнь Лянъюя. Они хотели поставить на это место своего — комсомольского выдвиженца Хань Чжэна. И тогда проармейская группа ("Новая Чжицзянская Армия") договорилась с шанхайской — и Си Цзиньпин занял на год пост главы горкома Шанхая и далее пошёл по карьерной лестнице. Именно тогда обозначился его шанс стать лидером страны. Но говорить о том, что он является выходцем из шанхайской группы, нельзя. Там есть другой лидер — нынешний зампредседателя КНР Ван Цишань, один из патриархов шаньдунской группы. Его возвышение шло одновременно с Си Цзиньпином. В то время он стал главой горкома Пекина, и это также было бы невозможно без санкции на то со стороны шанхайской группы.
Вот две глобалистские группы — "шанхайцы" и "комсомол", одна — правая глобалистская группа, другая — левая. У них разные методы, разные связи. Скажем, если с Мао Цзэдуном Никсон за всё время своего президентства говорил буквально 15 минут, то с Чжоу Эньлаем он проводил дни. То есть, очевидно, что состыковка шла на уровне Республиканской партии и "шанхайцев". А за ними стоял банк Рокфеллеров "Чейз".
Игорь ШНУРЕНКО. Сейчас Тайваньский вопрос становится центральным в мировой геополитике. И когда мы о нём говорим, необходимо учитывать связь в прошлом, десятки лет назад, Гоминьдана (консервативной политической партии Китайской Республики) с Компартией КНР.
Николай ВАВИЛОВ. Конечно, интересно, сможет ли Си Цзиньпин вернуть Тайвань? Скорее, это может случиться уже после сворачивания локдаунов. Напряжение в китайско-американской политике достигло сейчас небывалого градуса. Очевидно, что в Китае есть группы, которые рассчитывают на снос действующего военно-политического режима, лояльного к России, который возглавляет Си Цзиньпин, и восстановление китайско-американского консенсуса. А при "комсомольцах" Китай фактически вошёл в американский глобальный порядок, стал дойной коровой, если не сказать грубее, что "молочное животноводство" при них переходило в "мясное". Ведь в Китае разворачивается настоящая демографическая катастрофа. КНР — номер один по онкологии и гепатиту… И всё это ради глобального американского порядка?! Так вот, когда эта группа установила по всему Китаю жёсткие локдауны, при которых человек, в острой форме болеющий ОРВИ, лишался всех конституционных прав, стали видны конкретные лица организаторов. Многие из них сейчас находятся под арестом, хотя главные персонажи ещё, скажем так, в разработке. Думаю, к концу этого года или к началу следующего мы увидим серьёзные потрясения в КНР.
Очевидно, что Си Цзиньпину брошен реальный вызов, его хотят сделать политическим трупом. Но политическая смерть часто бывает равна физической. А бывает, что физическая гибель приходит раньше политической… Когда речь идёт о собственной жизни, необходимо действовать.
Радикальный китайский сценарий очень близок к осуществлению. Закономерен вопрос: прежде чем начнёт разрушаться экономика страны, нарушатся китайско-американские связи, будет нанесён удар по уровню жизни населения и так далее, что профилактически должен сделать Си Цзиньпин, чтобы удержать свой режим, чтобы дать народу патриотическую таблетку? Конечно, это воссоединение с Тайванем.
Си Цзиньпин 20 лет находился в руководстве, в том числе военном. В Китае сейчас подготовлен флот, приведён в готовность десантный корпус. Недавно Си Цзиньпин посетил провинцию Фуцзянь, а это форпост Тайваньской операции. Если Китай займёт Тайвань, это будет гигантская политическая победа. Американцы не будут ввязываться в ядерную войну из-за Тайваня, а станут, скорее всего, направлять материально-техническое обеспечение Тайваньской береговой охране.
Многие говорят, что у Китая нет такой силы для противостояния, и присоединение Тайваня не будет мирным референдумом, как в Крыму. Но мы должны помнить, что на Тайване есть национальная партия Гоминьдан, чётко построившая свои отношения с шанхайской группой; она поддерживает воссоединение Китая с Тайванем и готова организовать референдум, а после занять все административные посты. Более того, она имеет опыт "белого террора", когда эта партия подавляла национальные меньшинства (сейчас представители этих меньшинств составляют ядро Демократической прогрессивной партии, которая находится у власти выступает за суверенитет Тайваня и переименование его в Тайваньскую республику). То есть у Гоминьдана есть опыт очень жёсткой, репрессивной диктатуры, который поможет им взять ситуацию под контроль.
При таком раскладе Китаю достаточно просто окружить Тайвань своими судами, гибридной армией рыбаков — береговая охрана обучила дополнительно 100 тысяч человек. Китай на это способен, он готов к мега-проектам!
Игорь ШНУРЕНКО. Сторонники суверенитета Тайваня тоже ведь без дела не сидят…
Николай ВАВИЛОВ. Да, конфронтация идёт по ускоренному сценарию. В руководстве Демократической прогрессивной партии создаётся группа (пока ещё не парламентская), ставящая своей целью признание Тайваня независимым. Но на фоне надвигающегося кризиса фондового рынка США (а никто уже не сомневается, что он рухнет в ближайшие год-два), у Китая появится шанс. Когда Америка окажется в критическом состоянии, в условиях потери управляемости и неразберихи с её союзниками, тогда и начнётся Тайваньская операция.
Игорь ШНУРЕНКО. Какую роль здесь будет играть Россия?
Николай ВАВИЛОВ. Прежде всего, мы создаём Китаю противоракетную оборону. То есть мы де-факто закрываем Пекин "зонтиком". Поэтому прямая агрессия китайскую территорию не затронет. Война сосредоточится в Тайваньском проливе. Может быть, она частично коснётся провинции Фуцзянь, где проживают порядка 40 миллионов китайцев. Конечно, пострадает экономика. Но гражданская жизнь внутри Китая не будет сильно задета.
Игорь ШНУРЕНКО. А как в этих условиях поведут себя китайские "комсомольцы"?
Николай ВАВИЛОВ. Думаю, что они "перекрасятся" в более суверенные цвета. Большинство из них конформисты, они готовы просто присоединиться к побеждающей стороне. Но их верхушка, которая сейчас занимает почти весь Госсовет КНР — это вице-премьеры, первый вице-премьер, сам премьер — все они будут отстранены от власти. На сессии китайского парламента уже ставился вопрос, можно ли отстранять вице-премьеров Госсовета. Начнётся всё очень скоро с устранения Ху Чуньхуа, который назван основным преемником Си Цзиньпина. И тогда американцы поймут, что у них нет внутреннего лобби в Китае, что внутренний переворот не произойдёт, что в Синьцзяне не начнётся "хлопковое" восстание, что монголы с правами защиты своего языка не поднимутся, как и все остальные меньшинства. То есть, что ставка на внутреннюю революцию провалилась.
Игорь ШНУРЕНКО. Китай умеет незамедлительно отвечать на провокации. Например, совсем недавно шведская компания H&M, являющаяся крупнейшей в Европе розничной сетью по торговле одеждой, под предлогом возможных нарушений Китаем прав человека и использования "подневольного труда" уйгуров объявила, что не будет использовать для своих продуктов китайский хлопок. Китайский ответ на это был моментальным: китайские информационные платформы удалили приложения H&M из своих магазинов приложений, китайские интернет-магазины сняли товары H&M, китайские артисты заявили о расторжении контрактов с компанией. Буквально за один день H&M перестала существовать в Китае. И шведы тут же пошли на попятную, начали делать примирительные заявления…
Николай ВАВИЛОВ. Здесь интересно то, что Запад часто использует в таких акциях условно нейтральные страны. Китай, конечно, сразу понял, что это провокация, и продемонстрировал, что готов превратить в нуль любую продукцию любого крупного или маленького западного производителя в ответ на попытку раскрутить "хлопковое" дело. Иначе вскоре за H&M от китайского хлопка отказался бы весь западный мир.
КНР — лидер по производству хлопка. Его производят почти все китайские провинции. Ведь даже Пекин, чьё имя в переводе с китайского означает "северная столица", находится примерно на широте Ташкента, поэтому хлопок в Китае можно выращивать практически везде. Это огромная текстильная отрасль. Если западные страны отказываются от него в пользу индийского и пакистанского производителя, то сотни миллионов китайцев оказываются просто не у дел. Возникает недовольство. Куда они пойдут? Они либо начнут производить опиум, либо попадут под влияние террористических групп. В этом вся глубина лицемерия Запада: за надуманным предлогом защиты уйгуров скрывался удар по всему населению Китая, по его благополучию.
Игорь ШНУРЕНКО. Можно отметить и такой факт дискриминации по отношению к Поднебесной. В руководстве крупнейших американских корпораций вы практически не встретите фамилии этнических китайцев. Зато довольно много индийских. Совершенно ясно, что англо-американская элита пытается инкорпорировать индийцев в свои ряды. К примеру, в Google китайцы составляют большинство разработчиков, но при этом не допущены к глобальному управлению корпорацией.
Николай ВАВИЛОВ. Да, вы это верно подметили. Налицо глобальное соперничество Индии и Китая. И ощущение, что в конце XXI века наступит этакое новое Средневековье — битва слона с драконом. А все остальные страны мира будут находиться уже на вторых ролях.
Недавно Байден предложил разработать альтернативу китайскому проекту "Один пояс — один путь". Идея не нова, вопрос только в том, кто будет создавать этот некитайский "Шёлковый путь" — Индия или Пакистан? У американских демократов более тесные связи, разумеется, с Пакистаном, но и Индия сейчас делает большие шаги в сторону администрации Белого дома. Поэтому США могут сделать ставку и на Индию, учитывая её отношение к Китаю.
Какую позицию занимает Индия в тайваньском вопросе, сказать сложно. Очевидно, что Индия не хочет, чтобы наносились ядерные удары, поскольку у неё нет паритета с КНР в плане ядерного оружия. К тому же, от границы Китая до столицы Индии — порядка 900 километров. А от индийской границы до Пекина — несколько тысяч километров. А из-за того, что Тибет находится в составе КНР, Китай просто нависает над Индией и делает фактически невозможной ядерную войну.
Игорь ШНУРЕНКО. Как вы оцениваете понимание руководством России важности китайского направления? Как не допустить промахов хрущёвского периода, когда советское руководство неверно оценивало значение Китая, допускало в его отношении непродуманные шаги? Был ли возможен какой-то другой путь? Ответы на эти вопросы имеют прямое отношение к сегодняшнему дню.
Николай ВАВИЛОВ. Начнём с того, что уход Китая из социалистического лагеря де-факто означал в то время его развал. Из-за того, что Китай переориентировался на США, социалистический лагерь потерял примерно треть своих потенциальных возможностей. Китай, кстати говоря, тоже растерял свой потенциал. И культурная революция, и правый поворот низвели его до плачевного состояния. А если бы сталинский путь в Китае был продолжен: плановая экономика, гармоничное развитие всех сил — то к 2000 году КНР превзошла бы и Советский Союз, и Соединённые Штаты и мирным путём стала бы номером один в мире.
Надо сказать, что китайцы теряли потенциал поэтапно. И не только из-за поведения Хрущёва и неразберихи в Советском Союзе после смерти Сталина. В те же годы Мао Цзэдун убрал председателя Госплана КНР Гао Гана, который был просталинским лидером, абсолютно лояльным к Советскому Союзу. Не все в Китае были благожелательны к СССР. Кстати, отец Си Цзиньпина, Си Чжунсюнь, был когда-то тесно связан с Гао Ганом.
Игорь ШНУРЕНКО. Заметим, Гао Ган — это человек, который хотел практически объединиться с Советским Союзом.
Николай ВАВИЛОВ. Да, Гао Ган предложил Сталину включить Маньчжурию, все три нынешних провинции, в состав СССР в качестве 17-й республики. И тогда американцы не посмели бы нарушить суверенитет СССР и подвергнуть ядерным бомбардировкам Китай.
Но с 1952 года Мао Цзэдун начал борьбу и с проамериканской группировкой Лю Шаоци, и с просоветским Гао Ганом — они на тот момент были самыми мощными управленцами в стране. Гао Ган курировал многомиллиардные поставки из СССР, в его руках была вся собственность, все заводы, всё вооружение Китая. По сути, он реально руководил китайской экономикой, которая создавалась по плану Сталина. Мао Цзэдун начал стравливать Гао Гана со всеми остальными группами в руководстве, и в результате в 1954 году, как гласит официальная китайская версия, он покончил жизнь самоубийством.
Не было стабильности и в руководстве СССР. Хрущёв пришёл к моменту восстановления связей с Китаем уже без рычагов влияния. Он приехал в Пекин в позиции слабого, в позиции просителя, ему не на кого было опереться. Ни он, ни его советники абсолютно не разбирались во внутриполитической структуре Китая.
Если Сталин лично до полевых командиров знал, кто какому лагерю принадлежит, читал все шифровки из посольства и детально разбирал их, то у Хрущёва на момент его прихода к власти такого аппарата не было. Он хотел максимально задобрить Китай: вернул базу Далянь, оставил Порт-Артур… Мао Цзэдун умело пользовался слабостью советского руководства. Он получил атомное оружие, атомные разработки.
Когда у Китая появилась ядерная бомба, пошёл процесс активного размежевания КНР с Советским Союзом. Начали поднимать голову проамериканские силы. Хотя никто в США тогда не мог представить, что эта страна станет на их сторону. Как и в России не могут окончательно поверить, что Китай на сегодняшний день — наш союзник.
Игорь ШНУРЕНКО. Тема Китая бесконечно интересна. В вашей книге "Китайская власть" показано, как в реальности устроено управление в Китае, какова его диалектика, движущие силы. Но и это всегда нужно рассматривать в совокупности с процессами, происходящими в мире в данный момент.
Вы пишете, что Китай — это не какая-то вещь в себе. Что, к примеру, для меня было удивительно. У меня есть своё представление об этой стране, я много раз бывал в Китае — в Пекине, Шанхае, Гонконге. Но для меня это всё равно был некий особый, замкнутый мир. Что сегодня должна делать Россия в отношении Китая, как смотреть на него?
Николай ВАВИЛОВ. К сожалению, наше современное востоковедение из-за невозможности углубиться и проанализировать накопленный материал часто окутывает Китай флёром некой особенности, загадочности, "непостижимости" китайской души и непредсказуемости поведения. Но если реально, долго и добросовестно заниматься темой, систематизировать материал, вы поймёте диалектику китайской жизни, в том числе политической. Китайцы — такие же люди, у них тоже две ноги, две руки. На основе базовых потребностей они создают свой социум.
Конечно, Китай, как и все древнейшие страны, самобытен, и подходить поверхностно к нему нельзя. Но грамотно выстраивать отношения с ним в условиях сегодняшней нестандартной геополитической обстановки в мире можно и нужно.

Леонид Пасечник: война в Донбассе выгодна только США
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник рассказал в интервью РИА Новости о том, на какие компромиссы в Луганске готовы ради мира в регионе, кому выгоден конфликт в Донбассе, почему руководство ЛНР не звонит Зеленскому, о чем вообще с ним хотели бы поговорить и возможно ли сейчас примирение запада и востока Украины. Он также сообщил, как сейчас обстоят дела с экономикой региона и какое "наследство" ему осталось от украинских властей.
— Какая сейчас ситуация на линии соприкосновения? Если сравнить с апрелем, спокойнее стало?
— Ситуацию на линии боевого соприкосновения можно охарактеризовать как стабильно напряженную. Единственный момент, когда более-менее было затишье, это с 22 июля прошлого года, когда был принят комплекс дополнительных мер по перемирию, и до Нового года. На линии соприкосновения было относительное затишье. Во всяком случае, как минимум по нашей стороне не велись обстрелы из тяжелого вооружения, из минометов. То есть была относительная тишина.
После Нового года все вернулось на круги своя. Наша территория подвергается постоянным обстрелам из тяжелого вооружения, минометов. Наши службы фиксируют практически пятикратное увеличение обстрелов нашей территории после 19 февраля, когда прошло закрытое заседание СНБО Украины, на котором было принято какое-то решение по Донбассу. Мы точно знаем, что применение тяжелого вооружения однозначно каждый раз согласовывается с высшим военным командованием Украины. Поэтому я бы сказал так, что в последнее время обстановка обострилась, имеет тенденцию к росту количества обстрелов нашей территории.
— Когда со стороны смотришь за этим обострением, все время кажется, что дело идет к какой-то кульминации? Есть же какой-то смысл у этих обстрелов? Допустим, обстреляли и пошли вперед, например? Вот чего от этого ждать? То есть в чем смысл увеличения этих обстрелов?
— Судя по всему, кто-то пытается нагнетать обстановку, кто-то пытается еще больше обострить конфликт. Я так думаю, что, конечно же, конечная цель, наверное, — попытка разжечь и активные военные боевые действия. И в данной ситуации основным выгодополучателем является Америка: безусловно, только им выгодна война на нашей территории.
Я больше чем уверен, что простые жители Украины войны, боевых действий не хотят. Я точно знаю, что жители Луганской народной республики также не хотят войны. Но, однако, я так думаю, что политическое руководство США, так сказать, заокеанские кураторы политического руководства Украины подталкивают постоянно ее к тому, чтобы развязать в Донбассе активные боевые действия. Во всяком случае, я не помню каких-либо инвестиционных проектов, которые на территории Украины были бы (США. — Прим. ред.) реализованы — запуск заводов, организация каких-либо предприятий, производств, восстановление, строительство каких-либо направлений промышленности. Вот я не помню. Единственное, чем помогают Украине, — это вооружением, это боеприпасами, это каким-то обмундированием и так далее, беспилотными летательными аппаратами, (беспилотниками) "Байрактарами" и так далее, наращивая военную мощь Украины и подталкивая ее к тому, чтобы развязать войну в Донбассе.
— Чего в таком случае ожидать от визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена? К чему он будет подталкивать руководство Киева?
— Если честно, нам бы очень хотелось, чтобы наконец-то здравый смысл восторжествовал. И мы, безусловно, хотим, чтобы (Америкой. — Прим. ред.) была дана команда своим подчиненным в лице Зеленского и всей политической элиты Украины к тому, чтобы войну в Донбассе прекратить, прекратить активные боевые действия и чтобы наконец-то на нашей земле восторжествовал мир, чтобы решать возникшие конфликты в рамках Минских соглашений, то есть мирным путем.
Однако я уверен абсолютно в обратном. Я уверен, что это абсолютно не отвечает интересам Соединенных Штатов. И я думаю, что все заявления, все решения, которые будут приниматься, все инструктажи, которые будут проведены, будут ориентированы однозначно на обострение ситуации в Донбассе, которое в итоге должно будет привести к развязыванию военного конфликта.
— То есть, получается, есть вероятность, что после его визита, наоборот, будет новое обострение?
— Во всяком случае, улучшения точно не будет. А вот насчет того, что будет какое-то обострение, я думаю, что этого следует ожидать.
— Как вообще можно одним словом назвать нынешний статус конфликта? Он замороженный, тлеющий?
— Называть конфликт замороженным либо тлеющим, когда регулярно обстреливаются наши территории Вооруженными силами Украины из тяжелого вооружения, минометов, стрелкового оружия, когда на нашей территории гибнут люди, — это абсолютно неправильно. Он далеко не тлеющий, далеко не замороженный. Я считаю, на сегодняшний день он является достаточно серьезным, острым конфликтом. Можно сказать, в стадии обострения вот в последние месяцы. И ни о каком перемирии военном, ни о каком соблюдении режима прекращения огня речи быть не может. И в срывах всех этих договоренностей виновата однозначно Украина.
— Можно ли происходящее в Донбассе назвать гражданской войной? Киев избегает такого определения. Там все время муссируется, что есть Россия, которая влияет на эту ситуацию, и что Киев воюет не со своими гражданами, а в основном с Россией. А все бывшие украинские граждане — это некие коллаборанты, которые просто помогают России.
— Я считаю это мнение абсолютно неправильным. Я больше чем уверен, что это инструктаж, который отработан Киеву, в котором, очевидно, определено в каких-то параметрах, что можно говорить и что нельзя. И вот поэтому такая риторика Киева.
На самом деле да, безусловно, Российская Федерация помогает нам, жителям республики в плане гуманитарном. То есть гуманитарные конвои, гуманитарная помощь, медицинская помощь. Вот в последнее время — помощь по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Опять же слова огромной благодарности Российской Федерации за то, что они представляют наши интересы и защищают нас на международной арене. На этом, пожалуй, все заканчивается.
То есть говорить, что Россия является стороной конфликта — это совершенно неправильно. Но опять же очень выгодно Америке затянуть Россию в этот конфликт.
На самом деле это самая настоящая гражданская война, и об этом стоит говорить вслух. И по-другому расценивать, я считаю, это абсолютно невозможно. Потому что по большому счету, как говорится, согласно тем же Минским соглашениям, де-юре мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день. То есть получается, что Вооруженные силы Украины стреляют по своим же гражданам только лишь потому, что мы не согласились с той политикой, которую нам пытались навязать политические власти, которые пришли к руководству Украиной незаконным путем. Мы не согласились, что доминирующим началом должен быть фашизм. Мы не согласились, что нам необходимо переписывать нашу историю. Мы не согласились с тем, что нам надо однозначно забыть русский язык и прекратить дружить с Россией. Мы как раз были, наоборот, за то, чтобы мы могли свободно разговаривать на русском языке, мы хотели дружбы с Россией, мы хотели сохранить нашу идентичность, мы хотели сохранить нашу историю.
Мы на сегодняшний день — я очень этому рад — имеем возможность свободно мыслить, свободно думать и жить вот, скажем так, в той плоскости исторической, в которой мы жили до периода 2014 года. То есть для нас как были героями наши ветераны, наши деды и прадеды, которые отстояли независимость нашей родины, так они и остались. И только лишь за то, что мы не мыслим так, как мыслят они (сторонники линии Киева. — Прим. ред.), в нас стреляют. Безусловно, вынужденно защищая свои интересы, вынужденно обороняясь, мы тоже взяли в руки оружие. И таким образом началась гражданская война, самая настоящая гражданская война, которая длится уже семь лет на территории Донбасса.
— Не секрет, что в той части Украины, особенно в западной, идет героизация тех, кто воевал против Красной армии, против СССР. То есть Степана Бендеры, УПА и так далее. Как вы считаете, возможно ли какое-то примирение двух частей Украины? Возможно ли, что обе стороны скажут: давайте это оставим в истории, будем дома вспоминать своих дедов, хоть они и с разных сторон воевали, а дальше будем вместе строить общее будущее, настроимся на конструктив?
— Вы знаете, я боюсь, что такое невозможно, потому что именно к этому расколу и подталкивает Америка украинских националистов. Я думаю, что именно вот эта ситуация, о которой вы сейчас сказали, она и явилась яблоком раздора. Она и явилась причиной вот той войны, которая сегодня происходит на территории Украины. То есть здесь, на нашей территории, на территории Донбасса.
Вообще, если честно, лично мое мнение — в идеале было бы, конечно: ну, пусть их деды будут для них героями, хотя мы знаем, что они воевали на стороне немецко-фашистской Германии, воевали против наших дедов, против России, против советской власти на тот момент. Но я думаю, что в принципе наша основная задача на сегодня — это однозначно прекратить боевые действия на линии соприкосновения, сделать так, чтобы перестали гибнуть люди. Сделать так, чтобы прекратились обстрелы наших территорий. Потому что в результате этих обстрелов страдают не только позиции Народной милиции Луганской народной республики, но достается также еще и простым мирным гражданам. Поэтому я считаю, что как первый шаг к примирению можно было бы рассматривать и такую ситуацию в том числе.
Но еще раз повторюсь, что в этом не заинтересована Америка. Они создавали эту ситуацию сами, они создавали эту ситуацию на Украине. Они подогревали эти националистические настроения. И они сейчас, конечно, эту ситуацию не выпустят из своих рук, они будут продолжать подогревать, придумывать различные другие исторические поводы для того, чтобы вбивать клин между нами и остальной частью Украины.
— Когда Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины, он выглядел как компромиссная фигура. С одной стороны, в "Квартале-95" смеялся над Россией, но, с другой стороны, сам русскоязычный. И такой современный вроде бы парень, с автоматом не бегал в зоне АТО. Жители Украины, про которых вы сами говорите, что не хотят войны, естественно, считали, что он такой президент мира по контрасту с Петром Порошенко. Эти надежды остаются?
— Эти надежды развеялись буквально сразу же. Если честно, то у меня таких надежд и не было. Я был абсолютно уверен, что ничего не изменится от того, что придет к власти президент Зеленский, либо станется Порошенко, либо придет кто угодно — Яценюк, любой политический деятель Украины. Ничего не изменится. Потому что, еще раз повторяюсь, на сегодняшний день Украина является политическим инструментом в руках Америки и Западной Европы.
И основная их задача, и основная их цель — втянуть Российскую Федерацию в этот конфликт. Основная задача — это, конечно же, ослабление мощи России посредством Украины. Чем больше мы будем друг в друга стрелять, чем острее будет здесь конфликт, чем тяжелее будет здесь противостояние, тем для них ситуация будет казаться наиболее выгодной и наиболее хорошей. Поэтому я уверен, что президент Украины Владимир Зеленский не является самостоятельным человеком, он выполняет волю своих заокеанских хозяев. И поэтому рассчитывать, что с его приходом что-то изменилось бы, на мой взгляд, было бы не совсем корректно и не совсем правильно.
В общем-то, я не ошибся, мои предчувствия меня не подвели, так оно и получилось. Поначалу он говорил (о мире. — Прим. ред.). Возможно, это были предвыборные речи для того, чтобы набрать как можно большее количество голосов, наверное, это те же политтехнологии. Нужно было сменить картинку, нужно было убрать Петра Порошенко, который осуществил переворот на Украине, был одним из лидеров, который принимал участие в незаконном захвате власти на Украине. Картинку поменяли, народ проголосовал за Зеленского, но по факту внешняя политика Украины по отношению к Российской Федерации, по отношению к конфликту на Донбассе абсолютно никак не изменилась.
— Можно ли сделать прогноз на следующие президентские выборы Украины? Зеленский может остаться на новый срок или его поменяют, а если поменяют, то на кого?
— Я не знаю, на кого могут поменять Зеленского, может ли он остаться, наберет ли он какое-то достаточное количество голосов. Пока не ослабнет влияние Америки на украинскую элиту, на украинскую власть, я думаю, что ничего не изменится на Украине. И без разницы, кто придет к власти, это абсолютно не имеет никакого значения.
Там может быть и абсолютно не известное никому лицо. Наверняка, никто не мог предположить, что президентом Украины станет Зеленский. По большому счету он артист, артист такого, комического жанра. Он пришел к власти. Да, возлагали на него надежды, возлагали на него мечты украинцы, что они, наверное, хорошо заживут, наверное, закончится война в Донбассе, наверное, западные партнеры начнут вкладывать инвестиции, развивать Украину, делать ее процветающей страной, мощной, самостоятельной державой. Но мы видим, что этого не произошло, и в принципе, в прогнозах, ну, наверное, было бы неправильно рассчитывать на это.
Не будут пришедшие в косвенном отношении к власти на Украине какие-то американские или британские политологи, политтехнологи, олигархи развивать экономику Украины для украинцев. Ну не будет такого, понимаете. Однозначно это будет сырьевым придатком, однозначно из Украины высосут все что можно, угробят землю, как пример, тот же сланцевый газ, который на сегодняшний день, насколько я знаю, уже начинают добывать под Славянском. Угробят землю Украины, на том все закончится.
И будут ее до последнего использовать для того, чтобы как можно больше ослабить мощь Российской Федерации. Поэтому я не знаю, имеет ли шансы господин Зеленский. Но я уверен, кто бы ни пришел, в ближайшее время ситуация на Украине не изменится. Внешне, во всяком случае, в направлении внешней политики. Да и внутренней, скорее всего, тоже.
— А Петр Порошенко может вернуться?
— Я не знаю. По большому счету риторика у них абсолютно одинаковая, что у одного, что у другого. И Петр Порошенко, он даже, кажется, более кровожадный и более решительный в плане агрессивных таких настроений по отношению к народу Донбасса, по отношению к России. Поэтому я думаю, что, скорее всего, у него шансов нет. Я уверен, что народ Украины тоже устал от боевых действий, народ Украины тоже устал от войны, тоже устал от этой нищеты постоянной, когда о народе никто не заботится, о нем никто не думает.
Самый простой пример — это прививки от коронавируса, вакцина "Спутник V". Украина отказалась приобретать эту вакцину только лишь потому, что она произведена на территории Российской Федерации. Ну ведь это не более чем удовлетворение каких-то политических амбиций того же Зеленского и его команды. Либо выполнение команды, какого-то указания своих заокеанских хозяев. В данной ситуации я бы на его месте, безусловно, думал бы в первую очередь о здоровье народа. Что необходимо развивать общественный иммунитет. Что надо уберечь как можно больше жизней, которые может забрать эта болезнь, эта чума XXI века. Об этом никто не думает. Это очень плохо. Это говорит о том, что, к сожалению, никто о народе на той стороне не думает. Думает только о том, как удержаться у власти как можно дольше.
— Кстати, а как в Луганске идет вакцинация? Сколько уже поставили вакцин и сколько планируется поставить всего?
— На сегодняшний день у нас сделано порядка 30 тысяч прививок, привито у нас, скажем так, первой составляющей этой вакцины. И порядка 15 тысяч привито и первым, и вторым компонентом вакцины. Поэтому прививки у нас идут планово, насколько нам позволяют наши возможности, потому что хранение прививок подразумевает под собой определенные условия, их нужно делать в специально организованных местах.
У нас организованы 19 точек, где прививаются жители нашей республики. В поставках прививок с территории Российской Федерации в наш адрес проблем никаких нет. Мы эти прививки абсолютно спокойно получаем и прививаем наше население, за что, безусловно, Российской Федерации тоже слова огромной благодарности.
— Какие планы до конца года — вакцинировать сколько человек? Может быть, ждете какие-то новые поставки?
— До конца года у нас заказано порядка 300 тысяч вакцин. Мы идем в плане, и я думаю, что мы выполним стоящие перед нами обязательства и задачи.
— Триста тысяч — это дополнение к этим 30 тысячам?
— Да-да.
— Возвращаясь к Зеленскому. Имело большой резонанс ваше и Дениса Пушилина предложение Зеленскому встретиться лично. Какие-то получили вы ответы с той стороны: да, нет, где, когда?
— К большому сожалению, с той стороны мы получили отказ. Хотя в общем-то прямой диалог между республиками Донбасса и Украины — он прописан в Минских соглашениях.
Я считаю, что в данной ситуации время, место не особо имеют значение. То есть, если люди хотят говорить о мире, я думаю, что они найдут удобные для себя и место, и время. Когда речь идет о том, что необходимо принимать решения, которые спасут жизни сотен или тысяч граждан, как Луганской народной республики, так и территории Украины, я считаю, что место найти всегда можно.
Но, к большому сожалению, мы получили отказ, и я больше чем уверен, что господину Зеленскому опять же пока на эту встречу не дают разрешения его заокеанские хозяева. Это еще раз говорит о том, что он человек не самостоятельный. Ну как можно не принимать предложение о мире, провести переговоры, на которых обсудить точки какие-то напряжения, поискать какие-то точки соприкосновения и принять решение, в результате которого перестанут гибнуть люди твоей страны? Как можно отказаться от такого предложения? Ну лично я не совсем понимаю. Это совершенно неправильно и это, на мой взгляд, еще раз говорит о том, что человек не самостоятельный и его однозначно подталкивают к войне.
— А отказ на каком уровне был дан? Кто вам сказал "извините, нет"?
— Мы прочитали это из средств массовой информации, то есть конкретно в наш адрес никаких письменных подтверждений не отправлялось, звонков тоже никаких не было. Было сказано, что с представителями республик Донбасса встречаться никто не будет.
Есть предложение — хочет, имеет желание господин Зеленский встретиться с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Но опять же, возвращаясь к уже сказанному мною, я хочу сказать: при чем здесь Россия, если конфликт между нами, между Востоком Украины и практически остальной частью Украины? Между Донбассом и вот той частью, которая в одночасье перекрасилась и почему-то стала верить в другую историю, почему-то у них там появились новые герои, которыми правит нацистская элита.
Безусловно, я больше чем уверен, что большая часть населения Украины мыслит так же, как и мы. Но они запуганы именно той меньшей частью, которая на сегодняшний день представляет собой какие-то нацистские батальоны, нацистские движения, нацистски настроенные. Просто запугали здравых людей. Они смогли запугать людей, потому что они находятся у власти, это раз. Два — у них в руках находится оружие. И третье, безусловно, — их поддерживают заокеанские кураторы, их хозяева и помогают им держать эту власть.
— Если бы такой разговор состоялся с президентом Зеленским, какую конкретику вы могли бы ему предложить? То есть помимо хороших и правильных слов, что надо, чтобы люди перестали гибнуть? Что можно ему сказать с учетом всех этих обстоятельств: его зависимости, его несамостоятельности? И что вы хотите от него услышать?
— Есть такое понятие в психологии: как правильно локализовать конфликт, убрать его. Конфликт возникает из-за чего-то, возможно, из-за какого-то очень маленького противоречия. Потом к этому противоречию каждая сторона начинает подтягивать… тех, кто ее поддерживает. Каждая из сторон — своих единомышленников и так далее. И в итоге конфликт разрастается в огромное какое-то противостояние, которое непонятно, как решать.
Так вот для того, чтобы решать конфликт, на мой взгляд, нужно освобождаться постепенно от друзей своих, соратников, единомышленников и прийти к тому зерну, маленькому зерну, которое явилось основанием, яблоком раздора.
На мой взгляд, пересмотр нашей истории, пересмотр отношения к результатам ВОВ и явилось яблоком раздора. То есть Западная Украина, на которую были сделаны ставки, куда и вбивался клин между нашими отношениями, считают, что их деды — это герои.
Я считаю, что, для того чтобы перестали гибнуть наши люди, ну и пусть они себе считают так, а мы будем считать по-своему. То есть, как говорится, по умолчанию для меня мой дед является героем, является победителем, он и такие, как он, спасли мир от фашизма, остановили фашизм.
Если они считают по-другому, может быть, стоит все-таки пойти на какой-то компромисс. Ну и пусть себе так считают. Не будем навязывать им свою идею, не будем ломать их через колено. Пусть они считают так, мы будем считать так. Я считаю, что это не должно быть тем яблоком раздора, которое приведет нас к обострению конфликта и приведет к еще большим жертвам, которые на сегодняшний день уже имеются на территории республики и на территории Украины в том числе. Я считаю, что можно было бы пойти на вот такой компромисс.
Вот, как пример, Франция, где стоят памятники и хорошим, и плохим. То есть это история. Но каждый в душе, согласно своему воспитанию, обучению, идет и несет цветы в определенный день тому человеку, которому поклоняется, кому он верит ему больше остальных.
Я бы готов был это предложить только лишь для того, чтобы прекратить конфликт в Донбассе, прекратить стрелять друг в друга. Это не значит, что мы начнем завтра уже вместе жить, что мы вернемся на Украину, что они нас простят, или мы их простим, или о чем-то. Это ни о чем вообще не говорит. Мы просто должны прекратить стрелять друг в друга. Мы должны развести вооружения и перестать обстреливать территорию. Украина должна перестать обстреливать нашу территорию, в результате чего, я еще раз повторяюсь, страдают не только позиции Народной милиции, но достается и гражданскому населению.
Вот мне кажется, что об этом можно было бы, во всяком случае, разговаривать. Можно было бы предложить еще один момент. Помимо вот этих вот дискуссий по истории, мне кажется, что в Украине есть чем заниматься. Но если бы там сказали, что там полностью отстроены дороги, работает инфраструктура, сильная экономика, страна имеет политический вес на международной арене, что люди живут зажиточно, богато, что все там хорошо и вот остается только лишь одна проблема — это Донбасс и Россия, я, может быть, где-то, как-то попытался бы понять эту ситуацию.
Но ведь у них там все очень-очень плохо. И начинать нужно, наверное, все-таки с экономики. Потому что если быть президентом своей страны, то нужно в первую очередь думать о благосостоянии своего народа. То есть как будет жить народ. Чтобы была достойная заработная плата. Чтобы этой заработной платы хватало на уплату коммунальных услуг. Чтобы обязательно оставались деньги на питание, на одежду, на обучение детей, на все нужды, которые испытывает человек в процессе жизни. Об этом никто не думает. И, безусловно, одно из составляющих, наверное, счастливой жизни человека — это отсутствие каких-либо боевых действий на территории его страны. Вот поэтому я бы, наверное, в этом направлении тоже подумал и поработал.
— Когда обсуждается этот конфликт, часто звучит мнение, что надо ввести миротворцев ООН. Это возможно?
— Во-первых, для того, чтобы миротворческие войска ООН вошли на нашу территорию, должно быть международное решение, которого на сегодняшний день нет. Это первое.
Второе. Я считаю, что у нас народ, если честно, устал от войны. Особенно жители, как мы их называем, прифронтовых районов, которые проживают в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Они устали от того, что постоянно люди в военном, что постоянно движется военная техника. Место, где они проживают, постоянно подвергается каким-то обстрелам, они живут в каком-то постоянном страхе. То есть я не думаю, что еще какие-то дополнительные военные каким-то образом положительно скажутся в том числе на психологическом здоровье наших граждан, а ведь это тоже немаловажный такой момент. Люди устали.
Ну и третий момент. Вы знаете, мы и сами достаточно эффективно справляемся со своей безопасностью. Наши подразделения Народной милиции — это далеко уже не те разрозненные отряды ополченцев 2014 года, которые не имели ни связи, ни оружия, ни единого командования. На сегодняшний день — это достаточно подготовленная, достаточно боеспособная боевая единица, которая эффективно защищает рубежи нашей родины.
Поэтому я считаю, что на сегодняшний день вот такой острой необходимости и целесообразности введения на нашу территорию миротворческих сил ООН нет.
Как показывает практика, которую мы изучали, там, куда заходят миротворческие войска ООН, конфликты затягиваются на десятилетия. Ну и, наверное, каждый решает какие-то свои задачи, каждая политическая сила на территории конфликта. И, я еще раз повторяюсь, к этому конфликту присоединяются еще какие-то составляющие. Еще раз повторяюсь — это чистая психология. Для того чтобы локализовать конфликт, нужно убирать составляющие и прийти к началу конфликта. Вот к тому маленькому зернышку, к тому яблоку раздора, которое и явилось основой конфликта.
Поэтому чем больше мы будем сюда приводить миротворцев, еще кого-то привлекать на свою сторону — каких-то друзей и товарищей, знакомых, единомышленников, тем будет сложнее распутать этот конфликт.
— Еще одна организация — ОБСЕ — работает здесь семь лет. Как вы оцениваете их эффективность и объективность?
— Эффективность работы ОБСЕ у нас вызывает много вопросов. Если посмотреть на эту проблему с другой стороны, то лучше, конечно, что они присутствуют на нашей территории, чем если бы их не было. Да, они являются "глазами" международной организации ОБСЕ на нашей территории. Я образно скажу — да, пусть иногда они в темных очках, но это все равно глаза. Да, они получают в принципе информацию, которая, ну, наверное, анализируется международными организациями. Но к большому нашему сожалению, каких-либо выводов по данной информации не делается.
Само наличие Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ предусмотрено Минскими соглашениями, которые, к большому сожалению, не очень эффективны ввиду того, что Украина постоянно их саботирует. А у международного сообщества нет какого-то международного механизма принуждения стороны-нарушителя или стороны, которая не соблюдает эти соглашения — в данном случае это Киев, это Украина, — принудить их все-таки к выполнению этих соглашений.
Такой пример. СММ ОБСЕ отфиксировала совсем недавно передвижение Киевом в сторону линии боевого соприкосновения более чем 500 единиц тяжелой боевой техники. Ну и никаких, к огромному сожалению, санкций в отношении Украины принято не было. Хотя это запрещено Минскими соглашениями. В общем-то никто на это и внимания не обратил, кроме России. Тут политика такая, что они фиксируют эти нарушения, но каких-либо санкций в отношении Украины принять не могут, потому что нет действенного механизма принуждения к выполнению этих соглашений.
— Сейчас много сообщений, что обстреливают их беспилотники, как они пишут, с неподконтрольных Киеву территорий. Кто это делает?
— СММ ОБСЕ зафиксировала перемещение более 500 единиц тяжелой техники в сторону линии боевого соприкосновения. А потом вдруг неожиданно их беспилотники стали подвергаться глушению, стали подвергаться воздействиям радиоэлектронной борьбы с ними. Может быть, они увидели что-то лишнее на той территории, на украинской, поэтому их начали глушить. То есть я считаю, что здесь целиком и полностью вина также лежит на украинской стороне. У нас вопросов к беспилотникам миссии ОБСЕ абсолютно никаких нет. Установлен порядок их применения и, пожалуй, насколько я знаю, они абсолютно спокойно здесь реализовывают свои планы.
— То есть с вашей стороны их не обстреливают?
— Нет, мы ничего подобного в отношении беспилотников не предпринимаем. Есть определенный порядок: перед тем как использовать беспилотный летательный аппарат, логично было бы поставить нас в известность, в каком районе он будет летать, в каком районе он будет использоваться и что он будет смотреть. Эти моменты необходимо согласовать, потому что мы же не знаем, чей это беспилотник, и каждому солдату тоже не объяснишь. Появление беспилотника нового может быть расценено как беспилотник, который прилетел с украинской стороны, как беспилотник-разведчик, который разведывает наши позиции. Ну, вариант, конечно, такой не исключен.
Я еще раз повторяюсь, в случае соблюдения всех требований и норм, которые определены по применению беспилотных летательных аппаратов, проблем быть никаких не должно.
— ОБСЕ соблюдает этот порядок?
— Насколько мне докладывали, в общем и целом да. Но бывают, конечно, моменты, когда не соблюдают, бывают и казусы, когда и военные наши, не понимая, чей это беспилотник, могут применить, конечно, и оружие в отношении него. Но таких случаев очень мало.
— Продолжая тему международных организаций: когда в 2014-2015 годах здесь гибло много мирных граждан, звучали фразы, что мы безнаказанным это не оставим, будем обращаться в международные инстанции, в Международный уголовный суд. Есть статистика, сколько уже в такие международные суды передано дел из Луганска?
— Категорию этих дел у нас рассматривают два силовых ведомства: это МГБ и Генеральная прокуратура Луганской народной республики. МГБ ведет дела по геноциду, а Генеральная прокуратура рассматривает дела о воинских преступлениях. Значит, порядка 100 томов уже задокументировано по преступлениям в отношении жителей республик Донбасса в МГБ и тоже в районе около 100 — в Генеральной прокуратуре.
Но на сегодняшний день говорить о каком-то конкретном количестве еще очень рано, потому что наша территория подвергается каждодневным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, в том числе с применением тяжелого вооружения. Мина, прилетевшая на нашу сторону, не разбирает, военные это или не военные. И однозначно в результате применения этого оружия гибнут люди, получают увечья.
Но наши правоохранительные органы в этом вопросе работают достаточно слаженно и организованно, мы документируем все преступления, мы знаем конкретные фамилии лиц, которые отдают приказы обстреливать нашу территорию. И я уверен, что эти лица рано или поздно понесут заслуженное наказание. Я уверен, что эти дела будут рассмотрены и по ним будет принято верное решение. Ну, возможно, не в международных каких-то судах, а в трибунале, который будет основываться на принципах законности, справедливости и примет правильное справедливое решение в отношении преступников, которые убивают безоружных людей, которые убивают своих жителей.
— Получается, что в международные инстанции еще эти материалы не переданы?
— Насколько я знаю, еще мы не передавали ничего.
— За годы существования ЛНР бывали резонансные убийства знаменитых полевых командиров: Павла Дремова, Алексея Мозгового, начальника управления Народной милиции Олега Анащенко. По этим делам в каком состоянии сейчас следствие?
— По данным резонансным делам возбуждены уголовные дела. Подразделения Министерства внутренних дел, Министерства государственной безопасности занимаются расследованием этих уголовных дел.
По делу одного из руководителей Народной милиции Луганской народной республики Олега Анащенко найдены убийцы. Безусловно, они осуждены и уже несут заслуженное наказание. Исполнители найдены, а по заказчикам и организаторам следствие еще ведется. То есть через этих заказчиков и организаторов мы, возможно, выйдем и на другие заказные убийства.
По остальным делам расследование продвигается. В какой стадии — мне не хотелось бы озвучивать это, потому что это является, безусловно, тайной следствия в том числе. Но поверьте, что однозначно в этом направлении мы работаем и убийцы будут найдены.
— По Дремову и Мозговому пока не найдены?
— Пока конкретных результатов нет.
— Как вообще сейчас ситуация с точки зрения опасности каких-то новых терактов, новых диверсий, особенно в преддверии праздников, в том числе 12 мая — Дня республики?
— Безусловно, диверсионная опасность, опасность на нашей территории диверсионно-террористических актов со стороны Вооруженных сил Украины существует. Было определенное обострение зимой, после 19 февраля. Я уже точной даты не помню, но были морозы и у нас произошло два таких резонансных диверсионно-террористических акта по подрыву газопровода, в результате чего два дня без тепла у нас находилась часть Лутугинского района и около суток часть Луганска находилась без газа и тепла, соответственно. Поэтому такая опасность существует регулярно, в общем-то и угрозы со стороны Украины следуют в наш адрес, которые говорят о том, что одна из разновидностей ведения войны на нашей территории — это будет именно диверсионная война. Поэтому в преддверии праздников, таких как 9 Мая, 1 Мая, 12 мая — Дня независимости, Дня республики, дня проведения референдумов, — мы активизируем работу всех наших правоохранительных органов, активизируем работу военнослужащих, Народной милиции по выявлению и недопущению проникновения на территорию нашей республики диверсионных, террористических групп противника.
— Подрыв газопроводов был квалифицирован как теракт? Нашли исполнителей?
— Безусловно (как теракт. — Прим. ред.). Нет, опять же уголовные дела возбуждены по фактам пока, расследованием данных уголовных дел занимаются подразделения Министерства государственной безопасности.
— В 2014 году сюда еще приезжали украинские журналисты посмотреть, что действительно здесь происходит, услышать вашу сторону. Как вы думаете, это может повториться? Что приедут представители, может быть, оппозиционных каналов и вы их пустите, аккредитуете?
— У нас на территории республики разработан механизм аккредитации СМИ, разработан он Министерством связи и массовой коммуникации Луганской народной республики. Практически любое СМИ имеет возможность подать соответствующую заявку установленной формы и получить разрешение на работу на нашей территории. Либо не получить аккредитацию. То есть там есть определенные критерии, которые необходимо пройти.
Я обращаю внимание, что мы живем в непростых условиях. На территории республики у нас введено военное положение. К примеру, приблизительно в 20 километрах от нас проходит линия боевого соприкосновения, но это, наверное, самая дальняя точка. Самая близкая здесь, наверное, километров десять, не более того. Поэтому, давая определенные аккредитации, давая разрешение на работу на нашей территории, мы, безусловно, учитываем и риски, в том числе беспокоясь о сохранении жизни журналистов, которые будут работать на нашей территории. Но каких-либо черных списков, того, что мы не пустим украинские СМИ, у нас ничего подобного нет. То есть в установленном законом порядке, пожалуйста, пусть приезжают, получают аккредитацию и пусть смотрят, как мы живем. Мы, в общем-то, не возражаем.
— В течение последнего года обращались за аккредитацией?
— Нет, пока не было. Таких, к сожалению, обращений не было, насколько я знаю.
— Почему? Стесняются?
— Может быть, они стесняются увидеть, что мы здесь далеко, как они привыкли там везде рассказывать и писать, не террористы и сепаратисты. Что мы здесь простые люди, которые, в общем-то, абсолютно не хотят войны. Хотят жить со своей историей, со своими, так сказать, обычаями, разговаривать на русском языке и дружить с Россией.
Мы — обыкновенные люди, которые пашут землю, сеют хлеб, собирают этот хлеб, пекут этот хлеб, добывают уголь, восстанавливают заброшенные, запущенные наши заводы и фабрики, восстанавливают инфраструктуру республики, восстанавливают дороги, восстанавливают линии электропередач, восстанавливают жилые дома, восстанавливают водоводы, которые, в общем-то, достались нам в очень разрушенном состоянии от предыдущей власти. То есть мы — обыкновенные люди, которые хотят жить и созидать. Других задач у нас нет.
— А с оппозиционными украинскими политиками, с такими как Виктор Медведчук, не было контактов? Они заявляли, что готовы быть посредниками между Донбассом и президентом Зеленским.
— Однажды мы встречались с Виктором Медведчуком в Минске. Это когда шел вопрос об обмене военнопленными, которые содержались как на территории Украины, так и на нашей территории. Это был единственный контакт. Больше у меня каких-либо контактов не было ни с какими оппозиционными силами, ни с Виктором Медведчуком, ни с какими другими представителями.
— Может, это не личный контакт — может, они звонят вам, пишут?
— Нет, не звонят и не пишут.
— А вы согласились бы на их посредничество, если бы поступило такое четкое желание с их стороны, четкий сигнал?
— Если это абсолютно конкретные какие-то обоснованные предложения, которые несут в себе рациональное звено, реализацию мер или какие-либо рациональные, действенные меры, реализация которых вела бы к разрешению конфликта в Донбассе мирным путем, я готов разговаривать с кем угодно. Если это, я еще раз повторяюсь, каким-то образом поможет прекратить войну и сделает так, чтобы не гибли жители нашей республики.
То есть я в первую очередь беспокоюсь о жителях нашей республики. Я хочу, чтобы им было на территории республики комфортно, уютно, чтобы они жили богато достаточно и свободно, не боялись войны и были уверены в завтрашнем дне. Вот это основная задача, которая, безусловно, мною преследуется. Поэтому я готов разговаривать, я еще раз повторяюсь, хоть с Зеленским, хоть с Медведчуком, хоть с представителями оппозиции, с кем угодно, если это будут какие-то действенные разговоры, которые приведут к какому-то реальному результату.
— У вас не было когда-нибудь желания просто взять и позвонить в приемную Зеленского? Представиться, пригласить его к телефону?
— Знаете, если честно, нет. Если честно, желания не было. Я думаю, все-таки есть какой-то установленный порядок. И я готов с ним встречаться, я готов беседовать. Формально, неформально. Я еще раз повторюсь, очень важно решить вопрос прекращения огня в Донбассе и решения конфликта мирным путем. Но мысли позвонить не возникало.
— Хотел еще отдельно поговорить о "нормандском формате" и о Берлине и Париже. Как вы считаете, их роль насколько конструктивна?
— Я уверен в том, что и Берлин, и Париж наверняка устали от недоговороспособности Киева. Они в последнее время проводят в жизнь такую политику, когда за что-то хорошее они Киев хвалят, но за что-то плохое они его просто не ругают. И они упорно пытаются не замечать старания Киева переписать Минские соглашения. Вот это, мне кажется, не очень хорошо.
Я не слышал ни одного заявления по поводу того, что представители СММ ОБСЕ зафиксировали факт движения Киевом тяжелого украинского вооружения в сторону линии боевого соприкосновения. Вот ни от Берлина, ни от Парижа ни одного заявления по данному поводу не было. Однако было очень много заявлений по поводу того, что в Воронеж прибыло большое количество танков на внутрироссийские учения. Как-то достаточно странно.
Такое поведение не совсем соответствует, скажем мягко, образу посредников в решении этого конфликта и гарантов выполнения Минских соглашений. Вместе с тем порядок "нормандской четверки" прописан, он существует, он работает. И мы очень надеемся на то, что все же здравый смысл восторжествует. Конечно же, хотелось бы, чтобы это произошло пораньше и все-таки странами-гарантами принимались какие-то более жесткие меры по отношению к нарушителю, по отношению к той стране, которая не выполняет Минские соглашения. К Украине.
— Представители Киева в трехсторонней группе и сам президент Зеленский говорят, что в нынешнем виде "нормандский формат" не работает, давайте его расширим, нужно Америку включить или еще каких-то влиятельных игроков. Они действительно переживают, что он не очень эффективен? Или у них какие-то другие цели? Можно ли повысить его эффективность, включив США и еще кого-то?
— Я далек от мысли о том, что включение туда еще какого-то количества игроков — одного, двух, Соединенных Штатов, еще кого-то — приведет к какому-то положительному результату. У меня просто складывается впечатление, что Украина пытается затянуть в "нормандский формат" еще своих союзников, чтобы как можно более эффективно оказывать давление на Российскую Федерацию, которая говорит: ребята, садитесь за стол переговоров вместе с Донбассом. Украина пусть садится, представители политического руководства Украины пусть садятся с руководителями Донбасса и решают все возникшие противоречия.
— То есть просто затянуть решение?
— Возвращаясь к психологии конфликта, чем больше в конфликте сторон и участников, тем хуже. В конфликт втягивается все большее и большее количество участников, что ведет не к разрешению конфликта, а к его нагнетанию и усугублению. Это мое мнение.
— Зеленский тоже недавно фразу обронил, что нужно изменить последовательность выполнения Минских соглашений, а может быть, даже и выйти из них. Что они хотят на самом деле? Может быть, от них поступает какая-то конкретика на минских переговорах?
— Да никакой конкретики от них, к большому сожалению, не поступает. Все те предложения, которые мы делали в рамках Минских соглашений, в рамках отдельных заявлений, которые были направлены на мирное урегулирование конфликта в Донбассе, украинская сторона не приемлет. Для них самое важное, что они хотят переписать это. Конечно же, в первую очередь установить контроль над границами и здесь нам потом устроить резню. Или что с нами делать, я не знаю. Какой-то сценарий, наверное, предусматривают свой.
Вместе с тем, в Минских соглашениях все написано: что и в какой последовательности должно происходить. И Украина эти подписанные ею же соглашения не приемлет и соблюдать не хочет. Цели они могут преследовать только одни: получив указания своих заокеанских хозяев, дальше нагнетать и обострять конфликт. То есть каких-либо действенных предложений, которые бы были направлены на разрешения конфликта мирным путем, со стороны Украины, к большому сожалению, не поступает. Все наши предложения, которые, на наш взгляд, являются действенными и могли бы положительно повлиять на данную ситуацию, Украина всячески отвергает.
— В то же время если взять и выполнить Минские соглашения, то, по сути, получится так, что Донбасс вернется в состав Украины. Не подразумевают Минские соглашения, что Донбасс выйдет из состава Украины и станет самостоятельным или частью России. Если немножко помечтать, и Владимир Зеленский или следующий президент Украины начнет их выполнять, то к чему мы бы пришли в результате выполнения этих самых соглашений?
— Я очень далек от мысли, что все-таки Владимир Зеленский либо его последователь когда-либо выполнят эти соглашения, потому что они их абсолютно не устраивают. Еще раз повторюсь, что для них важна война. А если соглашения полностью выполнить, то Донбасс получает самые широкие полномочия, так сказать, самостоятельности. У нас практически своя народная милиция, у нас своя полиция, у нас своя избирательная система. То есть мы абсолютно самостоятельны, вплоть до того, что мы уже в таком случае сможем провести, наверное, референдум и принимать решение, проситься, чтобы нас присоединили к территории Российской Федерации. У нас вектор движения один — к Российской Федерации, интеграция с Российской Федерацией. Ну, я так считаю.
Конечно, безусловно, самый хороший вариант был бы, если бы в Киеве к власти пришли нормальные люди, которые нормально бы относились к России, были бы ориентированы на дружбу с Россией, вернули бы все на круги своя либо каким-то образом локализовали эти конфликты. И мы бы жили дружно, вот так, как жили до 2014-го. То есть чтобы не было вот этой русофобии, которая на сегодняшний день витает практически в воздухе Украины и ее насаживают, практически насаждают всем, кому только можно и кому нельзя. Вы понимаете? То есть если русский, значит — это враг однозначно.
Такого быть не может. Ну ведь мы жили сколько лет душа в душу и сколько лет мы были вместе. Нас связывают не только общая история, не только, наверное, наша культура, наши традиции, наш быт, вплоть до того, что родственники живут и на той и на другой стороне. Ведь очень много общего. Но, к сожалению, я считаю, что это американцам удалось вбить клин в наши отношения. Я думаю, что эту ситуацию нужно решать мирным путем в любом случае.
— А Донбасс готов ли в качестве компромисса остаться в составе Украины на правах автономии, например? То есть примерно по образцу того, как было с Крымом — будет автономная республика Донецкая, автономная республика Луганская, но все-таки в составе Украины. Может такое произойти?
— В общем-то, весь этот порядок, он прописан в Минских соглашениях. И если полностью Минские соглашения от самого начала до самого конца будут выполнены, мы будем выполнять эти соглашения, конечно.
— Вы говорили уже, что здесь восстанавливаются предприятия, добывается уголь. Как сейчас экономическая ситуация в республике в целом? Насколько я понимаю, с Украиной экономические связи сейчас очень мизерные. Есть блокада, есть нарушенные экономические цепочки. Есть ли какой-то дефицит в чем-то, в каких-то продуктах или в каком-то сырье?
— Да нет, вы знаете, дефицита в продуктах у нас абсолютно никакого нет. Все товары, которые мы закупаем, мы закупаем на территории Российской Федерации. То есть в чем-либо мы не нуждаемся, в предметах первой необходимости нужды республика абсолютно никакой не испытывает.
Какое хозяйство нам досталось? В принципе, я уже немножко коснулся этого вопроса. Это разбитые дороги, которые не ремонтировались приблизительно с 90-х годов прошлого столетия, это практически пришедшие в негодность водоводы, которые не работают и рвутся постоянно: мы не можем воду доставить людям. Конечно, мы предпринимаем все усилия для того, чтобы люди были с водой. Это касается водовода, допустим, Молодогвардейск — Ровеньки. Практически около 200 дней идет ремонт водовода в году. То есть представляете, сколько дней люди без воды? Нами организована доставка машинами, мы развозим.
Все возможное от нас мы делаем. Но и сами дома... Крыши текут, электричество не работает, провода, столбы. Все это, конечно же, требует скорейшей замены. Все это хозяйство нам досталось от наших предшественников, бывших руководителей Украины, которые, к большому сожалению, о своем народе абсолютно не думали, приоритеты были, наверное, — заработать побольше денег и куда-то уехать жить в более хорошие страны. Я не знаю, но если так в жизни бывает... Я лично думаю, что такого быть не может. Невозможно быть счастливым в стране, которую ты ограбил и привел вот к такому состоянию, в котором она нам досталась.
Плюс к этому, безусловно, на состояние республики повлияла и война 2014 года. То есть те боевые действия, которые прошли по нашей территории, они тоже бесследно не исчезли. Получили разрушения крупные заводы, которые работали на нашей территории, фабрики, и школы, и жилые дома, и учреждения. Все это мы на сегодняшний день приводим в порядок, все это мы ремонтируем.
В прошлом году нами проведена реорганизация угольной отрасли, в результате которой создано единственное в республике предприятие "Востокуголь", которое, на мой взгляд, работает эффективно. Мы регулярно выплачиваем заработные платы, мы выполняем план по добыче угля, мы реализовываем этот уголь. То есть у нас в принципе получается.
Достаточно эффективно развивается сельское хозяйство. Это и посевные, наши зерновые культуры, которые мы сеем, которые мы собираем. Вот совсем недавно мы открывали огромный комплекс по разведению свиней. Инвестор, который к нам зашел в данный проект, собирается вложить порядка 12 миллионов евро. То есть это будет комплекс построен такой, которому в принципе на Украине аналогов нет, на территории России таких ну очень-очень немного.
Наш самый главный ориентир — мы делаем ставки на собственного производителя. Я хочу, чтобы наш внутренний рынок наполняли по максимуму товары собственного производства, чтобы минимизировать завоз на территорию республики каких бы то ни было товаров извне. В этом-то и заключается независимость, в том числе от тех санкций, которые в отношении нас вводятся, и тех экономических блокад, которые нам устроила территория Украины.
Да, безусловно, все это очень сложно, потому что когда-то вся эта экономика была завязана в единый узел. То есть у нас добывался уголь, который использовался на тепловых электростанциях, расположенных в глубине Украины. На сегодняшний день Украина отказалась от нашего угля и завозит уголь, если я не ошибаюсь, из Конго. Но ведь это величайшая глупость, там и логистика, там и транспортные расходы, там и все остальное прочее. В то время как вот здесь, в Луганской народной республике, до ТЭС в поселке Счастье 25 километров. То есть сами понимаете — доставка угля, и какова будет его себестоимость. Было бы удобно и им, и нам. Но этот механизм не работает.
Касаясь ввоза товаров извне. Я считаю, что мы не должны зависеть от импорта товаров, мы должны быть абсолютно независимыми. У нас должно быть все свое. И я хочу сказать, что подобная схема — она, безусловно, позитивно влияет на развитие экономики. Ну я приведу пример: Черныхинская птицефабрика, развитием которой мы занимались. Есть два варианта, как обеспечить республику мясом птицы. Ну, в частности, мясом птицы. Это либо привезти извне, закупить и привезти сюда, либо сделать самому. Но, когда мы делаем сами, мы и сами развиваемся, и деньги остаются в республике, которые потом используются и для развития остальных отраслей экономики. А когда мы завозим извне, мы, безусловно, деньги из республики вывозим. То есть я задачу поставил своим производителям такую: вот если мы повезем нашу курицу в Польшу, вот это будет наша победа. А пока мы везли оттуда, вот тут нашей победы нет. Безусловно, от импорта товаров никто не откажется, потому что полностью производить все это очень-очень сложно. Но я думаю, что импорт необходимо минимизировать.
— Сейчас на сколько процентов вы себя обеспечиваете?
— Мясом курицы, я думаю, мы себя обеспечиваем где-то процентов на 90. То есть мы около десяти процентов завозим мясо курицы из-за границы — это Белоруссия, Краснодар. Дабы защитить своего производителя, мы ввели квоты на растаможку ввозимого мяса курицы. То есть так называемая заградительная пошлина, мы защищаем своего производителя.
Пшеницей мы практически обеспечиваем себя на сто процентов, масло подсолнечное — где-то минимум процентов на 50, хлебом, соответственно, на сто процентов. То есть продовольственная безопасность республики, она на таком достаточно серьезном, высоком уровне. Все это мы стараемся делать собственными силами.
— Эта польская курица пресловутая и остальные товары, они идут через Украину или все это можно только через Россию?
— Нет, это все только через территорию Российской Федерации. Из Украины к нам не заходит практически ничего.
— А уголь с вашей стороны они, может быть, как-то через Россию завозят все-таки?
— Насколько я знаю, нет. Насколько я знаю, они принципиально отказались от нашего, от российского угля и везут уголь из Конго.
— Возвращаясь к предыдущим темам. Вот вы говорили, что Украина сосредоточила серьезные силы. Пятьсот единиц техники Украина стянула к линии соприкосновения. Сейчас вся техника там же остается или нет, или что-то они отвели?
— Я не готов ответить сейчас на этот вопрос, какими-то конкретными цифрами, конкретными данными я не располагаю. Возможно, эта техника находится на вторых рубежах, где-то больше вглубь Украины. Не совсем в глубине Украины, ну так скажем, на каком-то определенном отдалении от линии боевого соприкосновения. Но вот из тех докладов, которые мне делали военные вот буквально на днях, особого сосредоточения в непосредственной близости на линии боевого соприкосновения мы не отмечаем.
— То есть нет такого ощущения, что ВСУ со дня на день готовы к наступлению?
— Я думаю, нет.
— В России широко обсуждается возможная встреча президентов США и России. И вот когда они договорились о встрече, было такое мнение у серьезных экспертов, что до этого точно не будет никакого обострения в Донбассе, потому что оно испортило бы фон такой встречи. Вы согласны с мнением, что ожидание этой встречи дает вам такую передышку, гарантию, что пока все хорошо?
— В принципе да, я согласен с прогнозом, да. Я думаю, что до встречи вряд ли что-то будет. Ну вы знаете, просто мне кажется, что мы дошли уже до крайней черты, я не знаю, как это назвать. Америка, она доводит до последней черты, практически до абсурда доводит ситуацию, да? Но вот все-таки, наверное, существует черта, через которую переступать нельзя. Вот та красная черта, о которой говорил и президент России Владимир Путин, что мы сами будем определять, где находится эта черта.
Он правильно сказал, безусловно, правильно. Ну нельзя переступать через эту черту, потому что, наверное, в мире, помимо простого тяжелого вооружения, есть еще такое оружие, которое не дай бог, так сказать... В этот конфликт будут втянуты слишком серьезные силы, и, не дай бог, начнется война с применением, в том числе и атомного, ядерного оружия. Но она, наверное, будет последней на земле, эта война. И я думаю, что до абсурда доводить ситуацию никто не будет.
Поэтому я очень надеюсь на то, что все-таки здравый смысл восторжествует и та же Америка одумается. И мне кажется, что лучше дружить и развивать как-то экономику. Я думаю, очень много точек соприкосновения в изучении мира, в котором мы живем, в использовании природных ресурсов, в защите экологии, очень много можно найти тем для взаимодействия, чем искать темы какие-то для войны. Лучше делать изобретения, которые будут двигать человечество и прогресс вперед, чем изобретать оружие, которое будет убивать как можно больше людей.
— А как вы думаете, на таком саммите будет вопрос Донбасса затрагиваться?
— Я думаю, обязательно. Потому что, на мой взгляд, на сегодняшний день, может быть, мне так кажется, потому что я проживаю на территории Донбасса, Донбасс — это одна из самых горячих точек на Земле. Здесь столкнулись интересы, и конфликт, мне кажется, очень такой серьезный. Здесь затронуты интересы практически всей Западной Европы, здесь затронуты интересы наши, здесь пытаются втянуть в эту ситуацию Россию, здесь в этой ситуации интересы Америки. То есть здесь слишком много интересов сошлось в одной точке. Поэтому я думаю, что эта тема очень серьезная для обсуждения, и я думаю, что она однозначно будет затронута на встрече Байдена с Владимиром Владимировичем Путиным.
— И последний вопрос — о НАТО. Не так давно Зеленский неожиданно вот эту тему стал достаточно активно развивать, Турция его поддержала, что нужно все-таки Украине двигаться в сторону НАТО, даже надо план действий членства в НАТО разработать. Более того, Зеленский заявил, что этот план, если его хорошенько разработать, он поможет урегулировать конфликт на Донбассе. Как вы думаете, насколько это реально?
— Ну, то, что Украину примут в НАТО, это вполне реально с учетом того, кто находится на сегодняшний день там у руководства. А по поводу урегулирования конфликта в Донбассе путем вступления Украины в НАТО... Ну, я еще раз говорю, чем больше в конфликте участников и сторон, тем конфликт больше усугубляется и напрягается, и обостряется. Поэтому не решится проблема в Донбассе от того, что Украина вступит в НАТО.
А то, что они могут вступить... Ну, это, наверное, вполне реально, потому что такое решение будет принято, такую команду получит Зеленский и политическая элита Украины, и они примут такое решение. И все.
— Почему вообще Зеленский настолько зависит от США? Он же президент большой страны, у него есть свои спецслужбы, своя армия, своя экономика. Пусть не блестяще дела идут, но почему он не может как-то сказать: вы извините, я буду действовать как считаю нужным, а не как вы мне говорите?
— Вы знаете, потому, что, на мой взгляд, на сегодняшний день на Украине есть еще, наверное, политические и военные силы, которые сформированы из числа националистов, которые страшно ненавидят Россию. И для них гораздо большим, наверное, другом и товарищем является Америка, нежели Россия. И они, очевидно, имеют очень серьезный вес на территории Украины, очень серьезную силу, которую, на мой взгляд, в том числе боится и президент Зеленский. Это первый момент.
Второй момент — это, безусловно, экономика, которая зависит от Америки. Будет послушным президент Зеленский, значит, он получит очередной транш. Каким-то образом Украина, хорошо или плохо, но сможет прожить какой-то определенный период времени. Будет непослушным — транш не получит. Ну, чего греха таить, вот она экономика Украины. Мы в принципе видим ее отражение на территории Донбасса, ну ведь это зеркальное отражение. Ведь мы же, в общем-то, были частью Украины до 2014 года, частью ее экономической системы. То есть в каком состоянии наши заводы, фабрики, мы все прекрасно видим — все в разрушенном состоянии практически, в заброшенном. Никто ничего нового не построил, никто никаких проектов не делает, никто в экономику деньги не вкладывает. Денег хватает только для того, чтобы выплатить социальное пособие, чтобы выплатить пенсии, чтобы выплатить зарплаты и чтобы как-то не допустить социального взрыва. Поэтому, безусловно, он сидит на определенной игле в финансовом плане, от которой зависит. И поэтому его зависимость, в общем-то, и определена от Соединенных Штатов Америки, от Европы и так далее.
— А спецслужбы американские, ЦРУ, насколько они влиятельны в Киеве? Могут они реально угрожать Зеленскому?
— Опять же, насколько я читал в средствах массовой информации, насколько осведомлен, на здании СБУ на Владимирской в городе Киеве висит флаг НАТО. Они занимают там целый этаж, на который они уже не пускают сотрудников СБУ. Я не знаю, чем это все закончится. Мне так кажется, что там уже по большому счету и Украина украинцам скоро при таком подходе будет просто не принадлежать.
Они уже приняли закон о торговле землей, да. Я, например, очень далек от мысли, что землю купит простой украинец. Ну я далек от такой мысли. А с учетом того, как относится, так сказать, политическая элита Украины к своим заокеанским хозяевам, я уверен, что эту землю скупят именно вот эти хозяева заокеанские. И все — в общем-то, украинцы будут жить на земле, которая по большому счету им уже и не принадлежит. А как же они сохранят свою идентичность, как тогда они будут отстаивать свои права и отстаивать все те ценности — ну это для них ценности, — за которые они выходили на Майдан в 2014 году?
Придя хозяевами на Украину и получив землю, западные кураторы, хозяева не будут развивать экономику Украины для украинцев, понимаете? Однозначно это будет сырьевой придаток. Все товары будут вывезены за пределы Украины и Украине же проданы втридорога. И в итоге просто оттуда высосут все что можно и бросят. Поэтому, если это не понимает простой народ Украины, если этого не понимает товарищ Зеленский, это очень плохо и очень плачевно. Ну не помогут им ничем. Я еще раз говорю: ни одного инвестпроекта, я не слышал, чтобы начали какое-то строительство на Украине. Ничего нет. Кроме того, что помогают оружием и боеприпасами, обмундированием и так далее и подталкивают Украину к войне, больше им никто ничем не помогает. Народ никому не нужен.
— А есть какие-то поставки оружия от США или НАТО, о которых мы не слышим, в каких-то таких объемах, которые не звучат?
— В принципе, я об этом не знаю. Только лишь из средств массовой информации мы получаем эту информацию. И те боеприпасы, которые прилетают на нашу территорию, то, что мы видим, какая техника расположена на той стороне. Вот, в общем-то, так сказать, основываемся на базе вот этих данных.

КАКИЕ УРОКИ МОЖЕТ ИЗВЛЕЧЬ РОССИЯ ИЗ ПОРАЖЕНИЯ США В АФГАНИСТАНЕ || РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
ТИМОФЕЙ БОРДАЧЁВ
Кандидат политических наук, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики», программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ || УГОЛОК РЕАЛИСТА
От редакции:
Журнал «Россия в глобальной политике» продолжает серию публикаций под рубрикой «Руководство к действию». В этой рубрике видные учёные-международники рассматривают текущие события с позиций одной из доминирующих школ международных отношений. У каждого своя линза и свой угол зрения. А нашим читателям мы предоставляем возможность выбирать, чья теория убедительнее интерпретирует события современной политики. Сегодня у нас реалистичный мир Тимофея Бордачёва.
↓ ↓ ↓
Вне зависимости от наличия материальных ресурсов, необходимых для того или иного стиля внешней политики, её результаты определяются способностью ставить задачи на основе здравого сопоставления собственных интересов и международного контекста, а не из плена иллюзий.
Решение США двадцать лет назад о начале масштабной военной интервенции в Афганистане было продиктовано как раз иллюзиями – оценкой собственного военного, экономического и идеологического могущества как самоценного и способного на реализацию любой задачи безотносительно воздействия таких категорий, как история и география. Результатом стало стратегическое поражение Соединённых Штатов в Афганистане, масштабы влияния которого на их место в международной системе ещё предстоит оценить.
Пока эвакуация из Афганистана американцев и их союзников не похожа на бегство из Вьетнама в середине 1970-х гг., хотя неизвестно, как всё будет выглядеть через несколько месяцев. Противник, для уничтожения которого США пришли в Афганистан и с которым они заключили соглашение в начале 2020 г., не имеет за своей спиной ни одну из великих держав, которая бы давила и требовала быстрых и зрелищных успехов. Более того, международная изоляция и осуждение в отношении движения «Талибан»[1] заставляют его лидеров быть более осторожными, чем позволяют их военные возможности. Но нет и объективных оснований считать, что после полного вывода иностранных войск из страны у талибов останутся причины для отказа от выстраданной годами победы во всей её полноте. Тем более что поведение соседних держав создаёт у талибов уверенность в том, что «стратегия салями» окажется наиболее верной.
То, что США не получат после ухода из Афганистана угрозу непосредственно рядом со своими границами, не имеет принципиального значения. Уход из Вьетнама пятьдесят лет назад также не мог привести к непосредственным негативным эффектам для их безопасности – таково географическое положение этой державы. Но гораздо важнее другое – начав и проиграв войну на южном периметре Евразии, Вашингтон сократил собственную способность участвовать в формировании и динамике баланса сил в этом важнейшем для мира регионе.
Вряд ли найдётся держава, которая теперь отважится противостоять афганцам в одиночку на их собственной территории. Поэтому в ближайшие годы Афганистан станет важным центром, из которого будут исходить импульсы дестабилизации политических режимов в средних и малых государствах по соседству. Наиболее крупные из таких стран, Узбекистан или Пакистан, будут стремиться решать возникающие проблемы самостоятельно, но с опорой на Россию и Китай. Свою роль в международной политике региона будут играть Индия, Иран и даже более удалённые географически Турция и Саудовская Аравия. Все они будут обращаться к Соединённым Штатам только во вторую или третью очередь, если вообще станут это делать.
Собственно говоря, вся политика США после холодной войны и до прихода к власти Дональда Трампа – это разрушение системы баланса сил, которая сыграла решающую роль в том, что они одержали верх над Советским Союзом.
Эта политика имела только одно гипотетически успешное для Америки завершение – установление контроля над основными международными институтами и единоличное лидерство на этой основе. Но эта цель абсолютно иллюзорна с точки зрения законов международной политики, в которой не может быть монополии на использование силы.
Если брать более реалистичные задачи, речь может идти о максимизации преимуществ на основе тактического силового преобладания, наиболее ёмким определением которого был «момент однополярности» Чарльза Краутхаммера. Но если судить по результатам, а конец афганской эпопеи здесь один из наиболее важных, то это тоже не так. Ставили бы американцы перед собой настолько мудрёные задачи, эффективнее использовали бы свои в любом случае небезграничные ресурсы. Сейчас США начали движение к политике баланса сил, но начинать им приходится в намного менее благоприятных для себя условиях, чем после Второй мировой войны.
75 лет назад философская основа успешной политики великой державы была сформулирована в работе эмигрировавшего за океан голландского политического философа Николаса Спикмена в работе «Стратегия Америки в мировой политике» (1942). Можно выделить три основные идеи этого произведения: сила играет решающую роль в международной политике, она является инструментом, при помощи которого государство обеспечивает свою безопасность в отношениях с другими государствами, и, наконец, в ХХ веке международная система перестала быть европейским феноменом. Это значит, что для собственного выживания держава, находящаяся на значительном географическом удалении от остальных, должна активно участвовать в глобальном балансе сил. Основным объектом критики Спикмена была стратегия удалённости от мировых конфликтов, исторически присущая американскому внешнеполитическому мышлению на основе геополитических доводов, важность которых автор признавал. При этом целью участия в европейских и азиатских делах могло быть не установление контроля над этими регионами, а поддержание там баланса сил – невозможности для одной великой державы собрать все силы в своих руках.
Широко известно, что в момент выхода основных работ Спикмена его идеи встретили сдержанную реакцию критики. Причина сдержанности была не в апологии автором фактора силы – в максимально упрощённом виде этот аргумент действительно захватил умы его новых соотечественников и остаётся для большинства из них «символом веры». Главное, что не было принято и понято у Спикмена – признание невозможности «конца истории» и природы баланса сил, как постоянно нестабильного и меняющегося способа взаимодействия государств. Как писал один из критиков, «реализм Спикмена – это реализм прошлых столетий», исходящий из того, что порочный круг войны всех против каждого не может быть разорван.
Тем не менее на протяжении нескольких десятков лет идея о повсеместном силовом присутствии действительно стала центральной для американской внешней политики, на неё до сих пор тратятся колоссальные ресурсы. Другими словами, на политическом уровне был полностью воспринят геополитический аргумент Спикмена, но его системные характеристики международной политики оказались отвергнуты. Уникальное геополитическое положение США делало политику на основе проповеди Спикмена противоестественной, поскольку она, за исключением проникновения СССР в западное полушарие, никогда не отвечала прямым и непосредственным угрозам. Результатом оказалось стремление после холодной войны добиться изоляционизма в глобальном масштабе – сделать весь мир настолько же подконтрольным и свободным от внешних угроз, как собственная территория. Практические последствия – это не усиление, а ослабление американских позиций как итог многолетнего использования американской мощи.
С точки зрения реалистского подхода к пониманию международной политики для нас не имеет большого значения, какие внутренние причины привели к неправильной интерпретации идеи о необходимости активного участия Соединённых Штатов в международных делах. Совокупные внутренние ресурсы этой страны достаточны, чтобы быть одним из важнейших международных игроков, особенно если они будут благоразумно использоваться.
Значение имеют выводы, которые, опираясь на этот опыт, может сделать Россия для собственной внешней политики. Главный из них – попытки добиться абсолютной безопасности приведут к быстрому истощению сил и конфликту с окружающими. Пробовать решить одну из проблем раз и навсегда – не просто сомнительно с точки зрения ресурсов (их может не хватить даже на полный силовой контроль Киргизии или Таджикистана), а совершенно бессмысленно с учётом природы международных отношений и глобального контекста.
Сколько бы ни было у России возможностей применительно к каждому конкретному случаю, она не может исходить из вероятности достижения постоянного статуса и, соответственно, ставить перед собой такой задачи. Сейчас для России имеет важное значение дальнейшее вытеснение Соединённых Штатов из Евразии. После ухода из Афганистана ещё больший ущерб американскому присутствию нанесло бы уничтожение украинского государства, проблема существования которого создает причину для напряжённости между Россией и основными европейскими державами. На первый взгляд, не будет Украины – не останется причин для конфликта между Россией и франко-германским Европейским союзом, и европейский международный порядок приобретёт сравнительно законченную форму. Но это может оказаться опасной иллюзией – соотношение сил держав всё равно сохранит свою динамичность, и завтра мы столкнёмся в Европе с новыми вызовами.
Реалистский стиль мышления отвергает возможность самоизоляции точно так же, как и способность государства добиться сколько-нибудь продолжительного выгодного для себя постоянного статуса. Российская внешняя политика в Евразии, центральным компонентом которой останется её военная сила, должна в будущем решать массу тактических задач. На Западе это будет сдерживание США, на Востоке – примирение остальных с ростом китайского могущества, а самого Китая – с ограниченностью его потенциала, на Юге – сплочение стран Центральной Азии против угрозы из Афганистана и их прямая поддержка. Тактический успех во всех этих вопросах является результатом сочетания военных и дипломатических усилий.
Но при этом нельзя забывать и о стратегическом императиве – постоянном поддержании в Евразии и за её пределами многостороннего баланса сил с участием растущего количества самостоятельных игроков. То, что Россия не может думать о самоизоляции в упрощённом смысле этого понятия, объясняется её географическим положением. Участие в делах соседей и применение силы за пределами национальных границ продиктовано для неё не столько статусом в глобальной иерархии, сколько соображениями собственной безопасности. Но чем более благоразумным всё это будет оставаться с точки зрения стратегической оценки природы международного взаимодействия, тем меньше ресурсов потребуется отвлекать от решения самой важной задачи – внутренней устойчивости и социальной стабильности внутри самой России.
--
СНОСКИ
[1] Запрещено в России.

Виталий Филипченко: в Нью-Йорке, как и в России, — дураки и дороги
В этом году в Нью-Йорке пройдут выборы мэра. За место градоначальника борется в числе прочих и гражданин России Виталий Филипченко. О дураках и дорогах в США, о главных, на его взгляд, проблемах города, о планах в случае избрания и биотуалетах, о преимуществах и недостатках образования в России и в "Большом яблоке", а также о том, чья матерщина крепче, в интервью корреспонденту РИА Новости Алану Булкаты рассказал первый в истории кандидат в мэры Нью-Йорка, родившийся Томске.
– У вас был свой бизнес в Томске. Почему вы решили поехать в США?
– В 1988-м году еще я увлекался музыкой. Одним из моих любимых поэтов был Джим Моррисон, группа The Doors. Когда ты хочешь знать своего кумира, ты изучаешь историю, биографию его. Америка мне показалась очень благоприятной страной для артистов, бизнесменов, простых людей. Закончил техникум, пошел в институт. Потом семья, ребенок. Открыл бизнес – летнее кафе. Подписал контракт на год. В итоге на следующий год "отжали". Потом была фирма по продаже металлопроката. Потом работал в организациях, но понимал, что без связей ты никто.
Потом развелся. Сказал себе, что теперь у меня больше шансов, и надо решать что-то оперативно. И я решил полететь по туристической визе в Америку. Прилетел, убедился, остался.
– То есть, вы ехали не просто отдыхать, а уже с целью присмотреться?
– Посмотреть. Планы были. Когда планы совпали с действительностью, решил – надо оставаться, надо добиваться результатов. Туристическая виза дается на полгода. Когда виза закончилась, я пытался поменять статус на рабочую визу, на все возможные варианты, чтобы оставаться официально. Потому что я не хотел нарушать закон. По счастливой случайности, где-то через полтора года я встретил свою нынешнюю жену. Поженились. Процесс оформления документов прошел гораздо быстрее. И мы уже 12 лет живем счастливо с супругой. После женитьбы, как только получил документы, я сразу же открыл свою фирму. Фирма уже существует больше 10 лет. Средний бизнес. Доволен. Могу позволить себе съездить в отпуск в Лондон, во Флориду, оплачивать аренду квартиры на Манхэттене. Я иду в мэры и не пытаюсь получить с этого прибыль. Многие идут в мэры, просто чтобы сделать себе рекламу, заработать денег. Я другой человек. Я поступаю, скажем так, как Робин Гуд. То есть, хочу помочь людям. Потому что большинство кандидатов, которые идут с оппозиционной стороны, – обеспеченные люди, все работали в мэрии, зарплата высокая, имеют свои дома. Когда такой человек пытается сказать, дескать, я решу твои проблемы (с которыми он, по сути, никогда не сталкивался), это просто фальсификация информации, мягко выражаясь.
Я рассчитываю на эмигрантов. Не только русских – всех эмигрантов, прошедших тяжелый рабочий путь. Они понимают проблемы – содержание семьи, уплата налогов, оплата жилья, еды, надо помогать детям. Соответственно, они видят во мне кандидата, который действительно живет в этой реальности, а не на каком-то розовом облаке, пытаясь всем пообещать больших денег, как Эндрю Янг (один из кандидатов в мэры Нью-Йорка, бизнесмен – ред.). Он миллиардер. У тебя уже есть возможности помогать людям! Зачем тебе официальная позиция мэра, если у тебя есть уровень, деньги, связи? Делай!
– А где вы берете средства на вашу кампанию?
– Я вкладываю свои деньги. Люди еще помогают – волонтеры, которые делают добровольно работу. У меня есть команда. Мне удобно, что сейчас люди работают на расстоянии. Помогают люди не только в Нью-Йорке, есть друзья в других штатах, в Теннеси, во Флориде. Девяносто процентов волонтеров у меня американцы, не русские. Они ведут документы, высылают информацию, отвечают на вопросы.
– Каким бизнесом вы занимаетесь?
– Это коммерческие перевозки – офисы, склады. Перевозим квартиры.
– Одна из позиций в вашей программе – расчистка улиц… Что не так с улицами в Нью-Йорке?
– Ремонт дорог, планирование, использование денег. К примеру, на дорогу кладется асфальт. В следующий раз его должны заменить через 10 лет. Срок годности – минимум 10 лет. В Нью-Йорке кладут асфальт, а через два года сдирают и кладут новый.
– О чем это говорит?
– Это разбазаривание денег, бюджета. Это вызывает вопросы. Или ты воруешь деньги из бюджета, или ты идиот, который не знает, чем занимается. Это говорит о том, что система полностью развалена в Нью-Йорке, в мэрии. У де Блазио (действующий мэр Нью-Йорка Билл де Блазио – ред.) есть деньги покрасить велосипедную дорожку, организовать велосипедное движение, покрасить дорожки для автобусов. Это все стоит больших денег. Но при том количестве бездомных, которые живут на улице в Нью-Йорке (это более 20 000 человек) он не может поставить биотуалеты. Что, чтобы справить свою человеческую нужду, они должны прятаться по углам, как животные?! Ему не пришла идея поставить биотуалеты на каждом углу. Ведь будут создаваться рабочие места – фирма, которая доставит биотуалеты, которая будет обслуживать их, которая будет расставлять. Можно сделать красивый дизайн, привлечь дизайнеров. Это уже инфраструктура. Ты можешь помочь организовать бизнес. А ты начинаешь красить велосипедные и автобусные дорожки. Это, по-моему, идиотизм.
– А дороги здесь в Нью-Йорке чем-то отличаются от российских, от московских, от томских?
– В Нью-Йорке, как в России – дураки и дороги. Скрывать не буду. Если посмотреть другие штаты, к примеру, Флориду – там дороги намного лучше. Там бюджет штата – четыре миллиарда, а бюджет Нью-Йорка – 90 миллиардов. Качество дорог в Флориде намного лучше. А здесь хуже делают.
– Почему?
– Неправильное распределение бюджета. Дороги – одна из первых проблем. Опять же самый большой бюджет где? В строительстве дорог. Факт есть факт. Цифры есть цифры. Если человек не признает, что у него воруют деньги из бюджета, значит, ему стоит признать, что он дурак. Получается, в мэрии денежный интерес, а не интерес помогать людям. И когда ты понимаешь, что в таком громадном городе с таким потенциалом, где все можно сделать справедливо и честно, все перетягивается в один карман, хочется сказать: "достаточно". Кто-то должен вступиться.
– Когда вы решили пойти в мэры?
– Два года назад.
– Подозреваю, что это связано не только с дорогами…
– Черта характера. Я не люблю несправедливость. Еще в школе я был маленький, худенький. Но я не любил задир, которые лезли к другим ребятам. Я всегда вступался, лез в драку. Конечно, получал. Но в итоге все знали – с этим лучше не связываться, он не будет молчать, не будет плакать, он будет давать сдачи. У меня даже остались школьные дневники – третий, четвертый класс. Чуть ли не каждый день – запись учителя: "Подрался". Я не был хулиганом. Я всегда хотел помогать слабым. Я всегда считал, что должна быть какая-то справедливость. Будучи бизнесменом и видя проблемы, я хочу решить их не только для себя, но и для всех людей.
– То есть, у вас обостренное чувство справедливости?
– Совершенно верно.
– В вашей программе говорится, что вы планируете бороться с дискриминацией – расовой, возрастной, по половому признаку, по размеру оплаты труда. Тут с этим проблемы?
– Да. Во-первых, женщины зарабатывают меньше, чем мужчины. Допустим, вы – репортер, получаете определенную сумму. Если женщина придет на эту же позицию, она будет получать меньше.
– То есть, такое встречается в Нью-Йорке?
– Есть. Вдобавок есть такое явление age-discrimination – ограничение по возрасту. Как правило, если человек старше 50 лет просится на работу, они берут людей помоложе. Потому что молодые просят поменьше денег. Эту проблему надо решать. Много людей потеряли работу только из-за возраста, из-за пандемии, из-за проблем с бизнесом.
Я хочу запустить программу переквалификации людей, заняться строительством не только дорог, но и домов. Мы живем в Америке. Это капитализм. Почему мы отдаем жирный кусок компаниям, которые строят дома, продают квартиры и получают за это бешеную прибыль миллиардами? Город может тем же самым заниматься. Город может строить, создавать рабочие места. Я хочу создать больше рабочих мест. Я планирую построить больницу, которая будет принадлежать Нью-Йорку. Я смотрю с точки зрения эмигранта, чтобы улучшить условия жизни.
– Основной ваш электорат – это эмигранты?
– Да. Потому что 50% Нью-Йорка – это эмигранты. Когда они видят во мне своих родителей, бабушек, дедушек, которые приехали, добивались, работали с утра до вечера, пытались экономить деньги, пытались обеспечить семью, пытались поставить детей на ноги, они понимают: этот парень знает наши проблемы, он действительно наш парень. Не только русские эмигранты – все они видят во мне самих себя.
– Вы здесь котировались как специалист, когда приехали?
– Здесь сразу же понимают, что русское образование – очень сильное, и с удовольствием пытаются брать на работу. Вплоть до водителей автобусов, грузовиков. Потому что у нас знают принцип работы трансмиссии, двигателя. Они знают, что при любой поломке на дороге такие водители могут практически сразу ее починить.
– А местные не могут?
– Местные не могут. У них все проще – сел, нажал педаль, поехал. Что-то сломалось – меня не волнует, вызываем службу сервиса. Поэтому наши водители – номер один в любых компаниях, занимающихся грузоперевозками между штатами. Там, где дальнобойщики нужны – разбирают, как горячие пирожки. Если ты приходишь, и видят, что ты из России – в 99% ты будешь принят на работу.
– Вы начали говорить, что собираетесь бороться с растратой, коррупцией во властях Нью-Йорка. Я понял, что речь идет о дорогах, о строительстве недвижимости. С какой еще коррупцией вы планируете бороться. Что не так?
– Любой бизнес требует проверки. Но я не вижу отчетов проверки деятельности мэрии – распределения ее бюджета. Они просто дают сухие цифры. А кто сделал проверку? Как они были потрачены? Сколько?
– То есть, не хватает прозрачности в расходовании средств мэрии?
– Совершенно верно. Вдобавок если кто-то как-то провинился, то он должен быть наказан.
– Ну, может, их наказывают. Мы же не знаем этого.
– Вот, поэтому надо давать больше информации. Как в кино говорили: "В чем сила, брат?". В правде.
– То есть, вы за большую открытость?
– За большую открытость. Информация есть, но надо выходить на сайт, задавать поиск, находить, где эта информация. Но я считаю, что для ведения хозяйственного учета, ты должен знать, с кем сотрудники мэрии подписывают контракты, на каких условиях.
– Какими будут ваши первые шаги на посту мэра в случае победы?
– Первое – это ремонт, строительство дорог. Если дороги будут правильно сделаны, будет меньше пробок, меньше загазованности. Строительство домов для среднего класса, для богатых людей. Строительство больниц. Решение вопросов образования. На Манхэттене чем богаче район, тем лучше бюджетное обеспечение школы. Чем беднее район, тем меньше обеспечение. Это надо искоренять.
– Сюда приезжает много людей из бывшего Советского Союза. Какой вы дадите совет тем, кто приехал без знания английского?
– Во-первых, детям намного проще. Когда они начинают ходить в школу, они начинают общаться со сверстниками. Для детей процесс обучения очень быстрый. Они в течение года подтягивают язык, и на второй год практически у них нет акцента. Но проблема есть для взрослых. Когда я приехал, мне было 30 с лишним лет. Я после работы ехал в колледж, оплачивал курсы английского языка. Представьте, отработать на работе, потом бежать в вечернюю школу, потом дома с женой общаться, дела домашние делать – это очень тяжело.
Первый совет – dream big (мечтай по-крупному – ред.).
– Как вам дался английский? Что было сложнее всего?
– В принципе тут ничего сложного нет. У меня остается российский акцент. Когда люди слышат мою речь, они понимают, откуда я. Я этого не стесняюсь. Многие люди начинают комплексовать, стесняются куда-то пойти, что-то сделать. Сами себя ограничивают. Я со своим акцентом иду в мэры Нью-Йорка, и для меня это не ограничение. Я считаю это, наоборот, плюсом. Люди увидят: у него акцент, и он еще пытается что-то изменить, он круче остальных, потому что не боится, не стесняется. Если во время дебатов кто-то что-то недопонимает из моих слов, я не стесняюсь, я просто второй раз повторяю.
Всегда ставьте максимальные цели. Избавляйтесь от нытиков, негодяев, которые говорят "не получится", "это сложно". Другого шанса не будет. Нам жизнь дается один раз. Поэтому надо идти к своей цели. Всегда ставьте себе цели как можно выше. Читайте книги больших политических деятелей, больших бизнесменов.
– Читал где-то что ваша супруга-американка заставляла вас поначалу смотреть только американские шоу, чтобы вы быстрее адаптировались...
– Да, я пытался влиться полностью в процесс. Никакого телевизора, никакой информации на русском языке. Если информация о России, то только на английском языке.
Одна из проблем эмигрантов в том, что они продолжают жить прежним миром, родители продолжают смотреть новости той страны, из которой они приехали, дети продолжают с ними общаться на русском языке. Но дети быстрее начинают терять свой акцент, если с ними общаться на английском языке. К окончанию школы у моей дочки уже не было акцента.
– То есть, супруга так ни одного слова по-русски и не узнала?
– Нет, ну знает там "хорошо", "молодец".
– Она готовит вам блюда российской кухни?
– Ну, может борщ сварить. Это же элементарно сейчас. Открываешь Youtube – там все есть.
– Вижу, что вы очень интеллигентный человек…
– Это неправда!
– Ну, значит, хорошо делаете вид. Как вы обходитесь без русского мата? Или не обходитесь?
– Пытаюсь не материться, но в процессе общения с русскими приходится материться. С американцами тоже приходится использовать матерщину. Стараюсь избавляться. Понимаю, что это некрасиво.
– Чья матерщина мощнее – томская или нью-йоркская?
– Конечно, российская. В Америке у них 100-300 слов. А в России поэмы писать можно.
– Было ли что-то полезное в работе томских властей, что вы могли бы использовать, будучи мэром Нью-Йорка?
– Есть. Допустим, в Томске, если ты планировал строить дом, ты должен был согласовать это с мэрией. Они должны были оценить, насколько этот дом вписывается в архитектурный облик города. В Америке у них есть определенный план – если проект одобрен в Бруклине, то автоматически ты можешь его построить и на Манхэттене. В этом смысле я бы сделал получше. Эти однообразные стеклянные дома – по-моему, надо решать эту проблему. Многие птицы сталкиваются с небоскребами и погибают. Они ведь не видят стекла. Сейчас в Нью-Йорке, в некоторых штатах начали решать эту проблему. В некоторых штатах если ты строишь небоскреб, окна следует покрывать специальной пленкой, чтобы птицы видели объект.
Я за солнечные батареи, "зеленые крыши", электрокары. Я бы хотел в центре города сделать парковки для электромашин. Я бы хотел дышать чистым воздухом.
Помню, в Томске ты на пробежке и проезжает мимо КамАЗ или МАЗ – дышать невозможно, можешь просто умереть. В 2000-х годах я не мог там на велике проехать, потому что не мог дышать. Воздух был очень плохой. России пора переходить на альтернативные источники энергии.
– Вы в программе говорите о необходимости реформы полиции. Предлагаете "демилитаризацию" и хотите ее переучить. Можете объяснить, о чем идет речь?
– Первая проблема в Нью-Йорке – ограничение по возрасту. Если тебе 36 лет, ты уже не имеешь права поступить в полицию. Надо убирать это ограничение. Потому что в этом возрасте еще есть физические сильные люди. Но ментально к этому возрасту у людей уже есть жизненный опыт. Они знают, как разрулить ситуацию. Ты не будешь стремиться просто взять и завалить кого-то из пистолета. Ты уже можешь решить проблему мирным путем.
Я ездил в Вашингтон поступать в полицейскую академию. Не сдал экзамен, потому что был чересчур мягкий. Там был психологический тест – что делать в определенной ситуации: стрелять, применить электрошокер или позвонить. Я выбрал шокер, чтобы не убивать этого человека, а, выяснилось, что надо было стрелять.
Надо провести переобучение полицейских. Все перед поступлением в полицию должны пройти тест на детекторе лжи. В других штатах это уже делается.
Но полиция – это необходимая защита, отказываться от нее нельзя. Что мне нравится, допустим, в демократии в Америке – при любом протесте тебе даже вышлют полицейский наряд, чтобы он защищал вас, чтобы не было скандала. Тебя никто не будет хватать и арестовывать, как, допустим, в России. Я могу сейчас встать напротив Белого дома, материться, высказать все, что я хочу в сторону президента, губернатора, и меня никто за это арестовывать не будет.
– Вы знаете, я освещал протесты, которые проходили летом в Нью-Йорке. И очень странная система… Я шел вместе с ними по дороге. Никто их не трогал. А потом внезапно, непонятно почему, полиция начинала всех вытеснять на тротуар. И если кто-то не успевал, то его задерживали. С чем это связано?
– Зависит от ситуации. Допустим, если толпа приближается к определенной территории или там большое количество людей или они видят, что ситуация выходит из-под контроля, у них есть своя тактика. Это Нью-Йорк – тут были теракты.
Сейчас все полицейские начинают носить видеокамеры. Если кто-то из полицейских сделал что-то плохое, можно проверить его слова, сходятся ли они с действительностью.
– Что думаете по поводу протестов, которые захлестнули Нью-Йорк летом? Справился ли город с ними?
– Не справился. В Нью-Йорке также, как и во время протестов в Вашингтоне (когда люди вышли за Трампа), все перешло в грубое хулиганство. Принцип простой – если ты хочешь правды, демократии, то пожалуйста, высказывайся. Но если ты делаешь какие-то ошибки, нарушающие закон, ты должен отвечать за них. Более четко нужно было организовать работу с полицией. В определенный момент надо было просто пресекать на корню все эти грабежи, воровство, поджоги. Протестующим надо помогать, но не доводить до эскалации, не доводить до точки кипения. Водой обливают ведь не только, чтобы разогнать, но и для того, чтобы остудить пыл. Поэтому надо использовать более тактические методы. А если где доводить до стрельбы, то тогда уж резиновыми пулями, которые являются чисто травматическими.
– Ну в Нью-Йорке, слава Богу, не стреляли. В Миннеаполисе стреляли.
– Но был же случай в Стэйтен-Айленде – одного черного при задержании задушили насмерть. Человек, конечно, сделал что-то неправильное, но не стоило его убивать из-за этого. Можно было закончить арестом. Удержание было неправильно сделано.
– Насколько я понял, вы не являетесь ни сторонником Республиканской, ни сторонником Демократической партии. Вы не выдвигаетесь от этих партий. Почему?
– Во-первых, сейчас очень сильное разделение между демократами и республиканцами. Если бы я шел от одной партии, я бы получил 100% поддержки от одной партии, а от другой 100% бы потерял. Мне удобнее идти независимым кандидатом. Я могу получить голоса как от республиканцев, так и от демократов.
– По России не скучаете?
– Конечно, скучаю. Планирую приехать, когда будет возможность. С удовольствием бы приехал. Если бы меня спросил простой человек о том, как было в Нью-Йорке, я бы с удовольствием рассказал. Я уже добился каких-то результатов и хотел бы, чтобы россияне не только ехали в Нью-Йорк, в Лондон, а пытались добиться и в России чего-то.
Нам нужна более позитивная энергия. В Нью-Йорке люди, когда идут по улице, если вы встречаетесь глазами, они всегда здороваются. Всегда тебе улыбнутся.
– У нас в деревнях тоже все здороваются.
– Потому что в деревне они живут маленьким миром. Все друг друга знают. А тут в Америке принято здороваться с незнакомыми людьми, спрашивать, как дела. Я как-то раз приехал в Россию, шел по Москве и при встрече автоматически спрашивал: "Как дела?". У людей сразу возникала реакция: "Кто ты такой?". Чуть ли не до грубости доходило. Мол, с чего это ты со мной здороваешься. А между тем здороваться – это очень хорошая манера. Люди ведь видят, что ты расположен, что ты рад. Позитивная энергия передается. Я когда был волонтером в полиции, нас учили: если к тебе подошел любой человек и спросил, как добраться туда-то, ты должен объяснить, а если ты не знаешь, ты должен честно ответить: "Извините, я не могу помочь". Они дают понять, что ты должен уважать любого жителя города. Неважно, местный он или турист.
И я столкнулся с ситуацией, когда прилетел в Москву лет пять назад. Я по привычке спросил у полицейского в аэропорту, как мне перейти на аэроэкспресс. Он мне просто сказал: "Я что тебе указатель что ли? Иди там узнавай дальше". Я был в шоке. Здесь это считается грубостью. Подойди к любому полицейскому, попроси сфотографироваться на Манхэттене – они без проблем встанут с тобой, даже улыбнутся. Попробуй, подойди сфотографироваться с российскими полицейскими.
– Если у вас не получится стать мэром Нью-Йорка, планируете ли далее идти в политику?
– Пока никаких ответов нет. Когда закончится эта кампания, будем думать. Может, придет предложение баллотироваться в мэры Москвы. Как говорят американцы, you never know.

ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ КИТАЙСКО-АМЕРИКАНСКИЙ АНТАГОНИЗМ?
ЧЕЗ ФРИМАН
Старший научный советник Института мировой и публичной политики имени Уотсона в Университете Брауна, в прошлом – высокопоставленный дипломат и сотрудник Пентагона, переводчик.
Приверженность Китая авторитарной политической культуре отражает тот факт, что результаты работы системы вполне удовлетворяют материальные потребности китайского народа и возрождают чувство гордости за свою нацию. Это доказывает – или не доказывает – ошибочность теорий о неизбежной политической либерализации обществ среднего класса.
53 года назад, будучи молодым сотрудником дипслужбы, я участвовал в работе над тем, чтобы Тайбэй, а не Пекин продолжал представлять Китай в Совете Безопасности ООН и на международной арене. С тех пор я наблюдаю, как развивались отношения между Китаем и США – от взаимного остракизма, основанного на не соответствующих реальности стереотипах, до различной степени сотрудничества и взаимопонимания и обратно. Сейчас соперничество с Китаем стартовало по всем направлениям, и неизвестно куда оно нас приведёт.
Прежде чем мы зайдём слишком далеко, стоит задуматься о нескольких ключевых вопросах, которые ранее почему-то не фигурировали в политических дискуссиях, а именно:
Каковы ставки Китая и США?
Какие нынешние тактические и будущие стратегические возможности каждая из сторон задействует в уже начавшейся борьбе?
Каковы возможные последствия длительного соперничества для каждой из сторон?
Чем обернётся эта борьба?
Итак, примем прошлое как данность и постараемся сосредоточиться на будущем.
По мнению китайской политической элиты, на кону стоят пять основных вещей:
окончательный отказ от попыток разделить Китай европейским и японским империализмом, военной диктатуры, гражданской войны в Китае, от американского вмешательства по образцу холодной войны с целью отделить Тайвань от остальной части страны;
статус и «лицо» (самооценка, подпитываемая почтительным отношением других), которые компенсируют прошлые оскорбления национального достоинства;
прочная защита от операций по смене режима и иностранной военной интервенции, которые могут угрожать правлению Компартии Китая, возвращению страны к силе и благосостоянию или консолидации границ КНР;
беспрепятственный возврат Китая к высокому экономическому и технологическому статусу, которым он обладал до вмешательства европейского империализма;
роль в региональных (Индо-Тихоокеанский регион) и мировых делах, соответствующая размеру Китая и его растущим возможностям.
Американская политическая элита тоже имеет на кону пять моментов[1]:
сохранение Соединёнными Штатами глобального и регионального политического, военного, экономического, технологического и финансового первенства;
репутация США как надёжного военного защитника небольших государств в Индо-Тихоокеанском и других регионах;
американское превосходство в мировом порядке, основанном на нормах либеральной демократии, которые продвигались европейским Просвещением и американской революцией;
экономическая безопасность посредством уменьшения зависимости от поставок, не контролируемых США и их союзниками;
реиндустриализация, повышение уровня занятости с высокими зарплатами и восстановление социально-экономического спокойствия внутри страны.
Китайская Народная Республика была создана 72 года назад. На протяжении почти трети её существования Соединённые Штаты активно пытались свергнуть её коммунистическое правительство. Сегодня это вновь стало надеждой, если не целью, американской политики.
Китай и США никогда не были друг другу под стать, не считая самоуверенность, нежелание признавать ошибки и стремление объявлять другого козлом отпущения. Но сейчас баланс между двумя странами быстро смещается и не в пользу Америки. Мир ожидает, что Китай восстановит свои позиции трети или двух пятых глобальной экономики. На долю китайской экономики уже приходится около трети мирового производства, и по всем показателям, кроме номинального валютного курса, это больше, чем в США. Торговые и технологические войны Трампа убедили китайцев в том, что нужно снижать зависимость от импорта технологий, развивать собственные автономные возможности и становиться полностью конкурентоспособными в сравнении с Америкой.
Сегодня Китай имеет больше международных связей, чем США. Это крупнейший торговый партнёр большинства экономик мира, включая Евросоюз. Его лидерство в глобальной торговле и инвестиционных потоках нарастает. 700 000 китайских студентов сегодня получают высшее образование за рубежом – по сравнению с 60 000 американцев. Американские университеты по-прежнему привлекают более 1 млн иностранных студентов ежегодно, но почти полмиллиона иностранных студентов сегодня предпочитают учиться в Китае. Роль Китая в глобальных научных и технологических инновациях возрастает, в то время как США теряют позиции. На долю Китая приходится четверть сотрудников в точных науках. Китайцы с большим отрывом лидируют по количеству заявок на патенты.
Лишь 4 процента американских школ предоставляют возможность учить китайский язык, а в Китае во всех школах учат английский – язык глобального общения – с 3-го класса (и качество обучения постоянно растёт). Из-за закрытия в Штатах на почве ксенофобии Институтов Конфуция, спонсируемых китайскими властями, возможности изучать китайский язык только уменьшатся. Кроме того, из-за неблагоприятной атмосферы в американских кампусах китайские и другие иностранные студенты реже подают заявки на обучение в США, особенно в сфере естественных наук и инженерии.
Вызовы, обусловленные подъёмом Китая, в первую очередь являются экономическими, а не военными, тем не менее уровня враждебности в отношениях США и Китая, подобного нынешнему, мы не наблюдали с первого десятилетия холодной войны. Тогда войска США, призванные сдерживать КНР и поддерживать режим на Тайване, явно были более современными и мощными, чем Народно-освободительная армия Китая (НОАК). Китайские войска выстраивали, чтобы противостоять американской атаке, но понимали, что победить США невозможно. Американская политика сдерживания во времена холодной войны помешала Китаю эффективно подтвердить давние претензии на острова в прилегающих морях, зато другие страны получили возможность их занять.
Сегодня вооружённые силы Китая в состоянии защитить свою страну от любой иностранной атаки. Они даже способны захватить Тайвань, несмотря на противодействие США, – хотя и ценой огромных потерь для себя, Тайваня и США.
Пекин сегодня считает, что запугивание – единственный способ вернуть Тайбэй за стол переговоров, и это не может не вызывать беспокойства. К счастью, Китай по-прежнему стремится к урегулированию тайваньского вопроса, а не к военному захвату и последующему усмирению острова. Войска США, дислоцированные у берегов КНР, призваны сдерживать попытки подобного захвата. Но в то же время их присутствие усиливает нежелание Тайваня вести переговоры об отношениях с материковым Китаем, которые должны соответствовать минимальным требованиям китайского национализма и таким образом гарантировать мир.
Опасность в том, что если исчезнет путь к ненасильственному урегулированию тайваньского вопроса, Пекин может прийти к выводу, что у него не осталось альтернатив, кроме применения силы. Тогда он посчитает: чтобы удерживать американцев на расстоянии, нужно представлять для США равную угрозу. Эта стратегическая логика в годы холодной войны заставила Советский Союз отправить ракеты на Кубу в ответ на размещение американских ракет в Турции. Нельзя исключать возможность, что китайско-американские отношения могут повторить Карибский кризис 1962 года.
Америка долгое время представляла угрозу для Китая. Учитывая нынешнее развитие событий, в будущем ситуация может повернуться на 180 градусов.
Пока цель стратегии КНР – повысить издержки США в проецировании силы в Тихоокеанском регионе, но не угрожать Вашингтону напрямую.
Президент Байден признаёт: чтобы эффективно взаимодействовать со всё более мощным Китаем, нужно усиливать собственные позиции и привлечь помощь других стран. Поэтому он отложил решение о политико-экономическом и военном курсе в отношении Китая, пока его администрация не протестирует готовность Конгресс бороться с американскими слабостями и не проведёт консультации с союзниками, партнёрами и друзьями. Но если в Вашингтоне послушают тех, кого хотят привлечь к противодействию Пекину, то неожиданно обнаружат, что немногие разделяют враждебность в отношении Китая, которая стала привычной для американцев. Президент Байден может оказаться перед сложным политическим выбором: смягчить враждебность в отношении Китая, чтобы привлечь поддержку третьих стран, или сохранить приверженность конфронтационному подходу, что заставит дистанцироваться большинство европейских и азиатских союзников.
Реальность такова: европейцы не чувствуют военной угрозы со стороны Китая, в Юго-Восточной и Южной Азии считают тайваньский вопрос борьбой между китайцами и стараются держаться в стороне. В отличие от тайваньцев, они боятся именно запугивания, а не захвата Китаем. Даже такие страны, как Япония, у которой есть прямая стратегическая заинтересованность в статусе Тайваня, не хотят рисковать и втягиваться в конфликт.
Тайваньский вопрос – это наследие гражданской войны в Китае и американской политики сдерживания времен холодной войны. Американские союзники полагают, что Вашингтон должен урегулировать вопрос без возобновления конфликта между островом и растущей великой державой – материковым Китаем. Если Америка в итоге вступит в войну с Китаем, ей, скорее всего, придётся действовать в одиночку.
Ещё больше усложняет ситуацию кардинальное изменение асимметрии – баланс экономической, технологической и военной мощи, долгое время обеспечивавший преимущество Вашингтона, теперь смещается в пользу Пекина. Греки придумали концепцию Европы, которая отличалась от того, что они называли Азией. Китайские программы взаимосвязей («Пояс и путь») воссоздают единую Евразию. Поэтому многие страны на этих огромных просторах считают богатый и мощный Китай неотъемлемой частью собственного будущего и процветания. Некоторые больше опасаются побочного ущерба от агрессивных действий США, чем шовинизма ханьцев. Немногие страны считают несправедливости нынешнего авторитарного режима в Китае привлекательными, но ещё меньше стран готовы объединиться с США против КНР.
По прогнозам, к 2050 г. ВВП Китая достигнет 58 трлн долларов – почти в три раза больше нынешнего ВВП США и на две трети больше прогнозируемого для Штатов показателя в 34 трлн долларов. Быстро стареющее население Китая не оставляет стране альтернатив, кроме японского образца – внутренней автоматизации и переноса трудозатратных производств туда, где продолжает расти численность трудоспособного населения, то есть в Африку. Китай активно инвестирует в робототехнику, медицину, синтетическую биологию, наноботов и другие технологии, которые могут улучшить и продлить продуктивную жизнь пожилых. КНР также адаптирует и расширяет системы социальной защиты и государственного здравоохранения. Соединённые Штаты столкнутся с аналогичными вызовами, которые усугубятся ксенофобской миграционной политикой, пробелами в образовании, рушащейся инфраструктурой и ростом госдолга из-за необходимости финансировать бюджетные расходы и компенсировать ущерб от прошлого потворства своим желаниям. Американцы говорят об этих проблемах, но их ещё предстоит решать.
Волна новых, основанных на науке индустрий находится на ранней стадии трансформации общества. В числе примеров можно назвать искусственный интеллект, квантовые компьютеры, облачную аналитику, базы данных, защищённые блокчейном, микроэлектронику, интернет вещей, электромобили и беспилотный транспорт, робототехнику и нанотехнологии, геномику, биофармацевтику, 3D/4D и биопечать, виртуальную и дополненную реальность, ядерный синтез, а также синергию этих и других технологий.
Китай вкладывает огромные инвестиции в научную и образовательную инфраструктуру и трудовые ресурсы, необходимые для разработки и внедрения этих технологий. Соединённые Штаты в настоящее время, напротив, переживают хронический бюджетный дефицит, отягощённый политическим тупиком и бесконечными войнами, которые забирают средства, необходимые для обновления ресурсов Пентагона. Американская человеческая и физическая инфраструктура находится в плачевном состоянии, и ситуация лишь ухудшится. Если это не исправить, Китай и другие страны скоро лишат США векового глобального доминирования в науке, технологиях и образовании. Или, как сказал президент Байден, Китай «съест наш ланч» и будет «владеть будущим».
Даже если США преодолеют нынешнюю политическую дисфункцию и дефицит финансов, подъём Китая в науке, технологиях, инженерии и математике станет вызовом для глобального и регионального доминирования Америки. Соперничество не ограничится Азиатско-Тихоокеанским регионом. Это многоаспектная проблема, а США, решая её, иногда склонны перемудрить – например, исключив Пекин из международного сотрудничества в космосе. В результате Китай разработал собственные космические возможности, многие из которых имеют военное применение.
Так и стремление США не допустить китайского доминирования в сетях 5G сегодня стимулирует создание конкурентоспособной полупроводниковой индустрии в КНР. В краткосрочной перспективе китайский сектор микроэлектроники столкнётся с трудностями: всегда проще купить, чем научиться делать самому. Но в долгосрочной перспективе у Китая есть воля, талант, ресурсы и рынок, чтобы добиться успеха. История человечества доказывает, что так или иначе, рано или поздно любой технологический прорыв будет повторён – и результаты превзойдут оригинал.
НОАК копирует американскую практику использования технологических инноваций для военных целей. Программа военно-гражданской интеграции признает, что стимулируемые рынком НИОКР и университетские инновации часто опережают усилия военного истеблишмента. Как и США ранее, Китай более тесно связывает промышленность и учёных в интересах национальной безопасности. Темпы разработки военного применения гражданских технологий теперь обещают ускориться.
В ответ на американское военное доминирование у своих границ Китай вложил средства в противокорабельные, противовоздушные, противоспутниковые системы, электронные и другие средства борьбы, которые помогут защититься от возможной атаки США. Некоторые китайские системы вооружений можно назвать прорывными – в частности, баллистические ракеты для уничтожения авианосцев с наведением на конечном участке траектории, квантовое коммуникационное оборудование, корабельные рельсовые пушки и радиолокационные станции для обнаружения малозаметных целей. В случае вооружённого конфликта НОАК сможет эффективно блокировать американцам доступ к китайской акватории, включая Тайвань.
У китайских ВМС больше кораблей, чем у США, они более современные, вооружение имеет больший радиус действия, а системы огневой поддержки расположены ближе к потенциальной зоне боевых действий. Развитие и конверсия китайской промышленности сегодня существенно превышает возможности США. В случае войны с Китаем в будущем американским военным не стоит рассчитывать на технологическое превосходство, информационное доминирование, не имеющие аналогов возможности компенсировать потери и безопасность баз и маршрутов обеспечения, как это было в прошлых войнах.
Стратегические усилия по расширению и эскалации антагонизма между США и Китаем приложены существенные. Позвольте привести несколько примеров.
Мир разделён на конкурирующие технологические экосферы, которые начали производить несовместимое оборудование и ПО, снижается объём товаров и услуг в глобальной торговле, ускорился спад доминирования США в высокотехнологичных отраслях.
Под угрозой оказалось 70-летнее доминирование доллара в международной торговле. Использование других валют угрожает эффективности американских санкций и нераспространению на американскую экономику торговых и платёжных ограничений, которым подвергаются другие страны.
Деформирован и, возможно, разрушен основанный на правилах глобальный порядок в торговле, что способствует распространению субглобальных, неинклюзивных зон свободной торговли и разработке ситуативных, а не институционализированных многосторонних механизмов урегулирования торговых споров.
Осложнилось глобальное сотрудничество по таким проблемам планетарного масштаба, как пандемия, изменение климата, ухудшение окружающей среды и нераспространение ядерного оружия. (Объявление Китая козлом отпущения на некоторое время отвлекло внимание от абсолютно неэффективных действий США в борьбе с пандемией COVID-19.)
Китай и Россия укрепили сотрудничество (ограниченное партнёрство в ограниченных целях). Теперь к альянсу может присоединиться Иран.
Дипломатию заменили агрессивная риторика, поиск виноватых и оскорбления, что снижает уважение к Китаю и США в других странах и наносит болезненный ущерб таким странам, как Канада и Австралия.
Возрос риск войны из-за Тайваня, ускорилась гонка ядерных и обычных вооружений между Китаем и США.
Пока нет признаков того, что одна из сторон намерена сменить курс. Девять из десяти взрослых американцев враждебно или недружелюбно относятся к Китаю. В Китае враждебность к США выросла до сопоставимого уровня.
Конечно, общество плохо информировано, и его мнение может быстро меняться. И события могут развиваться по-разному. Атака на Капитолий 6 января этого года доказывает, что сценарии, казавшиеся невероятными, могут стать реальностью. И перед Китаем, и перед США стоят внутренние и внешние вызовы. Оба государства переживают период уязвимости. Вполне могут произойти события, которые изменят правила игры.
Например, в краткосрочной перспективе:
Прекращение прогресса в борьбе с пандемией может привести к коллапсу глобальной экономики, массовой безработице и политическим беспорядкам в Китае и США.
Смерть далай-ламы может дестабилизировать китайско-индийские отношения. Пекин способен вступить в войну с Нью-Дели, который жаждет поквитаться за унижение 1962 г. и агрессивно проверяет на прочность фактическую границу между двумя государствами. Поражение в Гималаях станет катализатором разрушительных изменений в руководстве КНР. Победа укрепит стратегические позиции Китая и заставит Индию отказаться от принципов неприсоединения в пользу альянса с США.
Война на Ближнем Востоке или кризис в Корее могут стать вызовом для Америки, а Китай получит возможность относительное безнаказанно ударить по Тайваню.
Приход к власти в Тайбэе менее здравомыслящих политиков заставит Пекин реализовать закон о противодействии сепаратизму 2005 г. и применить силу, чтобы вернуть себе Тайвань, несмотря на риск вмешательства США.
Другие события, связанные с Тайванем, – например, возврат американских войск или объектов на остров, новая ядерная программа Тайбэя, – спровоцируют применение силы Китаем.
Раскол, беспорядки, деморализация, партийная борьба, политический тупик и неконтролируемая миграция, с которыми сегодня столкнулись США, могут вынудить Вашингтон сосредоточиться на восстановлении общественного порядка внутри страны за счёт выполнения международных обязательств.
Смерть руководителей Китая или США или их неспособность выполнять свои обязанности вызовут борьбу за власть, это ослабит авторитет правительства и процесс принятия решений, с обеих сторон возможны ошибочные расчёты или шаги, отвлекающие внимание.
Конечно, всего этого может и не случиться, но считать эти события невозможными неверно. Это только подчёркивает хрупкость нынешних стратегических реалий.
В более отдалённой перспективе другие события могут изменить ход противостояния. Например:
Китайская «волчья дипломатия» и экономический буллинг могут оттолкнуть другие страны, в результате они отвернутся от Пекина и перейдут на сторону США.
Стремление Пекина к политическому контролю – не в первый раз в китайской истории – может задушить частный сектор и инновации.
Китайские компании, занимающиеся полупроводниками, искусственным интеллектом или робототехникой, добьются успеха или же потерпят крах в стремлении превзойти своих американских, тайваньских и других конкурентов. В случае успеха соответствующие отрасли конкурентов будут уничтожены, и Китай сможет доминировать в киберпространстве и связанных с ним сферах. В случае провала Китай серьёзно отстанет от соперников.
Старение населения в Китае и ксенофобская миграционная политика в США приведут к сокращению трудовых ресурсов, снижению производительности труда, замедлению роста и увеличению нагрузки на систему социального обеспечения. Придётся урезать оборонные расходы и отказываться от военной конфронтации.
Эксперименты Китая и других стран с цифровыми валютами могут лишить доллар глобальной гегемонии, которой он пользовался после Второй мировой войны. Соединённым Штатам придётся выравнивать торговый и платёжный балансы, снижать уровень жизни населения и существенно сокращать международные обязательства страны.
Жёсткие попытки Пекина ассимилировать меньшинства и приобщить их к культуре хань могут не только провалиться, но и оттолкнуть мусульман и других иностранных партнёров. При этом действия Пекина останутся темой для критики Запада и поводом для остракизма Китая.
Когнитивный диссонанс между Вашингтоном и союзниками по Китаю и другим вопросам может разрушить американские альянсы. В итоге США, требуя жёсткого разрыва отношений с Китаем, могут сами оказаться в изоляции.
Если Япония станет ядерной державой, это изменит политику сдерживания в Северо-Восточной Азии и позволит Токио декларировать стратегическую автономию от Вашингтона и отказаться от американской неядерной защиты.
США и Россия могут перейти от нынешней конфронтации к договорённостям, направленным на противодействие и сдерживание Китая.
Из-за изменения климата под водой могут оказаться крупные китайские и американские города (Шанхай или Нью-Йорк), начнутся стихийные бедствия – неурожаи, суперштормы, наводнения, лесные пожары, люди массово лишатся крова. У стран просто не останется энтузиазма и ресурсов для борьбы друг с другом.
В то же время раскол внутри страны может заставить демагогов в Китае или США набирать популярность на почве патриотизма – с помощью агрессивной политики за рубежом.
Если не удастся перезапустить механизмы международного сотрудничества в сфере здравоохранения, возможны новые пандемии, с которыми государства не справятся в одиночку.
Чтобы уравновесить присутствие американских ВМС у берегов КНР, Пекин может направить свои корабли к берегам Америки. Это позволит сдерживать интервенцию США вблизи китайских границ и одновременно создаст условия для соглашения о взаимном частичном или полном выводе войск.
Такие события, меняющие правила игры, могут и не случиться. Однако они показывают, насколько для обеих стран и мира в целом важно найти пути к ослаблению антагонизма, господствующего сегодня в китайско-американских отношениях.
Каждая из сторон считает соперника возможной причиной своего краха. Однако на самом деле наибольшую угрозу представляют тренды и события внутри страны, а не действия иностранной державы. Положение Китая и США в мире зависит от того, как страна ведёт себя на международной арене, а не от действий оппонента. В мире, где мощь и влияние распределены неравномерно не только между Китаем и США, но и между другими игроками, Пекин и Вашингтон не могут пользоваться неограниченным доминированием на региональном или глобальном уровне. Китай не лишит Америку мирового лидерства, но и США не смогут его сохранить.
Если Китай потерпит неудачу, то не потому, что ему мешали Штаты – просто сам Пекин реализовывал саморазлагающую политику и практики, которые уничтожают успехи «реформ и открытости», отталкивают иностранных партнёров и препятствуют дальнейшему прогрессу. При Мао Китай потерпел неудачу с точки зрения возврата к богатству и мощи, но был заложен фундамент для реформ Дэн Сяопина – отказа от идеологической ригидности и адаптации лучших международных практик в китайских условиях. Изменения во внутренней политике Пекина, предпринимательская энергия, которой они способствовали, и обеспеченные ими международные отношения объясняют разницу между Китаем в 1949–1979 гг. и Китаем после 1979 года. Политика определяет результат.
Как заявил Пекин, чтобы развиваться, Китаю необходима «мирная международная атмосфера». Он граничит с 14 странами, четыре из которых являются ядерными державами, четыре имеют неразрешённые территориальные споры с Пекином. Гражданская война с непокорными силами Тайваня не закончена. Япония и США, с которыми Китай воевал на памяти ныне живущих поколений, не смирились с возрождением его мощи. Эти факторы вынуждают Китай защищаться и сдерживать импульсы проецировать свою мощь за пределами близлежащих территорий. Чтобы успешно практиковать рыночный ленинизм, Китаю нужны друзья.
Манера поведения помогает определить друзей. Друзья – это (1) редкие люди, ради спасения которых вы готовы пожертвовать жизнью, и кто сделает то же самое для вас; (2) партнёры, которые готовы оказать вам услугу, а вы им; (3) компаньоны, присутствие которых вам приятно, но перед ними у вас нет реальных обязательств; (4) льстецы, которым что-то от вас нужно, и поэтому они стремятся снискать ваше расположение; (5) паразиты, хитроумно использующие свою связь с вами в собственных интересах и без учёта ваших.
Китайцами восхищаются за границей. Но глобальное или региональное лидерство Китая не вызывает энтузиазма. Его достижения признают, но немногим он кажется привлекательным. Как говорят китайцы, за улыбкой скрыт кинжал. Неискренние связи, основанные на лести и паразитизме, не предполагают уважения и не могут быть надёжными и прочными. Они могут скрывать презрение, создавать ненужные обязательства и вообще чреваты предательством.
Если Китай и дальше будет позволять своим спецслужбам и дипломатам отпугивать иностранцев, относиться к другим странам высокомерно и применять тактику буллинга, построенные им международные отношения будут лицемерными, коварными и не заслуживающими доверия. Многие будут бояться Китая, но никто не станет искренне его поддерживать, лишь немногие последуют за ним, а некоторые предпочтут действовать против него. Китай потеряет лицо. В истории Китая достаточно примеров иррационального поведения, когда на кону стояло «лицо». Так что он сам себе главный противник.
Точно так же, если США окажутся вытесненными Китаем и «подъёмом остального мира», то это произойдёт потому, что американцы, поддавшись самоуспокоению, не смогли адаптировать когда-то успешную систему к решению накопившихся политических и экономических проблем и заложить фундамент для нового прорыва. Китай не способен принудить Америку к проведению реформ или остановить этот процесс. Только сами американцы могут подтвердить принципы своей Конституции, наладить работу политической системы, вернуть компетентность правительства, укрепить общество, уменьшив экономическое и расовое неравенство, стимулировать конкурентоспособность капитализма, придерживаться норм международного поведения, которые они навязывают другим, уважать мировое разнообразие и суверенитет других стран и отказаться от милитаризма в пользу дипломатии.
Падение престижа США и количества последователей в мире связано с внутриполитическими событиями в самой Америке, её стратегическими ошибками, открытым презрением к союзникам и партнёрам, ханжеским санкционным произволом, принуждением как основным инструментом внешней политики и неэффективностью дипломатии. Нападки на глобальный порядок со стороны Китая и других стран тут ни при чём. Шоу Панча и Джуди, которое высокопоставленные американские и китайские дипломаты недавно продемонстрировали в Анкоридже, уже давно разыгрывается в обеих странах. Это явно не добавляет уверенности в здравомыслии и способности к эмпатии обеих сторон.
Китай добился успехов в развитии страны после Мао благодаря идеям, взятым у Америки. Теперь, чтобы конкурировать с Китаем, США во многих аспектах копируют выстроенную Пекином систему.
Вашингтон призывает к индустриальной политике, значительному увеличению расходов на науку и технологии, созданию специальных банков и фондов для инфраструктурных инвестиций, протекционизму ради национальной безопасности, субсидиям, прерогативному лицензированию ключевых технологий и национальных компаний и удешевлению доллара путём валютных манипуляций.
Кроме того, США, похоже, стали применять китайские нетолерантные и навязчивые определения политкорректности и национальной безопасности, хотя цензура в интернете и манипуляция общественным мнением пока остаются на усмотрение корпоративных олигополий, а не под госконтролем. Некоторые уже столкнулись с так называемой культурой отмены, возникшей на фоне новой волны синофобии в США.
Стратегическая деменция американского популизма сегодня конкурирует с имперской манерой поведения китайской исключительности. В обеих странах в той или иной степени групповое мышление стало главным врагом конструктивного взаимодействия. Взаимные обиды из-за жертв, якобы понесённых по вине оппонента в прошлом или сегодня, добавляют горечи в отношения. Только традиционное стремление Пекина избегать рисков удерживает стороны от кровопролитного столкновения из-за Тайваня.
При прочих равных, если не будет войны из-за Тайваня и других меняющих правила игры событий, нынешние тренды – американский протекционизм, отказ от цепочек поставок, связанных с Китаем, и когнитивный диссонанс с союзниками и партнёрами – скорее сохранятся. Можно представить себе будущее, в котором:
Соседи Китая и десятки стран, участвующих в инициативе «Пояс и путь», продолжат сближаться с Пекином экономически и финансово. Несмотря на браваду, у США больше нет открытых рынков, финансовых ресурсов и инженерных возможностей, чтобы этому противодействовать. Вашингтон продемонстрировал неспособность поддерживать устойчивое дипломатическое взаимодействие со странами Индо-Тихоокеанского региона, Центральной Азии, Восточной Африки, с Россией и ЕС, чтобы на равных конкурировать с Пекином. Вашингтону не удаётся это даже в Латинской Америке. Нельзя обойти конкурента исключительно с помощью риторики, а в последнее время это единственное, что могут предложить США.
Распад глобального рынка на отдельные торговые и технологические экосистемы продолжится. Китай получит глобальное лидерство по широкому списку новых технологий. Его научно-технологические достижения привлекут иностранных инвесторов и корпорации независимо от их отношения к политической системе КНР. Там, где рынки останутся открытыми для них, китайские компании – как государственные, так и частные – смогут успешно конкурировать с американскими, европейскими, японскими и корейскими.
Рост китайской мощи – на фоне неустойчивого поведения израненной американской демократии – заставит такие региональные державы, как Индия, Индонезия и Япония, укреплять региональные коалиции, военно-промышленное сотрудничество и проявлять совместные дипломатические усилия с целью уравновесить Китай – с участием США или без них.
С развитием потенциала ВМС и ВВС Китай консолидирует военное доминирование вблизи своих границ. Американцам придётся дважды подумать, прежде чем вмешиваться для защиты Тайваня от угроз НОАК или контролировать моря вблизи КНР. Вооружённые конфликты с ВМС, ВВС и ракетными силами Китая возможны. Это может подорвать или, напротив, укрепить готовность США к эскалации конфликта с Китаем.
Покупатели внутреннего и внешнего долга США могут прийти к выводу, что им нужны более весомые аргументы, чем «современная монетарная теория», и перестанут приобретать долговые обязательства. Тогда закончатся «непомерные привилегии» США, Вашингтон лишится возможности вводить односторонние санкции, а американское доминирование в Индо-Тихоокеанском регионе станет экономически неустойчивым.
Растущая военная уязвимость Тайваня и его зависимость от рынков материкового Китая может заставить Тайбэй пойти на переговоры, чтобы усмирить потребности китайского национализма.
Китай убеждён: эти или похожие сценарии воплотятся в жизнь в ближайшие десятилетия. Его стратегическая уверенность и решимость резко контрастирует с ситуацией в Америке, где правят бал политическая близорукость и финансовая безалаберность. Угрозы статусу Америки со стороны Китая реальны. С ними не удастся справиться с помощью фантазийной внешней политики, основанной на нереалистичных оценках текущей и будущей ситуации.
Глубоко укоренившаяся вера в идеологию либеральной демократии заставила многих американцев считать, что, оказавшись под масштабным влиянием США, китайская политическая культура неизбежно эволюционирует в американскую версию. То, что этого не произошло, не ошибка «воздействия», как считают американские синофобы.
Приверженность Китая авторитарной политической культуре отражает тот факт, что результаты работы системы вполне удовлетворяют материальные потребности китайского народа и возрождают чувство гордости за свою нацию.
Произошедшее в Китае доказывает – или не доказывает – ошибочность теорий о неизбежной политической либерализации обществ среднего класса. Об этом стоит задуматься. Как и о тезисе, что без фундаментальных внутренних реформ США не смогут успешно конкурировать с Китаем, который развивается по своей собственной модели, а не по американской, в мире, где Вашингтон уже не может диктовать свои условия.
Будущее Китая создадут – или не создадут – в Китае. Будущее Америки создадут – или не создадут – в Америке. Ни то ни другое не предопределено.
--
СНОСКИ
[1] См., например, формулировки сенатора Тома Коттона по поводу целей США в отношении Китая: Beat China. Targeted Decoupling and the Economic Long War. Prepared by the Office of Senator Tom Cotton, 2021. URL: https://www.cotton.senate.gov/imo/media/doc/210216_1700_China%20Report_FINAL.pdf

Денис Пушилин: ничего хорошего от визита Блинкена в Киев не ждем
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал в интервью РИА Новости о том, какая сейчас ситуация в Донбассе, почему не удалось согласовать Пасхальное перемирие, о том, готовы ли в Донецке к разговору с украинским президентом Владимиром Зеленским, и что этому мешает, высказал мнение о том, к чему может привести более активная вовлеченность США в дела региона. Он также оценил деятельность миссии ОБСЕ, роль Франции и Германии и шансы на то, что из-за конфликта на Украине начнется Третья мировая война.
— Денис Владимирович, какая сейчас ситуация? Целый месяц мы смотрели с тревогой за ситуацией в Донбассе. Сейчас все-таки как-то спокойнее стало, вот в эти дни перед праздниками? Или, наоборот, хуже? Можете как-то оценить?
— К сожалению, спокойнее не становится. Но я все же более широко бы рассматривал ситуацию с линией соприкосновения, с напряженностью на линии соприкосновения за все эти семь лет. Были относительные и ситуационные затишья в рамках перемирия или в рамках там каких-то других там ротаций со стороны украинских вооруженных формирований. Но говорить, что на какой-то более положительный период было более спокойно, ведь Украина все-таки стреляла, – так говорить не приходится. Сейчас же за последний период времени мы видим после июльских договоренностей по дополнительным мерам к режиму прекращения огня месяц более-менее как-то что-то продержалось, с сентября началось обострение. Обострение пиковой точки, наверное, вот с декабря, декабрь-январь, и дальше мы видим ситуацию по нарастающей, с учетом того количества техники, того личного состава, который стянут. И сейчас, несмотря на разного рода заявления о попытках даже договориться о соблюдении режима прекращения огня, увы, тише не становится. Ну, буквально сегодня семь раз фиксировалось нарушение режима прекращения огня на горловском и донецком направлениях. Это также миномет, это также артиллерия.
— А почему не удалось Пасхальное перемирие согласовать? Ведь идея-то хорошая.
— Речи не было о Пасхальном перемирии. Это пиар со стороны Украины. У нас есть договоренность о бессрочном перемирии. Зачем нужно опять... Их же было, если точную цифру, было 22 перемирия. Новогоднее, рождественское, хлебные, школьные перемирия ни к чему не приводили. Если нет возможности это контролировать, пресекать, наказывать тех, кто нарушает режим прекращения огня, то все это впустую.
Поэтому были достаточно серьезные договоренности достигнуты в июле прошлого года о том, что нужны дополнительные меры (по обеспечению прекращения огня – ред.). Что имеется в виду? Это координационный механизм фиксации нарушения с той или иной стороны конфликта. И данный координационный механизм должен проводить расследования. Виновные должны нести наказание. Именно поэтому должны были быть опубликованы соответствующие указы со стороны вооруженных сил как украинской стороны, так и нашей стороны.
Мы со своей стороны все сделали. Украина затягивала, затем она разрушила координационный механизм. Если помните ситуацию в Шумах (пригород Горловки – ред.), когда они улучшали свои позиции (в сентябре 2020 года – ред.), это тоже шло в нарушение. То есть любые продвижения вперед, устройство фортификационных сооружений – это противоречит договоренностям. Нужно было зафиксировать, наказать виновных, устранить эти нарушения и двигаться дальше. Но Украина не пошла в самый последний момент на это.
И в итоге мы видим, что ситуация сейчас не работает. И вот сейчас как раз последние договоренности, которые Украина пыталась распиарить как пасхальное перемирие, еще каким-то образом – речь шла не о перемирии, а непосредственно о возобновлении работы вот этого координационного механизма. Там, где задействовано СЦКК в действующем составе, Украина попыталась то заявление, которое должны были сделать, просто выхолостить. Просто пустые заявления ради пиара, которые также не работали. Но даже на это Украина не пошла. И это было все заблокировано. Поэтому вот так на самом деле.
— Нет, может быть, там в этом перемирии были какие-то параметры, которые не удалось согласовать? Может быть, Украина требовала чего-то, что вас не устраивает?
— Да все просто. Договоренности подписаны, их нужно соблюдать. Нужно к ним вернуться. То есть есть факт нарушения. СЦКК, ОБСЕ непосредственно выезжают, фиксируют, появляется виновная сторона, устраняются нарушения, виновники наказываются. Все просто. К этому нужно вернуться. Но Украина к этому не возвращается. Вот сейчас упорно пытается сместить акценты. Что происходит последнее время? Украина делает вид, что конфликт не гражданский, что стороны конфликта – не Украина и Донбасс, а противостояние идет между Украиной и Россией. Это все, что пытается сделать Украина. На это смещает акцент. И соответственно все остальное просто блокируется. Вот так.
— Как одним словом охарактеризовать этот конфликт? Он тлеющий, замороженный, или какой-то ожидающий обострения?
— Я не знаю, как его правильно назвать. Это уже потом историки, наверно, назовут, что же происходило на самом деле. Мы только фиксируем сюрреалистическую картину. Украина заявляет на всех площадках, что они привержены Минским соглашениям, что они привержены миру. По факту мы видим огромное количество техники, мы видим огромное количество личного состава вдоль линии соприкосновения. Западные партнеры украинские, страны-гаранты в лице Франции и Германии не делают в полной мере тех усилий, которые могли бы и должны были бы сделать как страны-гаранты, чтобы Украину побудить выполнить взятые на себя обязательства. Вот такая картина на данный момент. То есть Минские соглашения есть, о незыблемости их заявляется, но ничего не выполняется. И так уже год за годом мы в этой ситуации живем.
— С украинской стороны войска, о которых вы сейчас сказали, остаются в прежнем объеме?
— Да, никаких изменений с украинской стороны вдоль линии соприкосновения не происходит. Количество личного состава и количество техники остается прежним. Вот по факту, что мы видим.
— Вы упомянули роль Франции и Германии как стран-гарантов Минских соглашений. А какое влияние на политику Киева оказывают США?
— Вот сейчас приедет господин Блинкен. Начнет более детально интересоваться уже, наверное, Виктория Нуланд, что же происходит (на Украине – ред.). Что там с реформами, как выполняются все предписания МВФ, как ситуация идет, развивается с борьбой с коррупцией. Украина ушла в другом направлении, в этом самая большая проблема. Как им можно отвлечь американцев? Да, это опять обострение на Донбассе.
— Что тогда можно ждать от визита Блинкена для Донбасса?
— Для Донбасса ничего хорошего мы не ждем. Виктория Нуланд уже внесла свою лепту в развал Украины и, безусловно, каких-то положительных шагов в плане выполнения Минских соглашений мы не ждем. В плане урегулирования конфликта мирным способом при участии американцев мы тоже не ждем. У них (представителей Киева – ред.) аргументация не то что заканчивается, а давно закончилась уже. Все, что они сейчас могут делать – просто блокируют (минский процесс – ред.), подменяют понятия, пытаются изменить форматы. Ну, или, по крайней мере, об этом заявляют очень ярко, пытаются изменить сторону конфликта, Донбасс заменить Россией. Пытаются нас вытеснить, наших переговорщиков с переговорного процесса – это то, что происходит сейчас. Поэтому с появлением еще более пристального внимания со стороны Соединенных Штатов Америки ситуацию можно только в худшую сторону сдвинуть.
— Недавно большой резонанс имело то, что вы и глава ЛНР предложили предложили президенту Владимиру Зеленскому встретиться где-то в Донбассе. От них какой-то ответ поступил на это, рассматривают ли они это предложение?
— Разные спикеры заявили, что Зеленский не будет ни при каких обстоятельствах идти на диалог с Донецком и Луганском – и в этом самая большая проблема. В этом самая большая проблема, потому что без диалога между противоборствующими сторонами к миру прийти практически невозможно. Об этом говорит история с разными конфликтами в разные периоды времени.
Мы, со своей стороны, сделали максимум возможного. Я и (глава ЛНР – ред.) Леонид Иванович (Пасечник – ред.) предложили: хотите на линии соприкосновения, в любой точке. Понимаем, (Зеленскому – ред.) страшно может быть. Страшно не из-за того, что с нашей стороны что-то там произойдет, а Зеленскому, вероятнее всего, может быть страшно получить выстрел в спину. Ситуация же доведена до того состояния, когда общество, особенно вот эти радикальные элементы, очень сильно подогреты.
Очень долгий период политика начальной команды Порошенко, а потом уже Зеленского, заключалась в расчеловечивании Донбасса. А теперь правильнее было бы поговорить с Донбассом. А как они могут теперь поговорить, если они столько всего вылили в отношении Донбасса, в отношении Донецкой, Луганской народной республик. И, безусловно, если бы он пошел на этот шаг, ему стоило бы, наверное, опасаться получить, как я говорил, пулю в спину. Вопросов нет. С пониманием здесь относимся. Страшно – давайте другой формат. Давайте видеоконференции, давайте дебаты, причем публичные. Мы к этому готовы. Давайте поговорим, как дальше будем соседствовать, сосуществовать. Ну, республики есть уже, по факту есть. Подписаны Минские соглашения. Как дальше жить? Как жить, чтобы действительно был мир? Как жить, чтобы не стреляли, чтобы не боялись на линии соприкосновения гражданские лица просто находиться, просто жить, дети ходить в школу. Что для этого нужно сделать? Каким образом найти точки взаимодействия? Ну, в Минске же все прописано. Но Киев ничего не делает. Что дальше? Продолжать стрелять? Но так не может продолжаться вечно. Семь лет – это очень долго. Нужен диалог, нужен разговор. Зеленский не идет.
— Зеленский – молодой, современный. Он не пытался вам позвонить по мессенджеру какому-то, по WhatsApp, по Telegram?
— Нет, такого не было.
— Его помощники на вас никогда не выходили? Просто поговорить?
— Не было такого.
— Вы бы стали с ним разговаривать?
— Мало того, мы об этом заявили публично. Что мы готовы говорить, мы готовы к диалогу, мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик, которые устали вот в этом состоянии, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом. Как показали последние месяцы, ситуация может вернуться вновь к полномасштабной эскалации.
— Ну, а почему он действительно вам не позвонит? Понятно, да, на линии там соприкосновения могут быть провокации, неожиданности какие-то. А что мешает ему действительно как-то по WhatsApp из кабинета, из Киева, как вы думаете?
— А вы как думаете? Это точно вопрос ко мне?
— Я бы позвонил.
— Ну, вот да, это было бы наверно логично, может быть, разумно начать общаться. Потому что в диалоге только можно возможно разрешение конфликта. Но не идет на это.
— Не дают выходить на переговоры с вами, или он сам не хочет разрешения конфликта?
— Знаете, Украина после 2014 года потеряла свою субъектность. Она сейчас объект. Причем объект можно рассматривать как изнутри, это те кланы, те олигархические там группы, которые влияют в своих интересах экономических. Но можно рассматривать Украину как еще объект со стороны внешних сил, которые тоже имеют свои интересы. Одни видят Украину как большой рынок сбыта, а все те соглашения, которые подписаны были с 2014 года, именно об этом говорят. Именно большой рынок сбыта. Проведена деиндустриализация, сколько предприятий закрыто. То есть никакой конкуренции, то есть это рабочая сила. То есть это одни интересанты.
Есть другие интересанты, которые ставят перед собой геополитические задачи, они рассматривают Украину как инструмент для создания неприятностей в адрес России.
— А вы не пытались лично позвонить им в Киев?
— Не пытались.
— Когда Зеленский стал президентом и набрал такой большой процент, и многие объясняли это тем, что восток Украины тоже за него проголосовал именно в надежде, что он – президент мира. И сам он себя так позиционировал на контрасте с Петром Порошенко. Остаются у вас такие надежды, что он попытается как-то эти обещания воплотить?
— Я давно уже иллюзии не испытываю в отношении Зеленского. Изначально они были очень призрачны, с учетом того, что Украина не субъектна. Даже если бы он хотел реально, даже если бы он попытался выполнять те обещания предвыборные, которые он давал, у него возникло бы очень много препятствий. Но ситуация еще хуже. Он даже не пытался этого сделать.
Ладно бы, если бы мы видели, что он предпринимает шаги, а ему мешают, но нет. Нет никаких шагов, нет никаких предпосылок говорить, что Зеленский настроен на мирное урегулирование конфликта.
Более того, для меня очень непонятно, нелогично выглядит, что Зеленский предал свой электорат. Это предательство, по-другому я не могу это назвать. За него голосовали как за президента мира. Потому что Порошенко был олицетворением продолжающегося конфликта, продолжающейся войны. И вот он – новое лицо появилось, который говорит о мире. Причем он же очень красочно это все описывал со всем своим актерским мастерством. Насколько мог, он убеждал, что вот точно он станет президентом, и сразу наступит мир, и Украина будет развиваться, и с олигархами он там будет бороться, и экономику будет выводить совершенно в другое положительное состояние.
Но нет. Он мало того, что совершил предательство по отношению к своему электорату. Он пытался играть на чужом электорате, на электорате Петра Порошенко. Начал заигрывать с радикалами, что нелогично. У него нет шансов. Я не вижу, какие могут быть предпосылки, чтобы он пошел на второй срок.
Он свой электорат потерял, на чужом ничего не добился и ничего не мог бы добиться. Пытается заигрывать с западными странами, для которых Петр Порошенко гораздо ближе, понятней, предсказуемей, нежели президент Зеленский.
— Если говорить про следующий президентский срок на Украине, то вы видите вероятность того, что Петр Порошенко, например, снова придет к власти? И как это отразится на Донбассе? Или, может быть, вы бы хотели, чтобы Зеленский остался, или может быть вы считаете, что еще есть фигуры, которые лучше для Донбасса?
— Донбасс не принимает участие в выборах на Украине. Говорить, кто хуже, лучше – Порошенко, Зеленский... Для нас это люди, которые убивали и продолжают убивать граждан республики. Которые продолжают убивать детей, которые продолжают своими действиями ситуацию оставлять в состоянии войны. Поэтому ни Зеленский, ни Порошенко для нас неприемлемы. Но есть ли кто-то новый – непонятно.
Если рассуждать и немного отойти в сторону, кто из них больше имеет шансов. Мое мнение, что сейчас Петр Порошенко имеет больше шансов. Потому что Зеленский сейчас, знаете, выглядит, как подделка Порошенко. Ну, вот он пытается делать то, что делал Порошенко. Только делает это менее профессионально. Он пытается быть похожим на Порошенко. А зачем? За подделку никогда не голосуют. Тогда уже, если такой будет выбор, тогда уже, наверное, Петр Порошенко имеет больше шансов стать следующим президентом. Что для Донбасса тоже не сулит ничего хорошего.
— Ну, а такой поворот вправо Зеленского – это ему кто-то посоветовал, или он считает, что это перспективнее с электоральной точки зрения?
— Мне трудно об этом говорить, потому что это кардинально противоположные действия и шаги по сравнению с его предвыборной программой. И это кардинально противоположные действия, которые ожидал бы от него его электорат, те люди, которые за него искренне голосовали, и, которые на него возлагали надежды. Поэтому это вряд ли, наверное, только сугубо его личное мнение, там позиция выработанная. Это и, наверное, результат все же командной какой-то работы, но абсолютно бессмысленный и глупый даже, с моей точки зрения.
— Если еще поговорить о будущем – все эти семь лет, особенно в горячую фазу, все время всплывала идея, что сюда нужно ввести миротворцев, например ООН. Как вы считаете, насколько это реальная идея?
— Вообще этот вопрос давно не поднимался в повестке на переговорных площадках. Но если вернуться к нашей той позиции, когда этот вопрос действительно был в повестке, и Украина пыталась эту ситуацию поднимать и обсуждать на разных уровнях, то мы руководствуемся простыми установками. Мы видим миротворцев ООН только в качестве людей, которые выполняют охранный функционал в адрес СММ ОБСЕ. Почему именно так? Потому что миссия СММ ОБСЕ присутствует, но, когда мы подошли к тому, что давайте разведем стороны, то есть вот выполним обязательства, которые прописаны, то между сторонами встанет миссия ОБСЕ. То есть они не в Донецке будут находиться, а между сторонами конфликта, и сразу будет понятно, кто стреляет. И тогда не было бы таких неинформативных отчетов, как мы сейчас видим. Это могло бы быть действенным шагом к наступлению мира.
Хорошо. Мы тогда это обсудили, и Россия тогда подала соответствующую резолюцию в Совет Безопасности ООН, но по сей день она остается без ответа.
Поэтому сейчас рассуждать о миротворцах не совсем, наверное, вовремя. И я не понимаю, где здесь можно находить компромисс, потому что Украина наверняка, когда поднимала вопрос о миротворцах, видела повторение истории в отдельных балканских странах, где миротворцы ООН должны были бы помочь Украине зачистить Донбасс. Но это вот такие формулировки, даже приблизительно такие, звучали и на переговорной площадке в Минске, когда я еще был участником.
Нас это, понятное дело, не устроит. Россия, понятное дело, этого не допустит. Но Украина видела это ровно таким образом. Когда они разобрались, что так не получится, они эту тему отпустили. Сейчас она не в повестке.
— Что касается миссии ОБСЕ. Эффективно они вообще работают?
— СММ ОБСЕ должны действовать согласно своему мандату и в своей работе должны руководствоваться принципом беспристрастности и объективности. С учетом тех отчетов, которые мы сейчас видим в последнее время, когда сменилось руководство СММ ОБСЕ, мы видим ухудшение в плане отчетов. Раньше отчеты были более информативные. Из этих отчетов можно было понять, какая из сторон конфликта виновна в том или ином нарушении режима прекращения огня. Сейчас, если вы почитаете отчеты, там, увы, очень сложно разобраться.
Вот один из последних случаев, когда пожилого мужчину убили в Александровке. Снайпер убил, когда он находился во дворе своего дома, в огороде буквально. И снайпер выстрелил, абсолютно видел, в кого он стреляет, что это не военный, не военнослужащий, это действительно пожилой человек. Видно абсолютно, откуда прилетела пуля. Видно, то есть можно рассчитать, с какой стороны, даже с какого расстояния примерно. Если вы почитаете отчет по данному инциденту, то там непонятно, что это украинская сторона, там можно рассуждать по-разному. Кто-то виноват. Вот они фиксируют, что да, погиб, и кто-то стрелял. В смысле "кто-то"?
— Может, миссия старается объективнее быть?
— Если они будут вот так писать: "кто-то стреляет, кто-то нарушает". А зачем тогда они нужны? У них специальная мониторинговая миссия, то есть они должны мониторить нарушение тех договоренностей, которые достигнуты, о режиме прекращения огня. Вот они должны, зафиксировали, вот с украинской стороны выпущено столько-то снарядов, со стороны ДНР – столько снарядов. Вот эти цифры ложатся на стол переговоров на минской площадке. Что с этим будем делать? Там-то виноваты те, те и те. Там те командиры отдавали приказы, значит они действовали в нарушение указа министерства обороны о режиме прекращения огня, о запрете даже на ответный огонь, они должны нести соответствующее наказание. Тогда это работает.
Это видно и на переговорной площадке тоже, потому что там тоже присутствует ОБСЕ. Раньше, 2-3 года назад, беспристрастности и объективности было больше. Мы никогда не испытывали иллюзий, мы понимали, что они, в первую очередь, поддерживают Украину, нежели нас, видели, понимали, но это не было таким явным. Они, по крайней мере, пытались найти какие-то точки соприкосновения и быть беспристрастными. Сейчас мы зачастую видим, что они занимают позицию одной из сторон конфликта, в данном случае – Украины.
— То есть они не называют виновных не для того, чтобы быть непредвзятыми, а вы считаете, что они именно выгораживают одну из сторон?
— Да, именно так. К сожалению, это так, но при этом, я хочу сказать, что все равно они свой функционал несут, если бы не было миссии ОБСЕ, если бы не было самой ОБСЕ, в целом, с той стороны линии соприкосновения, с нашей стороны, ситуация была бы хуже, это я могу сказать. Поэтому, да, они нужны. Но они должны действовать в рамках своего мандата, четко и неукоснительно. Сейчас мы видим, они отходят от этого мандата.
— Именно в пользу одной стороны?
— Совершенно верно.
— Например, они говорят, что их беспилотники обстреливают с территории, неподконтрольной Киеву, а кто это делает? Получается, если территория, неподконтрольная Киеву, значит...
— Значит, как бы мы. Но (есть случаи – ред.), когда украинская сторона не дает даже взлететь беспилотникам, а сама ОБСЕ даже старается не всегда указывать. То есть у нас эта информация есть, мы начинаем настаивать (чтобы включили в отчет – ред.). Абсолютно понятно, что (беспилотники – ред.) пытаются взлететь с той стороны, со стороны Украины, но они (ОБСЕ – ред.) не указывают, что это Украина. Они просто говорят, что были какие-то помехи, беспилотник не смог взлететь, выполнить свои задачи в рамках мониторинга. То есть там они Украину не указывают. Но если есть какие-то инциденты с нашей стороны, это указывается без всяких промедлений. Увы, беспристрастность и объективность мы видим все меньше и меньше, к сожалению, это так.
— Еще в 2014 году деятели ДНР говорили, что правду будут искать в различных международных инстанциях. Например, что обратятся в Международный уголовный суд с делами погибших мирных граждан. Мы знаем, что все тщательно фиксируется, следственные органы по каждому обстрелу возбуждают уголовные дела... А, в принципе, удавалось ли уже подавать иски в Международный уголовный суд? Сколько вообще таких уголовных дел?
— Здесь мы тоже иллюзий никаких не испытываем. Это долгоиграющая такая история, и это больше наша работа на будущее. Когда, рано или поздно, конфликт закончится, и когда с теми военными преступлениями придет время разбираться, вот для этого мы все документируем. Что качается ЕСПЧ, то с 2015 года было направлено 5,5 тысяч дел от пострадавших жителей Донецкой народной республики. Что касается МУСа, то туда направлено 2600 дел на данный момент.
У нас все фиксируется, наши следственные органы, наша общественная организация, которая у нас специально под это создана, – все фиксируется, везде выезжаем, мы ничего не собираемся забыть. Когда придет время, и когда это будет рассматриваться, также беспристрастно, как это должно было бы быть, подождем. Нужно быть терпеливыми.
— Вы большие цифры называете, несколько тысяч. Начато уже по каким-то делам рассмотрение?
— Начата определенная переписка, но она очень замедлена. Потому что пока конфликт не закончен, данные инстанции пока не спешат в этом разбираться. Не спешат, мы это видим и отчасти даже понимаем. Вот когда полностью мы придем к тому моменту, когда можно будет разобраться с каждым военным преступником, кто начинал конфликт, кто отдавал приказы, кто, под чьей подписью есть кровь тысяч и тысяч жителей Донбасса, вот тогда придет время и тем искам, которые поданы в данную инстанцию.
— То есть сказать, что из этих тысяч вот столько-то уже рассматривается, мы пока не можем?
— Нет, не можем.
— В 2014 году здесь еще работали украинские СМИ, потом это сошло на нет. А есть вероятность, что вы сюда допустите какие-то украинские СМИ, для того, чтобы Киеву рассказали и аудитории рассказали правду, что здесь не какие-то злобные сепары?
— Была совсем недавно пресс-конференция, где приглашались украинские СМИ с возможностью задать абсолютно любые вопросы. Они тогда этой возможностью не воспользовались. Почему? Потому что на Украине, увы, свободы слова нет.
Те последние телеканалы, которые там были, не пророссийские, что самое интересное, они да, оппозиционные, да, не согласные с действиями власти, но они, наверное, более проукраинские, нежели каналы Порошенко или Зеленского – тем не менее, эти каналы без суда, без решения суда, в нарушение норм конституции, просто решением СНБО были закрыты. Журналисты подвергаются гонениям, те, которые не в повестке действующей власти. Те, которые выходят за рамки тех штампов, которые сейчас дает высшее руководство Украины, ну, в отношении России как "страны-агрессора", нас, "террористов", что не соответствует даже и законам Украины. Но тем не менее, это те штампы, которые журналисты не имеют право нарушать. Поэтому с отсутствием свободы слова рассчитывать, что они хоть какую-то часть могут показать объективно, нет.
— А вы бы хотели, чтобы приехали сюда журналисты из Киева, какие-то умеренные, может быть, с тех же закрытых каналов?
— Умеренных журналистов на Украине практически не осталось. Но, на самом деле, информационное пространство так устроено, здесь и границы не мешают, здесь не нужно какое-то особое приглашение, такая возможность работать есть. И дистанционно, и по видеосвязи, но никто почему-то к этому не стремится.
А для нашего информационного поля и наших СМИ, которые у нас есть, в Донецкой народной республике, хватает, федеральных средств информации России, которые мы уважаем и ценим, тоже хватает. С этим недостатка нет, дефицита не испытываем.
— Но чтобы на Украине увидели....
— Послушайте, но там соцсети российские заблокированы. Какую вы хотите увидеть там объективную информацию про Донбасс от украинских журналистов? Это уголовно наказуемо. Не нужно испытывать никаких иллюзий. Кто хотя бы нейтрально попытается ситуацию обрисовать, он сразу становится вне закона. Посмотрите, что происходит даже не с журналистами, а с блогерами. Все же очевидно на Украине. Тирания, беззаконие, растоптанная конституция и потеря субъектности, ровно так. Это нынешняя Украина.
— Неделю назад президент Зеленский сказал, что имеет смысл расширить нормандский формат, каких-то пригласить еще влиятельных туда представителей, может быть, США имел в виду. Во-первых, согласитесь ли вы на такие расширения, а во-вторых, какие цели преследует Зеленский, как вы думаете?
— Нормандский формат создавался непосредственно как контрольно-координирующий орган по отношению к Минским соглашениям. Соответственно тот функционал, который лежит непосредственно в нормандском формате, он абсолютно понятен. Страны, которые подписались, и что еще помимо декларации, которую подписывали четыре президента в отношении комплекса мер, а потом была принята резолюция Совета безопасности ООН, это существующая уже реальность. Это международный акт, который нужно выполнять. Что Зеленский пытается сделать? С учетом того, что Минские соглашения он не хочет и не может выполнить, и аргументация вся фактически иссякла, которая позволила хоть с какой-то стороны показывать в более-менее приглядном виде, Зеленский пытается теперь вообще поменять форматы. Из минского формата они пытаются выйти – якобы Россия должна стать страной конфликта.
Нормандский формат он хочет тоже видоизменить. Но послушайте, так это не работает. Уже и США сказали, что нормандский формат мы поддерживаем, Минские соглашения, это же уже было после тех попыток Зеленского сделать те заявления, заявления ради пиара. По-другому я не вижу. Со стороны Франции вы тоже видели реакцию в информационном поле, со стороны Германии. Это те инсинуации ради пиара, которые уменьшают ценность заявлений президента господина Зеленского.
Масса вот этих заявлений, вы же видите. То Израиль в качестве посредника, то в Ватикане переговоры, то в Турции. Он с кем-то хоть это проговорил? Прежде чем делать такие заявления, ведется огромнейшая подготовительная работа. Послушайте, больше делать нужно со стороны Зеленского, нежели говорить. Не делается ничего, но есть масса заявлений, которые никак не соотносятся с реальностью.
— Может, он пытается как-то выход найти из этого тупика?
— Нащупывает? Очень плохо нащупывает, он не в той плоскости даже щупает. Диалог нужен с Донбассом, нужны четкие, понятные рамки, в рамках минских соглашений находить точки соприкосновения. Все, ничего другого не дано для урегулирования конфликта, пока это так.
— Вы считаете, что вряд ли нормандский формат будет как-то переформатирован? Это просто слова, заявления?
— Это пиар.
— Как вообще оценить работу Берлина и Парижа вот в этом формате? Какую роль они в этом играют, конструктивную? Поддерживают одну сторону или как?
— В целом мы благодарны Германии и Франции за усилия, которые они прикладывают к урегулированию конфликта, но уверен, что они могли бы делать больше. Они являются странами-гарантами. Соответственно они участвовали, когда появлялся комплекс мер, они непосредственно заинтересованы в том, чтобы конфликт был урегулирован именно так, как это прописано в Минских соглашениях.
Но давление, я убежден, они могли бы на Украину оказать гораздо больше, чтобы Украина выполняла взятые на себя обязательства и меньше пыталась заниматься там пиаром, блокированием переговорного процесса. Но они точно абсолютно свой потенциал не используют. Это плохо. Более того, если говорить, что они занимают одну из сторон, позицию одной из сторон конфликта, да это так. Мы это знаем, мы это ощущаем. Последний пример – вы знаете, наши представители принимали участие на полях Совета безопасности ООН, имели возможность выступить. Всё бы хорошо, но из стран-гарантов присутствовала только Россия. Германия и Франция демонстративно не появились, хотя бы могли послушать, увидеть, что происходит на самом деле с другой стороны, потому что представители – Наталья Юрьевна Никанорова, Владислав Николаевич Дейнего очень досконально, лаконично подошли и к причинам возникновения конфликта, и как это происходит в течение семи лет, и как они видят урегулирование конфликта. Но Германия, Франция не появились. А они просто обязаны были там находиться в рамках своих уже обязательств, которые они давали, подписываясь под декларацией о поддержке комплекса мер еще в 2015 году. Но они этого не сделали. Поэтому Германия и Франция правильно, если бы оказывали большее давление на Украину. То, что они могут это сделать, я тоже в этом убежден. Но не делают.
— С другой стороны, если они выступают на стороне Украины, то зачем им давить на нее?
— Это риторический вопрос.
— Зеленский еще одну интересную фразу обронил недавно, что Минские соглашения – вот они хорошие в общем-то, но нужно изменить последовательность их выполнения. Может быть, известно как-то из переговоров или как-то еще, что он имел в виду? Какие пункты?
— Ничего нового в этом нет. Это придумки еще Петра Порошенко и его команды. Но Петр Порошенко хотя бы делал это более искусно, потому что политически более подкован. А Зеленский это делает достаточно наивно порой. Он открыто заявляет порой, что нужно переписать, видоизменить Минские соглашения. А что такое видоизменить – это отказаться от них? Ну, так же нужно это воспринимать? И мы это так и воспринимаем уже, что Зеленский отказывается. Постоянно он заявляет, что он привержен, а по факту, когда он заявляет, что их нужно видоизменить, то что это такое – это, конечно же, отказ. Что он имеет в виду? Он, как и Петр Порошенко, бредит идеей поменять пункты в нужном ключе непосредственно для Украины. Границу забрать, а потом все, мы дальше сами разберемся. Да-да, мы знаем, к примеру, страны, Сребреницу знаем, как разбирались. Ну, нет.
— То есть пункт Минских соглашений о границах он имеет ввиду?
— Конечно, конечно! Давайте, мы забираем границу, а дальше и выборы проведем, и все мы там сделаем, и вообще, все будет хорошо. Только для кого хорошо? Для граждан Донбасса? Это будет резня, мы в этом убеждены.
И, послушайте, мы даже не будем об этом гадать, мы подписали Минские соглашения, для нас они тоже не очень удобные, не везде устраивающие. Тем не менее, они подписаны, подписаны они тогда, когда Украина терпела военные поражения одно за другим. Украина не могла диктовать, и только добрая воля России, которая включилась и помогла, Германия и Франция, которые помогли вот эту ситуацию остановить, и появились Минские соглашения. А теперь Украина почему-то говорит: "надо видоизменить". С чего вдруг? Вы победителями себя ощутили? Где, в каком месте, когда? Нет, не победители? Тогда будьте добры выполнять взятые на себя обязательства, чтобы не иметь тех последствий, которые стоят за тем, когда Минских соглашений не будет. Видим так.
— Но они же не собираются, видимо, выполнять их. Получается тупик какой-то. Соглашения не работают.
— Тупиком нельзя называть вечно нынешнюю ситуацию, она когда-то должна закончиться. Как – посмотрим. У меня очень серьезные сомнения, что из-за Украины начнется третья мировая война. У меня очень большие сомнения. Украина – это разменная монета, ее будут использовать, пока она используется, пока есть ресурс. После государственного переворота это ровно так выглядит.
Поэтому сейчас украинская армия стала ли другой? Конечно стала другой. Огромные средства выделялись и Соединенными Штатами Америки, и из Чехии оружие, как показывает практика, поставлялось тоже, из Европы, хотя было наложено эмбарго. Это было все. Инструктора открыто работают, обучают, инструктора НАТО, инструктора других стран, все понимаю. И они, непосредственно, модернизацию прошли и по техническому оснащению, вопросов нет.
— А как сейчас экономическая ситуация здесь? Насколько мы знаем, до сих пор границы с Украиной закрыты. Как в этих условиях удается выживать?
— Наш бизнес еще с 2014-го года начал перестраиваться. После введения блокад – транспортной, экономической и всевозможных – мы от Украины давно уже отрезаны и научились жить без Украины. Все логистические цепочки, все поставки сырья, все цепочки по реализации продукции – они абсолютно новые.
Сложнее всего самым крупным предприятиям, потому что в таких объемах, в таких количествах это, конечно же, всегда находится под пристальным вниманием. Основные наши предприятия – металлургической промышленности, металлургия в целом, угольной промышленности, машиностроения, они практически, чтобы работать, чтобы сохранять рабочие места, они практически вынуждены совершать подвиги по тем усилиям, которые они совершали для того, чтобы сырье появилось на крупных предприятиях, чтобы потом эту продукцию готовую уже реализовать. То есть данные предприятия не могут работать только в рамках Донецкой и Луганской народных республик. Они имеют очень серьезный экспортный потенциал.
Поэтому, безусловно, особенно когда буквально полтора года предыдущие были особенно сложными, потому что конъюнктура на международной площадке, цены на металл, цены на сырье, они еще усугубили у нас ситуацию. Потому что цена на сырье росла, цена на готовую продукцию падала. Потом ковид, общий спад. Это все, конечно, те удары, которые приходилось выдерживать нашей экономике. Продолжаем держать этот удар. Но, тем не менее, настроены оптимистично.
С прошлого года у нас запущена программа по развитию и восстановлению. Многие населенные пункты сейчас требуют ремонта, где-то капитального ремонта, где-то текущего ремонта, допустим, если мы запустили программу, там, по восстановлению лифтового хозяйства, как одно из направлений, то есть, некоторые лифты не работали там по 20-30 лет, то есть, вот сейчас эти лифты запускаются. Задача стоит, чтобы все на 100% лифты в Донецкой народной республике работали, и проводились регулярные текущие ремонты и капитальные ремонты. Причем, с учетом локализации производственных мощностей. То есть все запасные части, по максимуму, что можно производить здесь, они будут производиться здесь, это до 80% уже в этом году. В прошлом году было порядка 40%, то, что мы могли производить, но, в этом году, думаю, уже 80% можно производить.
Если оценивать общую картину, по прошлому году, даже если с учетом непростого, нелегкого года, связанного с ограничениями коронавирусными, тем не менее, сбор в денежном эквиваленте налогов увеличился на 12,4%. То есть денег собрали больше. То есть это соответственно и работающие предприятия, и объемы реализации, то есть объемы производства. То есть так можно оценивать.
Это, конечно, не те темпы, которыми нам хотелось бы развиваться. Но, тем не менее, правительство работает, ставит такие задачи по программам на ближайшие годы. Таким образом, на чем мы будем ставить акценты, где мы будем дополнительно выделять средства, чтобы экономика имела под собой установку на развитие. У нас не должен быть бюджет проедания, у нас должен быть бюджет развития. То есть за счет этого мы, уверен, сдвинем ситуацию вот с той точки, где сейчас находимся, которая не устраивает нас, которая не устраивает граждан Донецкой народной республики. Наши люди заслуживают того, чтобы жить лучше.
— Вот вы упомянули, естественно, COVID, как такой важный фактор нынешней жизни. Идут ли из России поставки вакцины?
— У нас с 1 марта началась вакцинация в Донецкой народной республике, благодаря тому, что Россия оказывает здесь поддержку. Россия в течение всего этого периода оказывает поддержку, за что мы ей благодарны. Но здесь по противодействию с коронавирусной инфекцией очень серьезная помощь была оказана и в прошлом году, это во время второй волны, там, где поддержка России оказалась весьма значимая. То есть мы, по сути, ситуацию взяли под контроль.
С вакциной тоже, с 1 марта у нас началась вакцинация первой категории, основные, которые мы определили, то есть это наши военнослужащие, которые 100% вакцинированы. С учетом того, что возможны разного рода ситуации в связи с обострением, COVID уж точно не должен здесь мешать. Поэтому военнослужащие привиты, медицинские сотрудники, работники соцсферы. И вот на данный момент мы вышли на вакцинацию всех желающих, то есть гражданского населения, которые записываются на сайте Министерства здравоохранения или же в своих поликлиниках и в порядке очереди получают вакцину.
— Можете цифру назвать, сколько вакцинировано человек, и сколько будет вакцинировано всего?
— Мы действительно хотим прийти к цифре, которая позволит говорить о коллективном иммунитете. И эта цифра должна приближаться к миллиону человек. Постараемся сделать это до конца года. Успеем или нет – покажет время. Здесь очень сложно загадывать, но, тем не менее, у нас прививочные пункты открываются. На данный момент их 39. В самое ближайшее время запланировано еще открытие четырех прививочных пунктов.
Дальше пойдет по нарастающей, безусловно, потому что для нас важно находиться, во-первых, в одном эпидемиологическом поле с Россией, потому что с Россией мы не намерены закрываться. И для нас это возможность выжить – граница с Российской Федерацией.

ТОГДА И СЕЙЧАС
АРЧИ БРАУН
Профессор политологии Оксфордского университета. Его последняя книга – «Человеческий фактор: Горбачёв, Рейган, Тэтчер и конец холодной войны» (The Human Factor: Gorbachev, Reagan, and Thatcher, and the End of the Cold War / Oxford University Press, 2020).
ВСПОМИНАЯ «НОВОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ»
В конце 1980-х гг. многие ждали воцарения демократии во всём мире. В России (и в Советском Союзе в целом) активно поддерживали новые свободы и альтернативные выборы в законодательные органы с реальными полномочиями.
Вопреки более поздней ложной информации и сфальсифицированным мемуарам Михаил Горбачёв в конце 1989 г. по-прежнему был самым популярным политиком в России и во всём СССР[1]. (Как мы знаем из опросов ВЦИОМа, только в мае-июне 1990 г. его обошёл по популярности Борис Ельцин, противопоставивший интересы России и Союза[2].) Население одобряло дружественные и конструктивные отношения между СССР, Европой и Соединёнными Штатами.
Неудивительно, что рядовой россиянин ощущал опасность войны более остро, чем среднестатистический американец. В Советском Союзе Вторая мировая затронула практически каждую семью. Потери в ней двух стран были слишком разными: почти 27 млн человек в СССР и около 400 тысяч в США. Поэтому для россиян и советских граждан в целом дружеский визит американского президента Рональда Рейгана в Москву в июне 1988 г. стал положительным сигналом о том, что мир теперь более безопасен. Шторм, осложнивший саммит Горбачёва и Буша-старшего на Мальте в декабре 1989 г., резко контрастировал с атмосферой спокойного и конструктивного диалога. По окончании саммита американский президент и советский лидер впервые дали совместную пресс-конференцию, стоя бок о бок. К огорчению Джорджа Шульца, госсекретаря Рейгана, и Джека Мэтлока, посла США в Москве, администрация Буша очень медленно шла на контакт с советским руководством. Но к концу года потерянное время удалось наверстать. Мэтлок назвал саммит на Мальте поворотным моментом, когда Буш наконец «возобновил активную политику, которой Рейган придерживался в последние годы президентства»[3].
Одним из самых ярких проявлений холодной войны было разделение Европы после создания режимов советского образца в странах, освобождённых Красной армией в годы Второй мировой. Когда народы Центральной и Восточной Европы смогли мирно (за исключением Румынии, где советское руководство практически не контролировало диктатора Николае Чаушеску) воспользоваться свободой выбора политической и экономической системы, о чём Горбачёв сказал в знаменитой речи в ООН 7 декабря 1988 г., холодная война, по сути, закончилась.
То выступление в ООН можно считать выдающимся примером перестроечного «нового мышления», которое не только опередило свою эпоху, но и сегодняшнее время. Его можно восхвалять как провидческое или критиковать как нереалистичное и утопическое, но тогда возникает вопрос: что такое реализм? Реалистично ли верить, что в период обострения напряжённости и расцвета национализма, когда у стран есть оружие массового уничтожения, нет опасности катастрофической войны в результате политических просчётов, человеческой ошибки или технического сбоя? Реалистично ли преуменьшать экологическую деградацию и вызванные деятельностью человека изменения климата, вместо того чтобы воспринимать эту угрозу для человечества и всей планеты всерьёз?
Михаил Горбачёв опережал большинство мировых лидеров 1980-х гг., подходя к этим угрозам со всей ответственностью.
Немногие главы правительств того времени обращали внимание на окружающую среду и зелёную повестку. В своём выступлении в ООН в 1988 г. Горбачёв говорил о «мировой экологической угрозе», которая во многих регионах стала «просто устрашающей» и призывал создать центр срочной экологической помощи под эгидой ООН[4]. Горбачёв размышлял о необходимости «поиска общечеловеческого консенсуса в движении к новому мировому порядку», но не признавал прогресса «ни за счёт ущемления прав и свобод человека и народов, ни за счёт природы»[5]. Он отмечал, что «односторонний упор на военную силу в конечном счёте ослабляет другие компоненты национальной безопасности». Горбачёв подчёркивал фундаментальную значимость «свободы выбора» как «всеобщего принципа, который не должен знать исключений». Но когда демократические ценности, говорил он, распространяются в «экспортном исполнении», они зачастую очень быстро обесцениваются[6]. Время требует «деидеологизации межгосударственных отношений», общечеловеческие идеи должны превалировать над центробежными силами, чтобы сохранить «жизнеспособность цивилизации, возможно, единственной во Вселенной»[7].
Полагаю, идеологически холодная война закончилась именно после этого выступления Горбачёва в ООН, её символическим завершением был саммит на Мальте, а реальным – когда жители стран Восточной Европы в 1989 г. смогли воспользоваться свободой политического выбора, о которой Горбачёв говорил годом ранее. Мирный переход власти в Восточной Европе стимулировали и облегчили либерализация и демократизация, а также новая толерантность в Советском Союзе. Первые по-настоящему конкурентные выборы в коммунистической Европе состоялись не в Польше, где по итогам голосования в июне 1989 г. прекратилось коммунистическое правление, а в самом Советском Союзе в марте того же года. Однако в Восточной Европе события развивались даже быстрее, чем в СССР. Вдохновлённые политическим плюрализмом в региональном государстве-гегемоне и благоприятной международной атмосферой, жители стран Восточной Европы сделали то, на что не решались десятилетиями, опасаясь советской военной интервенции. Преобразования начались в Венгрии и Польше. А позже, 9 ноября 1989 г., произошло политически необратимое падение Берлинской стены. Кульминацией явилась «бархатная революция» в Чехословакии, где Александр Дубчек 28 декабря 1989 г. стал председателем Федерального собрания, а на следующий день президентом страны был избран Вацлав Гавел.
Тридцать лет с того момента, как в декабре 1991 г. Советский Союз прекратил существование, европейские страны пережили по-разному. Неодинаково себя ощущали и различные группы населения в них. На международной арене это был период крупных ошибок и упущенных возможностей. Пожалуй, будет перебором называть нынешнюю напряжённость между Востоком и Западом новой холодной войной (хотя так делает, например, профессор Роберт Легвольд[8]), потому что настоящая холодная война подразумевала не только политическое, экономическое и военное соперничество, но и борьбу двух несовместимых, универсалистских, привлекающих новых приверженцев идеологий. Сейчас гораздо меньше идеологической лихорадки, реальной или искусственно поддерживаемой, стороны практически не претендуют на обладание всеохватными политическими истинами. Но сегодня мы ещё больше, чем тридцать лет назад, далеки от «общего европейского дома», о котором мечтал Горбачёв и «единой и свободной Европы» по выражению Буша-старшего, не говоря уже о «новом мировом порядке», который упоминали оба лидера (сначала Горбачёв, выступая в ООН в 1988-м, а потом и Буш в 1990-м и 1991-м).
Ответственность лежит на обеих сторонах. Из-за отказа от соглашений перестроечного периода о сокращении вооружений и контроле над ними мир стал более опасным, а расширение НАТО, против которого выступали именитые эксперты Джордж Кеннан и Уильям Перри, было воспринято Москвой как установление новой линии разделения в Европе, но на этот раз ближе к России.
Вместо того, чтобы интегрироваться в новую Европу, Россия в итоге отреагировала так, как и предсказывал Кеннан.
В 1990 г. госсекретарь Джеймс Бейкер проинформировал министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе о том, что США «готовы строить панъевропейские институты безопасности, которые хочет видеть Советский Союз», а президент Буш в том же году сказал президенту Горбачёву, что Соединённым Штатам не нужны «победители и проигравшие» и СССР необходимо «интегрировать в новую Европу»[9]. Если бы Горбачёву удалось сохранить Союз – путём переговоров и достижения добровольного соглашения, шансов создать новые панъевропейские институты безопасности, которые бы включали, а не изолировали Россию, было бы больше.
В то время между Москвой и европейскими столицами, а также между Горбачёвым и его внешнеполитической командой в Москве и командой Буша – Бейкера в Вашингтоне царила атмосфера доверия. Буш не пытался усугубить внутриполитические проблемы Горбачёва или подорвать его усилия по сохранению Союза. Он переключился на плохо продуманную триумфалистскую риторику, только когда Советский Союз распался, а ему самому предстояла кампания по перевыборам.
Стоит напомнить, что в конце 1980-х гг. престиж СССР в мире был выше, чем когда-либо (даже выше, чем у России после этого). Многие консервативные западные лидеры, включая Маргарет Тэтчер (она – в особенности), понимали, что изменения во внутренней и внешней политике СССР носят фундаментальный, а не косметический характер. Но невероятно сложно строить демократию, когда в многонациональном государстве нет консенсуса по поводу границ и отсутствует механизм урегулирования споров по этим проблемам. Национальный вопрос, корни которого уходят во времена Сталина или даже Российской империи, дестабилизировал Советский Союз. Закладывать фундамент плюралистической демократии, что делалось в последние годы существования СССР, было бы проще в постсоветской России, где русские составляли четыре пятых населения. В итоге народы, возглавившие борьбу за национальный суверенитет (прежде всего – страны Балтии), добились своей цели в 1991 году.
Теоретически это могло быть так, но на практике всё оказалось по-другому. Примерно в половине государств, возникших на постсоветском пространстве, включая Россию, демократических институтов и демократической подотчётности в последние советские годы было больше, чем сейчас.
Идеи о неизбежном триумфе плюралистической демократии, широко распространённые в 1991 г., оказались иллюзорными.
Недавно избранный президент США Джо Байден говорит о «хрупкости демократии». У него есть для этого основания – далеко за доказательствами ходить не надо[10]. Достаточно вспомнить презрение к демократическим институтам его предшественника Дональда Трампа, отказавшегося признать легитимность президентских выборов и своё поражение.
Оптимизма по поводу перспектив гармоничных международных отношений или прогресса демократии в настоящее время нет. Принципы, которыми руководствовался Михаил Горбачёв во второй половине 1980-х – начале 1990-х гг. (за этот период он сам прошёл политическую эволюцию, превратившись из коммуниста-реформатора в социал-демократа), уже нерелевантны. Теперь мы понимаем, что реализовать их было гораздо сложнее, чем Горбачёв и многие из нас думали тогда.
Сегодня, когда отношения России и Запада гораздо хуже, чем в момент завершения холодной войны, важно обратить внимание на то, что называли «новым мышлением».
В частности, на идеи, высказанные Горбачёвым в ООН в 1988 году. Это не только идеализм, практически отсутствующий в современном международном дискурсе, но и более высокий реализм. Переоценка огромных достижений периода перестройки, как и последовавших провалов, не завершена. Этим займутся будущие поколения, если нам и им удастся сохранить цивилизованную жизнь на планете. Подойдя к изучению того периода объективно, можно обнаружить способы остановить нисхождение по спирали авторитаризма, конфронтации и катастрофы.
--
СНОСКИ
[1] Мы знаем из самого надёжного и профессионального источника – исследований, проведённых ВЦИОМом в поздний перестроечный период, что более 80 процентов советских граждан полностью или частично поддерживали политические изменения, инициатором которых был Михаил Горбачёв. В декабре 1989 г. 49 процентов респондентов в России и 52 процента во всём СССР полностью одобряли деятельность Горбачёва, ещё 32 процента (в России и СССР) одобряли его деятельность частично (В какой мере вы одобряете деятельность М.С. Горбачёва? // ВЦИОМ. Москва, 1990).
[2] Рейтинги Бориса Ельцина и Михаила Горбачёва по 10-балльной шкале // ВЦИОМ. Москва, 1993.
[3] Matlock J. Reagan and Gorbachev: How the Cold War Ended. New York: Random House, 2004. P. 315.
[4] Выступление в Организации Объединённых Наций. Горбачев М.С. Избранные речи и статьи. Т. VII. М.: Политиздат, 1990. С. 193.
[5] Там же, стр. 187.
[6] Там же, стр. 188.
[7] Там же, стр. 189.
[8] Legvold R. Return to Cold War. Polity. Cambridge, 2016. 187 p.
[9] Izkowitz Shifrinson J. R. Deal or No Deal? The End of the Cold War and the U.S. Offer to Limit NATO Expansion // International Security. 2016. Vol. 40. No. 4. P. 30-31.
[10] Trump impeachment trial: Biden warns democracy is fragile // BBC. 14.02.2021. URL: https://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-56061100 (дата обращения: 19.04.2021).

ФАБРИКА ГРЁЗ – ТЕПЕРЬ С ВОСТОКА
ГЕОРГИЙ ПАКСЮТОВ, Аспирант ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова.
ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ КИНО: ШАНС ДЛЯ СТРАН АЗИИ?
Глобальная киноиндустрия переживает стремительную трансформацию, связанную с успехом бизнес-моделей, в основе которых – цифровые технологии. Фактически мы наблюдаем, как стриминговые медиа (сервисы, подписчики которых за абонентскую плату приобретают возможность просматривать выбранный развлекательный контент через интернет) – Netflix, Prime Video и другие – формируют новый мировой рынок кино.
Пандемия COVID-19 ускорила процесс: в то время как кинотеатры понесли колоссальные потери из-за карантинных мер, стриминговые сервисы существенно нарастили абонентскую базу. Так, число подписчиков Netflix увеличилось в 2020 г. более чем на 20 процентов (см. таблицу 1). Это достижение выглядит особенно значимым, если учитывать резко возросшую с запуском в 2019 г. сервисов Disney+ и Apple TV+ конкуренцию на данном рынке.
Цифровая трансформация кинематографа проявляется не только в новом способе дистрибуции – посредством интернета вместо традиционного просмотра в кинотеатре. Стриминговые сервисы меняют всю цепочку добавленной стоимости в киноиндустрии, представляют собой новую форму организации, экономически более успешную, чем прежде существовавшие в отрасли. Традиционный кинорынок отличался непредсказуемостью результатов: кассовые сборы фильма трудно спрогнозировать до его премьеры. Экономист Артур де Вани демонстрирует, что это свойство является ключевой характеристикой кинобизнеса, которая определяет стратегии его участников[1]. Модель стриминговых сервисов, созданную Netflix, можно коротко представить следующим образом[2]:
Точное прогнозирование спроса подписчиков сервиса (для этого методами «машинного обучения» анализируются большие объёмы поведенческих данных пользователей).
Создание собственного развлекательного контента с учётом потребительских предпочтений.
Дистрибуция контента среди собственных подписчиков (без посредников – таких, например, как кинотеатральные сети).
Данная бизнес-модель снижает присущие кинобизнесу риски, используя преимущества вертикальной интеграции (контроль над всей цепочкой добавленной стоимости) и современные методы анализа больших данных. Конкурентоспособность подтверждается взрывным ростом числа подписчиков стриминговых сервисов.
Таблица 1. Совокупное число пользователей, оплативших подписку на Netflix (млн чел.), число пользователей (млн чел.) и процент подписчиков из стран кроме США (%), 2015–2020 гг.
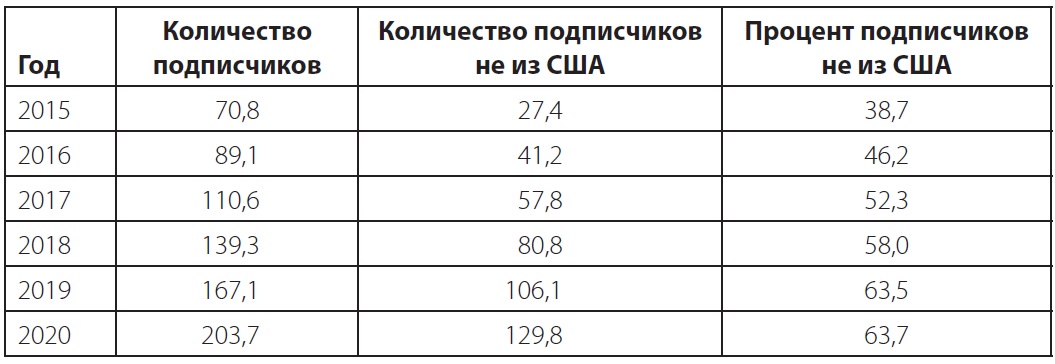
Источники: Statista. Netflix’s International Expansion // Statista. 2020. URL: https://www.statista.com/chart/10311/netflix-subscriptions-usa-international; Statista. Netflix’s Paid Subscribers Count by Region 2020 // Statista. 2021. URL: https://www.statista.com/statistics/483112/netflix-subscribers
Таблица 2. Совокупные кассовые сборы в странах АТР (млрд долларов) и доля мирового рынка кино, приходящаяся на страны АТР, 2010–2018 гг.
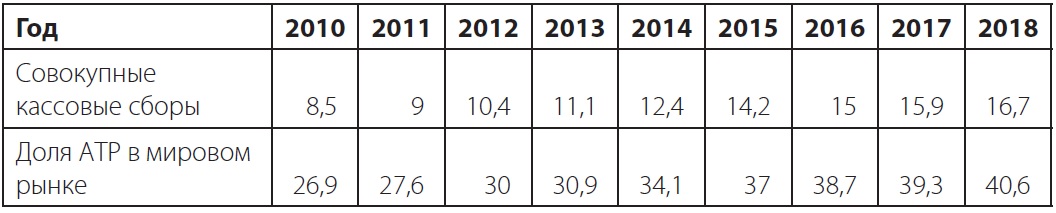
Источники: MPAA. Theatrical Market Statistics 2014 // MPAA. 2015. URL: https://www.motionpictures.org/wp-content/uploads/2015/03/MPAA-Theatrical-Market-Statistics-2014.pdf; MPAA. 2018 THEME Report // MPAA. 2019. URL: https://www.motionpictures.org/wp-content/uploads/2019/03/MPAA-THEME-Report-2018.pdf.
Гонка киновооружений
Другой важный тренд, определяющий облик современной индустрии кино, – значительное увеличение удельного веса Азии в мировом кинопрокате. За 2010–2018 гг. совокупные кассовые сборы в странах Азиатско-Тихоокеанского региона возросли примерно вдвое – с 8,5 до 16,7 млрд долларов, существенно увеличилась и доля мирового кинорынка, приходящаяся на страны региона – с 26,9 процента до 40,6 процента (см. таблицу 2). Значительная часть прироста кассовых сборов на азиатском континенте пришлась на Китай.
Примечательно, что на фоне коронакризиса состоялось знаменательное событие – в 2020 г. китайский кинорынок впервые за десятилетия обошёл американский по показателю совокупных кассовых сборов и стал крупнейшим в мире. При этом оба рынка (как и кинотеатральные рынки по всему миру) пережили резкое падение: кассовые сборы в Китае составили 3,09 млрд долларов (почти на 70 процентов меньше, чем в прошлом году), а объём американского рынка составил 2,28 млрд долларов (на 80 процентов меньше, чем в 2019 г.)[3].
Кинорынки азиатских стран, как и прочие, затронула цифровая трансформация. К примеру, экспансия Netflix в Азиатско-Тихоокеанском регионе идёт темпами, опережающими среднемировые (см. таблицу 3). Культурная стратегия азиатских держав должна эффективно адаптироваться к новым реалиям, потому что позиции лидеров в зарождающейся цифровой киноиндустрии будет в дальнейшем всё тяжелее оспорить.
Таблица 3. Количество подписчиков Netflix в Азиатско-Тихоокеанском регионе (млн чел.), 2017–2020 гг.
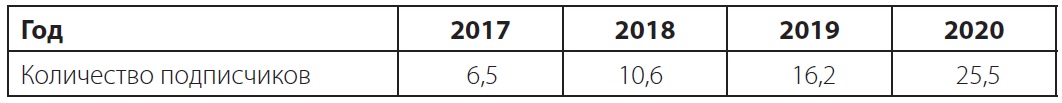
Источники: Statista. Netflix’s paid subscribers count by region 2020 // Statista, 2021. URL: https://www.statista.com/statistics/483112/netflix-subscribers; Statista. APAC: number of Netflix memberships 2017-2019 // Statista, 2020. URL: https://www.statista.com/statistics/1118182/apac-number-of-netflix-memberships.
Хотя в азиатских странах есть популярные стриминговые сервисы – например, китайский iQIYI или японский dTV – они пока мало делают для привлечения подписчиков за рубежом. В январе 2020 г. iQIYI заключил соглашение с малайзийским телевизионным оператором Astro, чтобы продвинуться на рынок Малайзии, что стало для сервиса первым мероприятием такого рода[4].
Основной объём азиатского кинорынка приходится на четыре страны – Китай, Японию, Южную Корею и Индию. Они генерируют более 35 процентов мировых кассовых сборов, и на рынках этих стран национальные производители крайне конкурентоспособны – в 2015 г. в Индии на собственные фильмы пришлось 85 процентов всех кассовых сборов, в Корее – 52,2 процента[5]. В 2018 г. в Китае национальные кинопроизводители заработали 62 процента от совокупного объёма рынка[6], а в Японии – 54,8 процента[7]. Ниже мы более детально рассмотрим перспективы четырёх азиатских флагманов индустрии кино, чтобы понять, смогут ли они конкурировать со странами Запада за лидерство в своей сфере в грядущие десятилетия.
Динамичные кинопроцессы имеют немалое значение в том числе и для политики. К середине XXI века на Азию может приходиться половина мирового ВВП, торговли и инвестиций[8], и многие страны континента стремятся конвертировать экономическое влияние в культурное и политическое. Производство кино и сериалов – часть «мягкой силы» таких разных стран, как Турция[9], ОАЭ[10], Китай[11], Индия[12] и других.
В академической литературе активные действия азиатских государств по наращиванию «мягкой силы» сравнивают с гонкой вооружений[13]. Правительства участвуют в этой гонке не только для укрепления положения собственных стран на международной арене, но и в качестве ответа на аналогичные действия других стран[14].
Как именно кинематограф и прочие культурные индустрии поддерживают влияние стран? С точки зрения исследователя медиа Дэвида Хезмондалша, культурные индустрии отличает «символическая креативность»: культурное производство требует особого труда и создаёт особого рода продукт, тексты или культурные артефакты, которые ценятся прежде всего за их смысл[15]. Потребление культурных артефактов подразумевает интерпретацию; они «влияют на нас», «обеспечивают нас связными представлениями о мире» и «помогают в создании нашей идентичности»[16]. Кинематограф, который называют «наиболее значимой культурной отраслью с точки зрения… символического влияния»[17], особенно важен в этом смысле.
Итак, культура воплощает и доносит до жителей других стран идеи и ценности того или иного общества (или, по выражению исследователя, «материализует мягкую силу»[18]). Экономический успех страны способствует расширению внутренних рынков культурных благ, что предположительно должно способствовать и экспансии её культурной продукции за рубеж, а следовательно – приращению культурного и политического влияния.
Так как произведения культуры имеют нематериальную, смысловую составляющую, количественно оценить приращение влияния, полученного благодаря культурным производствам, можно разве что весьма условно. Кроме того, как справедливо заметил экономист и философ Людвиг фон Мизес, усилия и достижения креативных инноваторов не могут быть учтены в анализе как средство производства: никто, кроме Данте и Бетховена, не сумел бы создать «Божественную комедию» или Девятую симфонию, вне зависимости от спроса или стимулов от государства на создание подобных произведений[19]. Таким образом, стратегия государства по продвижению национальной культуры не может иметь гарантированных результатов, она лишь обеспечивает условия для создания культурных артефактов и каналы для их распространения.
Каковы же перспективы киноиндустрии как ресурса мягкой силы азиатских стран? Размер внутреннего рынка – ключевой показатель потенциала национального кинопроизводства. Положительная динамика кассовых сборов означает, что киноиндустрия может повысить качество и разнообразие продукции за счёт совершенствования технологий и привлечения талантов. Кроме того, крупные национальные рынки кино имеют непосредственное значение с точки зрения «мягкой силы» ввиду того, что оказывают влияние на продукцию других стран, которые заинтересованы в освоении новых рынков. Это наблюдение относится в первую очередь к Китаю (по словам эксперта аналитического центра The Heritage Foundation, сценарии голливудских фильмов пишутся с оглядкой на китайский рынок[20]).
На зарубежных рынках, однако, азиатским кинематографистам тяжело конкурировать с традиционными лидерами, которыми являются США и – в меньшей степени – некоторые страны Европы (Англия, Италия, Франция). Американское, английское, французское кино – мощный бренд, формировавшийся десятилетиями. Особое положение занимает американская киноиндустрия: благодаря огромному притоку прибыли с внутреннего и внешних рынков, Голливуд может производить высокобюджетные блокбастеры, с которыми практически невозможно конкурировать. В 2019 г. в десятке лидеров мирового кинопроката все десять позиций заняли голливудские фильмы[21]. Доминированию США способствует и контроль над международной системой дистрибуции кино, которым обладают крупные игроки американской киноиндустрии (мэйджоры)[22].
Важным фактором обеспечения доступа на мировые рынки для американских кинокомпаний стали активные действия правительства Соединённых Штатов: экономическая помощь в рамках Плана Маршалла обуславливалась большими поставками американских фильмов на национальные рынки[23].
Имеются и определённые социокультурные факторы, которые способствуют лидерству Запада. Распространённость во всём мире языка и культуры западных держав, связанная в том числе с их положением метрополий в колониальную эпоху, создаёт выгодные условия в торговле культурными благами, включая фильмы и сериалы.
Успех использования культурных артефактов в качестве инструмента мягкой силы зависит от потребителей, их предпочтений и информированности[24]. Социокультурный контекст потребления кинофильмов, таким образом, определяет не только величину экспорта кинокартин, но и их эффективность в донесении смыслов. На формирование этого контекста также оказала влияние политическая воля ряда западных стран, что демонстрирует пример кинофестивалей.
В кинематографе важной составляющей «мягкой силы» является «институциональное признание… в форме наград и номинаций, участия в кинофестивалях» [25]. Ведущие мировые кинофестивали проводятся в США и Европе. Эти институции систематически отдают приоритет картинам, снятым в Соединённых Штатах, Великобритании, Франции и некоторых других западных странах, и тем самым «способствуют их культурному господству на международной арене»[26]. Наиболее престижные европейские кинофестивали – в Канне, Венеции и Берлине – с самого основания тесно связаны с политикой. Берлинский кинофестиваль, к примеру, был основан по инициативе офицера армии США и использовался как «американское орудие в холодной войне»[27].
Действия западных держав, стремившихся обеспечить себе доминирование в мировом кино, оказались весьма эффективными – они до сих пор приносят политические дивиденды.
В условиях доминирования культурных институций США и Европы, странам Азии тяжело полноценно конкурировать за лидерство в киноиндустрии.
Однако, по наблюдению Дэвида Хезмондалша, в наше время теряют значение «различные виды культурных авторитетов»[28]. Этот факт ярко иллюстрирует падение интереса к церемонии вручения премии «Оскар»: если в 2000 г. её смотрело 46,33 млн человек, то в 2020 г. – только 23,6 млн (самый низкий показатель за всю историю)[29]. В том же 2020 г. были представлены новые стандарты, которым должны соответствовать произведения, представленные в категории «Лучший фильм»: призванные «отражать разнообразие аудитории кинозрителей», они требуют участия в создании картин ранее «недостаточно представленных» этнических и расовых групп, сексуальных меньшинств и так далее[30]. Падение интереса к важнейшей американской кинопремии и снижение авторитета западных «культурных арбитров» в целом – процессы, обусловленные комплексом причин, требующих отдельного рассмотрения. Тем не менее можно предположить, что смещение акцента с оценки художественных достижений на продвижение идеологий способствует потере интереса к пока что главной мировой кинопремии.
«Культурные арбитры» имеют авторитет, пока люди верят, что они отдают должное лучшим произведениям – лучшим с точки зрения эстетических качеств, или, попросту говоря, красоты. Английский философ Роджер Скрутон отмечал, что «игнорирование красоты» влечёт за собой социальные, экономические и экологические издержки; культурный объект, созданный ради конкретной задачи в ущерб эстетической ценности, становится бесполезен, когда в обществе меняется повестка и данная задача перестаёт быть актуальной[31]. Культура живёт своей логикой, отличной от политической необходимости: это логика традиции, связи с прошлым и передачи в будущее. Чрезмерное увлечение политикой идентичности порождает ощущение, что «Оскар» всё больше «игнорирует красоту» и потому может утратить вес. Это относится и к азиатским державам, реализующим стратегии наращивания «мягкой силы»: поддержка и продвижение национальных производителей культуры не должны вести к инструментальному использованию культурного наследия, иначе такие действия вызовут у потенциальной аудитории недоверие и не принесут ожидаемого результата.
Флагманы из Азии
Теперь, когда мы коротко очертили глобальный контекст, в котором происходит соревнование национальных отраслей, рассмотрим перспективы четырёх крупнейших производителей Азии.
Таблица 4. Кассовые сборы (млрд долларов) и доля национального рынка в совокупном объёме мирового рынка (%) в 2014 г. и 2019 г. в Китае, Индии, Южной Корее и Японии

Источники: MPAA, 2015; MPAA. 2019 THEME Report // MPAA, 2020. URL: https://www.motionpictures.org/wp-content/uploads/2020/03/MPA-THEME-2019.pdf.
Индия. Традиционно самобытная индийская киноиндустрия считается одной из крупнейших в мире, но в последние годы она столкнулась с существенными вызовами. За 2005–2017 гг. посещаемость кинотеатров в стране упала почти вдвое – с 3,77 млрд проданных за год билетов до 1,98 миллиардов[32]. На этом фоне снижается удельный вес индийского кино на мировом рынке (см. таблицу 4).
В условиях падения спроса на внутреннем рынке важнейшей задачей становится наращивание экспорта. Огромный потенциал представляет китайский рынок: здесь проявляют немалый интерес к индийскому кино. Так, в 2017 г. индийские фильмы «Дангал» (режиссёр Нитеш Тивари) и «Тайная суперзвезда» (режиссёр Адваит Чандан) заработали в китайском прокате 200 млн и 118 млн долларов соответственно – значительно больше, чем на внутреннем рынке[33].
Что касается цифровой трансформации киноиндустрии, то именно сотрудничество с Китаем может быть для Индии более перспективным, чем ориентация на американские стриминговые сервисы. Сотрудничество с индийскими профессионалами для Netflix или Amazon Prime Video привлекательно в первую очередь как возможность увеличения абонентской базы в самой Индии и среди индийской диаспоры в других странах, тогда как совместный китайско-индийский сервис мог бы предоставить специалистам отрасли из этих двух стран огромный объединённый рынок. Однако напряжённость в политических отношениях между Пекином и Дели ограничивает возможности взаимовыгодного сотрудничества в данной сфере.
Япония и Южная Корея. С точки зрения тенденций в киноиндустрии последних лет и стратегии цифровой трансформации кинематографа эти две страны занимают сходное положение. Японское кино в XXI веке переживает подъём: в 2014–2019 гг. кинорынок рос темпами выше среднемировых (см. таблицу 4).
Хотя удельный вес южнокорейского кинематографа на мировом рынке несколько снизился в 2014–2019 гг. (см. таблицу 4), в долгосрочной перспективе национальный кинорынок демонстрирует стабильный рост: за 2005–2017 гг. посещаемость кинотеатров увеличилась более чем на 50 процентов[34]. Японские и южнокорейские производители в последние годы добились успехов: такие фильмы, как «Магазинные воришки» (режиссёр Корээда Хирокадзу) и «Паразиты» (режиссёр Пон Чжун Хо), получили высокое признание на международных кинофестивалях и премии «Оскар».
Обе страны вовлечены в активное сотрудничество со стриминговыми медиа, которые играют ведущую роль в формировании новой, цифровой индустрии, – в частности, с Netflix. В Японии Netflix в основном инвестирует в создание анимации, где сервис заключил долгосрочные договоры о сотрудничестве с рядом студий[35]. В 2015–2020 гг. Netflix инвестировал в производство корейских фильмов и сериалов около 700 млн долларов; в 2021 г. анонсировал, что намерен расширить присутствие в стране, и с этой целью создаст в Южной Корее две собственные производственные студии[36]. Кооперация корейских профессионалов с Netflix соответствует общей стратегии развития корейских «культурных отраслей», в рамках которой для продвижения корейской популярной культуры на мировые рынки активно используются цифровые платформы и социальные сети[37].
В ближайшие годы основным трендом в японской и корейской киноотрасли будет дальнейшее наращивание связей со стриминговыми сервисами. Таким образом, Япония и Корея скорее займут нишу в американоцентричной онлайн-киноиндустрии, чем предложат собственные альтернативы. На наш взгляд, размещение японского и корейского контента на таких платформах, как Netflix, имеет ограниченное значение в плане продвижения национальной «мягкой силы», так как в конечном счёте именно владельцы платформ определяют содержание контента и контролируют его донесение до потребителей. Разумеется, стратегия этих стран в сфере кино будет зависеть и от общего состояния их экономических и политических отношений с США и Китаем.
Китай. Китай является наиболее вероятным претендентом на то, чтобы оспорить гегемонию Соединённых Штатов в индустрии кино. В 2020 г. на фоне коронакризиса китайский кинорынок стал крупнейшим в мире и, вероятно, сохранит лидирующую позицию и в дальнейшем. Ключевым фактором роста китайского рынка стало повышение спроса благодаря увеличению доходов населения. Если в 2005 г. в стране было продано 157,2 млн билетов в кино, то в 2017 г. – уже более 1,62 миллиардов[38]. В отличие от перенасыщенного американского рынка, китайский рынок всё ещё обладает потенциалом роста.
Гораздо сложнее оспорить позиции США как ведущего мирового экспортёра фильмов и сериалов. Поскольку успех американской киноиндустрии обусловлен не только предпочтениями потребителей по всему миру, но и глобальной системой дистрибуции и маркетинга, Китай сделал ставку на совместное производство и инвестиции в американские компании. По мнению американской исследовательницы медиа Айнне Кокас, основной мотивацией для производства китайско-американских фильмов («Великая стена», «Кунг-фу панда») является стремление голливудских компаний проникнуть на защищённый государственным протекционизмом китайский рынок и наращивание Пекином «глобального культурного влияния»[39]. Благодаря огромному объёму внутреннего рынка китайские кинокомпании могут и самостоятельно производить высокобюджетные блокбастеры для продвижения за рубеж. Наибольший потенциал для китайского кино представляют динамичные рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И главными задачами здесь являются создание системы дистрибуции и инфраструктуры для кинопоказа (что может быть реализовано, например, в рамках проекта «Пояс и путь») и проведение маркетинговых мероприятий.
Из-за наличия масштабных внутренних рынков цифровых медиа и государственного контроля над использованием интернета Китай, возможно, является единственной державой, способной предложить альтернативу западным стриминговым сервисам.
Опираясь на этот потенциал, КНР способна успешно продвигать свои цифровые продукты за рубеж, что ярко демонстрирует мировой успех приложения TikTok.
Наконец, составляющая культурного влияния, в которой китайский кинематограф существенно отстаёт от стран Запада, – признание со стороны международных культурных институций. Императивом для Китая является не просто получение наград на американских и европейских церемониях, а создание и продвижение собственных кинофестивалей и премий. И в этом уже достигнуты определённые успехи. Так, базирующаяся в Гонконге Азиатская кинопремия (Asian Film Awards) отдаёт предпочтение китайским фильмам[40]. Шанхайский международный кинофестиваль (Shanghai International Film Festival) является первым конкурсным (competitive) китайским кинофестивалем, получившим аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (в 2020 г. в мире насчитывалось 15 таких фестивалей[41]). Время покажет, смогут ли эти институции завоевать авторитет в глазах публики не только в Азии, но и на других континентах.
--
СНОСКИ
[1] De Vany A. Hollywood economics: How extreme uncertainty shapes the film industry // Routledge. 2003.
[2] Паксютов Г.Д. Бизнес-модель компании Netflix: экономическое и социокультурное значение // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2020. №3. С. 148–149.
[3] Yiu E. China’s Box Office Expands to the World’s Largest // South China Morning Post. 2021. URL: https://www.scmp.com/business/companies/article/3116128/chinas-box-office-expands-worlds-largest-defying-year-disastrous
[4] Ying, W. Chinese video streaming site iQIYI makes first overseas move // Nikkei Asia. 2020. URL: https://asia.nikkei.com/Business/Startups/Chinese-video-streaming-site-iQiyi-makes-first-overseas-move
[5] UIS Statistics. Percentage of GBO of all films feature exhibited that are national // UIS Statistics. URL: http://data.uis.unesco.org/?ReportId=5538
[6] Tan J. Another Record Year for China’s Box Office, But Growth Slows // Caixin Global. 2019. URL: https://www.caixinglobal.com/2019-01-02/another-record-year-for-chinas-box-office-101365697.html
[7] MPAJ. Statistics of Film Industry in Japan // MPAJ. URL: http://eiren.org/statistics_e/index.html
[8] Asian Development Bank. Asia 2050: Realizing the Asian Century // Asian Development Bank. 2011. P. 13.
[9] Anaz N. and Ozcan, C. C. Geography of Turkish soap operas: Tourism, soft power, and alternative narratives. In: Egresi, I. (ed.). Alternative Tourism in Turkey // Springer. 2016.
[10] Saberi D., Paris C. M. and Marochi B. Soft Power and Place Branding in the United Arab Emirates: Examples of the Tourism and Film Industries // International Journal of Diplomacy and Economy. Vol. 4. №1. 2018. PP. 44-58.
[11] Su W. New Strategies of China’s Film Industry as Soft Power // Global Media and Communication. Vol. 6. №3. 2010. PP. 317-322.
[12] Thussu D. K. The Soft Power of Popular Cinema – the Case of India // Journal of Political Power.Vol. 9. №3. 2016. PP. 415-429.
[13] Hall I. and Smith F. The Struggle for Soft Power in Asia: Public Diplomacy and Regional Competition // Asian Security. Vol. 9. №1. 2013. P. 1.
[14] Там же, pp. 10-11.
[15] Хезмондалш Д. Культурные индустрии // М.: Издательский дом ВШЭ, 2018. С. 18, 28.
[16] Там же, с. 16, 28.
[17] Vlassis A. Soft Power, Global Governance of Cultural Industries and Rising Powers: The Case of China // International Journal of Cultural Policy. Vol. 22. №4. 2016. P. 483.
[18] Su W. New Strategies of China’s Film Industry as Soft Power. P. 317.
[19] von Mises L. Human Action: a Treatise on Economics // Fox & Wilkes. 1963. PP. 139-140.
[20] The Heritage Foundation. How China is Taking Control of Hollywood // The Heritage Foundation. URL: https://www.heritage.org/asia/heritage-explains/how-china-taking-control-hollywood
[21] The Numbers. Top 2019 Movies at the Worldwide Box Office // The Numbers. URL: https://www.the-numbers.com/box-office-records/worldwide/all-movies/cumulative/released-in-2019
[22] Scott A. Hollywood and the World: The Geography of Motion-picture Distribution and Marketing // Review of International Political Economy. Vol. 11. №1. 2004. P. 53.
[23] Там же, p. 55.
[24] Rawnsley G. Approaches to Soft Power and Public Diplomacy in Taiwan // Journal of International Communication. Vol. 18. №2. 2012. PP. 129-130.
[25] Паксютов Г.Д. «Мягкая сила» и «культурный капитал» наций: пример киноиндустрии // Мировая экономика и международные отношения. Т. 64. №11. 2020. С. 108.
[26] Там же, с. 109.
[27] de Valck M. Film Festivals: From European Geopolitics to Global Cinephilia // Amsterdam University Press. 2007. PP. 47-48.
[28] Хезмондалш Д. Культурные индустрии. С. 15.
[29] Statista. Number of viewers of the Academy Awards ceremonies from 2000 to 2020 // Statista. 2021. URL: https://www.statista.com/statistics/253743/academy-awards—number-of-viewers/
[30] AMPAS. Academy Establishes Representation and Inclusion Standards for Oscars Eligibility // AMPAS. 2020. URL: https://www.oscars.org/news/academy-establishes-representation-and-inclusion-standards-oscarsr-eligibility
[31] Scruton R. Why Beauty Matters // The Monist. Vol. 101. №1. 2018. PP. 13, 16.
[32] UIS Statistics. Total number of admissions of all feature films exhibited // UIS Statistics. URL: http://data.uis.unesco.org/Index.aspx?DataSetCode=CUL_DS
[33] Vohra P. Indian Movies Attract Millions around the World // CNBC. 2018. URL: https://www.cnbc.com/2018/08/03/indian-films-attract-millions-globally-and-it-appears-to-be-growing.html
[34] UIS Statistics. Total number of admissions for all feature films exhibited.
[35] Woo G. Netflix Announces Plans for Many New Original Anime Series // Screen Rant. 2019. URL: https://screenrant.com/netflix-original-anime-series-future/
[36] Brzeski P. Netflix Expands South Korean Footprint, Leasing Two Production Facilities // Hollywood Reporter. 2021. URL: https://www.hollywoodreporter.com/news/netflix-expands-south-korean-footprint-leasing-two-production-facilities
[37] Parc J., Kawashima N. Wrestling with or Embracing Digitalization in the Music Industry: The Contrasting Business Strategies of J-pop and K-pop // Kritika Kultura. №30. 2018. P. 29.
[38] UIS Statistics. Total number of admissions for all feature films exhibited.
[39] Kokas A. Hollywood made in China // University of California Press. 2017. P. 65.
[40] Frater P. Asian Film Awards Honor Best of the Region’s Filmmaking // Variety, 2016. URL: https://variety.com/2016/film/spotlight/asian-film-awards-honor-best-of-the-regions-filmmaking-1201728145.
[41] FIAPF. Competitive Feature Film Festivals // FIAPF. URL: http://www.fiapf.org/intfilmfestivals_sites.asp.

УКРАИНСКИЙ УЧАСТОК АМЕРИКАНО-КИТАЙСКОГО ФРОНТА
МЕЖДУНАРОДНАЯ БОРЬБА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, КОМПАНИЮ «МОТОР СИЧ»
Холодное противостояние вокруг запорожского авиадвигателестроительного предприятия, длящееся около пяти лет, в январе 2021 г. перешло в горячую фазу. Начавшаяся как банальный «наезд» Службы безопасности Украины (СБУ) на «красного директора» ПАО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева для дополнительного изъятия средств, который сам Богуслаев в апреле 2018 г. назвал «частью плана по рейдерскому захвату предприятия», история китайских инвестиций в экономику Украины превратилась в громкий международный скандал на высшем уровне с судебными исками, санкциями против собственных и иностранных миллиардеров и существенными репутационными потерями. 24 марта 2021 г. президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил решение СНБО о возвращении предприятия в госсобственность.
Поиск виноватых
После известных событий 2014 г., сопровождавшихся затяжным политическим и экономическим кризисом, ситуация на ПАО «Мотор Сич», которое является лидером оборонно-промышленной и аэрокосмической сферы Украины, резко усложнилась. Основной заказчик – предприятия Российской Федерации, обеспечивающие до 70 процентов доходов «Мотор Сич», оказались под санкциями, производственная кооперация была нарушена, а сам владелец Вячеслав Богуслаев попал под огонь критики патриотически настроенных граждан Украины и пристальное внимание силовых структур за «сепаратизм, финансирование терроризма и связи с державой-агрессором».
Как гласит принятая до недавнего времени украинская версия, после событий зимы 2014 г. бессменный президент и обладатель контрольного пакета акций ПАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, встав на путь измены Родине и руководствуясь корыстными побуждениями, решил нанести Украине, а также США непоправимый ущерб, продав подконтрольное ему предприятие и критические технологии производства новейших авиационных и ракетных двигателей рвущемуся к мировому господству Китаю[1].
Партнёром в этом непростом деле он избрал находившегося в списке Forbes-2018 самых богатых китайцев (и по совместительству – племянника одного из высших чиновников КНР), владельца группы компаний Xinwei Technology Group и Skyrizon,Ван Цзина (Wang Jing), уже не раз отметившегося масштабными высокотехнологическими и эксцентричными проектами, в том числе и на Украине. Его именуют китайским Маском. В 2014 г. Xinwei Group начала предоставлять украинским пользователям услуги мобильной широкополосной мультимедийной связи, а до этого прорабатывала проект строительства Керченского моста и углубления бухты в Донузлаве на сумму около 10 млрд долларов[2].
Сама личность Цзина довольна интересна. Он родился в 1972 г. и называет себя «обычным бизнесменом». О его прошлом известно немного. Он изучал традиционную китайскую медицину в Университете Цзянси, но не окончил его. Спустя некоторое время он создал в Пекине свою первую компанию – Dingfu Investment Consulting. Затем открыл компанию Yingxi Construction and Engineering, которая занималась добычей золота и драгоценных камней в Камбодже.
Но международная деятельность с довольно рискованными активами заставляет полагать, что едва ли обошлось без связи с китайскими властями. Так, в 2013 г. Цзин подписал контракт с правительством Никарагуа на строительство конкурента Панамскому каналу стоимостью 40 млрд долларов. Под него даже была создана компания Hong Kong Nicaragua Development Corporation (HKND). Проект в итоге был положен под сукно, но Цзин установил тесные связи с президентом страны Даниелем Ортегой и его сыном Лауреано.
На Западе полагают, что Цзин поддерживает тесные связи с китайскими властями как минимум с 2010-х гг., когда он приобрёл телекоммуникационную компанию Beijing Xinwei Technology Group, являвшуюся «дочкой» государственной компании Datang Telecom Group. И под руководством Цзина новое приобретение стало быстро дрейфовать в сторону оборонного бизнеса[3]. Его компания начала взаимодействовать с Университетом Циньхуа, который ведёт разработку спутников для НОАК, также она подписала соглашение о сотрудничестве с китайским экспортёром спутников – корпорацией China Great Wall Industry Corp. Компанию Цзина посещали председатели КНР Си Цзиньпин и Цзян Цзэминь, а также премьер-министр Ли Кэцян.
Список был бы, конечно, неполным без «руки Кремля», в качестве которой немедленно обнаружился российский партнёр Ван Цзина – бывший сотрудник ФСБ Андрей Смирнов – президент и председатель Совета директоров ООО «НИРИТ-СИНВЭЙ Телеком Технолоджи», учредивший эту фирму незадолго до событий 2014 г. при содействии, как считают в Киеве, тогдашнего вице-премьера России Владислава Суркова[4]. Вскоре после «окончательной победы революции достоинства» состоялся «преступный сговор» указанных лиц, что впоследствии было квалифицировано СБУ как «возможная подготовка диверсии и государственная измена» и позволило через суд заблокировать весь реестр акционеров.
Без появления «угрозы национальной безопасности Украины» юридических оснований для блокирования сделки не было. В самом факте продажи акций частной компании иностранным инвесторам состава преступления нет. Тем более что акции «Мотор Сич», которые контролировались Богуслаевым, были разделены на пакеты объёмом менее 10 процентов и реализованы в 2016 г. разным офшорным компаниям и шести частным лицам, подконтрольным Ван Цзину, для чего разрешения Антимонопольного комитета Украины не требовалось.
Сам Богуслаев утверждал, что продал предприятие всего за 250 млн долларов[5]. Через пять лет после продажи ПАО «Мотор Сич» по-прежнему находится в его оперативном управлении и продолжает стабильно работать, в том числе и на экспорт в Китай, принося ежедневно 1–2 млн долларов[6]. Попытку покупателей и недавних партнёров провести собрание акционеров (оно не созывалось с 2017 г.), назначенную на 31 января 2021 г., Богуслаев назвал «рейдерским захватом».
В свою очередь, китайские инвесторы, купившие уже около 80 процентов акций, утверждают, что вложили в проект более 1млрд долларов., но так и не вошли в структуру управления[7]. Производство авиадвигателей на заводе, построенном в рамках сотрудничества с Украиной в г. Чунцин (провинция Сычуань) в промышленном парке Chongqing Skyrizon Aero-Propulsion, «временно заморожено». В декабре 2020 г. китайский инвестор и новый украинский партнёр Александр Ярославский инициировали арбитраж против государства Украина, экспроприировавшего их инвестиции и нарушившего права, предусмотренные межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций между Украиной и Китаем от октября 1992 года. Интересы истца представляют международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird, связанные с окружением президента США Джозефа Байдена. Заявленная сумма претензий – 3,5 млрд долларов – была увеличена ещё на 100 млн, на сумму полученного «Мотор Сич» от китайцев в апреле 2016 г. льготного кредита (100 млн долларов под 0,3 процента годовых на десять лет)[8].
31 января 2021 г., окончательно потерявшие терпение китайские акционеры вместе со своим новым украинским партнёром – группой DCH Александра Ярославского, намеревались провести первое с 2017 г. собрание акционеров «Мотор Сич», чтобы сменить менеджмент и внести изменения в устав. Оно было сорвано СБУ, которая провела следственные мероприятия по уголовным производствам о противоправных действиях представителей компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанных с установлением контроля над крупнейшим производителем авиационных двигателей и газотурбинных установок «Мотор Сич», и отметила «уничтожение производственных мощностей акционерного общества, которое имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение»[9].
Буквально накануне, 28 января 2021 г., президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о персональных санкциях против китайских инвесторов «Мотор Сич», которые оказались в одном списке с убитым ещё в 2017 г. президентом Йемена Али Абдаллой Салехом, «кумом Путина» Виктором Медведчуком и его супругой телеведущей Оксаной Марченко. При этом Медведчука, который с 2014 г. находится под американскими санкциями «за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины», украинские власти обвинили в финансировании терроризма, как ранее Богуслаева, который ни под какие санкции не попал. В ответ Ван Цзин уже открыто обвинил окружение Богуслаева в «измене, превышении доверия и полномочий», а действия украинских властей назвал «варварским грабежом»[10].
Таким образом, в первоначальную версию перестал вписываться «сепаратист» Богуслаев, который, напротив, как оказалось, вносил неоценимый вклад в повышение национальной безопасности и обороноспособности Украины, модернизировав более 100 вертолётов для украинских силовиков и обеспечив их эксплуатацию, заместив импортные поставки из «державы-агрессора».
Интересы «государственной безопасности» на этот раз совпали с интересами экс-владельца «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Именно аресты и неопределённая ситуация помогли Богуслаеву получить деньги с китайцев, но не отдавать завод. Благодаря аресту акций бывший владелец сохраняет контроль над финансовыми потоками компании. Ей управляют не новые акционеры из КНР, а верный менеджмент Богуслаева, назначенный им ещё в 2015 году.
На возможные причины этой борьбы за предприятие могут пролить свет финансовые показатели ПАО «Мотор Сич», приведённые в таблице 1.
Таблица 1. Выручка ПАО «Мотор Сич» в период 2013–2020 годов
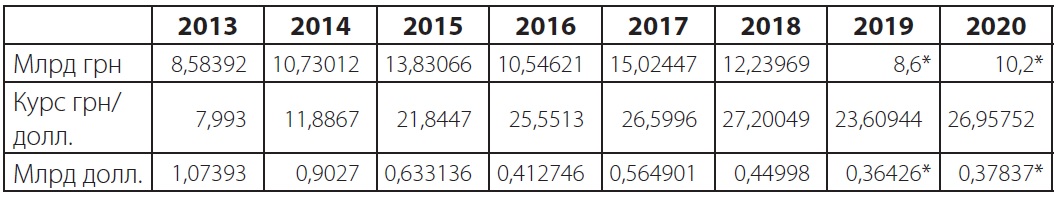
Источник: данные ПАО «Мотор Сич», оценка авторов. * Оценка
Хроника конфликта
25 февраля 2015 г. между ПАО «Мотор Сич» в лице Богуслаева и Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co в лице Ван Цзина был подписан Меморандум о сотрудничестве, включавший стратегическое партнёрство в подготовке кадров, исследованиях, разработках и производстве, китайские инвестиции в развитие авиадвигателестроительного производства на Украине и создание в Китае комплексов по производству и ремонту авиадвигателей ПАО «Мотор Сич». Объёмы заявленных инвестиций – около 20 млрд юаней (3 млрд долларов).
Но уже 16 сентября президент Украины Пётр Порошенко своим указом ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 сентября 2015 г. о применении санкций в отношении Российской Федерации, включая основных потребителей продукции ПАО «Мотор Сич»: ОАО «Вертолёты России», ОАО «Роствертол», ПАО «Казанский вертолётный завод», АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие», АО «Вертолётная сервисная компания», АО «Улан-Удэнский авиационный завод», ОАО «Арсеньевская авиационная компания “Прогресс” им. Н.И.Сазыкина», ООО «Борисфен-Авиа» и их руководителей.
Несмотря на это, в том же 2015 г. российским предприятиям было отгружено 540 новых вертолётных двигателей типа ТВ3-117/ВК-2500 производства ПАО «Мотор Сич» на сумму 327,5 млн долларов[11]. Стабильно снижающийся экспорт зафиксирован и в последующем, а в 2018 г. прямые поставки были полностью прекращены, зато уже с 2017 г. начались отгрузки посредникам в Латвию, Китай и Гонконг, составившие около 300 двигателей[12]. При этом динамика снижения их экспорта прекрасно коррелирует с завершением крупных контрактов холдинга «Вертолёты России» на поставки вертолётов семейства Ми-8/17, Ми-28, Ми-35, Ка-52 с этими силовыми установками. Продолжался и процесс импортозамещения: по итогам 2019 г. АО «ОДК-Климов» Госкорпорации «Ростех» заявлено о выпуске более 230 двигателей ВК-2500, тогда как в 2015 г. было сделано всего десять штук[13].
Другим лидером стал Китай, две госкомпании которого, AVlC International Holding и China National Aero-Technology Import and Export Corporation (CATIC), только в 2018 г. приобрели 72 новых авиадвигателя АИ-25ТЛК и АИ-322 для боевых самолётов на сумму 123,88 млн долларов, обеспечив 35 процентов от общей выручки «Мотор Сич»[14]. Последние известные экспортные поставки 16 АИ-322 пришлись на январь-февраль 2021 года. В январе 2021 г. объявлено о подписании ПАО «Мотор Сич» и AVIC International контракта на 400 двигателей АИ-322, используемых на китайских учебно-боевых самолётах L-15 на общую сумму около 800 млн долларов[15]. Тем не менее доходы запорожского предприятия по сравнению с 2013 г. сократились почти в три раза, прежде всего – из-за спада продаж на российском рынке.
С 2015 г. между украинскими и китайскими партнёрами был заключён ряд договоров на оказание услуг по разработке проектной документации на создание авиационного комплекса по разработке, производству и ремонту авиационных двигателей четвёртого поколения в г. Чунцин. Программа производства – серийный выпуск авиационных двигателей – 1000 единиц в год; капитальный ремонт авиационных двигателей – 250 единиц в год; капитальный ремонт энергетических наземных установок – 50 единиц в год. Для строительства комплекса планировалась площадка площадью около 5 гектаров. Проектные решения по возведению зданий разрабатывались на объекты первой очереди строительства двигателестроительного завода. Проектная документация готовилась в 2015–2018 годы.
Следует отметить, что постановлением кабинета министров Украины №83 от 4 апреля 2015 г. ПАО «Мотор Сич» было исключено из списка «стратегических предприятий».
В начале 2017 г. вице-премьер Украины, бывший комендант Евромайдана Степан Кубив официально поддержал совместный украино-китайский проект строительства завода в г. Чунцин и привлечение 250 млн долларов китайских инвестиций, которые должны пойти на модернизацию производственных и проектных мощностей «Мотор Сич» в Запорожье. Завод планировали ввести в эксплуатацию в 2020 году.
В 2018 г. первый завод в промышленном парке Chongqing Skyrizon Aero-Propulsion в новом районе Чунцина Лянцзян приступил к опытной сборке двигателей ТВЗ-117ВМА-СБМ1В (по сути – украинская версия российского вертолётного двигателя ВК-2500, устанавливаемого на большинстве китайских вертолётов семейства Ми-17 и Ка-27/32) из импортных деталей и комплектующих, постепенно осваивая их производство на месте.
О планах строительства второго аналогичного завода ПАО «Мотор Сич» и Skyrizon Aviation заявлено на 12-й Международной авиационно-космической выставке Airshow China 2018. Предприятие планировалось расположить около населённого пункта Лянцзян автономной провинции Гуанси. Намечалось создание производственного комплекса, а также научно-исследовательских и управленческих подразделений. На сегодняшний день оба проекта временно заморожены. Причины украинцами не назывались – в связи с тем, что это находилось в компетенции китайского инвестора.
Законно приобретя акции «Мотор Сич», китайские инвесторы, Skyrizon Aircraft Holdings Limited и «Мотор Сич» в июне 2017 г. подали заявку на их концентрацию в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), чтобы выполнить официальные процедуры в соответствии с украинским законодательством. Именно тогда официально стало известно, что гражданин Китая через подконтрольные структуры уже владеет 56,0009 процента акций ПАО «Мотор Сич». Продавцом оказался гражданин Украины, который владел напрямую 15,83 процента акций, а также 17,3113 процента акций через Business House Helena и 15,7 процента через ООО «Гарант Инвест», ООО «Гарант Альфа», СК «Мотор Гарант» и ЗАО «Торговый дом “Елена”». Супругу Богуслаева зовут Елена Серафимовна.
Вскоре последовал внезапный обыск, проведённый СБУ на «Мотор Сич» в рамках возбуждённого в июле 2017 г. уголовного дела №22017000000000272 по расследованию «подрывной деятельности (диверсии) неизвестных лиц, бывших и действующих руководителей и бенефициаров компании “Мотор Сич”», орудующих в сговоре и имеющих целью ослабить государство Украина, уничтожив «Мотор Сич» как субъект важного коммерческого и безопасного характера (единственное предприятие на Украине по производству двигателей гражданской и военной авиации), заключивших ряд соглашений о продаже контрольного пакета акций «Мотор Сич» шести иностранным компаниям и одному китайскому гражданину, которые намерены передать активы и производственные мощности «Мотор Сич» за границу (Китайская Народная Республика), что в конечном счёте приведёт к ликвидации и уничтожению «Мотор Сич»[16].
В сентябре 2017 г. в рамках указанного уголовного производства Шевченковский районный суд в Киеве вынес запрет на отчуждение акций «Мотор Сич». В апреле 2018 г. был наложен судебный запрет депозитариям вносить любые изменения в отношении акций «Мотор Сич» в системе, а также выдавать реестр акционеров. В дальнейшем суды различных инстанций регулярно удовлетворяли ходатайства прокуратуры по продлению ареста акций «Мотор Сич». Более того, Генеральная прокуратура пошла ещё дальше, добавив обвинение в государственной измене в перечень преступлений, которые расследуются в рамках указанного уголовного производства.
Запрет выдавать реестр акционеров полностью заблокировал возможность созыва и проведения общего собрания акционеров, что привело к невозможности получения дивидендов инвесторами. Неоднократные обращения самих иностранных инвесторов, их представителей и юридических лиц – держателей акций в украинские суды для отмены ареста активов были полностью отклонены.
Но выход из тупика вскоре «подсказали». Инвесторам от имени государства Украина предложили начать сотрудничать по совместному управлению «Мотор Сич», которое станет возможным после того, как они безвозмездно перераспределят 25 процентов уже имеющихся у них акций в пользу государственного концерна (ГК) «Укроборопром». В результате в апреле 2018 г. инвесторы и «Укроборопром», действовавший от имени Украины, заключили ряд соглашений, направленных на выделение 25,00002 процента акций «Мотор Сич» госконцерну, договор о сотрудничестве между сторонами, соглашение о финансировании специального назначения и так далее. Эти документы определяли ряд действий, которые правительство Украины должно было выполнить в 2019 г., чтобы создать функциональные условия для сторон по совместному владению «Мотор Сич», получить разрешения АМКУ и отменить арест активов.
Если бы Украина выполнила обязательства, инвесторам пришлось бы распорядиться 25 процентами акций в пользу ГК «Укроборопром», а одна из компаний инвесторов была бы вынуждена заключить специальное соглашение о финансировании, которое требовало внести 100 млн долларов в пользу Украины. Основанием для этого стало секретное решение СНБО о неотложных мерах по защите национальных интересов в авиадвигателестроении, введённое в действие указом президента Петра Порошенко от 6 марта 2018 года. В бюджет Украины на 2019 г. была даже внесена доходная статья – пополнение уставного капитала «Укроборонпрома» на 2,82 млрд грн, что соответствовало 100 млн долларов.
Спустя год, 6 июня 2019 г., Skyrizon Aircraft Holdings Limited, «Мотор Сич» и Государственный концерн «Укроборонпром» обратились в АМКУ с несколькими заявлениями на предоставление разрешения на слияние (концентрацию). 12 июня того же года в наблюдательный совет «Укроборонпрома» указом нового президента Владимира Зеленского был введён бывший в 2014–2016 гг. министром экономического развития и торговли Украины гражданин Литвы Айварас Абромавичус, вскоре ставший его председателем, а в августе сменивший на должности генерального директора концерна Павла Букина, который, выполняя указ президента, уже завершил подготовительную работу по разрешению конфликта с китайским инвестором.
В свою очередь, АМКУ распоряжением от 9 июля 2019 г. начал углубленное расследование соответствующих заявлений, искусственно задерживая вынесение решений о предоставлении разрешения на слияние для инвесторов.
Раскрыть причину нового внезапного прекращения действия и утраты юридической силы для сторон соглашения с «Укроборонпромом» может стать обнародованный 2 февраля 2021 г. факт открытия Национальной комиссией Украины по ценным бумагам и фондовому рынку дела в отношении депозитарного учреждения ООО «Драгон Капитал», на счетах которого в ценных бумагах размещены акции ПАО «Мотор Сич». Причиной названы нарушения требований «Положения о проведении депозитарной деятельности» в части осуществления информационного и организационного обеспечения, а также нарушение требований статьи 35 закона Украины «Об акционерных обществах». Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний на Украине, которая работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг. Её конечным бенефициаром является чех Томаш Фиала, с которым Абромавичуса связывают давние деловые связи.
Таким образом, логичным представляется наличие устойчивого коррупционного фактора, ведь интерес к получению доли предприятия в обмен на государственную поддержку и финансирование проявлен на самом верху, причём довольно давно. Известно заявление получившего политическое убежище в Лондоне бывшего гендиректора госкомпании «Укрспецэкспорт» майора СБУ Сергея Бондарчука о том, что ещё в 2005 г. долю ПАО «Мотор Сич» пытался получить тогдашний секретарь СНБО Пётр Порошенко.
Ещё через год китайские инвесторы решили сосредоточить усилия на другом направлении и нашли нового, более надёжного, партнёра на Украине – группу DCH украинского миллиардера Александра Ярославского. 4 августа 2020 г. DCH, аффилированная с ней ООО «МС-4», Beijing Xinwei Technology Group и связанная с ней компания Beijing Skyrizon договорились о будущем партнёрстве по совместному управлению «Мотор Сич» и обратились в АМКУ для получения разрешения на слияние (концентрацию).
В ответ последовал целый ряд заявлений, исходящих из высших политических органов Украины: заявление офиса президента от 6 августа 2020 г., заявление премьер-министра от 6 августа 2020 г. и заявление СНБО, которыми фактически оспаривалась легитимность активов китайских инвесторов, а 20 августа 2020 г. АМКУ вернул заявку без удовлетворения.
В сентябре 2020 г. китайские инвесторы направили министерству юстиции Украины сообщение об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute). Они указывают, что действия украинской власти по блокированию доступа новых акционеров к управлению предприятием – экспроприация их инвестиции, а также нарушение других их прав, гарантированных межправительственным украино-китайским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1992 года.
На протяжении нескольких месяцев юристы акционеров «Мотор Сич» безуспешно добиваются в украинских судах снятия четырёх арестов, которые заблокировали смену акционеров и оставили предприятие под фактическим контролем бывшего акционера Вячеслава Богуслаева и его топ-менеджеров.
В итоге китайские инвесторы официально потребовали от органов власти Украины, включая АМКУ, воздержаться от любой незаконной деятельности и выдвинули обвинение в нарушении соглашения между правительством Китайской Народной Республики и правительством Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1992 г., злоупотреблении властью, незаконных действиях и вредоносном давлении на стандартные рыночные процедуры и ведение хозяйственной деятельности предприятий. Было заявлено и о понесённых убытках:
дивиденды по акциям, которые «Мотор Сич» должно было распределить в прошлые годы, когда действовал арест активов;
потерянная в результате экспроприации стоимость акций;
ущерб от невозможности провести запланированную реструктуризацию из-за искусственной задержки по разрешению на слияние;
убытки от строительства производственных мощностей в Китае, необходимых для делового сотрудничества с «Мотор Сич»;
заём, выданный «Мотор Сич».
В декабре 2020 г. китайские инвесторы направили правительству Украины сообщение об обращении в Международный арбитражный суд для судебного разбирательства и необходимых действиях по законной процедуре международного инвестиционного арбитража.
В ответ с 28 по 29 января 2021 г. на официальном сайте офиса президента Украины последовательно были опубликованы указы президента № 29/2021 и № 36/2021 о применении на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co. Ltd. и её дочерних компаний Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Skyrizon Aircraft Holdings Limited, а также Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. и трёх граждан Китая, среди которых Ван Цзин и Ду Тао. Министерство иностранных дел Украины проинформировало компетентные органы Европейского союза, Соединённых Штатов и других государств о применении санкций и поставило перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
Это было истолковано китайцами как «умышленные действия государства Украина с целью препятствования инвестициям в украинскую компанию “Мотор Сич” и недопущения реализации проекта международного сотрудничества». Одновременно было заявлено, что такие действия «совпадают с целью действий Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США от 14 января 2021 г. о внесении компании Skyrizon в список военных конечных пользователей (MEU)».
Американский след
В новом варианте объяснений, касающихся сложившейся по вине украинской стороны неприглядной ситуации, есть ссылки на требования помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который 28 августа 2019 г. заявил в Киеве о рисках продажи части «Мотор Сич» китайцам, так как это способствует «укреплению обороноспособности стратегического противника США»[17]. Он сказал, что Китай ведёт нечестную игру и ворует военные технологии.
Министр финансов Украины Александр Данилюк во время переговоров с Болтоном сделал запрос на привлечение американского инвестора, который «в течение двух недель был найден». Но за полтора года переговоры с ним не продвинулись, в чём уволенный Данилюк обвиняет украинские власти, где «не осталось людей, которые бы понимали, как проводить переговоры такого уровня»[18].
В октябре того же 2019 г. Эрик Принс, основатель частных военных компаний Blackwater, Academi, Xe Services, фонда с акциями на Шанхайской бирже Frontier Service Group и неофициальный советник Дональда Трампа, встретился с руководством «Мотор Сич» для обсуждения приобретения и отмены продажи Китаю[19]. Об итогах встречи не сообщалось.
При этом говорилось, что Принс имел отношение к переговорам между инвестиционной компанией Oriole Capital Group (создана в 2017 г. на Ближнем Востоке), которой руководит Набиль Баракат, уже имевший интересы в оборонной сфере Украины и «Мотор Сич»[20]. Они, видимо, проходили в 2019–2020 годах. Вместе с Баракатом в переговорах с украинцами также участвовала техасская компания Trive Capital, которую возглавляет близкий к американским спецслужбам Коннер Сирси[21]. Судя по отсутствию новостей, и эти переговоры закончились ничем[22].
13 декабря 2019 г. Богуслаев вновь подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям. Генеральный конструктор ГП «Ивченко-Прогресс» Игорь Кравченко заверил, что уникальные разработки не будут проданы вместе с акциями ПАО «Мотор Сич», а предприятие ждёт лишь успех и развитие. Но никакой реакции со стороны Соединённых Штатов не последовало. Более того, даже в отношении китайской компании Skyrizon министерством торговли США только 14 января 2021 г. был введён особый режим контроля за экспортом – наименее болезненный вид санкций. Как американцы действуют в случае необходимости воздействия на несговорчивых оппонентов, хорошо известно на примере российских, иранских и европейских предприятий и физических лиц, на которых немедленно накладываются жесточайшие персональные политические, экономические и финансовые санкции, а зачастую и начинается уголовное преследование.
Судя по тому, что ничего подобного в отношении лично Богуслаева, ПАО «Мотор Сич» и многочисленных аффилированных с ними компаний не последовало, Принс получил некие гарантии от своего старого партнёра по оружейному бизнесу. Напомним, что отмеченная в Докладе группы экспертов ООН поставка в подсанкционный Южный Судан в 2015 г. модернизированных вертолётов Ми-24В-МСБ, осуществлённая ПАО «Мотор Сич», осталась без негативных последствий со стороны госдепартамента США, что объяснялось участием в сделке американских ЧВК, без излишней огласки широко применявших авиатехнику с запорожскими двигателями в многочисленных горячих точках по всему миру.
Заключение
Таким образом, в течение всех этих лет китайские инвесторы ни сами, ни в партнёрстве с частными и государственными структурами Украины не могут вступить в права собственности: сделка заблокирована, акции арестованы по инициативе СБУ, АМКУ не даёт разрешения на концентрацию, генпрокуратура наложила дополнительный арест, а президент Украины – санкции. С момента ареста акций в 2017 г. собрания акционеров не проводятся, прибыль предприятия не распределяется.
Возможными объяснениями затянувшегося конфликта, высказываемыми в различные периоды, могут быть следующие:
Вариант первый, к которому склонялось большинство украинских экспертов на начальном этапе скандала: известный «сепаратист и сторонник “русского мира”» Богуслаев продал принадлежащие ему акции ПАО «Мотор Сич» напрямую и через офшорные компании, после чего организовал через СБУ, АМКУ и суды их арест, что позволило, не возвращая новым китайским владельцам полученных средств, продолжать единолично управлять предприятием, не делясь корпоративными правами и не проводя ежегодные собрания акционеров.
Вариант второй, к которому оперативно и с редкой последовательностью пришло то же самое большинство украинских экспертов: китайские инвесторы, вступив в преступный сговор с представителями «государства-агрессора», попытались осуществить рейдерский захват стратегического украинского предприятия, крепившего под управлением команды патриота и героя Украины Богуслаева обороноспособность лучшей армии-защитницы всей Европы, который был своевременно разоблачён и пресечён бдительной СБУ и закреплён решениями судов, распоряжениями АМКУ, указами президента Украины и решениями СНБО о введении против них санкций с предстоящей национализацией ПАО «Мотор Сич».
Вариант третий, на который пока осторожно намекают отдельные представители, ранее возглавлявшие центральные органы украинской власти: «Группа лоббистов, преследующих свои личные цели, обманывает представителей власти, чтобы подтолкнуть Украину к национализации “Мотор Сич”»[23]. Дальнейшее развитие событий – получение в качестве компенсации через Международный арбитражный суд и делёжка нескольких миллиардов долларов, при этом менеджмент вновь обретённого ГП «Мотор Сич» остаётся прежним, что позволяет продолжать и далее работать по схемам Богуслаева. В случае же смены команды государственными управленцами завод, оставшийся без внешних заказов и поставки комплектующих из России и Китая, банкротится и приобретается той же группой лоббистов по бросовой цене.
В пользу последнего варианта развития событий говорит редкое единодушие в высказываниях Богуслаева, Ван Цзина и Ярославского, хором отговаривавших власти Украины от национализации, которая всё же произошла 24 марта после подписания соответствующего указа президента Зеленского.
Какой бы из приведённых вариантов ние оказался наиболее близким к истине, уже сейчас можно смело утверждать, что тянущийся седьмой год скандал с «Мотор Сич» ярко демонстрирует особенности украинского инвестиционного климата и государственно—частного партнёрства с приватизацией прибылей и активов и национализацией проблем и убытков. Учитывая на глазах обостряющийся конфликт между КНР и США и тесную связь между Киевом и Вашингтоном, эпопея, начинавшаяся как бизнес-конфликт, имеет все шансы обрести геополитическое измерение. Во всяком случае, в Пекине это с высокой степенью вероятности будут трактовать именно так.
--
СНОСКИ
[1] Постановление следователя-судьи Шевченковского районного суда в Киеве Щебиняев Л.Л. от 7 сентября 2017 г. по делу № 761/31558/17 и Постановление следователя-судьи Шевченковского районного суда в Киеве Слободянюк П.Л. от 7 сентября 2017 г. по делу № 761/31561/17.
[2] Киев в дыму, а Китай в Крыму // Деловой портал о бизнесе с Китаем ChinaLogist. URL: https://chinalogist.ru/book/articles/analitika/kiev-v-dymu-kitay-v-krymu (дата обращения: 08.04.2021).
[3] Wang Jing, the businessman spearheading Beijing’s global ambitions // Intelligence Online. 2020. URL: https://www.intelligenceonline.com/insiders/china/2020/03/09/wang-jing-the-businessman-spearheading-beijing-s-global-ambitions/108396907-be1 (дата обращения: 19.04.2021).
[4] Вице-премьер России провёл переговоры с Синвэй // НСТТ. 25.03.2012. URL: https://nxtt.org/sobytiya/vitse-premer-rossii-provel-peregovory-s-sinvey/ (дата обращения: 08.04.2021).
[5] Богуслаєв підтвердив передачу акцій «Мотор Січі» китайським компаніям // Укрінформ. 13.12.2019. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2837837-boguslaev-pidtverdiv-peredacu-akcij-motor-sici-kitajskimkompaniam.html (дата обращения: 08.04.2021).
[6] Годовой доход ПАО «Мотор Сич» в 2019–2020 гг. – около 350 млн долларов, то есть ежедневно предприятие приносит около 1 млн долларов.
[7] Ван Цзин: «Мотор Сич» всегда будет украинской компанией на украинской земле // РБК-Украина. 10.09.2020. URL: https://daily.rbc.ua/rus/show/van-tszin-motor-sich-budet-ukrainskoy-kompaniey-1599734819.html (дата обращения: 08.04.2021).
[8] Компания Мотор Сiч. URL: https://mc-osa.com.ua/ua/ (дата обращения: 08.04.2021).
[9] СБУ проводить слідчі дії за кримінальним провадженням щодо незаконних зборів акціонерів АТ «Мотор Січ» // Служба безпеки України. 31.01.2021. URL: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-provodyt-slidchi-dii-za-kryminalnym-provadzhenniam-shchodo-nezakonnykh-zboriv-aktsioneriv-at-motor-sich (дата обращения: 08.04.2021).
[10] Компания Мотор Сiч. URL: https://mc-osa.com.ua/ua/ (дата обращения: 08.04.2021).
[11] База данных Государственной фискальной службы Украины.
[12] Там же.
[13] «ОДК-Климов» подвела итоги 2019 года // Rostec. 14.04.2020. URL: https://rostec.ru/news/odk-klimov-podvela-itogi-2019-goda/ (дата обращения: 08.04.2021).
[14] Печорина Н. Итоги военно-технического сотрудничества Украины в 2018 году // «Экспорт вооружений». №1 (январь–февраль), 2019. С. 24–33.
[15] «Мотор Сич» заключило контракт с китайской AVIC International на поставку 400 двигателей АИ-322 // Livejournal. 16.01.2021. URL: https://diana-mihailova.livejournal.com/5986365.html (дата обращения: 08.04.2021).
[16] СБУ провела слідчі дії на підприємстві «Мотор Січ» // Служба безпеки України. 23.04.2018. URL: https://www.sbu.gov.ua/ua/news/250/category/21/view/4678#.sNJ7KJK2.dpbs (дата обращения: 08.04.2021).
[17] Болтон о Мотор Сичи: Китай «украл» F-35, поэтому предостерегаю Украину // BBC News Україна. 28.08.2019. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-russian-49501524 (дата обращения: 08.04.2021).
[18] Мотор Січ: вихід із глухого кута // Новини України та Світу. 5.02.2021. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/motor-sich-prodazh-yak-ukrajini-virishiti-problemu-z-kitayem-novini-ukrajini-50140067.html?utm_content=set_lang&utm_medium=in_article&utm_campaign=langanalitics (дата обращения: 08.04.2021).
[19] Security Contractor Erik Prince Is in Talks to Acquire Ukraine’s Motor Sich // The Wall Street Journal. 5.11.2019. URL: https://www.wsj.com/articles/security-contractor-erik-prince-is-in-talks-to-acquire-ukraines-motor-sich-11572949809 (дата обращения: 08.04.2021).
[20] Баракат ещё в 2017 г. подписал соглашение с ГК «Укроборонпром», в соответствии с которым он должен был инвестировать 150 млн долларов в Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и выпускать там транспортные самолёеты Ан-74 для своей компании.
[21] Компания осуществляет поставки разведывательного оборудования Командованию специальных операций, Разведывательному управлению Министерства обороны и Национальному агентству геопространственной разведки США.
[22] Washington turns to Gulf agents to wrest Motor Sich away from Chinese hands // Intelligence Online, 2020. URL: https://www.intelligenceonline.com/government-intelligence/2020/03/11/ washington-turns-to-gulf-agents-to-wrest-motor-sich-away-from-chinese-hands,108397465-eve (дата обращения: 19.04.2020).
[23] Национализация «Мотор Сич» – результат умышленного обмана власти Украины // Livejournal. 15.03.2021. URL: https://diana-mihailova.livejournal.com/6236575.html (дата обращения: 08.04.2021).

ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ
КРИСТОФЕР ДАРБИ
Исполнительный директор IQT, некоммерческой инвестиционной фирмы, которая работает в интересах спецслужб США.
САРА СЬЮЭЛЛ
Вице-президент IQT по политике. С 2014 по 2017 гг. занимала пост заместителя госсекретаря по гражданской безопасности, демократии и правам человека.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО АМЕРИКИ РАЗМЫВАЕТСЯ
С первых дней холодной войны Соединённые Штаты стали мировым лидером в сфере технологий. На протяжении так называемого «американского века» страна успела освоить космос, возглавила распространение интернета и дала миру iPhone. Однако в последние годы Китай предпринял впечатляющие усилия, чтобы перехватить технологическое лидерство, инвестируя сотни миллиардов долларов в робототехнику, искусственный интеллект, микроэлектронику, зелёную энергетику и так далее.
Вашингтон рассматривал технологические инвестиции Пекина преимущественно с военной точки зрения, но сегодня оборонные возможности – лишь один из аспектов соперничества великих держав, так сказать, начальная ставка. КНР ведёт более изощрённую игру, используя технологические инновации как способ достижения собственных целей, не прибегая к военным действиям. Китайские компании продают беспроводную инфраструктуру 5G по всему миру, развивают синтетическую биологию для обеспечения бесперебойных поставок продовольствия и работают над уменьшением размера и увеличением скорости микрочипов – и всё это с целью укрепить мощь страны.
В свете технологического подъёма Китая американские политики призывают правительство к более активным действиям по защите лидерства США. Здравый смысл говорит, что нужно увеличивать расходы на исследования и разработки, смягчить визовые ограничения, поддерживать собственные таланты и выстраивать новые партнёрства между местной индустрией и друзьями и союзниками за рубежом. Но реальная проблема лежит гораздо глубже: в Соединённых Штатах не понимают, какие технологии приоритетны и как ускорить их развитие.
Национальная безопасность обретает новые измерения, а соперничество великих держав охватывает новые сферы – правительство просто не успевает за этими изменениями.
А частный сектор сам по себе вряд ли способен удовлетворить технологические потребности, связанные с безопасностью страны.
В этих условиях Вашингтону необходимо расширить кругозор и поддерживать более широкий спектр технологий. В помощи нуждаются не только технологии, имеющие явное военное применение – сверхзвуковые полёты, квантовые компьютеры и искусственный интеллект, но и традиционно считающиеся гражданскими – микроэлектроника и биотехнологии. Федеральные власти также должны содействовать коммерческому успеху ключевых невоенных технологий, обеспечивая финансирование, если частный сектор не может этого сделать.
Инновационный вызов для Америки
В первые десятилетия холодной войны Соединённые Штаты тратили миллиарды долларов, расширяя научную инфраструктуру. Созданная в 1946 г. Комиссия по атомной энергетике получила в своё ведение лаборатории военного времени, которые занимались разработкой ядерного оружия, включая Национальную лабораторию Ок-Ридж, штаб-квартиру Манхэттенского проекта, и продолжила финансировать исследовательские центры, в том числе Ливерморскую национальную лабораторию. Министерству обороны, созданному в 1947 г., выделили огромный бюджет на исследования, как и Национальному научному фонду, учреждённому в 1950 году. После того как в 1957 г. Советский Союз запустил на орбиту первый спутник, Вашингтон создал Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), чтобы добиться победы в космической гонке. Также было образовано Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA), задачей которого являлось предотвращение подобных технологических сюрпризов в будущем. К 1964 г. на исследования и разработки приходилось 17 процентов всех федеральных расходов.
Тесно сотрудничая с научными кругами и компаниями, правительство финансировало огромное количество фундаментальных исследований, то есть исследований без конкретной конечной цели. Главной задачей было создание технологической основы, которая обеспечила бы обычные и ядерные военные возможности для гарантий национальной безопасности. Исследования оказались успешными. Государственные инвестиции принесли стране передовые технологии и военное превосходство – сверхзвуковые самолёты, атомные подлодки и самонаводящиеся ракеты. Частный сектор тоже получил выгоду от развития интеллектуальной собственности, превратив технологии в продукты, а продукты в компании. Технологии GPS, подушки безопасности, литиевые батарейки, сенсорные экраны, распознавание голоса – всё это начали разрабатывать благодаря государственным инвестициям.
Но со временем государство утратило лидерство в инновациях. В 1964 г. правительство потратило 1,86 процента ВВП на НИОКР, к 1994 г. доля упала до 0,83 процента. За этот же период корпоративные инвестиции в НИОКР почти удвоились. Цифры лишь частично отражают ситуацию. Государственные инвестиции были нацелены на поиск новых, меняющих расклад открытий, корпоративные же в основном шли на совершенствование существующих. Частный сектор осознал, что формула роста прибыли – это развитие имеющихся продуктов, дополнение функционала, увеличение скорости, уменьшение размера или повышение энергетической эффективности. Компании сосредоточились на технологиях с коммерческим потенциалом в краткосрочной перспективе, отказавшись от масштабных исследований, которые могут принести плоды спустя десятилетия.
Главные инновации появлялись не в лабораториях крупных корпораций, а в маленьких стартапах, финансируемых венчурными фондами, готовыми рисковать. Современные венчурные инвестиционные фирмы, вкладывающие средства в компании на начальном этапе, появились в 1970-е гг. и дали первые результаты – Apple и Microsoft, но только с ростом пузыря доткомов в 1990-е гг. этот стиль инвестирования реально оправдался. Сначала НИОКР перешли из правительственных лабораторий в корпорации, затем – из крупного бизнеса в небольшие стартапы. Крупные компании стали меньше тратить на собственные исследования, сфокусировавшись на так называемом корпоративном развитии – приобретении небольших фирм с многообещающими технологиями, поддерживаемых венчурными фондами.
Расцвет венчурного капитализма обеспечил благосостояние, но не всегда соответствовал американским интересам. Венчурные инвестиционные фонды оценивались по показателям прибыли за десять лет. Соответственно, они меньше интересовались микроэлектроникой – капиталоёмким сектором, где прибыль приходит не через годы, а через десятилетия. Инвесторы переключились на разработчиков программного обеспечения, которым нужно меньше средств на развитие. Но компании, получающие достаточный объём средств венчурных фондов, не могли обеспечить приоритетные интересы национальной безопасности. Когда американская инвестиционная фирма Accel сорвала банк, вложившись в финского разработчика видеоигр Rovio Entertainment (автор Angry Birds), для неё это был триумф, но он никак не способствовал продвижению интересов США.
В то же время госфинансирование исследований продолжало падать как в процентах от ВВП, так и в сравнении с расходами на НИОКР частного сектора. Пентагон сохранил самый большой кусок пирога федеральных расходов на исследования, но в сумме это были меньшие деньги, которые к тому же распределялись между различными управлениями и департаментами, и у каждого из них были собственные приоритеты в отсутствие единой национальной стратегии. Лучшие исследователи ушли в частный сектор, и научный уровень в госучреждениях стал падать. Пострадали и существовавшие ранее тесные связи между частными компаниями и Вашингтоном, поскольку федеральное правительство перестало быть главным заказчиком для большинства инновационных фирм. Американские ведомства редко становились первыми покупателями передовых технологий, а у стартапов не было средств на лоббистов и юристов, чтобы продать государству свой продукт.
Глобализация также вбила клин между корпорациями и правительством. Американский рынок перестал доминировать в международном контексте, огромный потребительский рынок Китая выглядел гораздо более привлекательным. Корпорации теперь думали о том, как их действия воспримут за пределами США. Apple, как известно, отказала ФБР в доступе к iPhone, и это решение, безусловно, повысило популярность бренда в мире.
Кроме того, инновации сами по себе перевернули традиционное представление о технологиях в сфере национальной безопасности.
Появилось множество технологий двойного назначения, то есть применяющихся и в гражданском, и в военном секторах. Как следствие, возникли новые точки уязвимости и опасения по поводу безопасности поставок микроэлектроники и работы телекоммуникационных сетей. Значимость гражданских технологий для национальной безопасности возросла, но правительство Соединённых Штатов не несло за них ответственность. Этим занимался частный сектор, и инновации появлялись стремительными темпами, за которыми власти просто не успевали. Сложившаяся ситуация стала вызывать тревогу: интересы частного сектора и государства всё больше расходятся.
Китайский колосс
Изменения в инновациях в США не имели бы такого значения, если бы мир оставался однополярным. Но параллельно происходил подъём геополитического соперника. За последние двадцать лет Китай превратился из страны, занимающейся кражей и копированием технологий, в одного из лидеров по разработкам и инновациям. И это не стечение обстоятельств, а результат долгосрочной государственной политики. Китай активно инвестировал в НИОКР, и его доля в глобальных расходах на технологии возросла с 5 процентов в 2000 г. до 23 процентов в 2020-м. Если нынешний тренд сохранится, в 2025 г. Китай опередит США по этим показателям.
Основой подъёма Китая стала стратегия военно-гражданской интеграции, обеспечившая сотрудничество частного сектора и военной индустрии. На национальном, региональном и местном уровнях государство поддерживает военные организации, госкомпании и частных предпринимателей. Поддержка может выражаться в исследовательских грантах, обмене информацией, госкредитах и программах обучения. Это может быть даже предоставление земли или офиса – государство строит целые города для инноваций.
Инвестиции Китая в технологии 5G демонстрируют, как всё это работает на практике. Оборудование для 5G – основа инфраструктуры сотовой связи в стране, и китайская компания Huawei стала мировым лидером по его производству и продаже, предлагая продукцию высокого качества по ценам ниже, чем у её финских и южнокорейских конкурентов. Компания получает огромную господдержку – по оценкам The Wall Street Journal, около 75 млрд долларов в виде налоговых льгот, грантов, кредитов и скидок на земельные участки. Huawei также получила выгоду от китайской инициативы «Пояс и путь», которая предусматривает щедрые кредиты для стран и китайских компаний на строительство инфраструктуры.
Масштабные государственные инвестиции в технологии искусственного интеллекта тоже окупились. Китайские исследователи сегодня публикуют больше научных статей по этой теме, чем американцы. Отчасти успех объясняется грамотным финансированием, но не менее важную роль играет доступ к огромному массиву данных. Пекин поддерживает дата-центры компаний, которые собирают всю возможную информацию о пользователях. В их число входят гигант электронной коммерции Alibaba, разработчик приложения WeChat Tencent, Baidu со всеми своими онлайн-продуктами, лидер рынка дронов DJI и SenseTime, разработчик технологий распознавания лиц для системы видеонаблюдения в Китае, который считается самой дорогой компанией мира в сфере искусственного интеллекта. Закон обязывает эти компании сотрудничать с государством в интересах безопасности, но они обмениваются имеющимися данными и по многим другим причинам.
Это информация о людях, живущих за пределами Китая. Китайские компании выстроили глобальную сеть приложений, которые собирают персональные данные об иностранцах – их финансах, историях поисковых запросов в интернете, местонахождении и так далее. При совершении оплаты через китайское приложение личные данные проходят через Шанхай и могут попадать в китайские базы об иностранных гражданах.
С помощью этой информации китайским властям будет проще отслеживать западных чиновников-должников, которых можно привлечь к шпионажу в пользу Пекина, или тибетских активистов, укрывшихся за рубежом.
Жажда данных в Китае распространяется и на самую личную информацию – наши ДНК. С начала пандемии COVID-19 китайская компания по секвенированию геномов, BGI, которая изначально была исследовательской группой и финансировалась государством, открыла около пятидесяти новых лабораторий за границей, чтобы помочь проводить тесты на вирус. Да, открытие этих лабораторий происходит на законных основаниях, но есть и отвратительные факты насильственного сбора ДНК у тибетцев и уйгуров в целях мониторинга этих групп населения. Учитывая, что BGI ведёт китайскую национальную библиотеку геномной информации, вполне возможно, что биологические данные иностранцев, полученные в лабораториях за рубежом, тоже окажутся в этой базе.
Китай очень интересуется биотехнологиями, хотя ему ещё предстоит догнать США в этой сфере. Огромные компьютерные возможности, искусственный интеллект и инновации в биотехнологиях помогут преодолеть извечные вызовы, стоящие перед человечеством: от болезней и голода до производства энергии и изменения климата. Учёные освоили инструмент для редактирования генов CRISPR, который позволяет выращивать пшеницу, невосприимчивую к болезням, и сумели закодировать видео в ДНК бактерии, что открывает возможности для нового эффективного способа хранения данных. Специалисты по синтетической биологии изобрели метод производства нейлона с помощью генетически модифицированных микроорганизмов, а не нефтепродуктов. Экономические последствия грядущей биотехнологической революции могут оказаться ошеломляющими. McKinsey Global Institute оценивает эффект от применения биотехнологий в 4 трлн долларов в ближайшие десять-двадцать лет.
Как и у всех открытий с большим потенциалом, у биотехнологий есть обратная сторона. Например, злоумышленники могут создать биологическое оружие, нацеленное против конкретной этнической группы. В спорных вопросах – например, насколько приемлемы манипуляции с геномом человека, – страны будут в разной степени готовы идти на риск ради прогресса и займут разные этические позиции. Лидером в развитии биотехнологий станет страна, которая сможет детально сформулировать нормы и стандарты их применения. И у нас есть повод для беспокойства, если этой страной будет Китай. В 2018 г. китайский учёный Хэ Цзянькуй модифицировал ДНК близнецов, что вызвало международный резонанс. Пекин позиционировал его как исследователя-изгоя и в итоге наказал. Однако пренебрежение Китая к правам человека и его стремление к технологическому господству позволяет предположить, что он может выбрать уклончивый и даже опасный подход к биоэтике.
Мыслить масштабнее
Вашингтон следил за технологическим прогрессом Китая сквозь призму его военного потенциала. Но реальный вызов гораздо серьёзнее. Стремясь к технологическому доминированию, Пекин не просто хочет получить преимущество на поле битвы, он меняет это поле. Такие коммерческие технологии, как 5G, искусственный интеллект, квантовые компьютеры и биотехнологии, безусловно, будут иметь военное применение, но КНР думает о мире, в котором соперничающим державам не придётся стрелять друг в друга. Технологическое превосходство даст возможность доминировать в гражданской инфраструктуре, от которой зависят другие, что обеспечит огромное международное влияние. И это главная мотивация Пекина в поддержке экспорта высокотехнологичного инфраструктурного оборудования. Страны, покупающие китайскую продукцию, могут считать, что просто получают электросети, медицинские технологии или системы онлайн-платежей. Но на самом деле они отдают критически важную национальную инфраструктуру и сведения о своих гражданах в руки Пекина. Такой троянский конь от Китая.
Несмотря на меняющийся характер геополитического соперничества, Соединённые Штаты по-прежнему соотносят безопасность с возможностями обычного вооружения. Возьмём микроэлектронику. Это важнейший компонент не только коммерческих продуктов, но и практически любой военной системы – от самолёта до военных кораблей. Именно микроэлектроника определит будущие прорывы в искусственном интеллекте, следовательно, и экономическую конкурентоспособность США. Но инвестиции в микроэлектронику практически незаметны. Ни частный сектор, ни государство не финансируют инновации в нужном объёме: первый – из-за значительных вложений и отдалённой прибыли, второе – из-за того, что сосредоточено на сохранении нынешних поставок, а не на инновациях. Китаю, конечно, тяжело угнаться за Соединёнными Штатами в этой сфере, но очень скоро он поднимется вверх в стоимостной цепочке.
Ещё одна жертва слишком узкого восприятия безопасности и инноваций – это 5G. Доминируя на этом рынке, Китай выстроил глобальную телекоммуникационную сеть, которую можно использовать в геополитических целях. И тут есть несколько поводов для беспокойства. Во-первых, КНР может воспользоваться данными, которые идут по сетям 5G. Во-вторых, нарушить или блокировать коммуникационные сети противника в случае кризиса. Большинство американских политиков не смогли предсказать угрозу, исходящую от китайской инфраструктуры 5G. Только в 2019 г. Вашингтон проявил беспокойство по поводу Huawei, но к тому времени уже ничего нельзя было сделать. Американские компании никогда не предлагали беспроводные сети целиком, сосредоточившись на производстве отдельных компонентов – портативных радиостанциях и роутерах. Никто не разрабатывал собственную сеть радиодоступа – систему, посылающую сигналы всем устройствам сети, что позволяет построить полноценную систему 5G, как предлагает Huawei и несколько других компаний. В результате Соединённые Штаты оказались в абсурдной ситуации: пригрозили союзникам прекратить сотрудничество в разведке, если те перейдут на технологию 5G от Huawei, но при этом не смогли предложить какой-либо альтернативы.
Цифровая инфраструктура – битва сегодняшнего дня, следующей могут стать биотехнологии.
К сожалению, американское правительство не считает приоритетом и эту тему. Пентагон, по понятным причинам, не демонстрирует особой заинтересованности. Дело в том, что США, как и многие другие страны, подписали договор об отказе от биологического оружия. Тем не менее биотехнологии могли бы пригодиться Пентагону – в том числе для совершенствования промышленного производства и улучшения состояния здоровья персонала. Но самое главное – при всеобъемлющей оценке национальных интересов нужно признать, что биотехнологии в состоянии повлиять на этику, экономику, систему здравоохранения и выживание планеты в целом.
Поскольку многие пробелы в сфере инноваций связаны с узким подходом к национальным интересам и неспособностью выбрать перспективные технологии, администрации Байдена следует для начала расширить видение. Нужно оценить угрозы и возможности новейших технологий: хаос, который возникнет, если сети 5G будут парализованы, риски бездумной генной инженерии или же плюсы от устойчивых источников энергии, повышения качества и эффективности медицины.
Вторым шагом администрации Байдена должно стать выстраивание процесса регулирования государственных инвестиций в соответствии с национальными приоритетами. Сегодня в федеральном финансировании наблюдается перекос в сторону военных технологий. Это отражение политической реальности: Пентагон – одно из немногих ведомств, регулярно получающих бюджетную поддержку от обеих партий. Истребители и противоракетная оборона финансируются отлично, а подготовка к пандемии и чистая энергия – лишь в ограниченном объёме. При определении корректных технологических приоритетов возникнут вопросы, ответить на которые поможет только полноценная картина национальных потребностей. Какие важнейшие проблемы помогут разрешить технологии? Какие технологии помогут решить только одну проблему, а какие – сразу несколько? Чтобы правильно ответить, нужно видеть реальную перспективу. Нынешний подход этого не даёт.
Правильно организованный процесс должен начинаться со всесторонней оценки, как говорят эксперты по нацбезопасности, – в данном случае с анализа состояния глобального технологического прогресса и рыночных трендов. Эта информация позволит политикам создать фундамент для дальнейшей работы. Необходимо определить как краткосрочные, так и долгосрочные приоритеты. Кандидатом для долгосрочных вложений может, например, стать микроэлектроника, которая является основой для инноваций в военной и гражданской сферах, но с трудом привлекает частные инвестиции. Ещё один долгосрочный приоритет – биотехнологии, учитывая их значимость для экономики и будущего человечества. Что касается краткосрочных приоритетов, то здесь американское правительство может рассмотреть запуск международной кампании по борьбе с дезинформацией или продвижением инноваций 5G. Какие бы приоритеты ни были выбраны, главное, чтобы они были чёткими и ясными, определяли решения США и посылали сигнал об их устремлениях.
Рыночное мышление
Поддержка выбранных приоритетов – ещё одна задача. Нынешний подход, когда правительство финансирует лишь ограниченное количество исследований, а частный сектор занимается коммерциализацией результатов, не работает. Слишком много финансируемых государством разработок так и остаётся в лабораториях и не может выйти на рынок. Ещё хуже, когда плоды исследований всё же покидают правительственные лаборатории и попадают в руки иностранцев, лишая Америку интеллектуальной собственности, полученной на деньги налогоплательщиков.
Правительство должно более активно содействовать выходу исследований на рынок. Во многих университетах созданы отделы, где работают над коммерциализацией научных исследований, но в большинстве федеральных исследовательских институтов такого нет. Ситуацию нужно менять. В том же духе правительство должно развивать так называемые «песочницы» – частно-государственные исследовательские центры, где промышленность, наука и государство работают вместе. В 2014 г. Конгресс учредил Manufacturing USA – сеть центров, где проводятся исследования современных производственных технологий. Аналогичные инициативы предлагались в микроэлектронике. Такие «песочницы» можно создавать и в других сферах.
Правительство США также могло бы помочь с коммерциализацией, создав национальные базы данных для исследовательских нужд и повысив при этом защиту частной жизни, чтобы люди не беспокоились по поводу личной информации, которая туда попадёт. Использование этих баз данных позволит быстрее добиться прогресса в сфере искусственного интеллекта, для которого нужны огромные массивы данных. Только правительство и несколько крупных технологических компаний в настоящее время обладают такими возможностями. Успех синтетической биологии и медицинских исследований в целом тоже будет зависеть от данных. Поэтому правительству нужно увеличить количество и разнообразие данных в геномной библиотеке Национальных институтов здравоохранения, систематизировать и присвоить названия этой информации, чтобы её было проще использовать.
Вся эта помощь с коммерциализацией окажется напрасной, если стартапы с наиболее перспективными технологиями для национальной безопасности не смогут привлечь достаточный капитал. Многие из них сталкиваются с трудностями как на ранних, так и на завершающих этапах развития: сначала трудно найти инвесторов, готовых идти на риск, а когда стартап становится успешным и расширяется, сложно убедить их вкладывать значительные суммы. Поэтому правительству необходимы собственные механизмы инвестирования.
Мы работаем в материнской компании In-Q-Tel, которая предлагает перспективную модель инвестирования на ранней стадии. Созданная ЦРУ в 1999 г. In-Q-Tel – это независимая некоммерческая фирма, которая инвестирует в технологические стартапы, отвечающие национальным интересам. (Одним из первых получателей инвестиций In-Q-Tel был Keyhole, ставший платформой для Google Earth.) Сегодня In-Q-Tel, которую финансируют Министерство внутренней безопасности, Пентагон и другие ведомства, определяет и адаптирует инновационные технологии для нужд своих заказчиков. В отличие от федерального агентства, частной некоммерческой фирме проще привлечь инвестиции и технологические таланты, необходимые для достижения результата. Эту модель можно применять более широко. Даже 100–500 млн долларов в год на начальные инвестиции – капля для федерального бюджета – помогут заполнить разрыв между тем, что готов предоставить частный сектор, и потребностями страны.
На более поздних этапах не было бы лишним задействовать Корпорацию по финансированию международного развития США – федеральное ведомство, отвечающее за инвестиции в проекты развития за рубежом, которому в 2018 г. впервые разрешили инвестиции в уставный капитал. Можно создать специальное подразделение в этом ведомстве для инвестирования в стартапы на поздних стадиях или учредить полностью независимую некоммерческую структуру, финансируемую правительством. В любом случае компании, готовые расширяться, получат необходимый им капитал. В отличие от начальной поддержки, на данном этапе государство должно вкладывать больше 1–5 млрд долларов в год. Чтобы господдержка на обеих стадиях была эффективной, нужно стимулировать «побочные» инвестиции со стороны коммерческих фирм и частных лиц, готовых присоединиться к правительству и получить прибыль от вложений в технологии.
Спонсируемые государством инвестиционные фонды не только компенсируют критический недостаток частных вложений, но и позволят налогоплательщикам разделить успех от исследований, которые проводятся на их деньги. Сейчас госфинансирование технологий в основном идёт в форме грантов, в частности предоставляемых на инновационные и исследовательские цели Управлением по делам малого бизнеса. Это означает, что налогоплательщики оплачивают неудачи, но не могут разделить успех, если компания добилась результата. Как отмечает экономист Мариана Мадзукато, «правительства обобществляли риски, но присваивали награды и бонусы».
Некоммерческие инвестиционные механизмы, работающие в интересах государства, имеют ещё один плюс: они позволят Соединённым Штатам в случае технологического соперничества играть в нападении. Американцы слишком долго играли в защите.
Так, был запрещён экспорт критически важных технологий и ограничены иностранные инвестиции, представляющие угрозу для национальной безопасности, хотя эти шаги на самом деле вредили американскому бизнесу и не способствовали инновациям. Поддержка коммерциализации с помощью спонсируемых государством инвестиций в капитал обойдётся недёшево, но основные затраты, скорее всего, окупятся. Будет и нефинансовая выгода: инвестиции в национальные приоритеты, включая инфраструктуру, которую можно будет экспортировать союзникам, увеличат мягкую силу США.
Инновации – долго и счастливо
Президент Джо Байден пообещал всё «отстроить лучше, чем было», и вернуть глобальное лидерство США. В ходе предвыборной кампании он выдвигал многообещающие идеи по продвижению американских инноваций. Он призвал увеличить федеральные расходы на НИОКР, включая 300 млрд на прорывные технологии, которые повысят конкурентоспособность США. Это хороший старт, но можно сделать его более эффективным, если детально проработать процесс определения технологических приоритетов. Байден заявлял, что поддерживает увеличение грантов на инновации и исследования для малого бизнеса, а также создание инфраструктуры для образовательных учреждений и их партнёров в целях расширения исследований. Ещё больше возможностей даст покрытие недостатка частных инвестиций и давно назревшая господдержка коммерциализации.
Если Соединённые Штаты не изменят подход к инновациям, пострадает экономика, безопасность и благосостояние граждан. Мы увидим дальнейший упадок американского глобального лидерства и беспрепятственный подъём Китая. У Байдена правильные стремления. Однако чтобы обеспечить устойчивое технологическое доминирование, стране придётся кардинально пересмотреть основы инноваций. Байден, безусловно, будет уделять внимание, прежде всего, решению внутренних проблем, но большую часть карьеры он занимался продвижением глобального лидерства США. Реформировав подход к инновациям, можно достичь обеих целей.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs №2 за 2021 год. © Council on foreign relations, Inc.

НОВОЙ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ
ТОМАС КРИСТЕНСЕН
Профессор международных и общественных отношений Колумбийского университета.
На протяжении последних десятилетий китайские эксперты и дипломаты обвиняли США в переходе к менталитету холодной войны в отношении Пекина. Обычно такие заявления звучат, когда Вашингтон укрепляет военное присутствие или оказывает военное содействие союзникам в Азии.
Действительно, после холодной войны Соединённые Штаты вместе с союзниками и партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе вступили в стратегическое военное соперничество с КНР, которая модернизировала войска и наращивала возможности проецирования силы. До сих пор США удавалось удерживать материковый Китай от силового разрешения территориальных споров в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, а также в Тайваньском проливе. Кроме того, США и их ближайшие союзники запретили продажу оружия Китаю и попытались ограничить передачу ему некоторых военных технологий.
На этом основании, по крайней мере до недавнего времени, проводилась аналогия с холодной войной. Однако в 1950–1960-е гг. американское сдерживание СССР и его блока выходило далеко за рамки военной сферы. Все усилия были направлены на то, чтобы ограничить экономические контакты с этими странами, подорвать их экономики и расстроить дипломатические планы на международной арене. После начала реформ в Китае в 1978 г., напротив, никто (кроме самих китайцев) не содействовал масштабному экономическому развитию страны так, как это делала Америка. Открытие американских рынков для китайского экспорта, огромные инвестиции в китайскую промышленность, сотни тысяч китайских студентов в американских университетах – всё это способствовало стремительному росту и технологической модернизации КНР. Соединённые Штаты предлагали Пекину играть более активную роль в международной дипломатии или, как выразился бывший замгоссекретаря Роберт Зеллик, выполнять свою часть работы в качестве «ответственного акционера» международной системы[1]. Китай в ответ действовал спонтанно, но в любом случае слова Зеллика опровергают идею о том, что Вашингтон десятилетиями не позволял Китаю оказывать влияние на международную систему.
Сейчас ситуация меняется, «ястребы» укрепляют позиции в американской политике. После прихода Дональда Трампа в Белый дом в 2017 г. многие комментаторы предсказывали холодную войну с Китаем. В качестве доказательств они приводили не только активизацию военного соперничества в Индо-Тихоокеанском регионе (что не ново), но и американо-китайскую торговую войну, сопровождаемую призывами к полномасштабному экономическому разъединению. Вашингтон внёс Huawei и ряд других китайских компаний и учреждений в список контроля за экспортом Министерства торговли, а также в список иностранных активов Минфина – американские компании лишились права вести бизнес с этими организациями без специальной лицензии. В стратегии национальной безопасности США, опубликованной в декабре 2017 г. Китай и Россия были названы противниками Америки, а администрация Трампа расценила внешнеэкономическую политику Пекина как «хищническую»[2]. COVID-19 явно не улучшил отношения. Вместо того, чтобы сообща решать проблему, две страны обвиняли друг друга в пандемии и выясняли, какая политическая система лучше справляется с ситуацией.
Во второй половине 2020 г. в различных выступлениях, правительственных документах, статьях и твитах администрация Трампа практически объявила КНР холодную войну. Утверждалось, что Пекин пытается разрушить либеральный международный порядок и заменить его своей гегемонией. Администрация Трампа называла Китай экзистенциальной угрозой Америке и базовым свободам, которые традиционно защищал Вашингтон. Как и в случае с Советским Союзом, предлагалось единственное долгосрочное решение – Соединённые Штаты должны возглавить глобальную коалицию стран-единомышленниц, чтобы ослабить Китай за рубежом и содействовать фундаментальным политическим изменениям внутри страны.
Критики такой политики могут сказать, что США создают самореализующееся пророчество: объявив холодную войну, Вашингтон провоцирует её появление. Но ничего похожего на холодную войну с Советским Союзом или с тем же Китаем в 1950–1960-е гг. в перспективе не просматривается – независимо от декларируемых стратегий.
Холодная война – это сложный набор отношений со многими странами. Ни одна держава, даже очень мощная, не может в одиночку развязать холодную войну.
Не холодная война
Американо-китайское соперничество реально и несёт в себе опасности, но ему не хватает трёх ключевых элементов холодной войны США и СССР.
Америка и Китай не ведут идеологическую борьбу за сердца и умы третьих стран.
Сегодняшний глобализированный мир невозможно чётко поделить на два экономических блока.
Соединённые Штаты и Китай не возглавляют противоборствующие альянсы подобные тем, что вели кровопролитные опосредованные войны в середине XX века в Корее и Вьетнаме и создавали ракетные кризисы в Берлине и на Кубе.
Без любого из этих трёх факторов холодная война между США и Советским Союзом была бы менее ожесточённой и опасной. Поэтому, хотя подъём Китая связан с реальными вызовами для Соединённых Штатов, их союзников и партнёров, угрозу следует понимать правильно. Призывающие использовать против Китая стратегию сдерживания времён холодной войны, не понимают природу китайского вызова и поэтому предлагают ответные действия, которые лишь ослабят Америку.
Если Вашингтон в одностороннем порядке примет ушедшую в прошлое стратегию холодной войны в отношении Пекина, то оттолкнёт от себя союзников, которые слишком зависят от КНР. Хотя многие страны и разделяют обоснованную обеспокоенность Вашингтона по поводу политики Пекина, большинство американских союзников и партнёров не считают Китай экзистенциальной угрозой. Если президент Джо Байден продолжит политику своего рода холодной войны с Китаем, которую проводила администрация Трампа, Соединённые Штаты ослабят собственные позиции, лишившись одного из главных конкурентных преимуществ – альянсов и партнёрства с более чем шестьюдесятью странами, среди которых представлены и наиболее технологически развитые державы мира. Сравните с галереей партнёров Китая: в первую очередь в голову приходят Северная Корея, Иран, Пакистан, Судан и Зимбабве.
Кто-то может сказать, что реальное различие между холодной войной и нынешним стратегическим соперничеством Вашингтона и Пекина заключается в ограниченном значении КНР по сравнению с СССР в 1950–1960-е годы. США по-прежнему существенно опережают Китай по общей национальной мощи. Однако этот факт не должен успокаивать американцев. Ещё в 2001 г. я говорил, что Китай создаёт асимметричные угрозы войскам и базам США в Восточной Азии – регионе, имеющем геостратегическое значение. На региональном уровне Китай сегодня мощнее, чем тогда, мощнее, чем любой американский союзник в Азии[3].
Споры о морских границах между Китаем и Японией, Тайванем и несколькими государствами Юго-Восточной Азии (включая американского союзника Филиппины) несут серьёзный риск вовлечения США и КНР в прямой конфликт. К счастью, как отмечает норвежский профессор Эйстейн Тюншё[4], кризисы и даже конфликты за морские территории опасны, но более управляемы в сравнении, например, с обычным конфликтом между США и СССР за территорию в Центральной Европе в годы холодной войны. Государство не может просто захватить и удерживать контроль над морской территорией. Кроме того, за исключением Тайваня, спорные острова, скалы и рифы вблизи Китая – не очень привлекательные цели для захвата.
Помимо различий в силе и географии есть ещё три фактора, которые делают нынешнее американо-китайское стратегическое соперничество менее опасным, чем холодная война Соединённых Штатов и Советского Союза. Если бы США и КНР возглавляли противоборствующие и экономически независимые блоки, основанные на фундаментально противоположных идеологиях, их стратегическое соперничество быстро вышло бы на сушу и из Восточной Азии распространилось на всю планету. Даже если бы Китай не был в состоянии проецировать военную мощь таким образом, чтобы бросить вызов Америке в отдалённых районах мира, он мог бы снабжать, готовить и поддерживать идеологически близкие пропекинские государства, которые, в свою очередь, атаковали бы американских союзников и партнёров в регионах. Иными словами, нынешнее региональное соперничество в Восточной Азии могло бы перерасти в глобальное. И это больше бы напоминало холодную войну, поскольку за локальными конфликтами между американскими и китайскими марионетками стояли бы США и КНР с их ядерным и обычным наступательным вооружением дальнего радиуса действия.
К счастью, пока всё это политическая научная фантастика. Нет фактов, подтверждающих, что Китай пытается распространить свою идеологию в мире или что идеология является лакмусовой бумажкой отношений КНР с другими странами. Некоторые эксперты подняли шумиху после заявления председателя КНР Си Цзиньпина на XIX партийном съезде в ноябре 2017 г., где он сказал, что китайский путь может стать альтернативой так называемому вашингтонскому консенсусу. «Путь, теория, система и культура социализма с китайской спецификой продолжает развиваться, прокладывая новую дорогу для других развивающихся стран, стремящихся к модернизации. Это новый вариант для стран и народов, которые хотят ускорить своё развитие, сохранив при этом независимость», – сказал Си Цзиньпин[5]. Его заявление скорее выглядело как обоснование правления и экономической политики Компартии Китая (КПК), чем как призыв к экспорту «китайской модели».
Последующие заявления Си Цзиньпина говорят в пользу такой интерпретации. В декабре 2017 г. в Пекине состоялся Диалог КПК с политическими партиями мира, на котором присутствовали представители 300 политических партий из 120 стран. Выступая на мероприятии, Си Цзиньпин отверг утверждения о том, что Китай экспортирует свою идеологическую модель: «Мы не импортируем иностранные модели и не экспортируем китайскую модель, мы не можем требовать от других стран повторять китайский подход к жизни»[6]. А ведь этот форум мог бы быть подходящим местом для пропаганды китайской модели. В период реформ КПК добавляла термин «с китайской спецификой» для описания своего бренда так называемого социализма, который опирается на рыночные принципы ценообразования и страдает от большего неравенства, чем многие капиталистические страны, включая США.
Трудно экспортировать модель, если даже её апологеты говорят, что она должна быть глубоко укоренена в китайской истории и культуре.
Менять сердца и умы?
Пекин авторитарно и часто пугающе репрессивно действует дома, создавая «лагеря перевоспитания» в Синьцзяне, подавляя протесты тибетцев и голоса политических диссидентов, журналистов и правозащитников. Однако в отличие от России, которая активно пытается подорвать демократию в Восточной Европе и других странах, Китай индифферентно относится к внутриполитическим структурам других стран. Пекин гораздо больше заботит отношение этих стран к внутренней политике КПК, территориальным спорам Китая и экономическому сотрудничеству с КНР – именно в таком порядке. Доклад RAND метко упрекнул администрацию Трампа в том, что она объединила Россию и Китай в списке угроз: «Россия – изгой, но не соперник; Китай – соперник, но не изгой»[7]. Бывший китайский дипломат Ши Цзэ, работавший в России, говоря о различиях Москвы и Пекина, резюмирует: «У Китая и России разные подходы. Россия хочет разрушить нынешний мировой порядок. Россия считает себя жертвой нынешней международной системы, в которой её экономика и общество не развиваются. А Китай получает пользу от нынешней международной системы. Мы хотим улучшить и модифицировать её, но не разрушать»[8].
Тем не менее, как и Москва, Пекин использует нелиберальные методы влияния на общественное мнение в мире. Лора Розенбергер, американский чиновник с большим опытом, отмечает, что Пекин перенял российскую тактику интернет-атак для подрыва доверия к демократии. Её статья касается примеров кампаний по дезинформации в Гонконге, но выводы справедливы и для Тайваня[9]. Однако поведение Китая в регионах, которые он считает своими, не стоит экстраполировать на внешнюю политику Пекина в целом. Попытки Китая оказывать влияние в других странах – в частности, в Австралии, Новой Зеландии и даже США – называют примерами идеологического ревизионизма. Да, они вызывают обеспокоенность, но кардинально отличаются от атак на демократию в Гонконге и на Тайване. В период коронакризиса китайские дипломаты и СМИ ополчились на иностранные правительства и экспертов, которые критиковали Пекин за действия на начальном этапе пандемии, отсутствие прозрачности и свободы слова. То же самое касается критики репрессий против уйгуров в Синьцзяне и подавления протестов китайских интеллектуалов, юристов, журналистов и правозащитников. Но вместо того, чтобы пытаться подорвать либеральную демократию в критикующих его странах, Пекин сосредоточил усилия на изменении их отношения к правлению КПК и предотвращении поддержки оппонентов Китая, в том числе в Тайваньском проливе.
В докладе Института Гувера (Стэнфордский университет) содержится, пожалуй, наиболее резкая критика попыток Китая влиять на другие страны. Однако даже там отмечается, что главная цель Пекина – защитить правление КПК от зарубежной критики, а не экспортировать китайскую авторитарную модель в другие государства[10]. Китайский подход, по сути, не нацелен против иностранных демократий и очень далёк от поддержки коммунистических революций во времена Сталина и Мао Цзэдуна.
Попытки Пекина оказывать влияние всё же представляют серьёзную проблему, хотя и не являются основой для новой холодной войны. Используя деньги, чтобы повлиять на исход выборов или освещение в СМИ тех или иных событий, а также заставляя представителей научного сообщества и студентов занимать выгодную Пекину позицию по вышеперечисленным вопросам, КПК наносит ущерб важнейшим институтам свободного общества, хотя и не подрывает основы либеральной демократии в ярко выраженной форме. Потенциально ущерб может быть достаточно серьёзным и поэтому должен вызывать обеспокоенность в экспертном и журналистском сообществе.
Китаевед Элизабет Экономи отмечает, что региональные власти в Китае проводят для иностранцев курсы по эффективному госуправлению. Среди обучающихся есть исследователи, эксперты и чиновники из соседних государств. Китай предлагает обучающие программы по госуправлению и экономическому развитию авторитарным государствам, например Камбодже и Судану. Данную практику можно считать максимально приближенной к пропаганде авторитаризма со стороны КПК. Но было бы гораздо опаснее и могло бы создать условия для новой холодной войны, если бы Китай обучал проавторитарные партии и группировки в демократических странах, как захватить власть и уничтожить демократию[11]. Это напоминало бы поддержку Советским Союзом и КНР международных коммунистических организаций в начале холодной войны. Нынешние китайские обучающие программы стоит рассматривать как усилия общественной дипломатии – они призваны показать, что китайская модель управления работает и является легитимной, несмотря на критику со стороны США и других демократий по поводу отсутствия гражданских свобод и демократических выборов в КНР.
До того, как президентом стал Трамп, американская внешняя политика, возможно, была более идеологизированной, чем в Китае.
При администрации Байдена тенденция возродится. США приветствовали демократизацию и поддерживали прореформистские «цветные революции» в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Центральной Европе и Центральной Азии. Трамп, однако, выдвинув лозунг «Америка прежде всего», отказался от традиционной формы идеологического ревизионизма, присущей обеим партиям. Он также отверг усилия по проведению либеральных институциональных реформ, например, в рамках Транстихоокеанского партнёрства, и подвергал нападкам многосторонние экономические соглашения, в том числе ВТО. Наконец, Трампу было вполне комфортно общаться с диктаторами, и он мог в равной мере критиковать и либеральные демократии, и авторитарные государства. В результате за президентский срок Трампа Америка и Китай оказались ещё дальше от идеологической холодной войны 1950–1960-х годов. Китай не экспортировал свою идеологию, как при Мао, а Соединённые Штаты при Трампе больше не экспортировали свою.
При администрации Трампа наиболее идеологической была кампания «Свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион» с участием четырёх ведущих демократий: США, Японии, Австралии и Индии. Эта «четвёрка», или «бриллиант безопасности», – концепция японского премьер-министра Синдзо Абэ – гипотетически могла создать некий географический и политический сдерживающий свод над Китаем. Взаимодействие четырёх стран в сфере безопасности совершенствуется, но пока далеко от многосторонних альянсов холодной войны, особенно с учётом присутствия традиционно неприсоединяющейся Индии и при наличии прочных экономических связей всей «четвёрки» с КНР. Другие ключевые демократические союзники Соединённых Штатов в Азии, включая Южную Корею и Филиппины, по-видимому, не хотят участвовать в многосторонних (тем более идеологических) блоках, направленных против Китая. Фактические и потенциальные американские региональные партнёры, например, Таиланд после переворота и коммунистический Вьетнам, не подходят для идеологических альянсов и не хотят делать выбор между США и Китаем.
Реализация собственных целей
Подход Байдена к Китаю увязывается с необходимостью восстановить испорченные отношения с американскими союзниками и партнёрами. Многие из них разделяют обеспокоенность США по поводу агрессивного поведения Китая на международной арене и несправедливых экономических условиях дома. Сосредоточиться на укреплении коалиций – разумное решение администрации Байдена, но было бы ошибкой строить альянсы и партнёрства исключительно на общей идеологии или заставлять союзников и партнёров выбирать между Соединёнными Штатами и КНР.
Китайские эксперты убеждены, что Пекин в состоянии предотвратить формирование альянса холодной войны в Индо-Тихоокеанском регионе. Они подчеркивают: Китай – а не США – является крупнейшим экономическим партнёром многих ключевых американских союзников в АТР, включая Японию, Южную Корею и Австралию. Ян Цземянь, брат высокопоставленного китайского дипломата Ян Цзечи, считает, что холодная война нарушит транснациональные производственные цепочки и окажется слишком затратной для американских союзников в Европе и Азии, поэтому им будет проще договориться с Китаем независимо от Вашингтона[12].
Несмотря на территориальные споры с КНР, десять стран – членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) также экономически зависят от Китая. Китайские аналитики убеждены: эти государства – плохие кандидаты для американской коалиции против Китая. Эксперты отмечают подозрительность, с которой друг к другу относятся Япония и Южная Корея. Все эти трения усугубляет печальная история японского империализма в Восточной Азии и то, как нынешние политические акторы манипулируют исторической памятью, скрывают или искажают факты в политических целях, в том числе на выборах.
Администрация Трампа создала два новых источника напряжённости с партнёрами: торговые споры, инициированные Соединёнными Штатами против своих давних союзников – Японии, Кореи и Евросоюза, и требования – нередко публичные – разделить с США бремя затрат на альянсы. После введения Соединёнными Штатами пошлин для Японии и Китая в 2018 г., произошло потепление в отношениях Токио и Пекина. Введение пошлин навредило Токио, как и выход администрации Трампа из Транстихоокеанского партнёрства. При этом немногие признают, что пошлины против КНР ударили по японским и американским компаниям, которые завершают производство в Китае или продают комплектующие для цепочки поставок, конечной точкой которых является Китай, а основным целевым рынком – США[13]. В октябре 2018 г. Абэ стал первым за несколько лет японским премьером, посетившим Китай. В целом дипломатические и экономические отношения между двумя самыми мощными государствами Азии улучшились. То же относится и к Южной Корее, где после начала американо-китайского торгового конфликта зафиксировано падение экспорта полупроводников, ключевой отрасли корейской экономики.
Команда Байдена понимает, что альянсы и партнёрства – главная сила США в соперничестве с Китаем. Отказаться от идеи Трампа ослабить эти отношения будет разумно и относительно несложно. Однако было бы ошибкой считать, что американские партнёры и союзники хотят выступить единым фронтом с Америкой против Китая или что они готовы способствовать замедлению экономического роста и ограничению международного влияния КНР, как это делала американская система альянсов против Советского Союза в период холодной войны.
Также было бы ошибкой сконцентрировать американскую политику альянсов или многостороннюю дипломатию на идеологической борьбе с Пекином. Многие важные потенциальные партнёры США, в частности – Вьетнам или Таиланд, не являются государствами-единомышленниками, а либеральные страны-партнёры – Индия и Южная Корея – не хотят, чтобы стратегическое сотрудничество с Америкой означало подход с нулевой суммой в отношении Пекина. То же можно сказать о многих странах Евросоюза. ЕС разделяет опасения Вашингтона по поводу грубой дипломатии и агрессивности Китая после финансового кризиса 2008 года. Он работает над улучшением защиты от краж интеллектуальной собственности и шпионажа. В марте 2019 г. в документе, касающемся безопасности, Еврокомиссия даже назвала Китай «системным соперником, продвигающим альтернативные формы госуправления». Но в стратегических документах той же Еврокомиссии подчёркивается необходимость сотрудничества и экономической интеграции с Пекином и даже «стратегического партнёрства». В конце декабря 2020 г. Евросоюз заключил двустороннее соглашение об инвестициях, которое призвано ещё прочнее связать европейские экономики с Китаем в будущем. Вряд ли это можно назвать холодной войной.
Пределы влияния Китая
Перспектив формирования альянса холодной войны на другой стороне американо-китайского противостояния ещё меньше. У Китая есть формальный союз только с Северной Кореей и прочное партнёрство в сфере безопасности с Пакистаном. Кроме того, выстроены тесные связи с некоторыми членами АСЕАН, прежде всего с Лаосом и Камбоджей. Эти отношения помешали АСЕАН сформировать единую позицию по территориальным спорам в Южно-Китайском море. Но они не укрепили способность Китая проецировать мощь или противодействовать американской системе альянсов в Восточной Азии. Исключением можно считать только Камбоджу, где Китай получил особые портовые права, которые могут облегчить постоянное присутствие китайских ВМС. Но даже там постколониальный национализм препятствует такому развитию событий.
С помощью инициативы «Пояс и путь», запущенной в 2013 г., Пекин сможет выстроить особые отношения с большим числом азиатских и африканских государств, соответственно, будет расти и глобальное влияние Китая. Такие особые отношения скорее помешают этим странам проводить политику, противоречащую интересам Китая, но не заставят их объединиться в альянс, чтобы навредить США и их союзникам. Тем не менее это может стать вызовом для дипломатических усилий Вашингтона и его партнёров. Например, член НАТО Греция блокировала резолюцию ЕС по правам человека в Китае после того, как китайский гигант морских грузоперевозок COSCO инвестировал огромные средства в греческий порт Пирей в рамках проекта «Пояс и путь». Но даже в этом случае Пекин использовал особые отношения для защиты собственной политической системы и не собирался превращать Грецию в платформу для наступления против интересов безопасности НАТО.
С точки зрения Соединённых Штатов, самые важные отношения Китая в сфере безопасности – партнёрство с Россией, ещё одной великой державой со значительным военным потенциалом. Сотрудничество предусматривает совместные военные учения, продажу оружия и дипломатическое взаимодействие в ООН с целью блокировать усилия США и их союзников по оказанию давления или свержению лидеров, подобных сирийскому президенту Башару Асаду. Но китайско-российские отношения не достигают уровня реального альянса. Трудно себе представить, что Китай принимает прямое участие вместе с Россией в событиях вокруг Грузии, Украины или в потенциальном конфликте на Балтике. Точно так же сложно представить, чтобы российские военные участвовали в конфликте в Тайваньском проливе или в морских спорах со странами Восточной Азии. Россия, кстати, продаёт усовершенствованные системы вооружений Вьетнаму и Индии, соперникам Китая в территориальных спорах.
Самая мощная сила, подталкивающая Россию и Китай друг к другу, – это их общее недовольство стремлением предыдущих американских администраций к смене репрессивных режимов и «цветным революциям».
Китай не пытался подрывать демократии, как это делала Россия, но на международных форумах Пекин не раз выступал вместе с Москвой против давления США и либеральных демократий на другие страны из-за их внутренней политики и гуманитарных преступлений. Особенно ярко такое сотрудничество проявилось в случае с Сирией – Москва и Пекин накладывали вето на многочисленные проекты резолюций, подвергавшие критике режим Асада, а также в случае с Венесуэлой, где Америка стремилась свергнуть президента Николаса Мадуро.
Китай известен инвестициями в ресурсы и инфраструктуру в регионах с явным дефицитом демократии. Не менее важно, что Китай экспортирует технологии наблюдения (в том числе камеры высокого разрешения и ПО для распознавания лиц) ради прибыли, потенциально укрепляя наиболее репрессивные режимы мира. Если администрация Байдена откажется от слогана «Америка прежде всего» и вернётся к традиционному продвижению демократии за рубежом, эта практика станет серьёзной проблемой. Тем не менее Китай продаёт такое оборудование любому желающему, независимо от режима, поэтому было бы преувеличением говорить, что китайская политика экспорта направлена на распространение авторитаризма и подрыв демократии. Китай гораздо больше ведёт бизнес с развитыми экономиками мира, в том числе со многими либеральными демократиями, которые являются союзниками или партнёрами Америки в Азии и Европе. Согласно статистике КНР за 2016 г., США и семь их союзников вошли в десятку ведущих торговых партнёров Китая. Поскольку легитимность КПК внутри страны базируется на экономических показателях, будет глупо, если Пекин оттолкнёт от себя развитые либеральные демократии, которые загружают его производство, содействуют технологическому развитию и обеспечивают рынки сбыта для произведённых в КНР товаров. Китай и Россия продолжат сопротивляться попыткам США поддерживать «цветные революции», но только Россия, менее интегрированная в глобальные производственные цепочки, будет стремиться к распространению нелиберальных форм госуправления в мире.
Поучительная история
Глобализация, взаимозависимость и транснациональное производство – безусловно, улица с двусторонним движением, и благополучие многих развитых экономик с либеральной идеологией зависит от Китая. КНР – крупнейший торговый партнёр ключевых союзников США и цель их прямых инвестиций. И хотя многие из них были обеспокоены, когда Пекин отошёл от умеренной внешней и экономической политики после финансового кризиса 2008 г., они разделяют позицию Вашингтона, который всё чаще называет КНР главной угрозой безопасности и идеологической угрозой. Поэтому призывы отделиться от китайской экономики, как во времена холодной войны, не только нереалистичны, но и неразумны. Американская сеть из более чем шестидесяти союзников и партнёров включает самые развитые и высокотехнологичные экономики мира, в том числе Австралию, Францию, Германию, Израиль, Японию, Сингапур, Южную Корею и Великобританию. Эта система безопасности позволяет Соединённым Штатам проецировать мощь по-настоящему глобальной супердержавы. У Китая такой сети альянсов нет, что серьёзно ограничивает проецирование его мощи. Многие американские партнёры скорее станут на сторону США, если Китай перейдёт к агрессивным и экспансионистским действиям.
Китайские элиты, безусловно, об этом знают. Это одна из причин, почему поведение поднимающегося Китая до сих пор остаётся относительно благоразумным. КНР не вела открытых конфликтов с 1988 г. и не участвовала в полномасштабной войне с 1979 года. Сдерживание работает и продолжит работать при соблюдении определённых военных и дипломатических условий. Если Китай не ввяжется в агрессивные военные авантюры, ни один американский союзник не подпишется под жёсткой политикой сдерживания КНР, подобной холодной войне. Даже внутри администрации Трампа не было согласия по поводу таких инициатив, как торговая война с Китаем. Существовал ли план создания рычагов, чтобы сделать китайскую экономику более открытой и углубить интеграцию США и КНР? Американские союзники, сталкивавшиеся с закрытием рынков, госсубсидиями и нарушением прав интеллектуальной собственности, могли бы его поддержать. Но если введение пошлин и других ограничений было призвано замедлить экономический рост Китая, то предложения, напоминающие стратегию холодной войны, могут лишить Вашингтон поддержки союзников.
Однако в период правления Трампа сформировался консенсус, что в некоторых высокотехнологичных сферах, например пятого поколения мобильной связи (5G), Соединённым Штатам и их союзникам лучше избегать интеграции с такими китайскими провайдерами, как Huawei. В этом вопросе администрация Трампа получила мощную поддержку обеих партий – США и их партнёры не должны полагаться на китайские системы. Борьба за внедрение стандартов 5G во всём мире повлияет на будущие бизнес-транзакции, развитие индустрий с использованием искусственного интеллекта и разработку автоматизированных систем вооружений.
В некоторых особо значимых секторах экономики соперничество с Китаем может выглядеть как игра с нулевой суммой по образцу холодной войны. Высокотехнологичная сфера напоминает военную отрасль после введения оружейного эмбарго в 1989 г., а Соединённые Штаты попытаются замедлить прогресс КНР в развитии 5G и искусственного интеллекта. Но даже борьба за 5G демонстрирует низкую вероятность того, что мир будет чётко разделён на два экономических блока. Большинство друзей и союзников США осознают риски вовлечения компаний вроде Huawei в свою коммуникационную инфраструктуру, но американцам пришлось серьёзно потрудиться, чтобы заставить, например, Великобританию и Германию полностью отказаться от продуктов и услуг Huawei. Способность Вашингтона убеждать единомышленников в том, чтобы они избегали китайских продуктов, быстро уменьшится, если речь пойдёт о бойкоте не телекоммуникационных технологий, явно связанных с национальной безопасностью, а более широкого набора продуктов и технологий.
Любая попытка просто навредить экономике Китая или заставить других отделить свою экономику от китайской в XXI веке обречена на провал.
Такую же поучительную историю можно рассказать об отношении правительства США практически к любой внешнеэкономической деятельности Китая, включая инфраструктурные инвестиции, которые в стратегии национальной обороны 2018 г. названы «хищническими»[14]. Такое огульное осуждение звучит неубедительно в Восточной Азии, Центральной Азии и Южной Азии, где Всемирный банк определил более значительные инфраструктурные потребности, чем могут быть удовлетворены даже в рамках масштабной инициативы «Пояс и путь». Вместо того, чтобы жаловаться на китайские кредиты, США и их союзникам следует конкурировать с КНР в экономической дипломатии. Администрация Трампа получила от Конгресса (по Закону о лучшем использовании инвестиций, ведущих к развитию, BUILD Act) 60 млрд долларов для Международной корпорации финансирования развития. Но называя американские деньги «хорошими», а китайские – «хищническими», Соединённые Штаты рискуют проиграть конкуренцию в этой сфере. Большинство стран по-прежнему будут приветствовать китайские инвестиции и ноу-хау в инфраструктурные проекты и не поймут, если американцы назовут их наивными дураками.
Вашингтон также утверждает, что Пекин практикует дипломатию «долговой ловушки», создавая неприемлемый уровень задолженности в определённых странах. Но в Азии эти заявления не услышали. Единственный пример прямой замены долговых обязательств инвестициями – аренда Китаем ланкийского порта Хамбантота на 99 лет. Но это скорее исключение, а не правило. И даже в этом случае вряд ли Пекин изначально хотел спровоцировать долговой кризис и потом этим воспользоваться. Более того, если никто не готов финансировать новые проекты прямыми грантами вместо кредитов – ЕС и США такую готовность не демонстрируют – любой новый проект неизбежно повлечёт за собой рост долгов страны независимо от источника кредитования. А поскольку рыночных стимулов недостаточно, чтобы европейские и американские банки инвестировали в инфраструктуру Азии, деньги Китая часто являются единственной возможностью. Япония, ближайший союзник Соединённых Штатов в Азии, понимает это лучше, чем американцы. Токио не только увеличил собственную инфраструктурную помощь и инвестиции в Азии, но и выразил готовность совместно с Пекином работать по проекту «Пояс и путь» в таких странах, как Индия.
Чего ожидать?
Ключевая позиция Китая в глобальной производственной цепочке и отсутствие борьбы за идеологическое господство между авторитаризмом и либеральной демократией означают, что новая холодная война маловероятна. Должны измениться два фактора, чтобы повторилось нечто похожее на противостояние США и СССР. Если Китай осознанно начнёт кампанию по укреплению авторитаризма и подрыву демократии в мире, тогда американские и китайские союзники будут постоянно сталкиваться друг с другом. Если Пекин решит заменить определённые звенья глобальной производственной цепочки китайскими компаниями вместо иностранных и будет меньше полагаться на глобальные рынки, тогда Китай, возможно, окажется готов принять издержки идеологической борьбы. Подобное развитие вероятно и в том случае, если некоторые страны слишком резко отреагируют на пандемию COVID-19 и станут жертвами национализма и антиглобализации – тогда произойдёт отказ от глобальных экономических трендов, которые связывают Китай и другие крупные экономики в транснациональные цепочки поставок.
Соединённым Штатам и их международным партнёрам необходимо изучить результаты пекинской экономической модели «двойной циркуляции». По крайней мере судя по риторике, этот подход призван отдавать предпочтение внутреннему спросу и производству вместо международных контактов, хотя пространство для последних, безусловно, сохраняется. Движение в противоположном направлении – недавнее открытие Китаем своего финансового сектора для американских инвестиционных банков и двустороннее соглашение об инвестициях между КНР и ЕС, подписанное в декабре 2020 года.
Если политиков и экспертов беспокоит перспектива новой холодной войны, им нужно проанализировать последствия интеграции Китая в глобализированную экономику и отделения от неё. Надо также последить за изменениями в китайской внешней политике в отношении международных конфликтов и гражданских войн, где сталкиваются либеральные и авторитарные политические силы. Пока Китай кардинально не изменит свою позицию по обоим аспектам, холодной войны между США и КНР не будет.
Опубликовано на сайте журнала Foreign Affairs в марте 2021 года. © Council on foreign relations, Inc.
--
СНОСКИ
[1] Zoellick R. “Whither China? From Membership to Responsibility.” a speech to the annual gala of the National Committee on US-China Relations. September 21, 2005. URL: https://2001- 2009.state.gov/s/d/former/zoellick/rem/53682.htm.
[2] See The National Security Strategy of the United States, The White House, December 2017. URL: https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.
[3] Christensen Th.J. “Posing Problems without Catching Up.” International Security 25, No. 4 (2001): 5-40; and The China Challenge, chapter. 4.
[4] Tunsjo O. The Return of Bipolarity in World Politics: China, the United States, and Geostructural Realism. New York: Columbia University Press, 2018.
[5] See Full Text of Xi Jinping’s Report to the 19th CPC National Congress, Xinhua, November 3, 2017. URL: http://www.xinhuanet.com/english/download/Xi_Jinping’s_report_at_19th_CPC_National_ Congress.pdf.
[6] Ў°эНвўЛп设МЪКҐЪёыїоЬб¦НЈЎЄЎЄо¤сй国Нм产党与б¦НЈпЩ党Н‘层对话会ЯѕоЬс«т©讲话.Ў±[CooperationinBuilding a More Beautiful World: The Keynote Speech at the Dialogue of the CCP and World Political Parties]. Xinhua, December 1, 2017. URL: http://www.xinhuanet.com//politics/leaders/2017-12/01/ c_1122045658.htm.
[7] Dobbins J., Shatz H., Wyne A. “Russia Is a Rogue, Not a Peer; China Is a Peer, Not a Rogue: Different Challenges, Different Responses” Rand Corporation PE-310-A, 2019. URL: https:// www.rand.org/pubs/perspectives/PE310.html.
[8] Trofimov Y. “The New Beijing-Moscow Axis.” The Wall Street Journal/ February 1, 2019. URL: https://www.wsj.com/articles/the-new-beijing-moscow-axis-11549036661?emailToken=a611 4fbfd51b469e6df782cf715bfcfcAP9uXXksXFWULgQXn73dxERuZagXDtlN3jwDQ1TJd8fs0541 bVJ0KtgTCScVMH6FR/2mICf+bPZkntPeQMYWyA%3D%3D&reflink=article_email_share
[9] Rosenberger L. “Making Cyberspace Safe for Democracy.” Foreign Affairs, May/June 2020. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2020-04-13/making-cyberspace-safe- democracy.
[10] Hoover Institution. “Chinese Influence Activities in Select Countries.” URL: www.hoover.org/sites/ default/files/research/docs/13_diamond-schell_app2_web.pdf.
[11] Economy E. “Yes, Virginia, China is Exporting Its Model.” Council on Foreign Relations Blog. July 10, 2020. URL: https://www.cfr.org/blog/yes-virginia-china-exporting-its-model
[12] Yang J. “Bu Hui you Xin de Lengzhan,” “There Cannot Be a New Cold War,” Shanghai Institute of International Studies. November 22, 2018. Supporting Yang’s view is Scott, Christopher Scott, “China Hysteria Falls on Deaf Ears in Europe,” Asia Times, March 22, 2019. URL: https://www. asiatimes.com/2019/03/article/in-europe-us-china-hysteria-falls-on-deaf-ears/.
[13] See the Bloomberg video on this topic, entitled “A Third of Japan Inc Hurt by US-Chins Trade War-Reuters Poll.” October 16, 2018. URL: https://www.reuters.com/video/2018/10/16/a-third-of- japan-inc-hurt-by-us-china-tr?videoId=473938099.
[14] Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States of America: Sharpening the American Military’s Competitive Edge, US Department of Defense. URL: https://dod.defense.gov/ Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-Strategy-Summary.pdf.

КАК КНР И РОССИИ ИЗБЕЖАТЬ НОВОЙ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ С США И ИХ СОЮЗНИКАМИ
ЯН ЦЗЕМЯНЬ
Председатель Совета по академическим вопросам Шанхайской академии международных исследований, ведущий научный сотрудник.
Смена администрации США не повлияла на тенденцию сдерживания Вашингтоном Китая и России. Более того, администрация Байдена пытается мобилизовать европейских, азиатских и прочих союзников, чтобы оказывать максимальное давление на Пекин и Москву. В этих сложных условиях Китай и Россия должны не только реагировать соответственно, но и координировать намерения и действия друг друга. Китай и Россия не планируют создавать антиамериканский альянс, но хотят совместными усилиями не допустить новой холодной войны с Соединёнными Штатами и их союзниками.
Пекин и Москва демонстрировали это последние 25 лет, основываясь на концепции своего стратегического партнёрства, противодействуя американскому давлению в двусторонних, трёхсторонних и многосторонних аспектах.
Соответствующее реагирование. Столкнувшись с силовым и агрессивным давлением США, Китай и Россия вынуждены защищать государственный суверенитет и независимость, конституционную систему, эффективное управление и национальные интересы, а также вводить контрсанкции. С точки зрения Китая и России, это вопросы национального и государственного выживания.
Двусторонняя координация. Пекин и Москва укрепляли и углубляли стратегическое партнёрство с 1996 года. Они могут похвастаться длинным списком достижений, но в основном в политической, военной и прагматической, а не в экономической, стратегической и культурной сферах.
Трёхстороннее взаимодействие. КНР и Россия по-прежнему уделяют основное внимание двусторонним отношениям с Соединёнными Штатами, но всё больше осознают важность и необходимость трёхстороннего взаимодействия. Одним из примеров переформатирования отношений в неравностороннем треугольнике является отказ от стремления улучшить отношения с США в пользу укрепления двусторонних отношений в противовес Америке.
Многостороннее взаимодействие. Китай и Россия сотрудничают в рамках Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Они также поддерживают друг друга в Совете Безопасности ООН и G20. Тем не менее у них есть собственные представления о политике в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.
При этом в отношениях Пекина и Москвы с Вашингтоном есть очевидные недостатки и слабости.
Во-первых, правительства Китая и России до сих пор предпочитали не обсуждать основные разногласия не только публично, но даже приватно. Это, однако, не означает, что их не существует. Стороны далеко не всегда сходятся во мнениях. Например, Пекин и Москва по-разному относятся к таким темам, как Крым или энергетика. В экспертных кругах двух стран часто ставят под сомнение целесообразность и устойчивость стратегии и политики другой стороны, особенно в отношении США, Японии и Индии. Кроме того, сторонам необходима координация повестки в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Во-вторых, Китаю и России нужно расширять стратегическое партнёрство на фоне западной системы альянсов. С одной стороны, стратегическое партнёрство является более инклюзивым и гибким, чем альянсы, но с другой – менее обязывающим и эффективным. Кроме того, стратегические партнёры Китая и России часто становятся их жёсткими критиками, принимая сторону Запада.
Перед Китаем и Россией стоит задача консолидировать двустороннее стратегическое партнёрство и расширить круг своих друзей.
В-третьих, Китаю и России необходимо создавать базу внутренних стимулов, чтобы вывести стратегическое партнёрство на новый уровень. Что касается более широкого и продвинутого экономического сотрудничества, следует перейти от ведения бизнеса к экономическому и финансовому взаимодействию, от проектного сотрудничества к координации промышленной политики и от обмена информацией – к политическим консультациям. В политическом плане Китай и Россия должны стремиться к большей легитимации и концептуальной обоснованности своих государственных систем и управления.
Кроме того, сторонам нужно работать над эффективностью координации в дипломатии и сфере безопасности, синхронизировать двустороннее и многостороннее сотрудничество, демонстрируя региональную и глобальную солидарность и совместными усилиями расширяя пространство для дискуссий.
В этом году исполняется двадцать лет китайско-российскому договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (подписан 16 июля 2001 г.). Пора изучить прошлое и добавить в партнёрство новые параметры в соответствии с реалиями внутренней и внешней политики. Китай и Россия должны стремиться к новому типу отношений великих держав в интересах всего мира. Новая холодная война не предопределена, но она может начаться в результате грубой ошибки международного сообщества, которое сейчас находится на распутье.

НА ГРАНИ ВОЙНЫ
КЕВИН РАДД
Бывший премьер-министр Австралии, президент Института политики Азиатского общества в Нью-Йорке.
КАК НЕ ДОПУСТИТЬ КАТАСТРОФЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНФРОНТАЦИИ МЕЖДУ США И КИТАЕМ
У официальных лиц в Вашингтоне и Пекине хватает разногласий по многим вопросам, но есть нечто, в чём они полностью солидарны: в 2020-е гг. соперничество между двумя странами вступит в решающую фазу. Это опасное десятилетие.
Независимо от того, какую стратегию выберут стороны или какие события развернутся на наших глазах, напряжённость между США и Китаем будет нарастать, а конкуренция – обостряться. Это неотвратимо, хотя войну нельзя считать неизбежной. Остаётся возможность договориться о защитных механизмах для предотвращения катастрофы. Я называю это «управляемой стратегической конкуренцией», способной снизить риск эскалации соперничества и её перехода в фазу открытого конфликта.
Компартия Китая всё более уверена в том, что к концу десятилетия китайская экономика, наконец, превзойдёт американскую в номинальном выражении по рыночному обменному курсу и станет крупнейшей в мире. Западные элиты могут недооценивать значение этой вехи, но Политбюро ЦК КПК относится к ней очень серьёзно. Для Китая размер всегда имел значение. Первая позиция в мировой табели о рангах даст Пекину новый рычаг влияния в отношениях с Вашингтоном, резко повысит его уверенность в себе и увеличит вероятность того, что Центральный банк Китая отпустит юань в свободное плавание, откроет счёт движения капитала и бросит вызов доллару как мировой резервной валюте. Тем временем КНР продолжает наступать и на других фронтах. Согласно новому плану, объявленному прошлой осенью, к 2035 г. китайцы собираются доминировать во всех новых технологиях, включая искусственный интеллект. А к 2027 г. Пекин намерен завершить программу военной модернизации (на семь лет раньше прежнего графика). Главная цель такой спешки – обеспечить решающее преимущество во всех возможных сценариях вооружённого столкновения с Соединёнными Штатами по поводу Тайваня. Победа в этом конфликте позволила бы президенту Си Цзиньпину осуществить принудительное воссоединение с Тайванем до ухода из власти. Это достижение обеспечило бы ему место в пантеоне КПК наравне с Мао Цзэдуном.
Вашингтон должен быстро решить, как реагировать на самонадеянные планы Пекина.
Если США склонятся к экономическому разъединению и открытой конфронтации, все страны мира будут вынуждены выбирать, на чью сторону встать, и риск эскалации только возрастёт.
Среди политиков и экспертов бытует понятный и объяснимый скепсис по поводу способности Вашингтона и Пекина избежать такого исхода. Многие сомневаются, что американские и китайские лидеры смогут установить определённые рамки в дипломатических отношениях, военных операциях и деятельности в киберпространстве, чтобы обеспечить стабильность, избежать случайной, непреднамеренной эскалации и при этом сохранить пространство для конкуренции и сотрудничества в двусторонних отношениях. Нужно подумать о процедурах и механизмах сродни тем, что выработали США и СССР для управления отношениями после кубинского ракетного кризиса 1962 г., но в данном случае без обретения опыта игры со смертью, когда сверхдержавам с трудом удалось избежать большой войны.
Управляемая стратегическая конкуренция включала бы жёсткие ограничения на проведение политики в сфере безопасности каждой из сторон, но допускала бы полноценную и открытую конкуренцию на дипломатическом, экономическом и идеологическом фронтах. Она бы также давала Вашингтону и Пекину возможность сотрудничать в некоторых областях посредством двусторонних договорённостей, а также многосторонних форумов. Хотя такое соглашение выработать трудно, это всё же возможно, тем более что любые альтернативы с большой долей вероятности приведут к катастрофе.
Отдалённая перспектива Пекина
В Соединённых Штатах мало кто всерьёз анализирует внутриполитические и экономические движущие силы большой стратегии Китая, её содержание или способы реализации в последние десятилетия. В Вашингтоне обсуждают то, что необходимо делать Соединённым Штатам, но совершенно не задумываются о том, приведёт ли тот или иной курс к реальным переменам в стратегии Китая. Яркий пример подобной внешнеполитической близорукости – речь госсекретаря Майка Помпео, произнесённая в июле прошлого года, когда он призвал к свержению КПК. «Мы, свободолюбивые страны мира, должны убедить Китай в необходимости перемен», – заявил он. В том числе за счёт «наделения китайского народа полномочиями». Однако единственное, что может заставить китайцев восстать против партийного государства – это разочарование в связи с неубедительными итогами правления КПК, её неспособностью решить проблему безработицы или проблему национальной катастрофы (например, пандемии) либо широкомасштабное ужесточение и без того значительного политического гнёта. Стимулирование такого недовольства извне, особенно со стороны Вашингтона, вряд ли поможет. Скорее наоборот – лишь затормозит любые перемены. Кроме того, союзники США никогда не поддержат подобный подход, поскольку в последние десятилетия стратегия смены режимов не приносила желаемых результатов. Наконец, высокопарные заявления наподобие тех, с которыми выступил Помпео, полностью контрпродуктивны, потому что укрепляют позиции Си внутри страны, позволяя ему указывать на угрозу внешних диверсий и подрывной деятельности в качестве оправдания дальнейшего ужесточения мер внутренней безопасности. И, в случае чего, ему будет легче сплотить недовольные элиты КПК на борьбу с внешней угрозой.
Последний фактор особенно важен для Си, потому что одна из его целей – остаться у власти до 2035 г., когда ему исполнится 82 года. Это возраст, в котором умер Мао. Решимость Си отражается в отмене ограничений по срокам пребывания на высшем посту и недавнем объявлении плана экономического развития до 2035 года. Кроме того, Си даже не намекал на возможного преемника, хотя формально до окончания срока его пребывания на посту руководителя КПК остаётся всего два года. Си пережил трудные месяцы в начале 2020 г. из-за замедления экономики и пандемии COVID-19, китайское происхождение которой вынудило КПК обороняться. Но к концу года официальные средства массовой информации Китая приветствовали Си как нового «великого кормчего и штурмана», победившего в героической «народной войне» с коронавирусом. Действительно, сумбурные и беспорядочные действия Соединённых Штатов и ряда других западных стран, не знавших, как быстро и эффективно обуздать пандемию, во многом помогли Си. КПК указывала на эти действия как на доказательство превосходства китайской авторитарной системы. На тот случай, если какие-либо честолюбивые партийные функционеры решат подумать об альтернативном кандидате, который смог бы возглавить партию после окончания срока пребывания Си у руля в 2022 г., он устроил крупную чистку партийных рядов для избавления от недостаточно лояльных ему членов – «кампанию исправления», согласно терминологии КПК.
Между делом Си осуществил широкомасштабную кампанию подавления уйгурского меньшинства в Синьцзяне, кампанию удушения гражданского общества в Гонконге, усмирения Внутренней Монголии и Тибета, а также травли диссидентов в среде интеллектуалов, юристов, артистов и религиозных деятелей во всём Китае. Си уверовал, что КНР не следует больше бояться санкций, которые США могли бы ввести против его страны или отдельных официальных лиц в ответ на нарушение прав человека. С его точки зрения, экономика Китая сегодня достаточно сильна, чтобы пережить подобные санкции, и партия сможет защитить своих функционеров от любых неприятностей. Кроме того, другие страны вряд ли примут односторонние санкции США из-за опасения ответных действий Пекина. Тем не менее КПК не может игнорировать урон, который способны нанести глобальному бренду Китая сообщения о жестоком обращении с меньшинствами. Именно поэтому Пекин в последнее время активизировался на международных форумах, включая Совет ООН по правам человека, где заручился поддержкой своей кампании противодействия давно устоявшимся универсальным нормам в области прав человека и регулярно критикует американцев за мнимое нарушение этих самых норм.
Си также намерен добиваться самодостаточности Китая для противодействия любым попыткам Вашингтона отделить экономику Соединённых Штатов от китайской или использовать свой контроль над мировой финансовой системой, чтобы помешать дальнейшему подъёму КНР. Эти усилия составляют сердцевину того, что Си называет экономикой двойного обращения (или двойной циркуляции): сдвиг от экспортной зависимости к внутреннему потреблению в качестве долгосрочного драйвера экономического роста и опора на гравитационную силу крупнейшего потребительского рынка мира для привлечения иностранных инвесторов и поставщиков на условиях Пекина. Недавно Си объявил о новой стратегии в области промышленного производства, а также технологических исследований и разработок для снижения зависимости от импорта некоторых ключевых технологий (полупроводников).
Проблема в том, что предпочтение отдаётся партийному контролю и государственным предприятиям вместо поощрения инновационного, предприимчивого и без устали работающего частного сектора, благодаря которому и стал возможен выдающийся экономический успех страны в течение двух последних десятилетий. Чтобы справиться с внешней экономической угрозой, исходящей, по мнению КПК, от Вашингтона, и с внутренней политической угрозой со стороны частных предпринимателей, долгосрочное влияние которых угрожает власти КПК, Си предстоит решить дилемму, хорошо знакомую всем авторитарным режимам: как ужесточить центральный политический контроль, не снижая уверенности и динамики в деловом секторе.
С аналогичной дилеммой Си сталкивается и тогда, когда речь заходит о цели первостепенной важности: установление контроля над Тайванем. Похоже, Си пришёл к выводу, что Китай и Тайвань сегодня дальше от мирного воссоединения, чем когда-либо за семьдесят последних лет. Вероятно, такое предположение справедливо. Но Китай недооценивает собственную роль в расширении этой пропасти. Многие из тех, кто верил, будто политическая система Китая будет становиться более либеральной по мере открытия его экономики, теснее переплетённой с остальным миром, надеялись, что этот процесс в итоге позволит Тайваню более терпимо относиться к воссоединению. Вместо этого Китай при Си стал более авторитарным, и надежда на воссоединение по формуле «одна страна, две системы» испарилась. Жители Тайваня внимательно наблюдают за Гонконгом, где Пекин ввёл новый жёсткий закон о национальной безопасности, арестовал оппозиционных политиков и ограничил свободу средств массовой информации.
Поскольку мирное воссоединение больше не стоит на повестке дня, стратегия Си предельно ясна: резко увеличить военную мощь в Тайваньском проливе до такой степени, чтобы отбить у Соединённых Штатов охоту ввязываться в войну, которая, по оценке американских экспертов, может закончиться поражением Вашингтона. Си считает, что без поддержки США Тайвань либо капитулирует, либо попытается сражаться в одиночку и потерпит поражение. Однако при таком подходе игнорируются три фактора. Во-первых, сложность оккупации острова размером с Нидерланды и с рельефом Норвегии, имеющим хорошо вооружённое 25-миллионное население. Во-вторых, грубое применение военной силы нанесёт непоправимый урон политической легитимности Китая на мировой арене. В-третьих, непредсказуемость внутриполитической ситуации в Америке, от которой будет зависеть характер реакции в случае возникновения такого кризиса.
Проецируя на Вашингтон свой глубокий стратегический реализм, Пекин заключил, что США никогда не ввяжутся в войну, в которой не могут победить, потому что это было бы смертельно для будущего американской мощи, престижа и положения в мире.
Однако в своих расчётах китайские стратеги не учитывают обратную динамику при таком выборе американского руководства: отказ сражаться за родственную демократию, которую Соединённые Штаты поддерживали на протяжении всей послевоенной истории, был бы такой же катастрофой для Вашингтона, особенно если подумать о том, как это будет воспринято его союзниками в Азии. Последние могут заключить, что американские гарантии безопасности, на которые они так долго полагались, на самом деле бесполезны, поэтому им нужно заключать пакты о ненападении с Китаем.
Что касается притязаний Китая на морскую акваторию и территории в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, Си не уступит здесь ни пяди. Пекин продолжит оказывать давление на соседние страны Юго-Восточной Азии в Южно-Китайском море, активно оспаривая принцип свободы навигации, прощупывая слабые стороны в коллективной готовности защищать общее благо и решимость отдельных стран. Вместе с тем Китай воздержится от провокаций, которые могли бы привести к прямой военной конфронтации с Вашингтоном, потому что на данном этапе не вполне уверен в своей победе. На продолжающихся переговорах со странами Юго-Восточной Азии, которые претендуют на совместное использование энергетических ресурсов и рыбных промыслов в Южно-Китайском море, Пекин попытается заставить их считаться со своими интересами. С этой целью Китай, как всегда, станет в полной мере использовать экономические рычаги в надежде добиться нейтралитета от государств региона в случае военного инцидента либо кризиса с участием США или их союзников. В Восточно-Китайском море КНР продолжит наращивать военное давление на Японию вокруг спорных островов Сенкаку/Дяоюйдао, но, как и в Юго-Восточной Азии, маловероятно, что Пекин пойдёт на риск вооружённого конфликта, особенно с учётом однозначного характера гарантий безопасности, которые США предоставили Японии. Любой риск поражения в этом конфликте, каким бы малым он ни был, политически неприемлем для Пекина, поскольку будет иметь самые серьёзные внутриполитические последствия.
Америка глазами Си
За всеми этими стратегическими раскладами стоит уверенность Си, отражённая в официальных заявлениях Китая и литературе КПК, что Соединённые Штаты переживают неуклонный и необратимый структурный упадок. Сегодня это убеждение опирается на массив доказательств. Расколотое американское правительство не сумело выработать национальную стратегию долгосрочных инвестиций в инфраструктуру, образование, фундаментальную науку и технологии. Администрация Трампа нанесла урон американским альянсам, отказалась от либерализации торговли, освободила США от бремени лидерства в послевоенном мировом порядке и подорвала дипломатические возможности Америки. Республиканская партия отдана на откуп крайне правым, а политический класс и электорат настолько глубоко поляризованы, что любому президенту будет трудно добиться поддержки долгосрочной двухпартийной стратегии по Китаю. Си считает маловероятным, что Вашингтону удастся восстановить доверие к себе как к региональному и мировому лидеру. И он делает ставку на то, что в середине и конце нынешнего десятилетия такую точку зрения начнут разделять другие мировые лидеры, которые скорректируют стратегические расчёты и планы, постепенно переходя от игры на стороне Вашингтона против Пекина к хеджированию рисков между двумя сверхдержавами, а затем к солидаризации с КНР.
Но Китай беспокоится, что Вашингтон сможет доставить Пекину много неприятностей до тех пор, пока мощь США не сойдёт на нет окончательно. Си тревожит не только возможное военное столкновение, но также быстрое и радикальное экономическое разъединение. Более того, дипломатический истеблишмент КПК опасается: администрация Байдена, понимая, что США в скором времени будут не способны в одиночку противостоять растущей мощи Китая, сформирует действенную коалицию стран демократического капиталистического мира с целью коллективного противостояния ему. В частности, лидеры КПК полагают, что предложение президента Джо Байдена провести саммит крупных демократий мира может стать первым шагом на этом пути. Потому Китай и взялся в ускоренном порядке подписывать новые соглашения в сфере торговли и инвестиций со странами Европы и Азии до того, как новая администрация пришла в Белый дом.
Памятуя о сочетании рисков ближайшего времени и долгосрочного усиления Китая, Си предпочитает играть вдолгую.
Поначалу общая дипломатическая стратегия Пекина в отношении администрации Байдена сведётся к снижению напряжённости и скорейшей стабилизации двусторонних отношений для предотвращения любых кризисов в сфере безопасности. С этой целью Пекин будет стремиться восстановить с Вашингтоном полномасштабные военные контакты на высшем уровне, по большому счёту прерванные при администрации Трампа. Си может также попробовать начать постоянный политический диалог на высшем уровне. Вашингтон, правда, не демонстрирует интереса к возобновлению стратегического и экономического диалога между США и Китаем, служившего основным каналом взаимодействия между двумя странами, пока он не был свёрнут в разгар торговой войны 2018–2019 годов. Наконец, Пекин может в ближайшее время умерить военную активность на тех территориях, где Народная освободительная армия Китая непосредственно соприкасается с вооружёнными силами США – в частности, в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня. КПК при этом исходит из того, что администрация Байдена откажется от политических визитов в Тайбэй на высоком уровне, которые стали определяющей чертой последнего года пребывания администрации Трампа в Белом доме. Однако для Пекина это тактические, но не стратегические перемены.
Поскольку Си пытается снять напряжённость в ближайшей перспективе, ему придётся решать, стоит ли продолжать жёсткую стратегию против Австралии, Канады и Индии – друзей или союзников США – либо смягчить политику в отношении этих стран. Неуступчивая линия Пекина выражалась в глубоком замораживании дипломатических контактов и экономическом принуждении, а в случае Индии – в прямой военной конфронтации. Си будет ждать ясного сигнала от Вашингтона, что, если Китай хочет стабилизации отношений, ему придётся положить конец таким принудительным мерам против партнёров Америки. Если таких сигналов не поступит – а при президенте Трампе их не было – то Пекин возобновит свою обычную практику.
Си также склонен объединить усилия с Байденом в противодействии изменениям климата. Этому способствует растущая уязвимость его страны перед экстремальными погодными явлениями. Он понимает, что у Байдена есть возможность завоевать престиж на международной арене, если Пекин будет сотрудничать с Вашингтоном в борьбе с изменением климата, учитывая обязательства Белого дома вплотную заняться этой проблематикой. Си знает, что Байден захочет продемонстрировать: его взаимодействие с Пекином привело к ограничению углеродных выбросов в китайское небо. По мнению Китая, эти факторы дадут Си рычаг в выстраивании отношений. И Си надеется, что сотрудничество в области климата поможет стабилизировать американо-китайские отношения в целом.
Однако корректировка китайской политики в этой сфере всё же будет скорее тактическим, нежели стратегическим ходом. На самом деле, с момента прихода Си к власти в 2013 г., китайская стратегия в отношении США отличается выдающейся последовательностью, и Пекин был удивлён сравнительно вялой и ограниченной реакцией Вашингтона на его действия – по крайней мере, до недавнего времени. Си, вдохновляемый марксистско-ленинским детерминизмом, также полагает, что история – на его стороне. Как и Мао, он стал грозным стратегическим конкурентом для Соединённых Штатов.
При новом управлении
Пожалуй, китайские лидеры предпочли бы увидеть переизбрание Трампа на прошлогодних президентских выборах. Нельзя сказать, что Си усматривал стратегическую ценность во всех элементах внешней политики Трампа. КПК находила торговую войну администрации Трампа унизительной, её шаги к разъединению двух экономик – тревожными, её критику положения дел с правами человека в Китае – оскорбительной, а формальное объявление Китая «стратегическим конкурентом» – отрезвляющим. Но большинство стратегов во внешнеполитическом истеблишменте КПК считают недавний сдвиг в позиции США относительно Китая структурным, то есть неизбежным побочным продуктом меняющегося баланса сил между двумя странами. Ряд китайских экспертов вздохнули с облегчением, когда на смену притворному двустороннему сотрудничеству пришла открытая стратегическая конкуренция.
По этой логике теперь, когда Вашингтон скинул маски, Китай сможет быстрее двигаться вперёд – в некоторых случаях открыто – к реализации своих стратегических целей, в то же время претендуя на роль обиженной и огорчённой стороны с учётом воинственного американского настроя.
Однако самым большим подарком, который Трамп преподнёс Пекину, был воцарившийся в годы его президентства хаос внутри Соединённых Штатов, а также в отношениях Вашингтона и его союзников. Китай смог эксплуатировать трещины в отношениях между либеральными демократиями, пытавшимися как-то сориентироваться в условиях протекционистской политики Трампа, выхода США из соглашения о климате, отрицания других международных соглашений, ярого национализма и презрения ко всем формам многосторонних отношений. В годы президентства Трампа Пекин выиграл не только от того, что он предлагал миру, но и благодаря тому, что Вашингтон перестал предлагать многие блага. В итоге Китай одержал яркие победы – это, в частности, подписание широкомасштабного соглашения о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе, известного как Региональное всеобъемлющее экономическое партнёрство, а также Всеобъемлющего соглашения об инвестициях с ЕС, по которому китайская и европейская экономики будут переплетены гораздо теснее, чем того хотелось бы Вашингтону.
Китай опасается, что администрация Байдена поможет Америке оправиться от этих ран, которые она сама же себе и нанесла. Пекин уже видел, как быстро Вашингтон может восстанавливаться после политических, экономических и военных катастроф. Тем не менее КПК сохраняет уверенность в том, что внутриполитический раскол не позволит недавно заступившей администрации добиться поддержки новой последовательной стратегии в отношении Китая.
Байден намерен доказать, что Пекин не прав, думая, будто США вступили в эпоху необратимого упадка. Он попытается использовать свой обширный опыт на Капитолийском холме для выработки внутренней экономической стратегии, которая позволит восстановить американскую мощь в мире после окончания пандемии. Вероятно, он продолжит укреплять военный потенциал и делать всё необходимое для сохранения американского мирового лидерства в сфере новых технологий. Байден собрал команду экономических, внешнеполитических советников, а также экспертов в области национальной безопасности. Это опытные профессионалы, хорошо знающие Китай. Их предшественники за исключением пары экспертов среднего звена, плохо разбирались в Китае и ещё хуже понимали, как действовать Вашингтону. Советники Байдена также понимают, что для возрождения мощи США за рубежом нужно прежде восстановить экономику страны, сократить пугающую пропасть между богатыми и бедными и резко увеличить экономические возможности для всех американцев. Это поможет Байдену сохранить политические рычаги, необходимые для выработки долгосрочной стратегии в отношении Китая при поддержке обеих партий. Принятие такой стратегии будет нетривиальным достижением в условиях, когда у его оппонентов-конъюнктурщиков, например, Помпео, имеется достаточно стимулов, чтобы опорочить любой план, представив его попыткой умиротворения Пекина.
Чтобы стратегия вызывала доверие внутри страны, армия США должна на несколько шагов опережать Китай с его бурно развивающимися военными возможностями, о чём Байдену тоже следует позаботиться. Выполнение этой задачи затруднено бюджетными ограничениями и давлением некоторых фракций внутри Демократической партии, требующих снижения военных расходов для поддержки программ соцобеспечения. Чтобы стратегия Байдена выглядела убедительной в глазах Пекина, администрации нужно наращивать оборонный бюджет и покрывать растущие расходы в Индо-Тихоокеанском регионе за счёт перенаправления военных ресурсов с менее напряжённых театров военного противостояния (из Европы).
По мере укрепления Китая крупнейшие и ближайшие союзники США будут становиться для Вашингтона всё важнее. Впервые за много десятилетий Соединённым Штатам понадобится совокупный вес и влияние союзников для поддержания общего баланса сил против главного противника. Китай попытается ослабить связь Америки с такими странами, как Австралия, Канада, Франция, Германия, Япония, Южная Корея и Великобритания, используя комбинацию экономического кнута и пряника. Чтобы не допустить успеха КНР на этом направлении, администрации Байдена нужно полностью открыть экономику для главных стратегических партнёров. Американцы гордятся тем, что у них одна из самых открытых экономик мира, но это не соответствовало действительности ещё до того, как Трамп взял курс на протекционизм. Вашингтон давно уже ставит даже перед самыми близкими союзниками устрашающие пошлинные и беспошлинные барьеры, от чего страдает торговля, инвестиции, финансовый и человеческий капитал, сфера высоких технологий.
Если США желают и дальше оставаться центром того, что до недавних пор называли «свободным миром», им нужно создать беспрепятственную трансграничную экономику, которая объединит азиатских, европейских и североамериканских партнёров и союзников.
Для этого Байдену необходимо поддержать новые торговые соглашения и открыть рынки, преодолев протекционистский соблазн, которому поддался Трамп. Чтобы снять опасения скептически настроенного электората, придётся доказать американцам, что подобные соглашения, в конце концов, приведут к снижению цен, повышению заработных плат, увеличению возможностей для промышленности, более надёжным мерам по защите окружающей среды. Ему необходимо заверить земляков, что выгоды от либерализации торговли повысят качество образования, здравоохранения и ухода за детьми.
Администрация Байдена будет также стремиться восстановить лидерство США в таких многосторонних организациях, как ООН, Всемирный банк, Международный валютный фонд и Всемирная торговая организация. Большая часть мира приветствует возвращение Соединённых Штатов после четырёх лет саботажа институтов послевоенного устройства мира со стороны администрации Трампа. Но за пару дней причинённый урон не восполнить. Наиболее безотлагательные задачи – исправление нарушенной процедуры оспаривания-разрешения спора в ВТО, возвращение в Парижское соглашение по изменению климата, повышение капитализации Всемирного банка и Международного валютного фонда (в качестве заслуживающих доверия альтернатив Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций Китая и его инициативе «Пояс и путь»). Не менее важно восстановление финансирования критически важных агентств ООН. Эти организации не только были инструментами мягкой силы США, содействовавших их созданию после последней мировой войны – их деятельность существенно влияет на жёсткую американскую силу в таких областях, как нераспространение ядерных вооружений и контроль над вооружениями. Если Вашингтон не возобновит активное участие в этих организациях, они ускоренными темпами начнут превращаться в китайские сатрапии вследствие получения финансирования и квалифицированных кадров из Китая, а также усиления влияния быстро растущей азиатской сверхдержавы.
Управляемая стратегическая конкуренция
Глубоко противоречивая суть стратегических целей США и Китая и конкурентный характер их взаимоотношений может сделать вооружённый конфликт и даже войну между ними почти неизбежными, даже если ни одна из сторон не желает такого исхода. Китай будет стремиться к достижению глобального экономического доминирования и регионального военного превосходства над США, не провоцируя прямой конфликт с Вашингтоном и его союзниками. Добившись превосходства, Китай постепенно изменит отношение к другим странам, особенно если их политика входит в противоречие с постоянно меняющимся в Пекине определением ключевых национальных интересов. Помимо всего прочего, Китай уже стремится постепенно подчинить систему многосторонних связей своим национальным интересам и ценностям.
Однако поэтапный, мирный переход к международному порядку, устраивающему китайское руководство, сегодня кажется менее вероятным, чем несколько лет назад. Несмотря на все причуды Трампа и изъяны его администрации, решение объявить Китай стратегическим конкурентом, формально положить конец доктрине стратегического взаимодействия и начать торговую войну с Пекином дало ясно понять китайским лидерам, что Вашингтон готов к большому сражению. А план администрации Байдена возродить основы национальной мощи США внутри страны, восстановить союзнические отношения с зарубежными партнёрами и отказаться от упрощенческого возврата к более ранним формам стратегического взаимодействия с Китаем сигнализирует о продолжении соперничества, которое, правда, будет сглаживаться сотрудничеством в ряде областей.
Следовательно, главный вопрос для Вашингтона и Пекина состоит в том, смогут ли они продолжать стратегическую конкуренцию на высоком уровне в рамках согласованных параметров, снижающих риск кризиса, вооружённого конфликта и войны. Теоретически это возможно, но практически почти полное размывание доверия резко увеличивает сложность реализации такого сценария. На самом деле, многие в американском сообществе национальной безопасности считают, что КПК всегда лгала или скрывала истинные намерения без малейших угрызений совести, чтобы вводить в заблуждение противников. По их мнению, китайская дипломатия нацелена на то, чтобы связать противнику руки и выгадать время для достижения превосходства в военной сфере, а также в области безопасности и разведки, чтобы затем уже закрепить новый расклад сил на земле. Следовательно, для получения широкой поддержки внешнеполитических элит США, разработчикам любой доктрины управляемой стратегической конкуренции нужно будет включить в неё положение о том, что в новой дорожной карте обе стороны должны опираться на практику «доверяй, но проверяй».
Идея управляемой стратегической конкуренции основывается на глубоко реалистичном представлении о мировом порядке. Она исходит из того, что страны и дальше будут стремиться к безопасности за счёт смещения баланса сил в свою пользу, признавая при этом, что тем самым создают дилеммы в сфере безопасности для других стран, фундаментальные интересы которых могут пострадать от их действий. Весь фокус в том, чтобы снизить риски для обеих сторон по мере развёртывания конкуренции между ними посредством разработки ограниченного числа строгих правил в рамках дорожной карты для недопущения войны. Эти правила позволят каждой из сторон энергично конкурировать друг с другом по всему политическому и региональному спектру.
Но если одна из сторон нарушит эти правила, положение кардинально изменится, и вернётся опасная неопределённость закона джунглей.
Перед созданием такого механизма следует, прежде всего, определить несколько ближайших шагов, которые необходимо сделать каждой из сторон для начала диалога по существу, а также ввести немногочисленные жёсткие ограничения, которые обеим сторонам (и союзникам США) нужно соблюдать. Например, воздерживаться от кибератак, нацеленных на критически важную инфраструктуру. Вашингтон должен вернуться к неукоснительному проведению политики «одного Китая», положив конец провокационным и ненужным визитам в Тайбэй на высоком уровне, которые осуществляла администрация Трампа. Со своей стороны, Пекину надо отказаться от провокационных военных учений, развёртывания воинского контингента и манёвров в Тайваньском проливе. КНР не должна заявлять свои права на новые острова в Южно-Китайском море или милитаризировать их. Необходимо также принять на себя обязательство уважать свободу навигации и воздушных полётов. Со своей стороны, Соединённые Штаты смогут в этом случае (и только в этом) сократить число операций, проводимых в данной акватории. Аналогичным образом Китай и Япония могли бы со временем по взаимному согласию сократить воинские контингенты в Восточно-Китайском море.
Если обе стороны согласятся с такими условиями, каждой из них придётся смириться с тем, что другая сторона всё же будет стараться максимально нарастить преимущества в рамках принятых ограничений. Вашингтон и Пекин продолжат конкурировать за стратегическое и экономическое влияние в разных регионах мира. Они не перестанут искать взаимный доступ на рынки друг друга и принимать ответные меры, если в таком доступе им откажут. Они и дальше будут конкурировать на рынках зарубежных инвестиций, технологий, капитала и на валютном рынке. И они, вероятно, активизируют борьбу за умы и сердца жителей всей планеты. При этом Вашингтон не прекратит подчёркивать важность демократии, открытой экономики и прав человека, а Пекин – доказывать преимущества авторитарного капитализма и того, что он называет «китайской моделью развития».
Но, несмотря на эскалацию конкуренции, в ряде важных областей появится место для сотрудничества. Оно имелось даже между США и СССР в разгар холодной войны и, конечно, возможно сейчас между США и КНР, ведь ставки далеко не так высоки, как тогда. Помимо сотрудничества в области противодействия изменению климата, две страны могли бы проводить двусторонние переговоры по контролю над ядерными вооружениями, в том числе по взаимной ратификации Всеобъемлющего договора о запрете ядерных испытаний. Они способны взаимодействовать по вопросу ядерного разоружения Северной Кореи и недопущения превращения Ирана в ядерную державу, а также принять ряд мер по укреплению доверия в Индо-Тихоокеанском регионе в части координации действий в случае природной катастрофы и совместных гуманитарных миссий. Вместе можно работать над повышением мировой финансовой стабильности – в том числе согласившись реструктурировать долги развивающихся стран, пострадавших от пандемии. И совместными усилиями выстроить более эффективную систему распределения вакцины от COVID-19 в развивающемся мире.
Это далеко не исчерпывающий перечень, но стратегическое обоснование всех инициатив одно и то же: обеим странам лучше действовать в рамках согласованного механизма управляемой конкуренции, чем не придерживаться никаких правил. Параметры новых договорённостей должны согласовать назначенный и доверенный высокопоставленный представитель Байдена и его китайский партнёр, близкий к Си. Только прямой канал такого рода для обмена мнениями на высоком уровне способен обеспечить понимание обеими сторонами жёстких ограничений и согласие с ними. Эти высокопоставленные представители обязаны поддерживать тесное общение, чтобы в случае нарушения договорённостей была возможность предотвратить обострение отношений. Со временем есть шанс добиться минимального уровня стратегического доверия. И, возможно, обе стороны обнаружат, что выгоды от сотрудничества для совместного поиска ответов на глобальные вызовы, в частности – изменение климата, оказывают влияние на другие конкурентные и даже конфликтные сферы взаимоотношений. Многие станут критиковать такой подход как наивный. Однако никто не мешает предложить что-то лучшее. И Соединённые Штаты, и Китай нуждаются в формуле управления двусторонними отношениями в предстоящее опасное десятилетие.
Суровая правда жизни в том, что невозможно эффективно управлять взаимоотношениями между странами без подписания фундаментального соглашения об условиях управления двусторонними отношениями.
Игра начинается!
Если США и Китай договорятся о таком стратегическом соглашении, что станет мерилом его успешности? Одним из признаков было бы избегание вооружённого конфликта или кризиса в Тайваньском проливе, отсутствие кибератак, выводящих из строя критически важную инфраструктуру. Конвенция о запрещении различных форм роботизированных военных действий стала бы очевидной победой, как и незамедлительное объединение усилий по борьбе со следующей пандемией вместе с Всемирной организацией здравоохранения. Но, наверное, самым важным признаком успеха была бы ситуация, в которой обе страны конкурировали, проводя открытую и энергичную кампанию для привлечения глобальной поддержки идей, ценностей и подходов к решению проблем.
Конечно, у успеха тысяча отцов, а неудача всегда остаётся сиротой. Но наиболее явной иллюстрацией провального подхода к управляемой стратегической конкуренции мог бы стать Тайвань и события вокруг этого острова. Если Си решит обмануть Вашингтон путём одностороннего выхода из всех ранее достигнутых с ним соглашений, мир окажется в устрашающей ситуации. Кризис такого масштаба одним махом переписал бы будущее мирового порядка.
За несколько дней до инаугурации Байдена генеральный секретарь Центральной комиссии КПК по политическим и правовым вопросам Чэнь Исинь заявил, что «подъём Востока и упадок Запада – это общемировая тенденция, и мировой ландшафт меняется в нашу пользу». Доверенное лицо Си и ключевая фигура в китайском истеблишменте национальной безопасности, Чэнь известен осторожностью в высказываниях. Так что высокомерие его слов особенно примечательно. Впереди длительная гонка. Внутриполитическая уязвимость Китая может быть вызвана разными причинами, которые редко обсуждаются в СМИ. С другой стороны, слабости США всегда на виду у общественности; однако эта страна не раз демонстрировала способность к возрождению подобно птице феникс. Управляемая стратегическая конкуренция обнажит сильные и слабые стороны обеих великих держав, и пусть победит наилучшая система!

ЦИРКУЛЯЦИЯ ПРОТИВ ИЗОЛЯЦИИ
АЛЕКСАНДР ЛОМАНОВ
Доктор исторических наук, профессор РАН, заместитель директора по научной работе Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук (ИМЭМО РАН), член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике».
КИТАЙ ОТВЕТИЛ ЗАПАДУ СТРАТЕГИЧЕСКИ
Четыре десятилетия назад, в феврале 1981 г., советский лидер Леонид Брежнев на XXVI съезде КПСС высказался о только вступившем на путь реформ Китае. Он признал, что во внутренней политике страны происходят изменения, «истинный смысл» которых покажет время. Негативно оценив курс Пекина на сближение с Западом, генсек ЦК КПСС предупредил: «Империалисты друзьями социализма не будут»[1].
За прошедшие годы изменилось многое. Советский Союз развалился, КПСС потеряла власть. Китай, благодаря реформам и открытости внешнему миру, преодолел бедность и отсталость, по объёму экономики он уступает ныне только США. Позабытое предостережение Леонида Брежнева все эти годы выглядело как наглядное подтверждение консерватизма советского руководства, не сумевшего найти путь интеграции в глобальную экономическую систему через управляемые преобразования.
Но вот мир снова начал меняться. При первых залпах развязанной Трампом «торговой войны» против Китая показалось, что предупреждение сорокалетней давности небезосновательно. В 2020 г. на фоне активного обмена политическими уколами между Вашингтоном и Пекином оно стало весомым и убедительным. После скандального общения делегаций КНР и Соединённых Штатов в Анкоридже в марте 2021 г. эти давние слова оказались частью новой политической реальности. «Империалисты» всерьёз поссорились с Китаем, и для него настало время стратегического обновления.
Уютный симбиоз
Между Китаем и Западом сложился немыслимый в системе советских стереотипов, но устойчивый и взаимовыгодный экономический симбиоз. Китайские рабочие в поте лица собирали из импортных компонентов изделия, которые возвращались на зарубежные рынки. Дешёвый китайский труд приносил западным корпорациям солидные прибыли. Западные эксперты не сомневались в том, что социализм превратился в Китае в декоративную вывеску над величественным зданием рыночной экономики. Оставалось дождаться момента, когда выросший в эпоху реформ китайский средний класс спустит обветшалое красное знамя, отказавшись от однопартийной власти КПК в пользу либеральной системы.
Со времени примирения с Соединёнными Штатами, состоявшегося в 1970-е гг., в Китае выросло несколько поколений элиты, для которых отношения с Вашингтоном стали приоритетом. Предприниматели стремились торговать с Америкой, молодые интеллектуалы мечтали там учиться, политики старались не задевать международные интересы США и по возможности расширять двусторонний диалог. Воцарилась иллюзия, что отношения всегда будут конструктивными и выгодными для Китая, а Америка навечно останется для китайских элит страной возможностей.
В 2003 г. в Китае появился привлекательный лозунг «мирного возвышения», утверждавший, что в условиях экономической глобализации Пекин нашёл новый путь к лидерству. Он не бросит вызов существующему миропорядку, не использует военные инструменты для поддержки своего возвышения, не причинит ущерба интересам других стран. Растущий Китай не повторит западный путь колониальной экспансии, не прибегнет к агрессии подобно фашистской Германии либо империалистической Японии, он также не станет противопоставлять себя Западу подобно Советскому Союзу.
Западу идея «возвышения» Китая пришлась не по вкусу, лозунг быстро убрали в запасник. Однако в КНР осталась уверенность в возможности поддерживать устойчивые отношения с Соединёнными Штатами и одновременно развивать многополярные отношения в мировом масштабе. Вероятность добровольного согласия США на «мирное нисхождение» с пьедестала глобального лидерства китайские эксперты не обсуждали. По умолчанию предполагалось, что Китай будет становиться всё сильнее, и в один прекрасный день количественные изменения породят качественный сдвиг глобального масштаба: КНР превзойдёт Соединённые Штаты по объёму экономики и станет мировым экономическим лидером. Но при этом Китай никоим образом не посягнёт на военно-политическое могущество Америки, и потому мировая трансформация произойдёт незаметно и спокойно.
В 2013 г. вскоре после прихода к власти Си Цзиньпин с энтузиазмом предлагал США концепцию «отношений нового типа между большими государствами». Предполагалось, что Пекин и Вашингтон не станут конфликтовать, между ними не возникнет противостояния, две страны будут демонстрировать взаимное уважение, развивать сотрудничество, извлекая обоюдный выигрыш. Китайские эксперты критиковали американских коллег за проецирование позаимствованной из древнегреческой истории «ловушки Фукидида» на современные реалии. Казалось очевидным, что столкновения растущей державы со стремящейся удержать позиции Америкой быть не должно. И его не будет, если США вовремя откажутся от «менталитета холодной войны» и осознают, что Китай не стремится к гегемонии.
Поворот внутрь
Политика Трампа вынудила Пекин распрощаться с иллюзией бесконфликтного продвижения к глобальному лидерству. До конца 2019 г. Китай следовал прежним взвешенным курсом в надежде на то, что примирение с США возможно. Последним источником оптимизма стала торговая сделка в январе 2020 года. После этого на фоне распространения коронавируса американская администрация стала жёстко критиковать Китай. Пекин перестал отмалчиваться, не оставляя без ответа ни один выпад Вашингтона, будь то закрытие консульства, ограничение деятельности журналистов или введение персональных санкций против чиновников.
Перерастание «торговой войны» во всеобъемлющее противостояние заставило китайское руководство изменить стратегию развития. Выгод от участия в глобализации становилось всё меньше, масштабы внешних рисков выросли многократно. В апреле 2020 г. на заседании Финансово-экономической комиссии ЦК КПК Си Цзиньпин впервые обрисовал контуры новой экономической политики[2].
Китайский лидер поставил задачу создать целостную систему внутреннего спроса в привязке к долгосрочным перспективам развития и сохранения стабильности. Он напомнил, что в период реформ и открытости, особенно после вступления в ВТО в 2001 г., Китай внедрился в «большую международную циркуляцию» по схеме «две головы снаружи», когда рынки сбыта продукции и материалы для её производства находились за границей. Превращение в «мировую фабрику» помогло Китаю ухватить шанс экономической глобализации, ускорить рост экономического потенциала, улучшить жизнь людей. Но в последние годы экономическая глобализация стала наталкиваться на противодействие. Эпидемия коронавируса лишь усугубила тенденцию антиглобализации.
Во всех странах заметен поворот внутрь себя, внешняя среда развития Китая претерпевает большие изменения.
Си Цзиньпин заявил, что стратегия расширения внутреннего спроса продиктована необходимостью справиться с последствиями пандемии, сохранить устойчивое здоровое развитие экономики, удовлетворить растущее с каждым днём стремление народа к лучшей жизни. Преимущество крупной экономики в том, что в ней возможна внутренняя циркуляция: в Китае 1,4 млрд населения, показатель ВВП на душу населения превысил 10 тысяч долларов в год, это самый крупный и перспективный потребительский рынок в мире. Рост потребления в сочетании с современной наукой, технологиями и производством открывает огромное пространство для развития. При осуществлении такой стратегии нужно добиваться того, чтобы производство, распределение, обращение и потребление всё больше опирались на внутренний рынок, а спрос и предложение приходили в динамическое равновесие на более высоком уровне.
Расширение внутреннего спроса и степени открытости внешнему миру не противоречат друг другу, пояснил Си Цзиньпин, поскольку совершенствование внутренней циркуляции начнёт притягивать в Китай глобальные ресурсы. Это будет способствовать формированию новой ситуации развития, в которой большая внутренняя циркуляция является основной, а внутренняя и внешняя циркуляции продвигают друг друга. У Китая появятся новые преимущества для участия в международной конкуренции и сотрудничестве.
Потребление становится основным движителем экономического роста. В качестве потребителей важную роль играет группа населения со средним уровнем дохода. По словам Си Цзиньпина, в Китае она насчитывает около 400 млн человек и является самой большой в мире. Её рост должен продолжаться. Для этого необходимо оптимизировать структуру распределения доходов, усовершенствовать механизм вознаграждения в соответствии с вкладом каждого в развитие экономики. Китайский лидер призвал расширить инвестиции в человеческий капитал для того, чтобы ещё больше простых трудящихся обрели возможность войти в группу со средними доходами.
В мае 2020 г. Си Цзиньпин изложил идею «двойной циркуляции» представителям деловых кругов на заседании Народного политико-консультативного совета Китая. Поначалу он предлагал двигаться к формированию новой модели развития «постепенно». В июле 2020 г. правящая партия потребовала устремиться к цели ускоренными темпами. В октябре 2020 г. 5-й пленум ЦК КПК 19-го созыва утвердил рекомендации по составлению 14-го пятилетнего плана социально-экономического развития Китая на 2021–2025 гг. и выработке долгосрочных целей до 2035 г. на основе «двойной циркуляции». В марте 2021 г. эти планы были одобрены на сессии Всекитайского собрания народных представителей. Новая стратегическая концепция превратилась в руководство к действию в течение одного года.
Технологическая самостоятельность
Политика «двойной циркуляции» будет определять экономическое развитие Китая и его роль в мировой экономике на протяжении полутора десятилетий до середины 2030-х годов. Страна не отказывается от экономического сотрудничества с внешним миром, но ставит во главу угла внутреннее производство и потребление. Прежний путь капиталоёмкого роста, дешёвого экспорта и массового импорта технологий был успешным, но вернуться к нему невозможно. Модель «две головы снаружи» себя исчерпала, теперь обе «головы» обращены внутрь.
Расстановка приоритетов отражена на уровне официально используемых понятий. Отныне ведущую роль играет «внутренняя большая циркуляция». Внешние экономические обмены именуют просто «международной циркуляцией» без упоминания о масштабе. Власти ожидают, что развитие внутреннего рынка превратит Китай в могущественную торговую державу, которая подобно мощному магниту будет притягивать к себе внешние материальные ресурсы и финансовые потоки. Одновременно Китай видит себя в роли инвестора и конкурентоспособного экспортёра современной высокотехнологичной продукции.
Переход к новой экономической стратегии не был внезапным. Её элементы вызревали годами и десятилетиями. О необходимости опираться на внутренний спрос в Китае активно рассуждают со времён мирового финансового кризиса 2008 года. Планы создания собственных передовых технологий восходят к 1990-м гг., при желании их предвестия можно найти в планах национальной модернизации эпохи Мао Цзэдуна.
В середине 2010-х гг. китайское руководство признало, что экономика вошла в состояние «новой нормальности» и двузначных показателей годового прироста ВВП больше не будет никогда. Утрата преимуществ дешёвой рабочей силы и неминуемый в начале 2030-х гг. переход к сокращению численности населения вынуждали экономистов искать новые ресурсы для развития, сделав ставку на повышение инновационного потенциала. Нужно было использовать шанс вывести страну на новый уровень и приблизиться по размеру экономики к США в течение нынешнего десятилетия, пока демографическая ситуация остаётся благоприятной и Китай не испытывает недостатка в трудовых ресурсах.
В стабильной внешней ситуации формирование новой экономической стратегии растянулось бы надолго. Ухудшение отношений с Соединёнными Штатами подстегнуло этот процесс. Ограничение доступа китайской продукции на западные рынки, трудности с импортом высокотехнологичных товаров и комплектующих не должны были привести к торможению экономического развития. Развитая многоотраслевая промышленность позволяет Китаю сократить зависимость от импорта. Растущий средний класс способен потреблять качественную дорогостоящую продукцию вместо зарубежных покупателей.
Китайские власти потребовали как можно скорее обеспечить импортозамещение по ключевым видам продукции для того, чтобы лишить Запад возможности использовать против Китая инструменты санкций и торговых ограничений. Гонка за «самостоятельной инновацией» стала неотъемлемой частью «двойной циркуляции». Китай готов пережить падение экспорта и снижение притока иностранных инвестиций. Важнейшим вопросом становится способность компенсировать сокращение доступа к иностранным технологиям и комплектующим собственными разработками.
Попытки Пекина найти лояльных зарубежных партнёров, способных действовать без оглядки на США, приносят ограниченные результаты. Администрация Байдена успешно мобилизовала европейских союзников на противодействие Китаю под лозунгами «трансатлантического единства» и «альянса демократий». Распространение идейно-политического союза на сферу технологий ведёт к тому, что передовые разработки и товары становятся недоступными для «авторитарных режимов».
Китай вынужден сделать выбор в пользу опоры на собственные силы. В плане 14-й пятилетки впервые подчёркнута связь научно-технических разработок не только с развитием, но и с национальной безопасностью. К приоритетам причислены искусственный интеллект, квантовая информация, интегральные схемы, проблемы жизни и здоровья, наука о мозге, биотехнологии, аэрокосмические технологии, исследования земных недр и морских глубин.
Трактовка международного технологического соперничества как проблемы национальной безопасности меняет подход к финансированию отрасли. Западные эксперты часто указывают, как неэффективно Китай тратит огромные деньги на создание собственного производства микрочипов. Однако в сфере безопасности рыночные критерии не играют ведущей роли, поскольку производство должно быть создано обязательно и любой ценой. Ущерб от западного технологического шантажа представляет более значительную опасность, поскольку принятие иностранных политических условий ради продолжения импорта микрочипов нанесёт международному авторитету Китая более серьёзный урон, чем финансовые потери от неудачного вложения государственных средств в высокотехнологичные стартапы.
Китай осознал, что прежних добрых отношений с Западом больше не будет, поэтому не будет и доступа к передовым западным технологиям.
В новой пятилетке власти обещали наращивать вложения в исследования и разработки на 7 процентов в год, особую поддержку получат фундаментальные исследования. Опираясь на эти достижения, китайские производители смогут выпускать больше видов собственной высокотехнологичной продукции.
Последствия для партнёров
Провозглашение приоритета внутреннего рынка и технологической самостоятельности не имеет прецедента в истории китайских реформ. «Двойная циркуляция» объединяет политику открытости с созданием необходимых для защиты экономического суверенитета производств и технологий. Она не является возвращением в эпоху замкнутости и самодостаточности 1960–1970-х гг., но вместе с тем отличается от политики открытости версии 1.0 образца 1980–2000-х годов. Продолжение Китаем старой открытости версии 1.0 устроило бы Запад, поскольку позволяло бы использовать уязвимости китайской экономики для извлечения односторонних преимуществ. «Двойная циркуляция» создаёт продвинутую обновлённую политику открытости версии 2.0. Китай продолжает участвовать в глобализации, но существенно наращивает степень защищённости от внешнего давления, протекционизма и санкций.
Китайские чиновники и эксперты утверждают, что поворота вспять не будет, «двери Китая не только не закроются, но откроются ещё шире». В качестве подтверждения они напоминают, что после появления на свет стратегии «двойной циркуляции» Китай в ноябре 2020 г. подписал соглашение о Всеобъемлющем региональном экономическом партнёрстве, а в декабре 2020 г. – инвестиционное соглашение с ЕС.
По мере развития китайских производств иностранным компаниям будет всё труднее входить на рынок КНР из-за роста конкуренции. Предложить Китаю передовые технологии стало и без того нелегко из-за вводимых с западной стороны ограничений на сотрудничество. Перспективы иностранного бизнеса в Китае всё больше связаны с удовлетворением частных потребительских запросов растущего среднего класса. С другой стороны, китайские предприниматели в ходе конкуренции за кошельки состоятельных соотечественников также будут создавать качественные товары и услуги, которые найдут спрос и за рубежом. Западные алармисты тревожатся, что усиление китайского инновационного и производственного потенциала обернётся серьёзными потерями для иностранного бизнеса, привыкшего видеть в Китае источник дешёвого труда.
Специалист по Китаю из Оксфордского университета Рана Миттер охарактеризовал новую политику Пекина как комплекс «авторитаризма, потребительства, глобальных амбиций и технологий». В этом контексте «двойная циркуляция» нацелена на поддержание глобального характера китайской экономики при сохранении защищённости внутреннего рынка. «Но это равновесие неустойчиво в долгосрочной перспективе. Лучший подход позволил бы Китаю стать гораздо более чувствительным к потребностям и желаниям своих партнёров, проявляя такт, которого он не показывал в последние годы в отношениях с соседями»[3].
Фундаментального политического противоречия между «двойной циркуляцией» и добрыми отношениями с соседями нет. В долгосрочной перспективе устойчивость и поступательное развитие китайской экономики пойдут на пользу сотрудничеству Китая с сопредельными странами. Однако в обозримом будущем традиционные партнёры столкнутся с ростом конкуренции за присутствие на китайском рынке. Не все из них готовы к этому.
Алисия Гарсия-Эрреро, занимающая посты главного экономиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону во французском инвестиционном банке Natixis и старшего исследователя в брюссельском аналитическом центре Bruegel, отметила, что прежде Китай пытался сократить зависимость от экспортных доходов. Стратегия «двойной циркуляции» нацелена на снижение зависимости от импорта высокотехнологичной продукции и повышение самообеспеченности национальной экономики. Стремление Китая защитить себя от внешней нестабильности, спровоцированной ухудшением отношений с США, способно нанести ущерб тем странам, которые ныне получают доходы от экспорта в Китай продукции высокого класса. Вскоре Китай будет производить её самостоятельно, что делает политику «двойной циркуляции» «пагубной» для внешнего мира[4].
Западные эксперты заботятся о том, чтобы производители из развитых стран не утратили возможности получать прибыль на китайском рынке. Отдельного исследования требует проблема воздействия «двойной циркуляции» на экономические интересы стран ЕАЭС и участников китайской инициативы «Пояса и пути». Промышленная и научно-технологическая база этих стран уступает развитым экономикам Запада, им труднее предложить на экспорт современные высокотехнологичные товары. Негативным сценарием станет постепенное сокращение присутствия промышленной продукции из этих стран на китайском рынке вслед за расширением возможностей китайских производителей. Альтернативой может выступить новая взаимовыгодная стратегия сотрудничества с Китаем, способная предоставить стимулы и возможности для развития высокотехнологичных производств в соседних странах.
Индикатор холодной войны
Воздействие «двойной циркуляции» на мировую политику может оказаться более значительным, чем её экономические последствия для западных корпораций. Успех импортозамещения сделает Китай неуязвимым для санкционного шантажа. Это позволит Пекину не только смело критиковать западных партнёров, но и решительно защищать свои интересы без оглядки на последствия.
Западные исследователи сознают эту проблему. Профессор Колумбийского университета Томас Кристенсен полагает, что вероятность возникновения новой холодной войны будет оставаться невысокой до тех пор, пока Китай глубоко включён в глобальные производственные цепочки и пока не началась схватка за идеологическое превосходство между авторитаризмом и либеральными демократиями. К повторению холодной войны по образцу американо-советского противоборства могут привести два фактора. Союзники США и Китая вступят в противостояние, если КНР «осознанно начнёт кампанию по укреплению авторитаризма и подрыву демократии в мире»[5]. Другой тревожный показатель – попытка Китая заменить в мировых цепочках иностранных производителей на китайских, сократить свою зависимость от иностранных рынков. По мнению Кристенсена, это означало бы готовность Пекина принять издержки идеологической схватки. К этому результату также ведёт повсеместный подъём антиглобалистского национализма, который разрушает транснациональные производственные цепочки, соединяющие Китай с ведущими экономиками. Учёный порекомендовал США внимательно следить за развитием экономической модели «двойной циркуляции», ставящей в привилегированное положение внутреннее потребление и производство.
Обеспокоенность китайским «авторитаризмом» не позволяет западным экспертам понять глубину тревоги Пекина, оказавшегося перед лицом «демократического альянса» во главе с США. Поверхностные рассуждения о «паранойе» якобы слабой и не уверенной в своих силах КПК лишь отвлекают от сути проблемы. Китай готов демонстрировать нарочитую жёсткость, рискуя углубить отчуждение от Запада, дабы остановить эскалацию внешнего давления.
Политика Трампа была основана на предпосылке экономической уязвимости Китая, оказавшегося в большой зависимости от американского рынка.
Однако вместо уступок со стороны Пекина «торговая война» породила ответную стратегию «двойной циркуляции», направленную на повышение защищённости китайской экономики от неблагоприятных внешних воздействий.
В конце 2020 г. были надежды на то, что победа Байдена на президентских выборах в США поможет остановить деградацию китайско-американских отношений, чтобы через год-полтора стороны смогли заняться их улучшением. Эти ожидания не сбылись. Администрация Байдена добавила к экономическому и технологическому сдерживанию Китая политику коллективного противодействия, основанную на общности демократических ценностей Запада. Вашингтон исходит из того, что Пекин испугается глобальной изоляции и пойдёт на попятную. В противном случае Китай окажется в одиночестве, лишившись доступа к современным технологиям, что приведёт страну к экономическому торможению, застою и упадку, способному спровоцировать социальную нестабильность и пошатнуть политическую систему власти КПК.
На фоне формирования широкого западного альянса против Китая стратегическая ценность «двойной циркуляции» неуклонно возрастает. Её создали в ответ на политику Трампа. В случае разрушения под влиянием политических факторов сотрудничества Китая со странами ЕС, Японией и Южной Кореей курс опоры на внутренний рынок и поддержки национальной инновационной системы предсказуемо упрочится.
Китай по-прежнему не заинтересован в конструировании вокруг себя формального военно-политического альянса. Наиболее вероятным китайским ответом на стратегию Байдена станет создание гибкой коалиции единомышленников против западного нажима и вмешательства. Если к «двойной циркуляции» в ближайшем будущем добавится китайская стратегия коллективных действий, глобальное противостояние выйдет на качественно новый более высокий уровень. Пекин будет стремиться сплотить вокруг себя надёжных экономических партнёров, с которыми у него есть политическое взаимопонимание.
Западные аналитики любят рассуждать о том, что Китай совершает фатальную ошибку, когда исходит из гипотезы продолжающегося снижения глобального влияния Соединённых Штатов. Они подчеркивают, что эта оценка стала источником китайской смелости и внешнеполитического напора, которые провоцируют дальнейшее ухудшение отношений с Западом. Китай начинает вести себя ещё более резко, что ведёт к обострению противостояния.
На самом деле проблема заключается не в том, что Китай радуется собственным успехам на фоне неудач западного мира.
Пекин всё больше тревожится из-за того, что осознающие свою слабость США готовы на всё, дабы не допустить превращения Китая в равного по силе и тем более превосходящего игрока.
Возвращение старой эпохи, в которой «империализм не дружит с социализмом», пугает китайских политиков своей непредсказуемостью и обременительностью. КНР готовится к отчаянным защитным действиям, а растущая с обеих сторон нервозность свидетельствует об общей неуверенности в своих силах. И это действительно опасно – как для азиатского региона, так и для всего мира.
--
СНОСКИ
[1] Брежнев Л.И. Ленинским курсом. Речи, приветствия, статьи. Т.8. М.: Политиздат, 1981. С. 642.
[2] Си Цзиньпин. О некоторых важных вопросах средне- и долгосрочной стратегии экономического и социального развития государства // Цюши. 2020. № 21 (на кит. яз). URL: http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2020-10/31/c_1126680390.htm
[3] Mitter R. The World China Wants: How Power Will—and Won’t—Reshape Chinese Ambitions // Foreign Affairs. 2021. № 1. P. 173.
[4] Garcia-Herrero A. Why China’s ‘dual circulation’ plan is bad news for everyone else: New economic strategy is about meeting growing domestic demand. Nikkei Asia. September 17, 2020. URL: https://asia.nikkei.com/Opinion/Why-China-s-dual-circulation-plan-is-bad-news-for-everyone-else
[5] Christensen T.J. There Will Not Be a New Cold War: The Limits of U.S.-Chinese Competition // Foreign Affairs. March 24, 2021. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2021-03-24/there-will-not-be-new-cold-war (см. перевод статьи Томаса Кристенсена в этом номере журнала «Россия в глобальной политике»).

В облаках «Охотник»…
Глеб Паскевич о беспилотных летательных аппаратах США, России, КНР и Турции
Андрей Фефелов
Конец февраля и начало марта ознаменовались рядом важных, но незаслуженно обделённых вниманием событий. Во-первых, в китайском интернет-издании sina.com вышла статья, посвящённая перспективам российской сферы беспилотников. Внезапно китайцам оказалось интересно, что у нас с беспилотниками. Задавался вопрос: осознаёт ли Россия то, насколько сильно она отстала в этой сфере. И заодно приводятся фотографии модели знаменитого БПЛА "Охотник", которую возили по всем выставкам оборонного вооружения. Китайцы спрашивают, поможет ли "Охотник" наверстать это отставание. Во-вторых, в "Известиях" вышло интервью Бекхана Оздоева, топ-менеджера по вооружениям из "Ростеха", где он сказал, что "мы всецело это отставание осознаём", что "над ним работаем". Из всего этого интервью следовало, что работа кипит. В-третьих (и это самое главное), 27 февраля США провели испытания нового беспилотного "Боинга" модели АТС. От этой модели ждут ведения боя в тандеме с пилотируемым самолётом. Для того, чтобы разобраться в перспективах этой, возможно, революционной программы, понять, насколько сильно отстала Россия и получится ли сократить это отставание, поговорим с инженером-конструктором и специалистом по аэродинамике Глебом Паскевичем.
"ЗАВТРА". Глеб Николаевич, станут ли испытания "Боинга" новым словом в разработке беспилотных летательных аппаратов? Действительно ли это прорыв, как преподносят американцы?
Глеб ПАСКЕВИЧ. Ситуация двоякая, поскольку в данном случае основную роль играет всё-таки электроника, начинка этого беспилотного летательного аппарата, потому что от него ожидается несколько необычная работа. Как известно, со времён президентства Барака Обамы удары беспилотниками стали притчей во языцех. Однако работа в рамках крупных войсковых операций, в рамках непосредственного боя с участием живого союзника — это совершенно новая функция. Это позволит нарастить довольно сильно огневую мощь, поскольку, условно говоря, каждый этот летательный аппарат в перспективе может сравняться с полноценным самолётом. Тем не менее сложно сказать наверняка, ведь ещё только предстоит узнать, каковы характеристики этих БПЛА, насколько электроника пригодна к работе в реальных боевых условиях. И дело даже не в стойкости к перегрузкам, а в скорости обработки информации, принятия решений — можно ли хотя бы приблизиться к сравнению с человеком в каком-либо манёвренном бою или в других процессах, для которых эти беспилотники изначально и разрабатывают американцы. Их основная цель — это программа "Loyal Wingman" или "Надёжный ведомый". Ведомый — в смысле участник строя самолётов. Цель этой программы — оказать помощь лётчикам в том плане, что они могут принять участие в авианалётах наравне с пилотами. На данный момент испытываются два аппарата для выполнения этой задачи. Это XQ-58A Valkyrie от компании Kratos Defense & Security Solutions. И уже упомянутый АТС от "Боинга". Они оба сделаны по технологии малой заметности. Соответственно, они могут точно так же принимать участие в том, что в американских ВВС называется "package raids". По-русски это можно перевести как "ударная группа" или "группа для авиационного налёта". В перспективе эти БПЛА не будут выделяться на фоне любых других современных машин пятого поколения и в целом среди малозаметных летательных аппаратов. На это американцы сейчас делают большую ставку. Малая заметность поможет им более эффективно наносить удары и принимать огонь. И, в общем-то, как уже упоминалось, для радаров они слабо отличимы от полноценных боевых машин, за счёт чего могут дезориентировать противника, создавая такое виртуальное превосходство в численности на поле боя. Это действительно очень перспективная технология, о которой говорят уже достаточно давно, — наверное, с самого начала применения. Она проникла даже в массовую культуру — к примеру, ещё в 2005 году был снят фильм "Стелс", посвящённый сошедшему с ума самолёту. А что касается "Боинга", то о том, что покажет машина, ещё рано говорить — испытания только начались, а их результаты, понятное дело, в открытый доступ не выкладываются. Кстати, если судить по открытым источникам, аналогичные движения осуществляются и с нашей стороны. Появляется информация о том, как нынешние руководители, нынешние технические специалисты и специалисты в области планирования представляют себе облик будущих ВВС. В первую очередь предполагается и у нас внедрение элементов искусственного интеллекта, поскольку автономное принятие решений значительно усилит способности такой техники в бою. В этом могут помочь такие технологии, как нейросети и прочие сложные математические конструкции, о которых я только вскользь мог бы упомянуть. Они и представляют основной интерес в этих машинах.
"ЗАВТРА". То есть всё идёт к тому, что от пилота откажутся даже дистанционно? Значит, постепенно вытесняется даже человек, который сидит в командном центре и нажимает кнопки? Теперь всё вычисление происходит внутри этой загадочной летающей машины? Чем ответить на подобную технологию? Потому что, если считать это следующей ступенью относительно нынешних беспилотников, которые широко применялись на всех войнах последнего времени — на Ближнем Востоке, в Карабахе, в Донбассе, — то рискует ли Россия оказаться отстающей даже в случае навёрстывания отставания от нынешнего поколения?
Глеб ПАСКЕВИЧ. Да, мне кажется, что отчасти это действительно будет так, поскольку важен параметр ценности каждой такой машины. Даже если она обладает некоей автономностью в бою, заявленными боевыми характеристиками, возможностью взаимодействия с пилотом, она всё равно не будет иметь ценности полноценного самолёта. Всё потому, что в авиации самое важное — пилот. Подготовка специалиста, особенно на современной технике, — это многие тысячи часов. Кстати, это показывает ещё и опыт прошедшей войны. По изначальным данным о войне в Карабахе (которые были слегка скорректированы впоследствии) известно, что Азербайджан применял очень мало своей ударной авиации несмотря на то, что он обладает достаточно большим авиапарком, в том числе и ударных, и многоцелевых самолётов. Но в основном всю работу выполняли беспилотники, потому что лётчики — слишком ценный ресурс, особенно на начальном этапе войны. Не будем забывать, что в современной войне довольно много решается именно в короткий период. Если проследить всю современную литературу, посвящённую ведению крупномасштабных боевых действий, в том числе и издания американских аналитических центров, то мы увидим — в ней предполагается, что потери в таком крупном конфликте будут невосполнимы. Активные боевые действия между двумя крупными странами будут продолжаться не больше месяца. За это время восполнить изначальные потери просто нереально. Из опыта Карабахской войны, которая прошла недавно, можно заключить, что несмотря на достаточно сложную, закрытую местность, потери в бою были колоссальными с обеих сторон: потери как в живой силе, так и в технике. Уничтожено количество бронетехники, сравнимое с Курской дугой — в Великую Отечественную это было несколько танковых армий. Сейчас всё это сгорело в таком локальном конфликте. Любой войне предшествует достаточно долгий период подготовки, но всё же довольно трудно говорить о том, как будет протекать процесс и получится ли восполнить потери и наверстать упущенное. Но уже сейчас можно говорить о том, что беспилотные летательные аппараты с повышенной автономностью, если они действительно способны выполнять ту роль, для которой предназначены, сыграют очень большую роль именно в подавлении ПВО и на начальном этапе войны окажутся просто незаменимыми. Газета "Известия" не так давно писала, что главнокомандующий ВВС генерал-полковник Сергей Суровикин подтвердил, что будут рассмотрены вопросы о введении автономных систем и о внедрении определённых элементов ИИ, будет осуществляться движение в эту сторону. Следует учитывать, что производство БПЛА проще, по сравнению с пилотируемым самолётом, поскольку в последнем достаточно большое количество веса летательного аппарата, большое число элементов сложной электроники на борту направлено только на то, чтобы на высоте и при перегрузках поддерживать жизнь лётчика, чтобы он оставался в сознании, поскольку есть и сложные противоперегрузочные системы, и катапультные кресла, это тоже большой вес и существенная техническая сложность. Избавившись от этого компонента, можно выиграть достаточно много. Поэтому беспилотный самолёт, если он не будет проигрывать по скорости реакции или креативным решениям, будет ценен даже исключительно за счёт таких своих физических характеристик.
"ЗАВТРА". А что касается стоимости? Американцы, полагаю, пока не озвучили предполагаемую стоимость своего чудо-беспилотника, но зная то, сколько стоят их обычные самолёты, можно допустить, что это всё будет стоить примерно как чугунный мост. Не делает ли это гипотетическую войну нецелесообразной именно с точки зрения издержек? Понятное дело, потеря кадров невосполнима, но и потери дорогостоящего оборудования наносят большой урон в ходе быстрых боевых действий.
Глеб ПАСКЕВИЧ. В этом действительно есть определённый резон. Тем не менее следует понимать, что такая страна, как США, может себе позволить подобные траты, даже в случае каких-то крупных конфликтов. Самое главное — будет выполнена задача, которая поставлена перед этим, условно говоря, звеном или ударной группой. Даже с чисто теоретической, с самой умозрительной точки зрения, отвлечённой от реального опыта, такие боевые группы представляют собой огромную ценность в прорыве ПВО, в плане подавления исключительно тех систем, которые мешают пилотированию самолётов. И наземные системы ПВО, в общем-то, по стоимости сравнимы с серьёзными тяжёлыми беспилотниками. А поскольку это очень сложная электроника, это в том числе и подготовка операторов, то есть уже упоминавшийся вопрос ценности кадров. Помимо этого, основную ценность представляют собой и командные машины, и радары. Можно взять за пример опыт, который был в прошлом, скажем, те операции, которые проводил Израиль в 1982 году, когда основной целью действительно были радары, в результате чего сирийская ПВО "ослепла". Это знаменитая операция "Медведка 19" в долине Бекаа. Потери кадров, потери командования будут гораздо ощутимее потерь нескольких летательных аппаратов, особенно беспилотных. Плюс, если говорить о стоимости оборудования, она довольно сильно снижается за счёт того, повторюсь, что не нужно делать систему жизнеобеспечения лётчика. За счёт более совершенных аэродинамических форм мы получаем экономию в расходе топлива. Потому что как минимум нет выступающей кабины пилота и других подобных конструктивных элементов, которые требуются пилотируемому летательному аппарату.
"ЗАВТРА". Прорыв ПВО — разве имеющихся технологий для него мало? Для этого должно хватить даже самых примитивных технологий вроде используемых в Сирии дронов-самоубийц, которые просто налетают роем и, не обращая внимания на потери, добиваются поставленной задачи. Для чего такие сложные технологии? Для чего нужен, по сути, летающий самоосознающий механизм, который не зависит или почти не зависит от центра командования? Для чего такой прорыв? Какую цель преследуют разработчики?
Глеб ПАСКЕВИЧ. Крупномасштабная война — это всегда война и электронная. Начиная со времён Второй мировой войны, велись очень интересные и захватывающие игры, например, по обману британскими ВВС немецких радаров. С тех времён, конечно, облик средств радиоэлектронной борьбы очень сильно поменялся. Сегодня практически все страны обладают некими постановщиками помех, системами, которые позволяют вывести из строя коммуникации. И, в общем-то, понятно, почему — это не самые дорогие системы, однако они представляют собой ключевой элемент современной ПВО. Беспилотники, которые сейчас применяются, я думаю, всеми странами мира, столь эффективны в основном за счёт операторской работы. Конечно, они могут функционировать и в автономном режиме, но исключительно выполняя простые команды полёта по маршруту и иногда автономный взлёт и посадку. Это не совсем то, что требуется для выполнения боевой задачи. Этого может хватать разве что для разведывательных аппаратов. Хотя на ум приходит прошлогодняя история, когда Иран смог "приземлить" американский летательный аппарат. Это показало, что даже при таких операциях летательный аппарат всё равно остаётся уязвимым.
"ЗАВТРА". То есть нужна постоянная связь?
Глеб ПАСКЕВИЧ. На определённых этапах — да. В бою оператор должен проконтролировать использование вооружения либо подтвердить какую-то разведывательную информацию. На данном этапе беспилотники представляют ценность в первую очередь как средства разведки в реальном времени, поэтому связь с оператором действительно необходима. БПЛА применяются, исходя из доступных мне сведений, например, для корректировки артиллерии и других подобных задач. Автономные системы и появляются для того, чтобы позволить аппарату совершать какие-либо операции либо самостоятельно, либо на таком своего рода коротком поводке от лётчика, в паре с которым совершает полёт этот аппарат, и наносить удары. Помимо этого, можно вскрывать и системы ПВО. У людей, занимающихся беспилотной авиацией, есть такая присказка, что крылатая ракета — это беспилотник, который летит в одну сторону. И в соответствии с этой присказкой сейчас появились и винтовые барражирующие боеприпасы. Они были использованы как раз в ходе Карабахской войны — боеприпасы израильского производства применялись со стороны Азербайджана. Таким образом, оператор РЛС не всегда сможет достаточно точно, особенно в условиях электронной войны, определить, какого вида цель летит в его сторону. Соответственно, для уничтожения этой цели нужно будет затрачивать боекомплект и вскрывать позицию ПВО. В американских ВВС есть такой термин — "SEAD". Это расшифровывается как "Suppression of Enemy Air Defenses" — "Подавление противовоздушной обороны противника". Это комплекс мер по подавлению ПВО. Самолёты, которым поставлена такая задача, смогут не только нанести удар, оставаясь на почтительном удалении, но и вскрыть даже те позиции, которые не были подавлены этим ударом.
"ЗАВТРА". А какие перспективы у российских ВВС? Мы слышали интервью топ-менеджера "Ростеха". Мы на протяжении полутора десятков лет слышим о том, что в России разрабатываются, вот-вот поступят на вооружение собственные БПЛА. Тем временем Турция, Израиль и некоторые другие страны разработали с нуля свои беспилотные летательные аппараты и успешно продают эти БПЛА кому ни попадя. Так вот, каковы перспективы России в данной сфере, если говорить не об отдельных направлениях, а в общем?
Глеб ПАСКЕВИЧ. Сейчас в России ведётся масштабная работа по созданию БПЛА на экспорт. В первую очередь речь идёт о БПЛА "Орион" — это его экспортное обозначение, но он под этим именем часто встречается и в контексте поставок для внутреннего пользования. Недавно три таких аппарата поступили для проведения лётно-исследовательских, а также войсковых испытаний. Есть определённые подвижки по созданию аппаратов, которые могут потягаться с конкурентами и на внешнем рынке. Но надо отметить, что сейчас очень много игроков в этой сфере. Помимо уже упомянутых Турции и Израиля есть определённое количество летательных аппаратов и уже сформировавшийся рынок, занятый Китаем, поскольку Китай представил сразу целую линейку БПЛА, в сущности, достаточно давно. Начиная с 2018 года, эти китайские аппараты активно поступают и в страны Африки, и в арабские страны, где они всячески набираются боевого опыта. И надо отметить, это выгодная позиция и выгодные сделки для Китая, поскольку, как известно, китайская армия не воевала с 79-го года и остаётся такой своего рода армией-загадкой для большинства стран. На основании того, что видно из применения китайских аппаратов в Ливии, Йемене, в локальных войнах, можно понять, что аппараты получились достойные. Конкуренция играет на руку уже существующим игрокам, отхватившим большие доли рынка. Перед новыми же игроками, в число которых входит и Россия, открываются, как говорил Кеннеди, "десятилетия сумрачной борьбы".
"ЗАВТРА". То есть рынок разделили задолго до нас?
Глеб ПАСКЕВИЧ. С одной стороны, действительно идёт всё больше и больше предложений от разных стран. Но нельзя отрицать, что последние события, недавние войны сделали беспилотники очень привлекательным товаром, поэтому всё больше и больше стран начинают их закупать. Возможно, и для российских аппаратов найдётся определённая ниша, особенно с учётом того, что большинство стран не настолько богаты, чтобы обеспечить себе цепочки поставки запчастей и аппаратов из нескольких разных стран. Перспективы не такие радужные, как может показаться, несмотря на то что аппараты показывают действительно достойные характеристики, судя по информации, появляющейся в печати. И отчасти можно говорить о том, что производственные базы в России тоже способны удовлетворить растущий спрос. Поэтому ситуация несколько неоднозначная. По информации газеты "Известия", уже более 2000 БПЛА состоит на вооружении Российской армии, это аппараты армейского класса — небольшие разведывательные беспилотники. А что по поводу ударных аппаратов, то это дело ближайшего будущего. 8 марта была новость о том, что новый БПЛА бывшего Казанского КБ будет нести вооружение. Это будет модификация "Альтиус-РУ".
"ЗАВТРА". Что касается конкурентных преимуществ — чем российские беспилотники могут заинтересовать покупателя? Могут ли обеспечить выигрышную позицию на поле боя, если говорить о применении в реальных боевых условиях?
Глеб ПАСКЕВИЧ. Подробные технические характеристики известны, конечно же, лишь специалистам, которые занимаются закупкой. И поэтому судить о реальных боевых характеристиках мы, к сожалению, не можем. Однако есть определённые черты, которые могут быть выгодными. Например, исходя из внешнего вида беспилотника "Орион" видно, что он выполнен по технологии, позволяющей снижать его заметность для радаров компоновкой своих составляющих. Об этом можно судить по неким угловатым формам, по определённым наплывам, которые в целом характерны и для пилотируемых летательных аппаратов. Например, можно заметить некое определённое сходство с наплывом фюзеляжа F-35 и прочих малозаметных летательных аппаратов. Скорее всего, речь идёт о малозаметном аппарате. Уже упоминавшийся БПЛА С-70 "Охотник" представляет собой достаточно уникальный для нашего авиапрома и для авиапрома других держав интерес. До этого крупные реактивные беспилотники были исключительно американским уделом. Есть определённая разница в классах тех аппаратов, которые представляют сейчас Турция и Израиль, и крупных БПЛА, которые сейчас стоят на вооружении или проходят испытания в США. И вот "Охотник" представляет собой определённый интерес не только за счёт того, что он способен нести большое количество вооружения — внимательный глаз может заметить сходство с американским малозаметным бомбардировщиком В-2 — но и тем, что, возвращаясь к тем аппаратам, испытанным в США, изначально в нём предполагается возможность работы в тандеме с лётчиками в рамках работы над ПАК ФА, он же СУ-57. И это позволяет надеяться на то, что, сделав ставку на такую технологию, мы сможем на виражах если не обогнать, то догнать те программы, которые сейчас разрабатывают США. Вся программа Loyal Wingman, точнее, проект "Боинга" и ряда других корпораций, в целом встраивается как часть более крупной программы "Skyborg" — от английских слов "небо" и "киборг". Эта программа направлена на улучшение взаимодействий и увеличение автономности беспилотных летательных аппаратов. И это действительно крупная программа, которая позволит закрепить уже существующее превосходство США в сфере боевой авиации, поскольку трудно найти такую страну, которая сравнилась бы с производственными мощностями США, особенно в сфере высоких технологий. И уже сейчас можно говорить о сотнях истребителей, если не пятого поколения, то близких к пятому поколению малозаметных F-35. Ни у одной страны, за исключением, пожалуй, Израиля, нет такого флота малозаметных истребителей, но у Израиля этот флот состоит из всё тех же F-35. Это уже даёт огромный разрыв, в том числе за счёт того, что были учтены былые проблемы конструкции, связанные в основном с методами расчёта. К примеру, когда разрабатывался F-117, который сбили в Югославии и который постоянно вспоминают в контексте малозаметной авиации, — "извините, мы не знали, что он невидимый" — его сделали таким, какой он есть, в угоду уменьшения эффективной площади рассеивания. Но если посмотреть на этот летательный аппарат, можно увидеть, что летательным его можно назвать с трудом. Скажем так, неэстетичные формы, которыми характеризуется самолёт, прозванный лётчиками "гоблином", связаны с его видимостью на радарах и возможностью его обнаружения. Сейчас вычислительные технологии, да и сами компьютеры с 1980-х годов продвинулись очень далеко. Из-за этого стало понятно, что аппарат, подобный F-117, сильно проигрывает любому современному малозаметному истребителю или ударному самолёту, или многоцелевым самолётам вроде тех, какие планируются и применяются до сих пор — к примеру, F-35.
"ЗАВТРА". Когда это всё будет применяться в условиях реальной войны? Россия участвует в военной операции в Сирии. США явно или тайно участвуют в десятках военных конфликтов. В конце концов, возникновение новых — вопрос пяти минут, пока Джо Байден в приступе маразма не нажмёт на какую-нибудь красную кнопку и не начнёт очередную войну. Тем не менее когда все эти чудеса технологий будут применяться на практике?
Глеб ПАСКЕВИЧ. Классическим в авиации считается цикл разработки летательных аппаратов в 10–15 лет. В последнее время за счёт сильного развития вычислительных технологий этот цикл сократился. Но надо сказать, что лётные и войсковые испытания занимают достаточно большой промежуток времени, и определённая доводка по результатам этой практики ведётся также длительное время. И опыт, полученный в ходе этих испытаний, не всегда бывает однозначным. Поэтому цикл сократился не так сильно, как можно было бы предположить. Сегодня его оценивают примерно в пять-десять лет. Можно сказать, что всё это — такие технологии, которые нужно учитывать уже сейчас. Конечно, 5–10 лет — это не завтрашний день, но уже ближайшая перспектива. Основное отличие новых беспилотников от предыдущих поколений БПЛА — электронная начинка. В связи с этим следует ожидать несколько сокращённого времени для введения их в строй за счёт того, что аэродинамические, технические решения, связанные с двигательными установками, уже обкатаны на предыдущих самолётах и БПЛА, и на пилотируемых малозаметных самолётах. Производители беспилотников могут использовать этот опыт для подготовки испытаний, в том числе и войсковых. Как известно, недавно по сирийским дорогам уже разъезжали американские конвои, а когда их будет сопровождать беспилотный летательный аппарат, действующий в автономном режиме — вопрос времени. Это пессимистичный прогноз, и он не станет более оптимистичным, если учесть, что у России опыта разработки реактивных беспилотников сильно меньше — мы можем говорить только о С-70 "Охотник". Соответственно, у нас это займёт больше времени.
"ЗАВТРА". Что ж, печально слышать, Глеб Николаевич! Спасибо за беседу.

ГРУСТНАЯ МАТЕМАТИКА АФГАНСКОГО БУДУЩЕГО
ИЛЬЯ ФАБРИЧНИКОВ
Член Совета по внешней и оборонной политике, коммуникационный консультант.
«НЕСОКРУШИМАЯ СВОБОДА» ЗАКОНЧИЛАСЬ С СОКРУШИТЕЛЬНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ
30 апреля США начали вывод своих войск. Можно предположить, что как только последний самолёт с солдатами ISAF покинет Афганистан, талибские лидеры прекратят любые переговоры с Кабулом и начнут широкомасштабное наступление на правительственные структуры. А американцы никогда не признаются, что это бегство от собственноручно созданной проблемы.
Чуть менее двадцати лет назад, всего-то спустя несколько недель после терактов 11 сентября 2001 г., ведомая США коалиция вошла на территорию Афганистана в попытке разгромить движение «Талибан»[1] и уничтожить, как заявлялось, инфраструктуру международной террористической организации «Аль-Каида»[2]. Спустя одиннадцать лет, в 2012 г., в Абботтабаде во время спецоперации ССО США основатель «Аль-Каиды» Усама бен Ладен был застрелен. Ещё через девять лет, 30 апреля, США и их союзники по ISAF начали вывод своих войск.
На пике кампании «Несокрушимая свобода», в 2011 г., на территории Афганистана находилось 98 000 военнослужащих США и 41 000 военных других стран коалиции. Им помогали свыше 300 000 военнослужащих афганской армии и МВД. В этот же период на территории Афганистана работали и около 120 000 частных контрактников, из которых почти 23 000 были сотрудниками американских и иных ЧВК, привлечённых Пентагоном. По самым скромным оценкам затраты только на военную кампанию могли составить свыше 750 миллиардов долларов (некоторые источники говорят о сумме в 975 миллиардов долларов без учёта программ реконструкции). Согласно открытым источникам, США и прочие спонсоры афганского процесса направили на программы помощи по восстановлению дееспособности страны 143 миллиарда долларов за восемнадцать лет. Причём эти средства шли в основном на финансирование афганского правительства, армии, МВД и Главного управления национальной безопасности. Всемирный банк со своей стороны выделил около 6 миллиардов долларов кредитов за девятнадцать лет, а пожертвования в Фонд восстановления Афганистана (ARTF) составили ещё около 13 миллиардов. ВВП страны в настоящее время составляет 19,2 миллиарда долларов.
Число афганских беженцев к сегодняшнему моменту составляет почти 3 миллиона человек. Ещё 3 миллиона относятся к категории временно перемещённых лиц, бежавших от ужасов гражданской войны в более спокойные области страны. И это из 30-миллионного населения. Согласно отчётам ООН за 2019 г., под посевы опийного мака было задействовано 163 000 гектар. 82 процента опийного мака поставляется на мировой наркотический рынок из ИРА (в 2001 г. эта цифра составляла всего 5 процентов). По самым скромным оценкам «доходы» от выращивания опиума приносят в экономику страны 2,1 миллиарда долларов. Из 34 афганских провинций только десять не выращивают мак.
По некоторым афганским оценкам «Талибан» уже несколько последних лет уверенно или частично контролирует до 70 процентов страны, во многих провинциях существуют параллельные управленческие и административные структуры – правительства Гани и подконтрольные «Талибану».
Математика со всех сторон пугающая. Особенно учитывая тот факт, что президент США Джо Байден в своём обращении от 14 апреля 2021 г. без экивоков заявил: нам в Афганистане уже давно делать нечего, непонятно, зачем мы там вообще находились последние восемь лет, пусть с вопросами и проблемами ИРА теперь разбираются русские, китайцы, индийцы и турки. Таким образом Байден, хотя и косвенно, хотя и со всеми возможными реверансами, но признал: США в Афганистане подавляющее время не просто не имели внятной стратегии, не просто теряли время, ресурсы и жизни, но не добились ровным счётом ничего, кроме уничтожения «Аль-Каиды», на осколках которой, после масштабного ребрендинга, проросло с полдюжины не менее зловещих и куда более оформленных террористических движений.
Вопросы дальнейшего урегулирования с «Талибаном», вероятно, также лягут на плечи как администрации Гани, так и сопредельных государств и региональных лидеров. А ведь у «Талибана» под ружьём около 80 000 бойцов. И к тому же весьма деятельная поддержка местного пуштунского населения. Пущей пикантности придаёт и мимоходом отпущенное замечание о том, что дипломатическая стратегия (как и параметры присутствия дипмиссии) будут американцами пересмотрены
После ухода советских войск из Афганистана режим президента Наджибуллы без всякого значимого содействия со стороны российского правительства продержался три года. Ещё два года назад, когда США при Дональде Трампе начинали мирные переговоры с «Талибаном» в Дохе (без участия, надо подчеркнуть, афганских властей), было понятно, что как только американские и союзнические штыки покинут территорию страны, талибы развернутся во всю мощь. Да, переговоры с центральной властью, начавшиеся после подписания мирного соглашения между талибами и США в феврале прошлого года, начались, но до сих пор ни к чему не привели.
Время играет на руку талибам. Как только последний самолёт с солдатами ISAF покинет Афганистан, можно с высокой степенью уверенности предположить, что талибские лидеры прекратят любые переговоры с Кабулом и начнут широкомасштабное наступление на правительственные структуры. А нынешние, впрочем, очень условные союзники Гани (Хекматьяр, Дустум), обладающие реальной военной и политической властью, быстро станут решать вопросы собственного выживания. Говорили, что Гани в последние дни, видимо, понимая крайнюю шаткость своего положения, попытался заручиться поддержкой пакистанцев и даже неофициально посетил Исламабад в поисках гарантий, но вряд ли кто-то из пакистанского руководства будет давать какие-либо гарантии человеку, сумевшему за семь лет своих президентских зигзагов рассориться не только с соседями, но и с политическими оппонентами в попытках консолидировать собственную власть. Вероятно, он не рассчитывал на столь спешное сокращение и уход коалиционных сил.
Байден заявил, что вывод войск из ИРА закончится аккурат к годовщине их ввода – в октябре. Срок для вывода 2 500 человек более чем достаточный. Американцы никогда не признаются, что это бегство от собственноручно созданной проблемы: в медиа это будет обставлено с максимально возможной помпой и преподнесено, как тяжёлое, но единственно возможное, практически победное решение. Но «на земле» афганцами (в том числе и талибами) это будет воспринято именно как бегство: после вывода американцы никакой военной поддержки (в том числе и с воздуха) больше не обещали. А природа не терпит вакуума власти.
Это значит, что уже в ближайшее время у российского внешнеполитического блока прибавится головной боли в части «контроля ущерба» от столь долгого, затратного и такого малоэффективного пребывания США на афганской территории.
И некоторые подходы к афганской повестке – к вопросам жёсткого противодействия контрабанде наркотиков из Центральной Азии, к вопросам укрепления наших партнёров по ОДКБ на афганском направлении, к вопросам системной и затратной работы с афганскими народами и их лидерами, ко всему тому, что длительное время находилось, давайте это признаем, на периферии нашего внимания – придётся самым серьёзным образом пересмотреть. Тем более что в Центральной Азии и так в последнее время неспокойно.
Потому что в своём новом походе за властью «Талибан» сдерживаться не будет. Сдерживающих факторов просто не осталось.
--
СНОСКИ
[1] Запрещено в России.
[2] Запрещено в России.

РАЗМЕЖЕВАНИЕ НА ОРБИТЕ
АЛЕКСАНДР БАУРОВ
Врио директора исследовательско-аналитического центра ГК «Роскосмос» в 2018–2019 годах.
Россия планирует создать собственную орбитальную станцию и предупредит партнёров по МКС о выходе из проекта с 2025 года. Тренд на создание страновых космических околоземных лабораторий является, с одной стороны, продолжением размежевания межгосударственных отношений на Земле, но с другой – фиксирует преодоление кризиса государственной неуверенности в целях освоения ближнего, среднего и дальнего космоса, возникшего после окончания холодной войны.
В начале прошедшей недели вице-премьер Юрий Борисов в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» (ВГТРК), заявил, что «Россия планирует создать собственную орбитальную станцию и предупредит партнёров по МКС о выходе из проекта с 2025 года». Эта новость явно была последствием расширенного обсуждения итогов реализации космических программ страны, которое традиционно проводят на совещании с президентом в канун Дня космонавтики 12 апреля.
Общественность была ошарашена, даже от лояльной части блогосферы шли противоречивые комментарии, а уж независимые эксперты в очередной раз бросились «хоронить» пилотируемую космонавтику в России. Однако таким ли уж разрушающим тренды и непредсказуемым выглядит подобное заявление?
МКС является продуктом предыдущей эпохи не только финансовых трудностей космической индустрии, но и смены целеполагания. Её российский сегмент был изначальным заделом спланированной ещё в СССР станции «Мир-2», но в силу объективных причин, она была оставлена в недоделанном виде и без поддержки международных партнёров наверняка канула бы в лету – как многие мегапроекты в области космонавтики позднего СССР. Но хорошие отношения с США в 1990-е гг. позволили встроиться в международную кооперацию беспрецедентного масштаба, вытащить вовлечённые предприятия из финансовых проблем и за короткий срок поставить в состав станции три модуля из запланированных девяти.
Описывая соотношение участия американского и отечественного сегмента МКС (см. публичный гуляющий по интернету слайд АО «РКК Энергия»), стоит отметить, что российский сегмент МКС практически полностью зависит от американского по электроэнергии и на порядок уступает по потенциально научной загрузке – при отсутствии универсальных научных стоек соотношение целевого оборудования 3,2 кубометра против 58 кубометров научного оборудования в американском сегменте.
Не удивительно, что ещё в предыдущие годы научная составляющая пребывания на МКС вызывала большие вопросы руководства отрасли. Так, в 2018 г. Дмитрий Рогозин указывал, что Россия должна отказаться от проведения некоторых экспериментов на Международной космической станции (МКС), которые разрабатывались «по десять лет и уже потеряли актуальность.

Таким образом, вопрос о том, зачем мы тратим огромные деньги на поддержание отечественного сегмента МКС (чтобы сохранять навыки отряда космонавтов, вести передачи и блоги с орбиты и так далее) уже давно стал как минимум полем для дискуссии.
Теперь же мы подвели под этим некую черту. Руководство страны (и вице-премьер Юрий Борисов это подчеркнул) склонилось к созданию новой национальной орбитальной станции, «оценив перспективу продолжения участия в МКС». Конечно, это порождает ряд вопросов: почему «национальная» – кто так делает, если в кооперации вроде проще? Какой она будет? Что делать с отечественным сегментом МКС после 2025 года? Число вариантов ответа на последний вопрос – априори небольшое, и руководство «Роскосмоса» их уже озвучило:
«Мы передадим ответственность за свой сегмент нашим партнёрам (Национальному управлению США по аэронавтике и исследованию космического пространства – NASA) либо будем выполнять те задачи, которые необходимы для поддержания станции, на коммерческой основе, а не за счёт нашего бюджета», – заявил Дмитрий Рогозин. Он также добавил, что «российский сегмент МКС изношен на 80 процентов, а его поддержание в рабочем состоянии потребует примерно столько же средств, сколько должно быть потрачено на развёртывание отечественной орбитальной станции с 2025 года».
Что касается национальных станций, строящихся для ограниченного круга задач, то Россия здесь, во-первых, наследует традиции СССР и, во-вторых, будет строить свою станцию рядом с уже созданной к тому времени станцией КНР.
Более пяти лет назад руководство Китая заявило о подготовке собственной космической станции, и вот 23 апреля 2021 г. на стартовый стол китайского космодрома Вэньчан вывезли на старт ракету-носитель «Чанчжэн-5B Y2» с базовым блоком «Тяньхэ» («Млечный Путь») будущей национальной орбитальной модульной станции КНР.
Модуль «Тяньхэ» – это центр управления будущей станцией. Внешне напоминает модуль «Звезда» в составе МКС или базовый блок советской орбитальной станции «Мир». Планируется, что к «Тяньхэ» позже пристыкуют лабораторные модули «Вэньтянь» и «Мэнтянь». К нему смогут причаливать транспортный пилотируемый корабль «Шэньчжоу» и грузовой корабль «Тяньчжоу». Так что уже в мае 2021 г. есть шанс увидеть две обитаемые станции на орбите Земли. Почему бы не быть и трём?
О новой отечественной станции информация пока противоречивая – несмотря на презентации общественности в АО «РКК Энергия», опыт реализации предыдущих пилотируемых проектов показал, что они могут претерпевать значительные изменения по ходу реализации. Поэтому о сроках и параметрах станции (за исключением названия РОСС – российская орбитальная служебная станция) говорят пока очень осторожно. Точно известно, что в её основу ляжет модуль НЭМ (научно-энергетический модуль, планировавшийся для МКС), который после доработки под новую станцию могут запустить в 2025 году.
Можно понять капитанов отечественной промышленности. Ситуация с бесконечными переносами достройки сегментов отечественного сегмента МКС стала мишенью критики независимых экспертов очень давно. Сроки запуска последнего отечественного модуля, ожидающего отправки на МКС в июле этого года – многофункционального лабораторного модуля (МЛМ), передвигались более чем на пятнадцать лет. За это время многократно менялись руководители космической отрасли, головного предприятия – РКК «Энергия». Менялись принципы и формат управления индустрией. Сейчас в «Роскосмосе» скорее дуют на воду – хотя команда Дмитрия Рогозина наглядно показывает, что при определённых методах ручного управления можно передвигать сроки не только «вправо», но и «влево» – создавая грандиозные объекты космодрома Восточный с опережением графика.
Тем ни менее можно говорить, что тренд на создание страновых космических околоземных лабораторий (гражданского и специального назначения) является, с одной стороны, продолжением размежевания межгосударственных отношений на Земле. Межстрановая координация падает каждый год – мы постоянно слышим о взаимных санкциях, торговых войнах, высылке дипломатов и совсем редко – о том, что ООН «что-то решила» или кого-то «принудила к миру». С другой стороны, этот процесс фиксирует преодоление кризиса государственной неуверенности в целях освоения ближнего, среднего и дальнего космоса, который возник после окончания холодной войны.
За прошедшие тридцать лет всё, что можно было сделать совместно на таких низких орбитах, уже было исследовано и сделано.
Дальнейшее решение национальных задач и борьба за размещение коммерческих исследований, для которых необходима микрогравитация станции, видимо, будет проходить в рамках «национальных космических домов» – вертикального продолжения великих держав.
Остаётся надеяться, что при решении задач по-настоящему новаторских, являющихся большими шагами для всей цивилизации, межстрановой диалог сохранится и будет большим приоритетом, нежели конкуренция и секретность специальных задач. Таким полем деятельности в ближайшие десятилетия обязательно станет Луна, и технологические альянсы по её освоению будут формироваться буквально у нас на глазах.
Я уверен, до 2040 г. мы увидим высадку представителей как минимум одной из крупных держав на нашем естественном спутнике, с заявкой на роботизированную колонизацию и постройку исследовательской инфраструктуры. Остаётся ждать. И, возможно, национальная космическая станция России сыграет в этом процессе свою знаковую роль.

Сергей Лавров: Россия предлагала США "обнулить" дипломатический конфликт
В последнее время отношения России и США находятся в явном кризисе: одни за другими следуют американские санкции, высылают дипломатов, Россия вынуждена принимать ответные меры, а из Вашингтона обещают "наказывать" Москву снова и снова. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал в интервью РИА Новости, которое брал генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, о том, каким российская сторона видит выход из сложившейся ситуации, готовы ли к этому американские политики. Он также объяснил, чем нынешняя обстановка в двусторонних отношениях хуже даже времен холодной войны, как Россия будет реагировать, если Америка попытается пересечь красные линии, высказал мнение о том, почему нельзя "выбирать между телевизором и холодильником".
— Отношения с Америкой ну просто ни к черту. Я лично таких плохих не припомню. Уже хуже даже, чем холодная война. Послы сидят в своих странах. Что будет дальше? Какой вариант развития?
— Если бы это зависело только от нас, наверное, мы бы вернулись к нормальным отношениям. И в качестве первого и, по-моему, очевидного, совсем не сложного шага обнулили бы все те меры, которые предпринимались по ограничению работы дипломатов России в США, — в ответ мы ограничивали работу дипломатов США в России. Мы это предлагали администрации Байдена сразу, как только она принесла присягу и вступила в свои полномочия. Я упоминал об этом Блинкену. Не навязываясь. Просто сказал, что очевидным шагом для того, чтобы мы могли нормально работать, стало бы обнуление всего того, что начал Барак Обама, когда за пару недель до ухода с поста президента, хлопая дверью, срывая раздражение, арестовал российскую собственность, нарушая все Венские конвенции, выгнал российских дипломатов. Потом пошла цепная реакция. Мы, кстати, долго терпели — мы же ждали до лета 2017 года, прежде чем отреагировать, потому что администрация Трампа нас просила не реагировать на уходящие эксцессы администрации Обамы, которая покидала Белый дом. Но и у администрации Трампа не получилось эту ситуацию вернуть в нормальное русло, поэтому мы вынуждены были ответить более-менее зеркально. Но американцы на этом не успокоились.
Мы видим, что администрация Байдена тоже продолжает по этой наклонной плоскости скользить. Хотя в разговоре Путина с Байденом, который состоялся вскоре после инаугурации, в моем разговоре с государственным секретарем Блинкеном нам сказали наши американские визави, что они проводят серьезный обзор отношений с Россией и рассчитывают, что по итогам этого разговора многое станет понятным. Но итогом этого разговора стали новые санкции, на которые мы вынуждены были ответить уже не просто зеркально, а как многократно предупреждали: что мы в конце концов будем действовать асимметрично. Это касается в том числе и существенного диспаритета в количестве дипломатов и других сотрудников, которые работают в американских дипломатических миссиях в России, превышая количество наших дипломатов в США. Мы об этом говорили, не буду углубляться.
Но если говорить о стратегическом видении наших отношений, то я очень надеюсь, что в Вашингтоне так же, как и мы, осознают ответственность за стратегическую стабильность в мире. Не только проблемы у России и США, не только проблемы, которые существенно осложняют жизнь наших граждан, их контакты, общение, ведение бизнеса и гуманитарных проектов — это еще и проблемы, которые подвергают серьезным рискам международную безопасность в самом широком смысле слова. Поэтому вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, которые прозвучали в известном интервью Джо Байдена телеканалу ABC. Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу — мы восприняли позитивно. Мы хотим понять все аспекты этой инициативы, изучением которой сейчас и занимаемся. Еще раз скажу, если США прекратят действовать с позиции суверена, как об этом сказал президент, выступая с посланием Федеральному собранию, если они осознают бесперспективность каких-либо попыток возрождать однополярный мир, создавать какую-то конструкцию, где все будут подчинены западным странам и весь западный лагерь будет вербовать под свои знамена все другие страны на разных континентах против Китая и Российской Федерации, если США все-таки поймут, что не зря записаны в Уставе ООН такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела и суверенное равенство государств — просто выполнят свои уставные обязательства и будут вести диалог с нами, как и с любой другой страной, взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден… Иначе у нас ничего не получится. Президент об этом четко сказал в послании, подчеркнув, что мы готовы на самые широкие договоренности, если это отвечает нашим интересам. И конечно, будем жестко реагировать на любые попытки пересечь красные линии, которые, как вы слышали, мы определяем сами.
— Насколько реалистично ожидать, что они осознают это, откажутся от позиции сюзерена? Ведь надежда — это хорошо, но реальность совсем другая.
— Я не высказывал надежды. Я сказал, на каких условиях мы будем готовы разговаривать.
— А если нет, то?..
— Ну, если нет — это их выбор. Значит, будем жить в условиях, как вы сказали, то ли холодной войны, то ли в условиях еще хуже. Я считаю, что в холодную войну напряжение было, конечно, очень серьезное, не раз возникали рискованные ситуации, кризисные ситуации. Но было взаимное уважение, которое сейчас в дефиците. И где-то даже проскакивают шизофренические нотки в высказываниях некоторых деятелей в Вашингтоне. Недавно официальный представитель Белого дома заявила, что санкции будут продолжены в отношении России, что санкции дают примерно тот эффект, на который рассчитывал Вашингтон, и что целью санкций является снижение напряженности в отношениях США и России. Я даже не могу это комментировать. Надеюсь, всем понятно, что такого рода заявления не делают чести тем, кто отстаивает такую политику в Белом доме.
— Мне приходилось слышать мнение, что дипломаты плохо работают, не могут построить отношения — мы все упираемся, наша позиция совсем не гибкая, не эластичная, и поэтому отношения плохие.
— Да, я читаю тоже эти оценки, благо у нас свобода слова, я считаю, существенно более защищена, чем во многих западных странах, включая те же США. Я читаю и оппозиционные интернет-ресурсы, газеты и считаю, что, наверное, эти люди имеют право на выражение своей точки зрения, которая заключается в том, что вот если бы мы не спорили с Западом, у нас сейчас был бы пармезан и многое другое, чего нам искренне не хватает. А вот когда закрыли по каким-то причинам закупку продовольствия на Западе, причем не объясняя, что это была ответная мера, просто прекратили закупать продовольствие, стали заниматься импортозамещением, продукты подорожали. Знаете, это узкий и однобокий взгляд, исключительно с позиции благополучия — выбирать между телевизором и холодильником. Это — их язык, на котором они разговаривают. Если уж они так считают принципиальным воспринимать ценности США, напомню высказывание, по-моему, величайшего президента США Джона Кеннеди: "Не думай о том, что твоя страна может сделать для тебя. Думай о том, что ты можешь сделать для своей страны". Это радикальное отличие от нынешних либеральных взглядов, когда только личное благополучие, личное самочувствие имеет решающее значение. Те, кто продвигают такие философские подходы, по-моему, не то что не понимают нашего генетического кода, они пытаются его всячески подрывать. Потому что, кроме желания жить хорошо, жить сыто, быть уверенным за своих детей, друзей, родных, всегда в нашей стране чувство национальной гордости играло не меньшую роль во всем том, что делалось за всю нашу тысячелетнюю историю. Если кто-то считает, что для него — или, как сейчас корректно говорить, для нее — эти ценности уже не имеют значения, это их выбор. Но я убежден, что подавляющее большинство нашего народа думает иначе.
— Рассчитываете ли вы на встречу с Блинкеном? Когда эта встреча может состояться и состоится ли вообще в обозримой перспективе?
— Когда мы говорили по телефону, я его, в соответствии с дипломатическим этикетом, поздравил. Мы обменялись некоторыми оценками ситуации. Беседа была, считаю, доброжелательной, спокойной, прагматичной. Я отметил, что когда наши американские коллеги завершат формирование всех своих штатов, в Госдепартаменте в том числе, мы будем готовы возобновлять контакты при том понимании, что мы будем искать взаимоприемлемые договоренности по многим проблемам, начиная с функционирования дипломатических миссий, завершая стратегической стабильностью и многими другими вещами. Американский и российский бизнес заинтересованы в том, чтобы расширять свое сотрудничество, о чем недавно Американо-российская торговая палата нам сообщала. Мы закончили на том, что будут какие-то совместные многосторонние мероприятия, на полях которых можно переговорить при случае. Пока никаких сигналов со стороны США не поступало. Если говорить о календаре мероприятий — через три недели Россия будет перенимать эстафету председательства в Арктическом совете у Исландии. В Рейкьявике планируется, по-моему, 20-21 мая министерская встреча. Если американскую делегацию будет возглавлять госсекретарь, я, конечно, буду готов в случае его заинтересованности с ним переговорить. Я, учитывая, что мы на два года заступаем председателем Арктического совета, уже объявил нашим исландским коллегам, что буду участвовать в этом министерском заседании.
Вторая часть интервью Сергея Лаврова будет опубликована в среду, 28 апреля.

Фёдор Лукьянов: «Мир находится на переломе»
Кардинальные изменения международных отношений происходят у нас на глазах, и России предстоит повышать и дальше уровень нашей самодостаточности.
Каковы роль и место нашей страны в нынешней непростой системе международных отношений? Почему американцы так долго сохраняли иллюзии в отношении ослабленной, но несломленной России? В какую ловушку они попали? Об этом и многом другом в интервью «Красной звезде» рассказал известный журналист-международник, политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума неправительственной организации «Совет по внешней и оборонной политике» Фёдор Лукьянов.
– Фёдор Александрович, вы и два года срочной в своё время отслужили, и в рамках курса «Психологическая оборона» на площадке Военного университета сегодня активно выступаете. Вам ли не задать вопрос: для чего людям в погонах требуется такое «политориентирование»?
– Современный мир находится на переломе, и перелом этот несёт большое количество вызовов, в том числе военно-силового характера. Масштаб изменений крайне велик, но не вполне ещё осознан даже специалистами. В тот момент, когда события последнего тридцатилетия только начинались, они воспринимались всеми в мире как начало новой эпохи. А сейчас, когда это тридцатилетие закончилось, стало понятно, что они, скорее, были концом эпохи предыдущей. Или переходным временем от той системы, которая существовала на международной арене после Второй мировой войны, во второй половине XX века, к системе, которая ещё впереди и о которой мы пока можем лишь гадать. Ибо факторов, под воздействием которых она возникает, становится всё больше.
Без базового понимания хотя бы общих тенденций развития современного мира, собственной страны военнослужащим будет крайне сложно выполнять свои функции. Потому что, с одной стороны, военно-силовая составляющая международной политики становится всё важнее, а с другой – применение силы становится настоящим искусством, причём даже более, чем раньше. Очень уж сложно всё сегодня взаимосвязано, и надо хорошо понимать, когда, как, в каких объёмах, на какой срок можно эту силу применить.
Да, в нашей истории был непродолжительный период, когда даже многие очень знающие эксперты полагали: мир вроде как настолько изменился, что решающим фактором воздействия и влияния стал не классический военный потенциал, а нечто иное. Да, конец прошлого и начало нынешнего столетия прошли под флагом якобы демилитаризации международных отношений. Но затем жизнь очень быстро расставила всё по своим местам. Сейчас мы видим, что военно-силовые возможности, во-первых, по-прежнему играют ключевую роль в международной политике, а во-вторых, наращиваются всеми, кто имеет даже минимальные амбиции, желание играть хоть какую-то роль на международной сцене.
Мне кажется, что инициатива курса «Психологическая оборона», который даёт военнослужащим широкий горизонт представлений о происходящем, крайне важна, и её надо расширять и поощрять. Я, конечно же, часто выступаю в самых разных аудиториях, но Министерство обороны – это отдельный мир, куда человек, не имеющий прямого отношения к данной сфере, попадает нечасто. Понимание специфики международных процессов для военнослужащих, на мой взгляд, становится сейчас совершенно обязательным элементом профессиональной подготовки. Опять же, так было и раньше. Но степень их важности сегодня, на мой взгляд, возросла.
– Динамика изменений на международной арене сегодня чрезвычайно высока. Можно ли проследить здесь какие-то закономерности?
– Минувшие 30 лет стали транзитом от достаточно хорошо разработанной и понятной системы эпохи холодной войны к чему-то новому. К чему – гадать бессмысленно. Вы правы, слишком многое и слишком быстро всё вокруг меняется. Студентам-международникам и молодым людям вообще я постоянно говорю о том, как им фантастически повезло. Потому что те процессы, которые люди нашей профессии раньше изучали по книгам и учебникам, происходят у них на глазах. То, что мы видим по телевизору или в интернете, читаем в газетах, это и есть кардинальные изменения мирового устройства. Не на каждое поколение, не на каждую возрастную когорту это выпадает. Нам с вами выпало, со всеми достоинствами и недостатками этого, жить в очень интересный, но крайне опасный период.
Напомню, то, что произошло во второй половине 1980-х, многими воспринималось как нечто совершенно невероятное. Начавшиеся в СССР политические изменения вызвали импульс в Восточной Европе. И на Западе это даже не сразу восприняли всерьёз. Когда Горбачёв заговорил о «новом политическом мышлении», ему не сразу поверили, полагая, что это некие отвлекающие манёвры.
Так или иначе, момент стремительной деградации, а потом исчезновения СССР стал переломным. Но он сыграл злую шутку с теми, кто посчитал, что холодную войну Запад выиграл не в кровопролитной войне, а путём демонстрации преимуществ западной либерально-демократической модели. И модель эта, дескать, теперь становится не только ведущей в мире, но и единственно правильной. Дальше вопрос только в том, как быстро она распространится на остальной мир. Остаётся, мол, только ждать.
Да, возникла вот такая иллюзия, которую можно было бы счесть просто пропагандой. Но самое опасное, когда запущенная тобой пропаганда возвращается к тебе же в виде обратной волны, и ты начинаешь воспринимать мир через её призму. В эту ловушку после холодной войны как раз и попал Запад.
– Когда СССР распался, с Россией решили больше не считаться…
– Когда СССР исчез, понятие «новый мировой порядок» было взято на вооружение уже американцами. Но порядок этот вовсе не предполагал равноправного взаимодействия, о котором так мечтал Горбачёв. Предполагалось, что Соединённые Штаты, как самая сильная на планете держава, формирует мир таким, каким считает нужным. Но что при этом делать с Россией, на самом деле, мало кто представлял. По большому счёту Запад тогда волновало прежде всего то, что советский ядерный арсенал был разбросан по четырём странам, и предпринимались усилия, чтобы перевезти ядерное оружие с территории Белоруссии, Казахстана и Украины в Россию.
Когда этот вопрос был решён, равнодушие к России продолжило нарастать. Дескать, она находится в таком запущенном состоянии, что будет десятилетиями из него выбираться. Существенной угрозы Западу она представлять не будет. Ну и ладно! Западные аналитики стали на полном серьёзе обсуждать, каким будет мир без России. Что делать с этим гигантским пространством, которое перестанет играть сколь-либо важную роль. Дальше западный ум был занят тем, что осваивал геополитическое наследие побеждённого. НАТО расширялось на восток, поглощая и страны бывшего Варшавского договора, и бывшие союзные республики. У многих на Западе тогда возникло стойкое убеждение, что процесс этот безальтернативен. Да, Россия ворчит, возражает, но ни на что это не влияет.
Сыграло здесь свою роль и то, с какой лёгкостью бывшее советское руководство согласилось на членство в НАТО объединённой Германии. Когда шли переговоры, на Западе полагали, что здесь СССР упрётся намертво, отстаивая нейтральный статус ФРГ. Когда же Горбачёв внезапно согласился, это стало для американцев приятным сюрпризом. Такого рода вещами у них только усиливалось ощущение, что они добьются всего, чего хотят. Так что потом, когда Москва начинала возражать против вступления в альянс тех или иных стран, ей напоминали германский прецедент. Дескать, если венгры или поляки хотят в НАТО так же, как и немцы, мы… не можем им отказать!
– По сути, события развивались в таком русле вплоть до 2014 года. Когда Запад вдруг убедился, что автоматизм его экспансии в восточном направлении может натолкнуться на такие издержки, которые уже не стоят того?
– Да, совершенно верно. Потому что расширение ЕС и НАТО воспринималось как само собой разумеющееся до того момента, пока считалось, что это, в общем-то, ничем не грозит. Как только выяснилось, что это может чем-то грозить (а проясняться это начало ещё в 2008 году в Грузии), тут же раздались голоса: а нам это, собственно, зачем?! Но к этому надо было прийти. Понадобилось два десятилетия, прежде чем красная дорожка перед НАТО начала сворачиваться…
То, что дела пошли несколько по иному сценарию, Запад понял не сразу. При этом ни в 1990-е годы, ни позднее не было чёткого представления о том, чего же Запад хочет в отношении России. Понятно было, чего он не хочет – чтобы наша страна снова стала существенным элементом мировой системы, но как её обустроить, чтобы она таковой не была, идеи не высказывались. Звучала лишь довольно абстрактная идея о том, что Россия станет частью большой Европы. Не Евросоюза, вступление нашей страны в ЕС никто и никогда не обсуждал, а именно «большой Европы», являющейся некой сферой общих интересов и действующей, так или иначе, по принципам и нормам, которые формулируются в Брюсселе. Наверное, что-то подобное тому, что Украина получила в 2014 году. Имеется в виду пресловутое соглашение об ассоциации и углублённой зоне свободной торговли с ЕС, из-за которого в итоге там и случился майдан и которое Украина подписала уже после смены режима в Киеве.
Что-то подобное, видимо, собирались предложить и России. Хотя как это будет работать, даже теоретически на Западе никто не представлял. Считалось, что ослабевшая Россия так или иначе к этому придёт, вольётся в это пространство, поскольку иного выхода у неё нет. Надо признать, что такой путь, в общем, на определённом этапе не отвергали и в Москве. Даже в первой половине нулевых многие сохраняли надежды на некий «европейский вектор». Питая иллюзии, что Россия вольётся в общее с Европой пространство на каких-то, более-менее равноправных, основаниях. Но здесь-то и начались концептуальные проблемы. Ибо когда Москва начала формулировать собственные интересы и требования, в ответ из ЕС звучало: извините, мы так не можем. Переговоров мы не ведём. У нас есть нормы и правила, которым вы должны соответствовать, и тогда посмотрим, как с вами быть. На том, как говорится, и разошлись. Стало ясно, что нам не по пути.
Поворотным пунктом, наверное, был 2007 год, когда выступление Владимира Владимировича Путина на мюнхенской конференции по безопасности вызвало на Западе шок. Хотя на самом деле Путин сказал то же самое ещё в 2001 году, когда выступал на немецком языке в бундестаге после трагических событий в США 11 сентября. Оба выступления практически одинаковы по содержанию. Они были разными только по тональности. В 2001-м российский лидер говорил о том, что перед нами стоит общая угроза в лице международного терроризма, делая акцент на том, что существующие разногласия в целом преодолимы. А в 2007-м он сказал ровно то же самое, но задал резонный вопрос: почему вы делаете всё наоборот? Вы не хотите решать реальные проблемы и только усугубляете их. Да ещё и требуете чего-то от нас? Так дело не пойдёт.
И это на Западе уже было воспринято как вызов, чуть ли не бунт на корабле. Подавить его уже не могли, но, надо признать, и с полной серьёзностью не восприняли. Пошумит Россия и успокоится.
А вскоре случились трагические события в Южной Осетии, когда тогдашний грузинский президент за чистую монету принял то, что говорили ему американские партнёры. Чем только ускорил распад собственной страны. Он был крайне удивлён, когда натовские войска не ринулись ему на подмогу, но факт остаётся фактом. Надеюсь, что этот урок всё-таки усвоили в другой бывшей союзной республике, которой тоже не терпится повоевать. Похоже, они тоже рассчитывают, что американские друзья будут проливать за них кровь…
– Ныне бытуют различные мнения, как вести себя России перед лицом нынешнего неприязненного отношения к ней со стороны Запада…
– Сейчас действительно есть разные точки зрения. Скажем, существует достаточно обсуждаемая сейчас позиция, что нужна некая контратака. Если говорить в прежних категориях, идеологическая, а сейчас её, возможно, стоит назвать как-то по-другому. Приверженцы этой идеи считают, что Россия должна чётко заявить своё видение и концепцию мирового развития. Но я, например, полагаю, что на сегодняшнем мировом горизонте настолько всё мутно, что не очень-то понятно, что именно заявлять! Велик риск, что это просто уйдёт в песок.
Сейчас реально наступил переходный период, и на первый план вышло совершенно необходимое, обязательное условие дальнейшей борьбы за место в глобальной политике – укрепление своей собственной страны, её экономики, повышение внутренней устойчивости общества, развитие государственных институтов, и прежде всего Вооружённых Сил. Я бы сказал, что это намного важнее.
Надо продолжать работать над собой, и, как говорится, люди к тебе потянутся! Потянутся, если увидят, что Россия сильна, как прежде. Когда наша страна успешно действует на международной арене, это производит впечатление без всяких специальных пропагандистских усилий. Ситуация на Ближнем Востоке или Южном Кавказе тому пример.
Нужно повышать и дальше уровень нашей самодостаточности на тот случай, если Запад решит нас изолировать или изолироваться от нас. Мир меняется, и та взаимозависимость, которая сформировалась за последние 25–30 лет и считалась на протяжении определённого времени благом, сейчас всё больше превращается в фактор уязвимости. Кстати, касается это не только нас, а всех без исключения. Порвать эту взаимозависимость сложно, к тому же это будет иметь для нас существенные издержки. Поэтому надо просто готовиться. Принимать как факт, что эта взаимозависимость будет сокращаться, но сохранятся попытки с её помощью на нас воздействовать.
В этой связи можно напомнить, как в 2014 году, когда на Россию стали оказывать давление из-за Крыма, грозя приостановить оборот зарубежных платёжных систем, в течение короткого времени удалось создать то, о чём говорили до этого годами, – собственную платёжную систему «Мир». Тогда ещё кто-то пытался спорить, надо это делать или не надо. Сейчас ответ очевиден. Этим надо заниматься и дальше. Я не думаю, что в наших интересах инициировать здесь какой-то разрыв, но надо быть полностью готовым к его возможности. Это, повторяю, гораздо важнее, чем какие-то эфемерные идеологические конструкции.
– Стоит ли в обозримой перспективе ожидать позитивного перелома в российско-американских отношениях?
– Вряд ли. Сейчас мы наблюдаем то ли серьёзную, то ли притворную атаку американцев одновременно на Китай и Россию. Связано это, как мне представляется, с достаточно шаткой внутриполитической ситуацией в самих Соединённых Штатах. Попыткой создать образ страшного врага, против которого можно объединить и американское общество, и западный мир в целом. Из этого, думаю, ничего не выйдет. Но пока курс взят именно на это. Потому никаких предпосылок для конструктивных отношений с США в ближайшие годы я не вижу. И не вижу, кроме всего прочего, потому что нет самой повестки этих отношений. Вот раньше у нас всегда была повестка стратегической стабильности и ядерных вооружений, а теперь даже с этим вроде бы всё заканчивается, поскольку к этой теме не видно никакого интереса американской стороны. А когда нет повестки, нет и отношений. Но это опять-таки совершенно не катастрофа. Нет так нет. Возникнет нужда, появятся и отношения…
– Фёдор Александрович, недавно вы приняли вахту ведущего «Международного обозрения». Я, например, с удовольствием смотрю его по двум причинам: передача очень напоминает былую «Международную панораму», о которой с ностальгией вспоминают те, кто постарше, и, главное, там присутствует вся политическая карта мира. Насколько интересен вам этот проект?
– Вы знаете, я не телевизионщик и никогда не хотел этим заниматься. Но тщеславие, наверное, победило. Я тоже вырос на «Международной панораме», и имена Зорина, Бовина, Овсянникова, Сейфуль-Мулюкова для меня очень много значат. Во многом международником я стал потому, что смотрел их в детстве и юности. Поэтому, когда мне предложили попасть «туда», честно говоря, не устоял. Я считаю, что такой формат сегодня нужен, потому что телевидение, по объективным причинам, очень сильно трансформировалось в сторону шоу. Не оценивая даже, хорошо это или плохо, можно сказать, что шоу в силу законов жанра не позволяет вести серьёзную дискуссию. Понятно, что у «Международного обозрения» аудитория кратно меньше, чем у ярких телевизионных дебатов, но спрос на умные программы, которые что-то объясняют, копают вглубь, всё-таки есть. И меня это радует.
Беседовал
Владимир Мохов, «Красная звезда»

КАКОВА ИХ КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ? || РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
СТИВ ЛАЛЛА
Американский комментатор и публицист.
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ || МАРКСИЗМ
От редакции:
Журнал «Россия в глобальной политике» продолжает серию публикаций под рубрикой «Руководство к действию». В этой рубрике мы рассматриваем текущие события с позиций одной из доминирующих школ международных отношений. У каждого своя линза и свой угол зрения. А нашим читателям мы предоставляем возможность выбирать, чья теория убедительнее интерпретирует события современной политики. Сегодня гостевой комментарий с самого левого фланга американской мысли: Стив Лалла.
↓ ↓ ↓
В разговоре о разрушении окружающей среды, войне на Ближнем Востоке или пандемии неизбежно возникает вопрос: «Какова их конечная цель?».
За этим вопросом стоит убеждённость в том, что мир контролирует элитарная группа капиталистов, которая прогнозирует исход всех своих решений – у них есть незыблемый план, который невозможно оспорить. За этим вопросом также скрывается «капиталистический реализм», который философы Славой Жижек и Фредрик Джеймисон охарактеризовали как ментальное состояние, в котором «проще представить себе конец мира, чем конец капитализма».
«Мы оказались в пресловутом “конце истории”, предсказанном Фрэнсисом Фукуямой после падения Берлинской стены», – писал британский писатель Марк Фишер в книге «Капиталистический реализм. Альтернативы нет?». «Тезис Фукуямы о том, что история достигла своего апогея в либеральном капитализме, часто высмеивали, однако он допускается и даже принимается на уровне культурного бессознательного».
Такой образ мыслей настолько широко распространён, что многие из нас даже не задумаются лишний раз, прежде чем задать вопрос: «Какова их конечная цель?». Мы убеждены, что, задавая этот вопрос, подвергаем капитализм метакритике. Сама формулировка предполагает, что существует такая вещь, как организация или система, – концепция по своей сути революционная для многих из нас, поскольку мы не осознаём, что живём в рамках системы и альтернативы.
Вопрос, какова конечная цель, часто возникает в контексте пандемии. В этом случае предполагается, что мировой капитализм – если бы захотел – мог бы более эффективно отреагировать на пандемию и спасти больше жизней. Поэтому псевдоинтеллектуалы размышляют, был ли умысел в том, чтобы позволить сотням тысяч людей умереть. Возможно, США вступили в сговор с лидерами Бразилии, Великобритании, Китая, Кубы и ООН и вместе они согласовали план по установлению полицейского государства? Теория разваливается, когда мы понимаем, что разные сообщества по-разному отреагировали на COVID-19. Скорее всего, за массовой гибелью людей у капиталистов стоит всё та же цель, что и всегда: заработать как можно больше денег, не задумываясь о последствиях.
В случае с разрушением экологии мы утверждаем, что миллиардеры строят космические корабли для колонизации Марса, что они уже запланировали уничтожение планеты Земля и её экосистем. Будут ли это единичные случаи или жизнь на Марсе, как в книгах и фильмах, – в любом случае мы усвоили идею, что загрязнение Земли и бегство человечества (или по крайней мере – элиты) в космос – это замысел миллиардеров-суперинтеллектуалов, а не результат деятельности экономической системы, которая игнорирует фундаментальные законы природы с целью набить карманы олигархам.
Глобальная война? Мы убеждены, что империалистические войны в Сирии, Афганистане или Йемене развиваются, как и было задумано, что уход США из Ирака в 2011 г. был стратегическим – фактически американцы выиграли войну. Мы усвоили, что война во Вьетнаме происходила в соответствии с планами США, что не подвластные нам силы действуют за наш счёт, а мы не являемся субъектами истории.
Вспоминается недавний комментарий на моей странице в Facebook: «Если кому-то нужен ответ на вопрос о войне и хаосе, то его нет. Когда чаша переполняется, начинается мировая война, история повторяется вновь и вновь». В этих идеях есть доля истины, поэтому они так привлекательны. «Это болезненное ощущение того, что нет ничего нового, само по себе, разумеется, не ново», – писал Фишер.
История повторяется – привлекательная идея. Возможно, корни этой идеи связаны с известным изречением о том, что «тот, кто не учит историю, обречён её повторять». На самом деле это упрощённая версия цитаты испанского философа Джорджа Сантаяны: «Те, кто не может запомнить прошлое, обречены его повторять» (1905 г.).
Мы экстраполируем глубоко укоренившуюся идею о том, что история повторяется, но Сантаяна имел в виду совсем другое. Ни одна из этих максим не учит нас, что история повторяется. Сантаяна предупреждал, что, если мы не будем извлекать уроки из истории, то не сможем участвовать в формировании собственного будущего. Да, в природе и истории человечества есть циклические элементы, но признать, что природа или история полностью повторяются, означает просто выйти из игры – фактически до её начала. Та же логика прослеживается в вопросе о том, какова конечная цель.
Разумная альтернатива – признать, что реальность всё время меняется и продолжит меняться, признать, что человечество играет активную роль в создании будущего.
Наша реальность не определяется силами, которые полностью нам неподвластны. Это осознание придаст нам сил и оптимизма.
«Чтобы реализовать революционные надежды, нужно отказаться от детерминизма, – пишет индийский писатель Янис Икбал. – Вместо того чтобы диалектически поместить индивидуума во взаимосвязанные экономические, политические и культурные системы, институты и структуры, детерминизм предполагает, что на него можно лишь оказывать воздействие в одностороннем порядке. Детерминистская концепция основывается на дихотомическом разделении существования на “внешний мир” и “человеческое сознание”. Согласно этой концепции, внешний мир и сознание – это два разных компонента человеческого существования».
На самом деле, человека невозможно отделить от окружающего мира. Очевидно, что мы являемся его частью. Нам нужны воздух, вода и пища, чтобы жить и мыслить. Своим существованием мы меняем и метаболизируем окружающий мир. Олигархия и элита, хотя и может жить в башне из слоновой кости, тем не менее подвержена воздействию тех же сил природы, что и мы, с теми же пределами ответного влияния. У элиты могут быть разные планы и стратегии, но ничто не гарантирует их идеального воплощения – так было в прошлом, так будет в будущем.
Несмотря на популярность капиталистического реализма в академических кругах – особенно среди философов, культурологов и исследователей постмодернизма, – доказать его ошибочность несложно. Достаточно представить себе другие ментальные состояния или культурные тропы – например, реализм апартеида, феодальный реализм или реализм охоты и собирательства.
Понимание и анализ планов наших оппонентов или врагов важны. Но полагать, что мы бессильны перед ними, – ошибочно и порочно. За вопросом: «Какова их конечная цель?» часто скрываются конспирологические теории. Да, некоторые элементы этих теорий соответствуют действительности и группы единомышленников могут обладать возможностями, чтобы управлять развитием событий. Но слепая приверженность конспирологическим теориям игнорирует очевидность главного заговора: мы, человечество, объединяемся, чтобы создать своё будущее.

Климат и мировые лидеры
При всей представительности климатический саммит, организованный США, оставил ощущение разноголосицы и отсутствия единой программы действий
На прошедшей неделе прошел виртуальный саммит мировых лидеров по вопросам изменения климата. Саммит стал первым крупным международным мероприятием, проведенным по инициативе новой администрации США. В онлайн-дискуссии приняли участие лидеры 40 стран, в том числе и президент России.
Сложно дать однозначную оценку мероприятию. С одной стороны, внешне саммит получился очень представительным — в первой части саммита выступили практически все известные политики: кроме российского и американского президентов своими идеями по климатической повестке поделились канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден, глава правительства Канады Джастин Трюдо, премьер Индии Нарендра Моди, председатель КНР Си Цзиньпин, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и другие.
Что же касается содержания, то можно только с сожалением констатировать, что изменение климата, также как и глобальная угроза коронавирусной инфекции, не стало явлением, способным объединить мир — выступления оставили ощущение разноголосицы и отсутствия единой программы действий.
«Я консультируюсь с экспертами и вижу потенциал для более процветающего и справедливого будущего. Наука безошибочна. Наука бесспорна, и цена бездействия постоянно растет», — цитирует Джо Байдена сайт Белого дома. Американский лидер также отметил, что к 2050 году США намерены прекратить вредные выбросы в атмосферу, но не способны справиться с проблемой изменения климата в одиночку.
В свою очередь Председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи призвал развитые страны усилить меры по борьбе с изменением климата и пообещал, что Китай начнет сокращать потребление угля с 2026 года и намного быстрее многих развитых стран достигнет углеродной нейтральности.
Саудовский монарх Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сообщил о намерении провести собственный саммит в этом году «Зеленый Ближний Восток», направленный на продвижение зеленой повестки на Аравийском полуострове.
Президент России Владимир Путин озвучил ряд российских инициатив и подчеркнул, что надежной правовой основой для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат «универсальные договоренности, достигнутые по линии Организации Объединенных Наций».
Прошедший климатический саммит хоть и закрепил за «зеленой повесткой» приоритетный статус в мировой политике, но еще раз наглядно показал, что речь скорее идет о глобальной конкуренции в рамках климатической повестки, а не о сотрудничестве.
И здесь уже мы можем снова провести аналогию с разворачивающейся на наших глазах «гонкой вакцин» — когда все передовые научные силы и колоссальные финансовые ресурсы брошены на то, чтобы обогнать конкурентов, а не на то, чтобы слаженными совместными усилиями как можно скорее победить опасный для всего человечества вирус. Вполне возможно, что климатическая повестка станет еще одним полем сражения за лидерство в формирующейся глобальной индустрии 4.0.
И рассчитывать в этом случае каждому придется только на себя.
Вячеслав Мищенко
Руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина

Конец офшорного глобализма
кому будут платить налоги транснациональные корпорации?
Сергей Ануреев
Отток капитала и оптимизацию прибыли завернут в бюджет США или России?
Президент США Байден заявил о планах распространить американский налог на прибыль на международные корпорации. Такая налоговая новация может стать заменой точечных санкций и штрафов, накладываемых США на крупнейшие транснациональные корпорации. И если раньше санкции и штрафы приносили американскому бюджету крупные, но разовые доходы, то анонсированное изменение налога на прибыль призвано обеспечить систематическое пополнение американского бюджета. Крупнейшие российские корпорации, торгующие ценными бумагами в США или проводящие иные операции за пределами России, также могут попасть под эту новацию Байдена, особенно в части прибыли, выводимой из России с помощью различных схем. Вместе с тем беспрецедентность идей Байдена даёт России моральное право модифицировать российский налог на прибыль и введенный с 2021 года налог на выплаты процентов и дивидендов в офшоры, сократить схемы оптимизации российских налогов.
Налог на прибыль в США — самый плохо собираемый крупный налог
Конгресс США и президент Байден ввели в действие пакет стимулов на 1,9 трлн долл. и тут же заявили о подготовке следующего пакета на 2,3 трлн. долл. Важной новеллой этих пакетов является увеличение ставки налога на прибыль с 21 до 28% и, главное, значительное расширение базы этого налога, в которую теперь войдёт консолидированная прибыль корпораций по операциям во всех странах их деятельности. СМИ уделили большое внимание триллионам бюджетных стимулов и очень кратко сообщили о новации по налогу на прибыль, а именно эта новация должна стать источником денег для стимулов американской экономики. То есть крупнейшие международные корпорации, как американские, так и уходящие корнями в другие страны, но имеющие значимые операции в США, должны оплатить эти стимулы.
Налогообложение прибыли в США содержит большое количество лазеек, позволяющих американским корпорациям сокращать этот налог от операций за пределами США, но включать эту прибыль в свои результаты и, в конечном счёте, в ВВП США. Так, по данным Федеральной резервной системы, в 2000 году в США прибыль корпораций составила 492 млрд долл., налог на прибыль — 194 млрд долл., а в 2020 году 2082 и 199 млрд долл. соответственно, то есть за 20 лет прибыль выросла в 4,2 раза, но собираемость налога на прибыль практически не выросла. При номинальной ставке налога на прибыль в 21%, эффективная (фактическая) ставка, то есть ставка с применением различных лазеек, составляла всего 9,7%. Следует сразу добавить, что низкие сборы налога на прибыль не следует списывать на "ковидные" стимулы 2020 года, поскольку и в "доковидном" 2019 году наблюдалась похожая ситуация. Более того, в 1950-е годы поступления от налога на прибыль составляли 25–30% доходов бюджета, а в 2010-е — лишь 5–10%.
Американские СМИ любят составлять рейтинги крупнейших компаний, которые наиболее агрессивно оптимизируют налог на прибыль. Последний такой рейтинг был составлен в конце 2019 года по итогам анализа налоговой политики администрации Трампа. Тогда СМИ писали, что как минимум 100 из 500 крупнейших американских корпораций оптимизировали налог на прибыль в ноль. Среди этих корпораций такие известные россиянам компании, как IBM, Goodyear (шины), FedEx (почта), Chevron (нефть), Delta Air Lines, Netflix (онлайн-кинотеатр), General Motors, Starbucks (кафе), Amazon и многие другие. В предыдущие годы даже выходили рейтинги американских корпораций, которые не то что нуллифицировали налог на прибыль, но и получили из федерального бюджета США возврат ранее уплаченных налогов за счёт манипуляций различными льготами, вычетами и убытками. Рекордсменом в одном из таких рейтингов оказалась Pepsico (та самая газировка), которая в 2015 году получила обратно 0,8 млрд долларов при консолидированной прибыли 3 млрд долл. General Electric тогда же получила обратно 1,4 млрд долл. из бюджета при прибыли 40 млрд долл.
Финансовые санкции как предвестник глобального налога на прибыль
Несмотря на скудность публикаций о налоговых нововведениях, всё же можно составить некоторое представление о сути предлагаемого расширения налоговой базы. За расширенную базу будет принята прибыль по консолидированной финансовой отчётности корпораций, с учётом многочисленных зарубежных дочерних организаций. Сейчас прибыль каждой дочерней организации облагается своими налогами в соответствии с её формальным резидентством, а между странами действуют соглашения об избежании двойного налогообложения. В результате, например, некоторые американские IT-гиганты аккумулируют прибыль в своих подразделениях в Ирландии или Нидерландах — странах с пониженными ставками корпоративных налогов.
При буквальном толковании этой налоговой новации корпорации из разных стран, ведущие международную деятельность, и в том числе деятельность на территории США, будут платить налог на прибыль в американский федеральный бюджет. Джанет Йеллен, которая получила известность на посту руководителя ФРС США, а с недавних пор руководит американским Казначейством, уже провела рамочные переговоры со своими визави из Германии и Франции. По данным американских СМИ, они говорили о самой идее повышенного универсального налога на прибыль в глобальном масштабе и анонсировали обсуждение этой налоговой новации на площадке стран "Большой двадцатки". Про справедливый раздел дополнительных сборов налога на прибыль между странами, про судьбу соглашений об избежании двойного налогообложения пока умалчивается.
Американский налог на прибыль на крупнейшие корпорации других стран, по сути, является продолжением системы санкций и штрафов. Поводом для санкций против России принято считать присоединение Крыма, "вмешательство" в американские выборы, жёсткую систему ФСИН. Однако санкциями в США занимается не ЦРУ и не Госдеп, а Казначейство, в составе которого работает Офис контроля иностранных активов (Office of Foreign Assets Control). Не только ограничительные санкции, но и крупные штрафы могут налагаться более чем по 30 причинам.
Среди “причин” крупных штрафов — нарушение запретов на поставку отдельных видов товаров двойного назначения, налоговая оптимизация, загрязнение окружающей среды, регулирование финансовых операций и другие. Размеры штрафов исчисляются десятками миллиардов долларов по десяткам и сотням судебных решений, в которых примерно половину занимают американские корпорации, а вторую половину — корпорации из других стран, преимущественно Западной Европы. Самыми знаменитыми примерами таких санкций на десятки миллиардов долларов были санкции против British Petroleum (за разлив нефти), Volkswagen (за неверный расчёт выхлопов дизельных двигателей), швейцарский банк UBS (за отказ в предоставлении сведений о счетах американцев). Бразильская Petrobrass преследовалась США сначала за нарушения в аудите отчётности, а затем за коррупцию, вплоть до политического и экономического кризиса в Бразилии.
Несмотря на всю жёсткость американской санкционной риторики против России, российских корпораций в топ-100 крупнейших оштрафованных со стороны США нет. В последние годы в СМИ проходил лишь один пример конкретных крупных претензий США к российским лицам. В начале 2020 года сообщалось, что Олег Тиньков не вполне правильно, по мнению налоговых органов США, отказался от американского паспорта в 2013 году, спустя непродолжительное время после выпуска акций своего банка на Лондонской бирже. В конце же 2020 года СМИ сообщали, что траст бизнесмена продал производных инструментов на акции одноименного банка на 325 млн долл. Тинькофф Банк по активам в 40 раз меньше Сбербанка, сам Олег Тиньков в российском рейтинге «Форбс» уступает лидеру списка в 11 раз, так что крупнейшие российские компании вполне могут подняться до миллиардов долларов претензий со стороны США.
Пазл американского расширения налога на прибыль
Многие крупнейшие российские корпорации активно проводят экспортные операции, имеют свои дочерние организации и бизнес за пределами России, и не только в США, но и в юрисдикциях с небольшими налогами. Значительные пакеты акций многих российских корпораций принадлежат американским инвесторам напрямую или через страны с пониженными ставками корпоративных налогов. Десятки крупнейших российских корпораций являются публичными компаниями, чьи акции и облигации торгуются на фондовых биржах США, Великобритании, других мировых финансовых центров. Такие корпорации составляют консолидированную финансовую отчётность и регулярно предоставляют её американскому регулятору фондового рынка.
У планов США получать налог на прибыль с российских корпораций с зарубежными активами и операциями есть аналог по части налогов на физические лица. При открытии счёта или вклада в российском банке вкладчику предлагают подписать бумагу, что он не является обладателем американского паспорта, даже если это вклад в небольшом российском городке от лица, ни разу не покидавшего пределы России и не работавшего на американские корпорации. А в начале марта текущего года «Ютуб» разослал российским блогерам сообщение о необходимости предоставить налоговые данные и выразил готовность облагать американским подоходным налогом выплаты «Ютуба» в пользу блогеров просто по факту американского происхождения площадки деятельности блогеров (самого «Ютуба») и наличия американских компаний среди рекламодателей «Ютуба».
В России, как и в ряде других стран, к крупнейшим корпорациям применяется такая конструкция, как консолидированная группа налогоплательщиков. У этой конструкции была благая цель по выравниванию платежей налога на прибыль в бюджеты регионов работы дочерних организаций. Однако на практике получилась агрессивная налоговая оптимизация, когда группа в целом уменьшает прибыль прибыльных организаций за счёт убытков убыточных, в том числе иностранных. До применения консолидированной группы ряд крупнейших российских корпораций были бюджетообразующими для регионов размещения основного производства (по аналогии с термином "градообразующие").
В статье В.А. Ильина и А.И. Поваровой "Консолидированное налогообложение и его последствия для региональных бюджетов", опубликованной в научном журнале “Экономика региона” (№1, 2019), эта проблема рассмотрена на примере «Северстали» и Новолипецкого металлургического комбината. Авторы статьи прямо пишут, что “«Северсталь» в 2014 году понесла 13 млрд рублей убытка из-за ликвидации американского дивизиона. Если бы не действовал режим консолидации налоговой базы, то в бюджет Вологодской области могло бы поступить 2,7 млрд руб., а в бюджет Республики Карелия — 1,7 млрд руб.” Прибыль в том случае сформировалась у американского продавца активов дивизиона, который «Северсталь» купила по завышенной цене и затем вынуждена была закрыть, сальдировав этот убыток с прибылью российских основных производственных "дочек".
Налоговая новация Байдена и очередной крах фондового рынка
Крупнейшие корпорации платят своим акционерам дивиденды с консолидированной прибыли с учётом результатов дочерних организаций в низконалоговых юрисдикциях. Либо дивиденды почти не платятся, но акции растут в цене на основании растущих показателей консолидированной прибыли, либо при обратном выкупе акций с рынка такими зарубежными "дочками". Бонусы наёмных руководителей крупнейших корпораций зависят от роста котировок акций, а рост котировок — от роста прибыли, в том числе за счёт её "рисовки". Каждый из кризисов (пока за исключением текущего коронакризиса) обнажал махинации крупнейших корпораций со своей корпоративной отчётностью с целью завышения прибыли и котировок акций.
Среди американских профессиональных бухгалтеров есть такой устоявшийся термин: profit is accounting — означающий возможность посчитать любую прибыль. После "пузыря" акций, лопнувшего в 2001 году, тот кризис получил название “кризиса корпоративной отчётности” с ликвидацией одной из крупнейших аудиторских фирм в качестве наказания за недостоверную отчётность. После глобального финансового кризиса 2008 года обвинения в близорукости получили крупнейшие рейтинговые агентства, поскольку ряд американских банков и корпораций, ставших триггерами кризиса, имели высокие рейтинги всего за несколько месяцев до очевидных проблем. Вполне может быть, что указанные в начале данной статьи противоречия в статистике роста прибыли и поступлений налога на прибыль в США объясняются банальной "рисовкой" корпорациями части прибыли. При большой "нарисованной" прибыли платить маленький налог на прибыль или нуллифицировать этот налог с помощью лазеек — это одно, а платить крупный реальный налог на прибыль — это уже совсем другое, категорически более обременительное.
Не случайно одной из фобий американцев является угроза обвала фондового рынка, а триггером этого обвала может стать повышенный налог на консолидированную прибыль. Крах американского фондового рынка ожидали в последний год президентства Обамы, но за счёт снижения налога на прибыль Трамп продлил и увеличил "пузырь" на фондовом рынке. "Коронавирусный" 2020 год показал обвал фондового рынка на 30% и затем его быстрый отскок на фоне триллионов долларов стимулов за счёт рекордного бюджетного дефицита и прироста государственного долга, львиная доля которых ушла именно на фондовый рынок. Вполне может быть, что пришла пора в очередной раз "грохнуть" американский фондовый рынок за счёт налоговых новаций Байдена, чтобы спекулянты откупили подешевевшие бумаги и начали новый раунд игры на их повышение.
У идеи облагать налогом нечто столь абстрактное, как консолидированная прибыль по бухгалтерской отчётности, есть удивительная аналогия в деятельности чилийского социалистического лидера 1970-х годов Сальвадора Альенде. Упрощённо принято считать, что Альенде национализировал земли чилийских богатеев путем их простой конфискации, но это не так. Богатейшие землевладельцы существенно занижали стоимость земли для целей налогообложения путем коррумпирования оценщиков и налоговиков, чтобы платить значительно меньше налогов. Правительство Альенде просто выкупало землю у богатых по их же налоговой оценке, указывая, что они сами определили такую рыночную цену. В обсуждаемой же новации Байдена по налогу на прибыль речь идёт не об искусственно занижаемой, по примеру Чили, а, наоборот, об искусственно завышаемой прибыли крупнейших корпораций.
Неопределённость действий США по внедрению глобального налога на прибыль
Что касается сроков введения глобального налога на прибыль, то здесь ситуация весьма неопределённая. Если сравнить со столь же фундаментальной налоговой новацией предыдущего десятилетия, а именно с внедрением обмена налоговой информацией между странами, то многие годы реализации той новации можно считать прообразом щадящих сроков реализации предложений Байдена. Та новация впервые обсуждалась в 2011 году после резкого роста бюджетных дефицитов из-за бюджетных стимулов после кризиса 2008 года. Конкретные технические очертания и согласие крупных стран было достигнуто на саммитах "Большой двадцатки" в 2013 году. Первые пилотные обмены налоговой информацией начались в 2016–17 годах, и тогда же были наложены крупнейшие американские штрафы на сопротивлявшиеся обмену европейские банки.
Вместе с тем, рекордные диспропорции американского бюджета и невообразимый прежде американский государственный долг требуют от администрации США ускорения внедрения предложенной налоговой новации. К тому же выбран наиболее простой способ обложения прибылей по консолидированной финансовой отчётности, которая и так уже сдаётся крупнейшими корпорациями в американскую комиссию по ценным бумагам и биржам. То есть наладить информационный обмен между двумя ведомствами США (комиссией по ценным бумагам и налоговыми органами) категорически проще по сравнению с налаживанием электронного обмена налоговой информацией с сотней стран.
Остаются неясными многие технические детали и лазейки, которыми начнут пользоваться крупные корпорации. Самая простая лазейка — перестать консолидировать отдельные дочерние компании в странах с низкими налогами, с использованием этих бывших "дочек" для выкупа акций материнских компаний и поднятия тем самым котировок этих акций. Разумеется, американское законодательство сразу будет модифицировано для закрытия таких очевидных лазеек. Другие лазейки будут закрываться либо по итогам следующего года, либо по факту их обнаружения ретроспективно, за предыдущие годы. Налоговый год в США обычно соответствует календарному году, и налоговые новации можно вводить только со следующего года и за несколько месяцев до его наступления.
Следующим шагом США станет пересмотр соглашений об избежании двойного налогообложения, а такое соглашение действует, в том числе, между Россией и США. Вполне возможно, что этот процесс будет идти по образцу пересмотра при Трампе торговых соглашений с резким ростом американских пошлин на импорт. У агрессивной торговой политики США была в первую очередь бюджетная подоплёка, поскольку рост пошлин дал в бюджет значительно больше доходов, чем рост производства на территории США. Самым жёстким со стороны США может стать требование уплаты налога на операции американских корпораций на территории России не в российский, а в американский бюджет, по аналогии с представленными выше примерами.
Ещё одна неопределенность — это потенциальные союзники США во внедрении налоговой новации. Вряд ли можно предположить, что США возьмут исключительно в свой бюджет весь сбор глобального налога на прибыль, поскольку в таком случае оппозиция этому решению будет всемирной. Наиболее вероятными союзниками будут страны "Большой семёрки", хотя именно корпорации из стран Западной Европы являются лидерами по уплате различных штрафов в американский бюджет. Наименее вероятно, что США будут реально делить растущий налог на прибыль со всеми странами "Большой двадцатки", поскольку тогда дополнительные доходы в американский бюджет будут не велики. Узость круга потенциальных союзников подчёркивается также трудностями с получением Россией налоговой информации от Великобритании и США, даже несмотря на единое решение "Большой двадцатки".
Необходимые действия российского правительства и крупнейших корпораций
Российскому правительству, Министерству финансов и Федеральной налоговой службе как минимум необходимо подготовить аналогичное увеличение ставки налога на прибыль и расширение базы налога на прибыль. Соглашения об избежании двойного налогообложения между различными странами продолжают действовать, и наиболее вероятным начальным шагом США будет сбор разницы между расчётным глобальным налогом и фактически уплаченными налогами в других странах каждой из корпораций.
Буквально, если налог на прибыль не будет повышен в России с 20 до 28%, а введённый в начале 2021 года налог на проценты и дивиденды в офшоры — с 15% до 28%, если не будут перекрыты импортные и экспортные лазейки вывода денег, то разница будет платиться в американский бюджет. Изменения в российское налоговое законодательство должны вноситься до начала следующего года, так что надо не позднее начала осени провести эти изменения хотя бы через одно слушание в Госдуме, а дальше внимательно наблюдать за действиями США.
Под угрозой выплат в бюджет США может оказаться налог на российские корпорации, акции которых торгуются на биржах США и которые отчитываются американской комиссии по ценным бумагам. Многие крупнейшие корпорации с российскими корнями имеют преимущественно офшорных владельцев, а "наезд" американских налоговиков на, условно, Кипр или Ирландию политически проще "наезда" на Россию или Германию. Россия и США не являются крупными торговыми партнёрами, но, несмотря на всю риторику санкций, финансовые операции по-прежнему существенны. Российскому правительству совместно с крупнейшими корпорациями необходимо как минимум начать моделировать отказ от цепочек владения акциями через иностранные юрисдикции и уход с американских бирж.
Для США потенциальный эффект от дополнительных налогов с десятка крупнейших корпораций России будет больше, чем с сотен следующих по размерам. Репетиция американского давления на крупнейшие корпорации уже имела место в части действующих политических санкций, финансовых и торговых ограничений. Акции Газпрома, Сбербанка и ряда других российских корпораций торгуются на биржах США и Великобритании, а среди акционеров значимые доли составляют американские инвесторы. Пока прямой угрозы распространения глобального налога на прибыль на эти компании нет, но моделировать такую угрозу следует. За месяц-два необходимые изменения в корпоративной структуре и торговле акциями провести будет не реально, особенно, чтобы не нарваться на последующие претензии по аналогии со случаем Олега Тинькова.
Неопределённым вопросом также является потенциал глобального налога на прибыль российских "дочек" американских корпораций, особенно если включить сюда вроде как российские корпорации со значимыми американскими акционерами. Следует начать задавать вопросы и моделировать различные решения на тему, как и где будут платить налог на прибыль российские подразделения "Макдональдса", "Кока-колы", "Старбакса", KFC, которые доминируют на российском рынке фастфуда и получают приличные прибыли. Также следует задуматься о перспективах налога на прибыль с таких корпораций, как "Магнит" (где инвесторы из США являются крупнейшими и контролирующими деятельность) и Сбербанк (в котором американцы владеют 32% акций и являются крупнейшими после российского правительства). Вполне вероятно, что такие корпорации либо будут доплачивать в бюджет США разницу между пониженным российским налогом на прибыль и планируемым к повышению американским налогом, либо пойдут по сценарию «Ютуба» в отношении российских блогеров.Всё это ещё раз подтверждает важность заявлений Путина о деофшоризации и объясняет логику назначения Мишустина премьером. По антиофшорной тематике Путин чётко высказался в марте 2020 года при введении жёстких ограничений из-за ковида, но и до того были значимые шаги против офшоров после кризиса 2014 года, высказывались идеи ограничить операции государства через бюджет или государственные корпорации с теми, кто имеет офшоры в своей структуре. Богатый налоговый опыт Мишустина и его команды будет более чем востребован в возможных переговорах по разделу между странами глобального налога на прибыль и в многочисленных корпоративных реструктуризациях. Именно Мишустин внедрял международный обмен налоговой информацией и многие другие столь же фундаментальные налоговые новации. Если в офшорах и иностранных операциях крупнейших российских компаний не наведут порядок российские власти, то за них это сделают американские.

Как миллиардная компания попала под санкции? Интервью директора по развитию бизнеса Positive Technologies Максима Филиппова
Positive Technologies — одна из крупнейших и самых успешных компаний по кибербезопасности не только в России, а о ее основателях пишет Forbes. Почему это предприятие попало под санкции США и как будет работать дальше?
Positive Technologies — это одна из крупнейших и самых успешных компаний по кибербезопасности не только в России, а о ее основателях уже пишет Forbes. А теперь она — под санкциями США. За что? И как теперь будет работать компания, которая продает свои продукты в 30 странах мира и на Востоке, и на Западе? На эти и другие вопросы в интервью главному редактору Business FM Илье Копелевичу ответил директор по развитию компании Positive Technologies Максим Филиппов.
Компания Positive Technologies отчасти знакома слушателям Business FM: представители, специалисты вашей компании выступали в нашем эфире по профильным вопросам. Ну а сейчас компания попала во все мировые СМИ, потому что оказалась одним из объектов новых американских санкций. Здесь мы узнали, что компания очень крупная, очень быстро растущая, продает свои продукты по кибербезопасности в 30 странах, имеет отделения в том числе в Лондоне, в Сингапуре и ряде других крупных центров. Формулировка, которой обосновывается введение санкций, звучит так: Минфин США сообщил, что компания Positive Technologies начиная с 2011 года ежегодно проводит мероприятия Positive Hack Days. Именно на этих мероприятиях, как утверждают американцы, ГРУ, ФСБ и СВР вербуют своих будущих хакеров. Теперь давайте объясняться.
Максим Филиппов: Давайте.
Positive Hack Days — что это за «тайное вече» каких-то страшных хакеров, где ГРУ вербует своих будущих взломщиков?
Максим Филиппов: Если позволите, буквально пару слов о компании Positive Technologies, чтобы наши слушатели больше поняли, что мы из себя представляем. На сегодняшний день это где-то 1100 сотрудников, это семь офисов в России, в основном компания занимается разработкой программного обеспечения, которое предназначено исключительно для защиты. Работаем мы с корпоративными клиентами, то есть у нас нет бизнеса с физическими лицами, поэтому, может, мы не столь известны на российском рынке широкому пользователю.
Например, как «Лаборатория Касперского». Хотя уже пишут, вы следующие в ряду после них.
Максим Филиппов: На российском рынке у нас представлен один из продуктов для защиты. Если брать любые рейтинги по капитализации российских компаний, 80% из него — клиенты компании Positive Technologies. За всю свою историю, уже почти 20-летнюю, мы ни разу не создали и не будем создавать каких-то продуктов для нападения. Все наши продукты предназначены исключительно для защиты, и все наши технологии исключительно для защиты. В компании около 600-700 разработчиков, потому что мы в первую очередь разработчики ПО, высокотехнологичная компания. Ядро компании — это очень умные и технически подкованные ребята: аналитики, исследователи, которые в состоянии взглянуть на информационную систему, на технологию и понять, как она потенциально может быть атакована, какие уязвимости она содержит и что делать для того, чтобы вот эти негативные сценарии не случались. Созданию продуктов Positive Hack Days предшествует достаточно долгий этап исследования. То есть мы возьмем, например, какую-нибудь технологию сети сотовой передачи данных. Нас заинтересует вопрос: а какие негативные последствия могут злоумышленники нанести простому абоненту либо компании — телеком-оператору?
Давайте вернемся к Positive Hack Days, из-за которых вы теперь под санкциями.
Максим Филиппов: Где-то в 2010 году мы поняли, что комьюнити исследователей, которым небезразлична безопасность новых технологий, которые так стремительно врываются в наш мир и там точно присутствуют какие-то проблемы с безопасностью, просто лишены какой-то некой площадки для общения, где они могут обмениваться мнением, обсуждать эту проблематику. Это первое, что мы поняли. Второе: эти два мира — мир пиджаков и мир футболок — разорван. «Пиджаки» не очень хорошо представляют, как реально атакуют системы и как их реально можно защищать. И вот идея основная Positive Hack Days — создание некой площадки, которую можно использовать для обмена мнениями двух, по сути, разных миров, чтобы они наконец поняли и услышали друг друга и мы все вместе нашли ответы на актуальные вопросы применения новейших технологий в нашем современном мире.
То есть туда в этих майках вы приглашаете реальных хакеров, правильно?
Максим Филиппов: Кто такой хакер? В представлении обычного обывателя это какой-то простой парень, который хочет нанести ущерб, украсть деньги, что-то сделать негативное, может, с репутацией…
А на самом деле кто он?
Максим Филиппов: Есть и такие ребята. Но вот в профессиональном комьюнити есть разделение понятий. Есть так называемые white hat — белые шляпы, это ребята на стороне добра, которые изучают системы, изучают уязвимости и говорят, как нужно от них защищаться. И есть blak hat — те ребята, которые стоят на стороне зла, реализуют негативные сценарии.
На ваши Positive Hack Days они каждый со своей шляпой приходят? Или все-таки приходится интуитивно понимать, кто на чьей стороне, добра или зла?
Максим Филиппов: Зачем нам нужны Positive Hack Days? Мы вовлекаем туда все комьюнити, всех участников со стороны рынка, нам важно понимать, как сейчас ваша система может быть сломана и как ее можно защищать. То есть мы изучаем новые векторы атак для того, чтобы им впоследствии противодействовать. И правильно делать это не в реальной жизни, а на каком-то полигоне, который, по сути, повторяет некий цифровой макет, который повторяет нашу реальную жизнь. Мероприятие полностью открыто. Есть сайт, можно пойти, зарегистрироваться на это мероприятие, можно купить билеты. Кто кого на нем вербует — мы не занимаемся этим, не знаем и не понимаем. Вот мне сегодня прислали, например, коллеги ссылку: на сайте АНБ (Агентства национальной безопасности США. — Business FM) опубликована вакансия этого профиля. То есть они используют интернет для хайринга, для найма людей для своих спецслужб. Это что, интернет должен теперь под санкции попасть, потому что они его используют? То есть кто там кого вербует, нам неизвестно, и мы этим не занимаемся. Мы являемся организаторами этого мероприятия, и я объяснил, для чего оно нам нужно как компании.
Как раз буквально параллельно с попаданием Positive Technologies в санкционный список статья об этой компании появилась в журнале Forbes. И, как мы понимаем, готовилась она до того, как это произошло, что, в принципе, говорит, безусловно, о том, что компания привлекла внимание самого авторитетного корпоративного журнала в мире. Материалы в русской версии Forbes и англоязычной несколько отличаются. В русской версии рассказывается о Юрии Максимове — основателе компании, которую журнал Fobes начал оценивать почти в миллиард долларов. В англоязычной версии история компании чуть покороче, зато больше как раз об этих санкциях. И там была такая строчка, это уже не из пресс-релиза Минфина США: «Одним из первых заказчиков Positive Technologies с начала нулевых годов стало Министерство обороны». В листе обвинений Минфина США, кстати, этой строчки нет, это уже добавляет Forbes. Расскажите тогда, действительно ли Министерство обороны, ГРУ и так далее были клиентами?
Максим Филиппов: В обвинениях, которые опубликованы на сайте Минфина, есть второй пункт, и в нем дословно сказано, что мы сотрудничаем с министерством обороны и ФСБ. Давайте поговорим об этом, что это за сотрудничество и как мы сотрудничаем. Первое, как я уже сказал, мы — разработчики продуктов защиты, 80% корпоративного рынка — наши клиенты. Среди них есть и федеральные министерства, ведомства, и есть силовые структуры. То есть они являются пользователями наших продуктов, которые покупают для защиты своей инфраструктуры, — раз. Второе. Деятельность по защите информации в РФ — это лицензируемый вид деятельности, есть регуляторы. И этими регуляторами являются ФСТЭК, ФСБ, министерство обороны в части, касающейся его инфрастркутуры, Центробанк — это основные. Так вот для того, чтобы вести деятельность на этом рынке, вы должны иметь лицензии этих организаций. У нас есть все лицензии этих организаций на деятельность, кроме того, наши продукты проходят необходимую сертификацию в этих ведомствах. То есть, осуществляя деятельность на российском рынке, вы обязаны взаимодействовать с регулятором по закону.
Но вы еще являетесь и поставщиком.
Максим Филиппов: Конечно, они используют наши продукты для защиты своей инфраструктуры.
Это крупные заказчики у вас? Можете сказать, какую примерно долю в вашем бизнесе занимают заказы именно силовых структур России?
Максим Филиппов: На сегодняшний день, и это цифра достаточно стабильная, на уровне 1%.
То есть на самом деле ничтожная доля, вы могли бы, в общем-то, безболезненно и отказаться от этих заказчиков, если это 1%?
Максим Филиппов: Отказаться-то мы, наверное, могли бы, но они являются регуляторами, мы вынуждены с ними взаимодействовать. Нам нужны лицензии для того, чтобы работать на этом рынке. А потом, что значит, будучи российской компанией, отказаться поставлять продукт какому-либо клиенту?
Мой вопрос связан исключительно с коммерческой точкой зрения. Вот здесь у вас 1% ваших заказчиков, а на другой стороне вы же поставляете продукты многочисленным зарубежным заказчикам. И я предполагаю, что попадание в санкционный лист может лишить вас этих заказчиков.
Максим Филиппов: Бизнес с силовыми структурами в Positive Technologies абсолютно незначительный. Но здесь нужно понимать, почему вообще против Positive Technologies вводятся санкции. Во-первых, мы к ним готовились, и не потому, что мы делали что-то плохое. Готовиться мы начали, когда услышали риторику от официальных лиц США, что мы будем вводить санкции против тех компаний, у которых есть, вдумайтесь, потенциал негативного влияния, и дальше там по списку: выборы, инфраструктура. Но это то же самое, что вас сейчас привлечь или наложить какие-то ограничения за то, что вы имеете потенциальную возможность кого-то убить. У вас есть такая возможность? Есть. Потенциально вы преступник. С одной стороны, мы не отрицаем: мы организаторы крупнейшего форума, ФСБ, Минобороны наши клиенты, у нас есть лицензии и сертификаты, лицензия на деятельность, сертификаты на продукты. Но позвольте, в чем наша вина как компании? Своей вины мы не понимаем. Если мы можем и могли бы сделать что-то по-другому, более правильно, давайте поговорим об этом. Но мы пока не понимаем своей вины, не понимаем, что могли бы мы сделать по-другому. Поэтому, безусловно, санкции мы будем оспаривать.
Как?
Максим Филиппов: Я думаю, мы подключим юристов, там есть определенные процедуры. Конечно, хотелось бы думать, что это какая-то ошибка, но, к сожалению, мы уже четвертая компания из сегмента российской кибербезопасности, которая попадает под те или иные ограничения. Поэтому мы видим в этом некую систему. Поле нашей профессиональной деятельности превратилось в поляну геополитических сражений. Нас это абсолютно не радует. Что мы можем и хотим сделать сейчас как компания? Нам очень важно в этой истории, на мой взгляд, не поляризоваться и не превращаться в каких-то радикалов. То есть мы хотим отстаивать свою систему ценностей и свою правду. К примеру, Positive Technologies находит сотни уязвимостей нулевого дня. Это уязвимости, о которых никто еще в мире не знает, мы первые, кто нашли эту уязвимость, например, в Android. Мы находим эти уязвимости у мировых IT-вендеров — Cisco, Microsoft, Zoom, у всех. На сайте, кстати, опубликовано. Посмотрите, какие уязвимости мы обнаруживали. Тут очень важно понимать, существует политика ответственного разглашения. То есть мы нашли эту уязвимость, и мы говорим вендеру: вот уязвимость, вот подтверждение, что твой софт уязвим. Как правило, это уязвимости критического уровня, где злоумышленник потенциально может получить доступ к информационной системе либо вывести из строя, и она не будет больше функционировать. Мы передаем эти уязвимости производителю.
Они просили вас об этом или это вы просто тестируете эти продукты на уязвимость?
Максим Филиппов: На таком международном рынке такая процедура принята. Как устроен этот мир? Большинство производителей крайне заинтересованы в подобного рода исследовании. Все хотят, чтобы их сервисы, технологии были более безопасны. Политика ответственного разглашения о том, что мы уведомляем производителя, и до тех пор, пока производитель не устранит эту уязвимость, не выпустит соответствующий патч, [не объявляем об этом]. Кстати, в сотнях выпущенных патчей благодарность Positive Technologies от производителей мирового уровня. Мы публично не раскрываем эту уязвимость. И вот за все время более чем 20-летнего существования компании ни одного случая использования найденных нами уязвимостей за рамками политики ответственного разглашения не было. Тем самым мы делаем этот мир чуточку безопаснее.
Я все-таки хочу уточнить. Эти крупные компании, в том числе Cisco, просят вас или широкий круг компаний, которые занимаются этим: ребята, попробуйте, найдите, и мы вам будем благодарны, возможно, даже закажем у вас какие-то продукты для избавления от этих уязвимостей? Или же вы сами инициативно это делаете?
Максим Филиппов: Как правило, это происходит в процессе исследования защищенности той или иной технологии либо той или иной инфраструктуры.
То есть вы все-таки делаете это сами?
Максим Филиппов: Есть прецеденты, когда к нам тоже приходят и мы на коммерческой основе выполняем исследования той или иной железки. Кстати, в последний год мы нашли достаточно критические уязвимости в процессорах Intel, о чем тоже их уведомили соответствующим образом.
Intel заказывал такое исследование?
Максим Филиппов: Нет. Как правило, это происходит в рамках исследования той или иной технологии, либо той или иной информационной системы, либо инфраструктуры. Но если мы нашли эту уязвимость... То есть к нам приходит клиент-заказчик и говорит: как я выгляжу глазами хакера? Посмотрите, и давайте договоримся, вы произведете исследования моей защищенности. Мы начинаем эти работы и находим уязвимости, отдаем их вендеру, производителю для того, чтобы, собственно, он их устранил. Мы и дальше будем придерживаться своих принципов и не будем публиковать уязвимости до тех пор, пока вендеры и производители их не устранят. Я думаю, что сейчас мы станем еще более открытыми, прозрачными и понятными всему миру.
А заграничные клиенты? У вас 30 стран.
Максим Филиппов: Для наших заграничных клиентов история, конечно, более болезненная.
Intel теперь точно к вам не обратится, чтобы вы разработали патч.
Максим Филиппов: Нет, они сами разрабатывают патчи, мы им только показываем эту уязвимость. Конечно, мы продолжим наши исследования и продолжим отправлять вендорам информацию об уязвимостях, чтобы они исправляли и мир становился чуточку лучше. Но вы спросили про наш международный бизнес. Конечно, там более болезненный эффект, потому что, с одной стороны, санкции формально говорят о том, что с нами нельзя работать американским гражданам и американским компаниям, но большинство все-таки опасаются вторичных санкций, которые говорят о том, что за взаимодействие с санкционной компанией на вас могут быть наложены вторичные санкции. Эти вторичные санкции были придуманы для того, чтобы, если есть какое-то существенное взаимодействие — права передаются, люди как-то переходят, — накрывать такие компании и телодвижения. Они ни в коей мере не нацелены на наших клиентов. Тем не менее у страха глаза велики, компании зачастую, чего уж греха таить, прекращают взаимодействие с Positive Technologies и задают вопросы, как они могут легально продолжить использовать наши продукты. Потому что продукты нравятся. И на сегодняшний день ответ компании Positive Technologies на этот вопрос такой: друзья, до тех пор, пока мы не нащупаем схему взаимодействия, которая позволит абсолютно легально и безрисково вам как клиенту взаимодействовать с Positive Technologies, мы предоставляем вам бессрочные лицензии на использование наших продуктов.
А это избавляет ваших контрагентов от рисков? То есть они купили это до введения санкций.
Максим Филиппов: Чтобы компании, которые уже используют наши продукты, с одной стороны, не остались без защиты, а с другой стороны, это не требует никакого документального оформления, эти риски сведены к минимуму.
Теперь поговорим о технологическом эффекте для вас самих. Понятно, что вы IT-компания, вы, безусловно, используете сами программные продукты, которые в значительной степени повсюду в мире лицензионные и как раз американские, и «железо» как таковое — вы же работаете на компьютерах и вряд ли на столь редких пока отечественных «Эльбрусах» или «Байкалах». Как с этим?
Максим Филиппов: Ограничения коснулись поставки в сторону одного юрлица нашей компании этих продуктов. Аккаунт на YouTube, который принадлежал Positive Technologies, на сегодняшний день заблокирован. Конечно, эти ограничения нас касаются. Как мы на это смотрим? Во-первых, как я сказал, это только одно юрлицо.
Это очень трудно объяснить контрагентам, они видят название — и все. Даже я впервые об этом сейчас слышу, и это тоже для меня новость, хотя мы внимательно читали сообщение.
Максим Филиппов: Все-таки, когда мы говорим о работе с крупными корпоративными клиентами, там они верят не словам, а документам. И если вы в состоянии подтвердить, что в текущем взаимодействии, схеме поставки отсутствуют санкционные компании и, следовательно, для вас как клиента отсутствуют риски наложения вторичных санкций, то это юридически значимый документ, которому верят больше, чем каким-либо словам. С точки зрения технологий мы для себя здесь видим, конечно, некий вызов: а может ли российская хайтек-IT-компания существовать в периметре России, опираясь исключительно на российские технологии, которые в принципе не подвержены этим рискам? В сегменте кибербезопасности, секьюрити у нас с американскими компаниями на сегодняшний день есть определенный паритет: если мы будем смотреть по количеству клиентов или по количесту бюджетов, то, в принципе, деньги и проекты, которые тратят российские заказчики на технологии безопасности, российские и зарубежные, сопоставимы, и здесь мы вполне конкурентоспособны. Но в сегменте IT дела обстоят несколько иначе и печальнее. И тут на уровне государства, я думаю, есть о чем задуматься, чтобы избежать этой зависимости. Именно компании, которые осуществляют разработку и пользуются технологиями западных вендоров, чтобы в периметре России появлялись такие же технологии, которые могли заменить при необходимости и заместить. В сегменте кибербезопасности это есть. В большинстве технологических ниш у нас присутствуют продукты российского производства, которые вполне в состоянии заместить зарубежные аналоги.
Все-таки по линии компьютеров как таковых и базовых программных продуктов у меня конкретный вопрос: начнете ли вы закупать, заказывать прямо сейчас компьютеры «Байкал» или «Эльбрус»? И вообще, можно ли их заказать? Потому что мы много о них слышали и знаем, что поставка в МВД этих компьютеров закончилась уголовным делом против поставщика.
Максим Филлипов: На сегодняшний день мы не испытываем проблем с точки зрения нашей обычной, регулярной бизнес-деятельности как компания — что касается разработки программного обеспечения и всего, что с этим связано. С точки зрения использования отечественных разработок по «железу» — «Байкал», «Эльбрус» и так далее, мы очень внимательно наблюдаем, все время тестируем и пытаемся смотреть на них как как аппаратную платформу для наших решений. Потому что требования со стороны государства все время ужесточаются в этой плоскости, все больше и больше мы хотим использовать на критических объектах исключительно российские решения, поэтому, конечно, все эти разработчики и разработки находятся в фокусе нашего внимания, чтобы мы могли предоставить возможность нашим продуктам работать на этой аппаратуре. В собственных интересах — пока не планируем.
На чем вы будете работать?
Максим Филлипов: Как работали, так и работаем.
На сегодняшний день те же Intel или что угодно, на чем вы работали, у вас есть. Но оно же будет требовать замены. И, допустим, поставщики оборудования, например, компьютеров, скажут: «Нельзя».
Максим Филлипов: Мы не предвидим с этим проблем. Еще раз, на Америке свет клином не сошелся. Мы сейчас ведем переговоры с рядом компаний из других стран, которые с удовольствием сами пришли к нам. Они говорят: «Ну, вот так случилось, с американцами вам сейчас нельзя, поэтому давайте, используйте наши серверы и программное обеспечение». Мы сейчас находимся в ряде таких переговоров. Но что интересно, справедливости ради надо сказать: несмотря на то, что формально коммуникации американских компаний с Positive Technologies как с группой компаний запрещены, они крайне дорожат нашим бизнес-партнерством в России и сами ищут и предлагают какие-то схемы взаимодействия.
Теперь от технологии — к бизнесу. В широком смысле этого слова. Тот же Forbes пишет, что до того, как вы попали в санкционный лист, как раз Positive Technologies уже рассматривала возможные перспективы проведения и выхода на IPO с получением 300 млн долларов на собственное развитие. Причем ожидали, что общая оценка компании составит 1 млрд.
Максим Филлипов: Есть оценки и выше. Это правда. Мы не снимаем этих планов. Но что стоит сказать, мы оказались сейчас в другой реальности. Это правда. Нам нужно какое-то время для того, чтобы эту реальность осознать. Планов таких мы не снимаем. Изначально в плане была организация некоего такого публичного для физических лиц IPO высокотехнологичной компании из России.
А где вы его собирались проводить?
Максим Филлипов: На Московской бирже.
А NASDAQ вы не рассматривали, потому что, как вы говорите, предвидели, в какой ситуации можете оказаться? С какого года вы начали понимать, что ваш сектор сакнционно опасный?
Максим Филлипов: На самом деле, мы начали это понимать с 2014 года, когда наши зарубежные продажи стали испытывать некие сложности на самых различных этапах контрактования. И мы поняли, что в нашу бизнес-деятельность вмешалась геополитика. И ровно в том момент мы приняли решение сфокусироваться на российском рынке. И основной фокус компании ушел на российский рынок. И мы бодро растем: за последние пять лет средний рост компании — выше 40% от года к году. В прошлом году 55% был рост. Видимо, с этим связан интерес Forbes и других изданий к русской высокодинамично развивающейся компании из области секьюрити, которая вдобавок имеет планы стать публичной и выйти на IPO. Еще раз, мы эти планы сейчас не снимаем. К слову говоря, у нас в период, когда произошло наложение санкций, мы хотели народного IPO. И говорили, что нам нужно до «физиков» достучаться. Нам было нужно, чтобы нас физические лица узнали. Директор по маркетингу компании Positive Technologies в то время был на Ольхоне — в месте силы — и сказал, что он загадал желание, чтобы мы появились во всех топовых новостях. Как говорится, бойся своих желаний. И сейчас мы в топовых новостях, сейчас мы гремим, но, как мы будем делать это размещение, ясно, что нужно будет внести какие-то изменения в наши планы. Нам нужен какой-то период на осознание. Но что точно, мы эти планы не отметаем. Мы собираемся это делать. Как и что? Я думаю, информация последует в течение ближайшего месяца.
Все-таки это не может не повлиять. Естественно, компании, которые крайне чувствительны и крайне уязвимы для американских санкций, прежде всего банки и ряд других, наверняка воздержатся как от того, чтобы быть вашими клиентами в дальнейшем, так и от участия в вашем капитале в той или иной форме, например, в покупке акций, если это произойдет. Не может это пройти бесследно.
Максим Филлипов: Безусловно, это влияет на наш бизнес, что уж тут говорить. Мы не говорим, что стало намного лучше, чем до аварии, как в известном анекдоте. Нет, нам больно и обидно. Но что умела всегда делать компания хорошо — это работать в кризисные периоды, потому что кризис — это период возможностей. И мы сейчас пытаемся использовать пусть и небольшие по сравнению с рисками, которые уже случились, возможности для того, чтобы продвигать как-то свои идеи и свои ценности. И достигать как-то тех результатов, которые мы считаем для себя важными и главными. Кстати, очень много слов поддержки мы слышим сейчас в свой адрес. И это не только от правительства, не только от наших клиентов. Это в том числе и от наших зарубежных коллег, которые не понимают абсурда происходящего.
Ну и о правительстве все-таки. Оказывается ли вам какая-то поддержка? Все-таки вы, безусловно, лишились значительной части возможностей по привлечению капитала на публичных рынках, а это было в ваших планах, как мы знаем. Предлагает ли государство какую-то помощь и нужна ли она вам?
Максим Филлипов: Да, предлагает. Но пока мы ей не воспользовались. Мы пока справляемся и надеемся, что справимся и дальше. Почему? С одной стороны, предпосылка — очень неплохой финансовый год у нас за плечами, неплохой запас собственных средств. Мы продолжаем взаимодействие с теми же банками по поводу наших кредитных линий, и я думаю, что все у нас будет хорошо.
У вас тысяча работников, 700 разработчиков — это очень много. Как люди отнеслись к тому, что они теперь работают в санкционной компании?
Максим Филлипов: Конечно, эта история портит атмосферу внутри. И мы сейчас сильно вкладываемся в то, чтобы люди ходили с высоко поднятой головой. У части сотрудников есть страхи каких-то ограничений выезда за рубеж, получения виз. Но мы разъясняем, что санкции не касаются физических лиц, сотрудников, собственников компании. Более того, мы сходили к нашим коллегам, которые, к сожалению, уже находятся под санкциями, и узнали, как их сотрудники себя чувствуют. Они ездят в Америку и, главное, возвращаются оттуда, они путешествуют по Евросоюзу. Поэтому можно сказать, что какого-то влияния это на перспективы свобод для конкретных сотрудников не оказывает.
А «хантить», наоборот, не начинают в такой ситуации?
Максим Филлипов: Конечно, начинают. Мы сейчас столкнулись именно с таким пиком «хантинга» наших людей. У нас работают уникальные профессионалы, как вы поняли, и сейчас они массово получают предложения о работе. Там, где это российские компании, так как мы знакомы с топ-менеджментом этих компаний, а «хантят» в основном средний уровень, — мы решаем эти вопросы звонком. Просим взять «мораторий» и, как правило, находим полное понимание. Нам нужен какой-то период, чтобы осознать новую реальность. В том числе для того, чтобы сотрудники приобрели какую-то уверенность в завтрашнем дне. Мы ее не теряем, но, конечно, эти истории портят атмосферу внутри коллектива. И мы сейчас сильно вкладываемся в то, чтобы быть открытыми. И чтобы наша позиция звучала открыто и честно. Я уверен, что те сотрудники, а их подавляющее большинство, которые разделяют ценности нашей компании, будут с нами.
Илья Копелевич

Корни
Почему школы с обучением на русском языке работают в основном на побережьях США
Текст: Елена Новоселова
Есть ли в США государственные школы с образованием на русском языке? Кому санкции не мешают открыто презентовать свою русскость? Устарела ли народная дипломатия? Об этом наш разговор с президентом недавно образованной Ассоциации русских школ США и директором культурно-образовательного центра для русскоязычных семей в Кремниевой долине "Россинка" (с двумя "с" от слова "Россия") Натальей Вензон.
Наталья, вас включили в сотню самых влиятельных женщин Кремниевой долины. Как паромщика культур или за что-то другое?
Наталья Вензон: Не думаю, что можно отделить бизнес от личности человека. По основной профессии я учитель, преподаватель английского и немецкого. Когда переехала в Калифорнию, впервые увидела банковскую карточку, не знала основ экономики. Мой терпеливый муж научил, как построить бизнес с нуля. Сейчас у нас 17 разных компаний, в том числе строительная. Только благодаря этому мы смогли открыть школу, приобрести для нее собственное здание, отремонтировать, оборудовать по последнему слову техники, создать профессиональную театральную сцену со светом и звуком, посадить фруктовый сад, за которым ухаживают дети. Сейчас у нас учатся дети более чем из 100 семей. Если бы не пандемия, то уже работали бы программы по обмену с российскими педагогами и школьниками.
Как раз в пандемию возникла Ассоциация русских школ США. Удаленка подтолкнула или тема объединения давно зрела?
Наталья Вензон: На ежегодной конференции русских школ при Русском культурном центре в Вашингтоне (округ Колумбия) этот вопрос возникал, но не находилось движущей силы, которая бы объединила. Таким организатором стала "Россинка" при поддержке Координационного совета организаций российских соотечественников США.
Чем ассоциация занимается?
Наталья Вензон: На первых "круглых столах" в 2020 году мы решали, как перейти в онлайн, какие платформы и программы использовать, как сохранить педагогов, как спасти наши школы. Ведь до марта прошлого года, скажем, тот же Zoom был задействован в учебном процессе всего на 5-10 процентов.
Не пробовали найти поддержку у больших учебных платформ в России?
Наталья Вензон: У нас подписан договор о сотрудничестве с Институтом Пушкина (Москва), Санкт-Петербургский государственный университет предлагает огромное количество ресурсов в помощь педагогам, преподающим русский как иностранный или работающим с детьми-билингвами.
Сколько школ входит в Ассоциацию?
Наталья Вензон: Сейчас она объединяет более 40 русских школ по всей Америке.
Как устроено образование на русском в США? Есть ли государственные программы?
Наталья Вензон: В США нет единой образовательной системы, в каждом штате свои правила для государственных школ, а частные вообще могут устанавливать свои, при соблюдении требований по лицензии, разумеется.
В крупных городах и конгломератах на западном и восточном побережье, где немало русскоязычных семей с высшим образованием, достаточно и частных детских садов, школ, школ дополнительного образования и кружков. В центральных и сельских областях такого разнообразия нет. Существуют также исторически сложившиеся места компактного проживания русских, в том числе религиозные поселения со своими правилами и традициями.
Кто финансирует государственные учебные заведения?
Наталья Вензон: Финансирование напрямую зависит от местных налогов. Таким образом, запросы и потребности жителей определенных районов влияют на школьные программы, и в них могут появляться определенные языки в качестве иностранных, образуя самое настоящее билингвальное или иммерсивное образование. И представители русскоязычной диаспоры в некоторых штатах сумели добиться этого для русского языка.
Такие школы есть в Портленде (Орегон), на Аляске (Анкоридж), в Калифорнии школа с преподаванием русского есть в столице штата - городе Сакраменто. Но необходимость таких программ приходится все время обосновывать и отстаивать, то есть изменение состава населения или ограничение бюджета могут привести к сокращению данных программ и наоборот.
Частным школам в этом отношении, наверное, легче?
Наталья Вензон: Программы преподавания в частных школах зависят от запросов родителей, так что появление русского языка никого не удивит. Тем не менее единой программы не будет и в этом случае. Критерием оценки эффективности программы становятся внутренние тесты школы, а также аккредитация программы независимой комиссией либо независимый тест на уровне штата или страны. Например, наша школа "Россинка" получила аккредитацию всех своих программ и классов от WASC (Ассоциации школ и колледжей западного побережья), а это значит, что программа школы соответствует требованиям штата Калифорния и всего региона.
Для старшеклассников (от 15 лет) существует NEWL (Общегосударственный экзамен по иностранному языку). Результаты этого экзамена принимаются при поступлении во многие колледжи и университеты. Выпускники "Россинки" будут сдавать этот экзамен в мае 2021 года. Кроме того, можно сдать экзамены, которые проводит Институт Пушкина как для иностранцев, изучающих русский, так и для детей-билингвов.
Билингвальные школы Портленда тесно сотрудничают с Портлендским университетом, разрабатывают свои программы с учетом требований штата.
Мы, в свою очередь, планируем подобную работу с кафедрами славистики в Стенфорде и Беркли.
Какие возможности есть у русскоязычных специалистов Кремневой долины учить своих детей родному языку?
Наталья Вензон: 20 лет назад, когда я переехала в Кремниевую долину, здесь было два домашних детских садика с русскоязычными владельцами и соответственно русским языком, а также один привычный для нашего понимания большой садик с группами. Сейчас существует два больших сетевых садика и очень много домашних групп. Кроме "Россинки", в Сан-Франциско есть частная школа с изучением русского языка.
"Россинка" работает по типу воскресной школы?
Наталья Вензон: Нет, мы работаем шесть дней в неделю. В будни до обеда идет программа билингвальной школы (то есть английский и русский - 50 на 50 в киндергартене (так в США называется первый класс, в который дети идут по достижении 5 лет. - Прим. ред.), затем в третьем классе это соотношение уже 90 на 10, но в группе продленного дня все предметы изучаются на русском языке. Есть и субботняя школа для тех, кто живет далеко и может приезжать только раз в неделю.
10 процентов учебного времени в школе на русском… А что вы ждете на выходе?
Наталья Вензон: Несомненно, 10 процентов - это недостаточно. Но есть группы продленного дня с полным погружением в русский язык, интенсивная летняя программа с педагогами из России... Однако наша цель не язык как таковой, а изучение культуры, литературы, истории. Мы хотим, чтобы дети знали свои корни и гордились ими.
В Кремниевой долине вообще сложилась уникальная ситуация. Крупнейшие IT-компании, такие как Google, Apple, Facebook, научные гиганты и стартапы принимают на работу специалистов со всего мира. Долина - это настоящий плавильный котел разных культур и национальностей. Межкультурные детские и взрослые фестивали, ярмарки и события, в которых дети и взрослые "Россинки" принимают активное участие, - это способ познакомить со всем прекрасным, что есть в славянских культурах. А наши ежегодные новогодние театральные представления, которые собирают сотни семей, и не только русскоязычных. У нас появились американские поклонники. Наша философия и девиз - взаимопонимание культур ведет к миру на Земле.
В нынешней ситуации звучит слегка декларативно…
Наталья Вензон: А я убеждена, что наши дети смогут лучше договариваться друг с другом, чем сейчас договариваемся мы, их родители.
Понятно, народная дипломатия и так далее. Но сейчас время прагматичное. Какая мотивация у родителей, которые не собираются возвращаться в Россию, своих детей напрягать еще и русским языком?
Наталья Вензон: Да, есть дети, которые говорят: "Я американец и мне не нужен русский". Это определенный вызов для родителей и педагогов - не убеждать ребенка в том, что он обязан учить русский язык, но вызвать искренний интерес и любовь к языку и культуре. Чтобы в оригинале читать классиков и современников, свободно общаться с русскоязычными сверстниками и родственниками.
Нашим "спонсорам" - родителям также не нужно объяснять, что второй и даже третий язык это большой плюс при поступлении в университет. Кстати, отделы кадров крупных IT-компаний высоко ценят знание русского языка, так как работают с русскоязычным рынком. В США и в Кремниевой долине, в частности, много выходцев не только из России, но из всех стран - бывших республик Советского Союза, а также Польши, Чехии, Словакии, где изучали русский. Таким образом, большое количество детей уже как-то говорит или понимает по-русски. С нуля учить не надо, бери и развивай, кроме академических уроков можно обеспечить мощную языковую поддержку дома. К тому же родители ценят возможности изучения точных наук на русском - большой популярностью пользуются уроки обычно и олимпиадной математики, физики и химии.
На фоне санкционной политики, а иногда и русофобии в США, презентуя свою русскость, вы не рискуете стать отверженным в обществе?
Наталья Вензон: Абсолютно нет. Но тут я могу говорить только за себя. Ни наша школа, ни наши родители не почувствовали неприязни со стороны американского населения. Наоборот, наши программы и нашу миссию строить мосты между странами и воспитывать гражданина мира поддерживают. К примеру, мы получаем гранты от американских компаний, граждан и Интернациональной организации Ротари.
Ваш муж, серьезный американский бизнесмен, не посчитал открытие русской школы женским капризом?
Наталья Вензон: Я из семьи потомственных педагогов: мама - учитель математики, папа много лет был директором школы. Еще до рождения первого ребенка было решено, что русский язык будет первым у наших детей. Муж очень серьезно относится к их образованию, а также к вопросам образования и социальной ответственности бизнеса в целом. Поэтому проект создания русской школы был не моим капризом, а осознанным решением семьи. Я возглавила его как наиболее компетентный в этой области человек. К тому же это было моей мечтой, добавило сил и энтузиазма, помогло преодолеть трудности первых лет жизни в США.
Мнение
Наталья Вензон живет в Кремниевой долине (Silicon Valley). У нас это место часто называют Силиконовой долиной. Как все-таки правильно?
Свое объяснение предложил Левон Саакян, доцент кафедры общего и русского языкознания Института Пушкина. По его мнению, правильно - Кремниевая долина: "Для понимания, почему нормой в русском языке является форма "Кремниевая долина", стоит обратиться к значению слов: силикон - это полимер, а кремний - кристалл, материал, который используется в создании компьютеров и микрочипов. В английском языке слова "кремний" и "силикон" отличаются всего одной буквой: silicon и silicone, соответственно причина возникновения ошибочной версии - в неточном переводе".

Интеллект с отмычкой
Американская разведка прогнозирует рост транснациональной преступности
Текст: Михаил Фалалеев
Удивительно, но о предполагаемом росте уровня транснациональной преступности международному полицейскому сообществу стало известно из доклада американских спецслужб. Казалось бы, у полиции и разведки разные сферы интересов. Одни борются с криминалом, другие охотятся за государственными тайнами.
Однако точки соприкосновения все же нашлись. Как выяснилось, активность криминала теперь напрямую связана с межгосударственными отношениями.
Президент российской секции Международной полицейской ассоциации генерал-лейтенант, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Юрий Жданов рассказал "Российской газете", какие криминальные угрозы спрогнозировали разведчики США для себя, России и мира.
Юрий Николаевич, почему информацию о возможном всплеске криминала вы получили именно из документов американской разведки? Что это за документы?
Юрий Жданов: Мы изучали несколько документов. Сначала - доклад разведчиков о прогнозе на двадцать лет вперед. Он так и называется - "Глобальные тенденции-2040". Затем - ежегодный отчет об угрозах национальной безопасности Соединенных Штатов во всем мире. Этот отчет предоставлен комитету Конгресса по разведке, комитету по делам вооруженных сил Палаты представителей и Сената. Они провели обсуждение отчета 14 и 15 апреля.
Вот в этом отчете разведчики, как они считают, предоставили "подробную, независимую и неприукрашенную разведывательную информацию, которая необходима политикам, оперативникам и сотрудникам местных правоохранительных органов для защиты жизни американцев и интересов Америки в любой точке мира".
Звучит внушительно. Но, как я понял, эта информация оказалась важна не только для американцев.
Юрий Жданов: Да. Мы, полицейские, обратили внимание на проблемы транснациональной организованной преступности. Выяснилось, что пандемия создала некоторые проблемы для торговцев наркотиками. В основном из-за ограничений на передвижение.
Но наркобароны это сумели преодолеть, и количество смертей от передозировок увеличилось. Доминируют мексиканские торговцы кокаином, фентанилом, героином, марихуаной и метамфетамином. Угроза для России точно такая же, как и для США - в этом году будет наверняка достигнут успех в производстве высококачественного фентанила с использованием химических прекурсоров из Азии. Фентанил - причина почти половины всех смертей от передозировки.
А наркомафия - это обязательно вооруженные разборки, разбои и грабежи. И что важно для экономики - финансовые схемы для отмывания доходов, в том числе и с помощью киберинструментов. Дальше уже несложно протянуть цепочку и к финансированию терроризма.
Кстати, авторы доклада ожидают, что в США сейчас хлынет новый поток беженцев из Южной и Центральной Америки, в Европу - из Северной Африки и Ближнего Востока. А к нам - из Юго-Восточной и Средней Азии. Этому способствуют высокий уровень преступности и слабые рынки труда в этих странах. Правда, есть небольшая надежда на карантин.
Но киберпреступников карантин никак не сдерживает.
Юрий Жданов: В России уж точно. У нас происходит более трети краж всех персональных данных в мире - из банков, финансовых и страховых компаний. В прошлом году в мире таких утечек было зафиксировано 202, что привело к компрометации 486 миллионов персональных данных и платежной информации. В России число утечек в финансовом секторе выросло с 52 до 71 случая, что привело к утечкам 13,4 миллиона записей пользовательских данных.
При этом больше половины таких хищений в мире приходится на долю так называемых внешних злоумышленников, которые не являются сотрудниками банков и компаний. Зато в России воруют информацию в основном свои же, но непривилегированные работники. На их счету - 82 процента хищений.
У американцев похожие проблемы?
Юрий Жданов: Что характерно, американская разведка вообще не говорит о киберпреступниках как таковых. Ну, мол, хакер просто захотел украсть деньги. Или, на худой конец, продать чужие данные, пошантажировать корпорацию угрозой сбоев в программах, нарушением работы коммуникаций. И опять же, заработать на этом деньги. Создается впечатление, что любые кибератаки, по мнению их джеймсов бондов, - дело рук вражеских государственных спецслужб. Ну, или эти преступники сотрудничают с государственными структурами.
То есть, по мнению американских разведчиков, киберпреступность в чистом, так сказать, виде просто отсутствует как явление?
Юрий Жданов: Выходит, что так. Их аналитики почему-то считают, что многие опытные иностранные киберпреступники, нацеленные на США, поддерживают взаимовыгодные отношения с другими государствами, которые предлагают им безопасное убежище или извлекают выгоду из их деятельности. Например, по информации американской разведки, цитирую: "Северная Корея провела киберкражу финансовых учреждений и криптовалютных бирж по всему миру, потенциально похитив сотни миллионов долларов". Сделано это было, вероятно, для финансирования ядерных и ракетных программ.
Американские аналитики также утверждают, что не только правительства, но и многие компании будут иметь мощные инструменты для улучшения индивидуализированного маркетинга или продвижения определенной повестки. Например, такие, как манипуляции с видео или другие глубокие подделки. А новые приложения искусственного интеллекта могут стать потенциальными целями для манипуляций с любыми данными, чтобы исказить их результаты. Открывается широчайшее поле для деятельности преступников.

Обольщение
давление на Путина, а вместе с ним и на Россию, непомерно возрастает
Александр Проханов
Встреча Горбачёва и Рейгана в Рейкьявике — это страшная, роковая для России, грозовая встреча. По её завершении Горбачёв выступил по телевидению, и я увидел его лицо: оно было ужасным, по нему гуляли трупные пятна, губы дрожали, глаза светились каким-то неземным, адским огнём. Было ощущение, что он прикоснулся к раскалённому железному шкворню. Тогда он совершил свой иудин грех — продал государство вместе с миллионами его граждан, с его богатствами, с его исторической судьбой.
Как удалось склонить Горбачёва к предательству? Чем искусили его? Совсем недавно Рейган называл Советский Союз империей зла, Горбачёв был императором этого зла, был убийцей. И вот затравленный, запуганный, униженный советский лидер вдруг получил от американцев высшую аттестацию: нет, он не убийца, он — великий реформатор, он — спаситель России, спаситель всего человечества от ядерного кошмара. О нём как о спасителе мира стала писать вся зарубежная пресса. Не было журнала, на обложке которого не появился бы советский генеральный секретарь с тёмным клеймом на лбу. Горбачёв уверовал в это, его заколдовало не богатство, а предложенное величие — ему сулили роль выдающегося человека Земли, спасителя рода людского. И он сдал своё государство. Россия была отброшена в XVI век, окружена могущественными базами НАТО, стиснута в жёстких американских объятьях. Обольщение кончилось, началось удушение.
Тревожит судьба современной России. По-прежнему Америка называет Россию величайшим злом человечества, более страшным, чем лихорадка Эбола. Американский президент считает российского президента убийцей, и степень давления на него, оскорбления, унижения достигла предельных размеров. Но в самый разгар этой информационной казни — после слов об убийце — Байден приглашает Путина принять участие в международном форуме, говорит о необходимости встречи с ним. Встречи с кем? С убийцей? И становится страшно: не поддастся ли Путин этому искушению, не повторит ли он судьбу Горбачёва? Не станут ли его называть великим миротворцем, лауреатом Нобелевской премии мира, ибо он положил конец жестокому противостоянию России и западного человечества, не дал разгореться военному конфликту в Донбассе, отказался от всех форм российской внешней политики, которую Запад называет новым российским империализмом? И не начнётся ли сейчас новое безумное разоружение, истребление гиперзвуковых ракет? Не вернётся ли в Министерство иностранных дел Козырев? Не случится ли та долгожданная для либералов перестройка-2, в результате которой исчезнет нынешняя Россия, и останется малая Московия, представляющая из себя этнографический заповедник с русскими песнями, плясками и праздничными богослужениями?
Такая опасность есть. Не раз в своей истории Россия теряла государство. Сегодняшняя российская элита ненадёжна, двойственна. Она не является выразителем государственных интересов России. Она — рука, протянутая из-за океана к русскому сердцу и сжимающая это сердце. Американцы грозят российским миллиардерам арестом их счетов, закрытием их зарубежных компаний, высылкой их семей, конфискацией недвижимости. И миллиардеры трепещут, тайно ненавидят, готовы оказать влияние на президента Путина с тем, чтобы он сменил свою внешнюю политику, разгрузил мир от русского присутствия, ушёл из Сирии, Карабаха, снизил число кораблей в Чёрном и Балтийском морях. И наградой им за это будет сбережение их несметных состояний, находящихся на Западе.
Так думают компрадоры. А что главы крупнейших военно-технических корпораций? Не последуют ли они примеру советских "красных директоров", которые были изумительными управленцами, руководили целыми отраслями, но стали тяготиться тем, что взлелеянные и вскормленные ими отрасли принадлежат не им, а государству? Им захотелось перейти из статуса управленцев в статус директоров-собственников. И вся великая криминальная революция, о которой сказал Говорухин, — это переход государственной собственности в руки "красных директоров". Не захотят ли сегодняшние лидеры крупнейших авиастроительных, приборостроительных, судостроительных, моторостроительных, нефтяных и газодобывающих корпораций из управленцев превратиться в их собственников и заплатить за эту возможность такой "малостью", как разрушение государства Российского, как выведение этих корпораций из-под контроля государства?
А что общественное сознание? Готово ли оно к перестройке-2? На протяжении последних лет народная психология подвергалась чудовищному насилию, жутким тотальным ударам. После возвращения Крыма, когда русское сознание охватил восторг, надежда на чудо, на преображение, случился Донбасс — с кровью, со снарядами, с убийством детей и стариков. И два года подряд кремлёвское телевидение держало народ в страшном напряжении, рассказывая о чудовищных злодеяниях в Донбассе. Народ лил слёзы, глядя на всё это, сострадал и рыдал.
Такому же страшному давлению и удару подверглось народное сознание в период эпидемии. Дни и ночи по всем каналам раздавались устрашающие прогнозы, связанные с пандемией. Крупнейшие эпидемиологи говорили о вакцинации: одни превозносили её до небес, другие обращали её в прах. Одни говорили об ужасных последствиях вакцинации, другие требовали, чтобы вакцинировали младенцев чуть ли не в утробе матери. И вот, наконец, недавнее нагнетание апокалиптического кошмара, когда людей заставляли ждать ракетных пусков, огромного, поднявшегося над всем человечеством ядерного гриба.
Народное сознание изуродовано, искалечено, оно бессильно, не в состоянии ориентироваться, его можно катать, как футбольный мяч по полю. Если в народное сознание, как в период перестройки, вбросить искусительные идеи о новом мышлении, о свободе, о красоте, о великом союзе земных народов, об Америке, что так похожа на Россию, о двух народах — американском и российском, которым нечего делить и которые являются народами-лидерами всего человечества, народное сознание легко попадётся на эти уловки — ему хочется отдохнуть, отдышаться от страшных чёрных ударов.
Холодная война, или гибридная война, как её называют, связана с воздействием на соперника, на различные слои враждебного общества не с помощью оружия и грохочущих гусениц, с воздействием не военным, а информационным, психологическим, ментальным. И одним из приёмов, который был прекрасно опробован в советские времена, является приём искушения и обольщения. Писателей обольщают возможностью издавать их книги за рубежом. Либеральным политикам говорят, что они являются выразителями истинных интересов России.
Президент России, выдержав за эти двадцать с лишним лет колоссальное давление враждебного России мира, выстояв, создав государство, является примером политического стоицизма. И есть предчувствие, что он будет подвергнут новому воздействию, имя которому — обольщение. Обольщение — это инструмент гибридной войны, это мощнейшее средство, связанное с пониманием психологии лидера, исследования его недостатков, стремлений, слабостей, мечтаний. Сегодня президент Путин — мишень номер один, на которую направлены не просто космические лазеры, не просто диверсионные группы, мечтающие о его физическом истреблении. На него направлены все невидимые и загадочные для нас орудийные стволы, готовые выпустить в его сторону проверенный историческим временем снаряд "обольщение".
Давление на Путина, а вместе с ним и на Россию, непомерно возрастает. До крупномасштабной войны на Украине осталось пять минут. Белорусы предотвратили государственный переворот и покушение на президента Лукашенко, обвиняют в злом умысле Соединённые Штаты Америки и Байдена. Чехия винит Россию в диверсии на складе боеприпасов, куда тайком прокрались пресловутые Петров и Боширов, эти два призрака, которые бродят по Европе уже несколько лет. Практически прерваны дипломатические отношения между Москвой и Прагой. Америка вводит очередной пакет санкций против России, намекая на то, что Вашингтон сможет заморозить капиталы, которые Россия держит в иностранных банках. Россию приговорили к казни. И как ослепительно за минуту до гильотины прозвучит помилование! С какой радостью и благодарностью кинется помилованный в объятия к своим палачам! На этом построен военно-психологический приём "обольщение".

Саммит по вопросам климата
Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в Саммите лидеров по вопросам климата. Мероприятие, организованное американской стороной, проходит 22–23 апреля.
В своём выступлении глава государства изложил подходы России в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата.
С российской стороны в мероприятии также приняли участие Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов и советник Президента, специальный представитель Президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
***
Выступление на Саммите по вопросам климата
В.Путин: Уважаемый господин Президент!
Уважаемые коллеги! Дамы и господа!
Наша сегодняшняя дискуссия показывает, насколько глубоко мы все разделяем озабоченность, связанную с изменением климата, и насколько мы заинтересованы в активизации международных усилий по решению этой проблемы. От успеха этих усилий во многом зависит судьба всей нашей планеты, перспективы развития каждой страны, благополучие и качество жизни людей.
Считаем, что надёжной правовой основой для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договорённости, достигнутые по линии Организации Объединённых Наций.
Подчеркну, Россия со всей ответственностью подходит к выполнению своих международных обязательств в данной сфере. Прежде всего это касается реализации Рамочной конвенции ООН об изменении климата, Киотского протокола и Парижского соглашения. Ведём энергичную работу по формированию в нашей стране современного законодательства, обеспечивающего контроль за эмиссией углерода и стимулирующего её сокращение.
Вчера у меня было ежегодное обращение к Федеральному Собранию Российской Федерации, и в числе важнейших в контексте социально-экономического развития была поставлена задача существенно ограничить к 2050 году накопленный объём чистой эмиссии в нашей стране.
Несмотря на размеры России, особенности географии, климата и структуры экономики, эта задача, уверен, реализуема. Напомню, что по сравнению с 1990 годом Россия в большей степени, чем многие другие страны, сократила выбросы парниковых газов. Эти выбросы уменьшились в два раза – с 3,1 миллиарда тонн эквивалента СО2 до 1,6 миллиарда тонн. Это стало следствием кардинальной перестройки российской промышленности и энергетики, ведущейся в последние 20 лет.
Как результат, сейчас 45 процентов нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию. Уровень эмиссии парниковых газов атомными электростанциями на всём их жизненном цикле, как известно, почти нулевой.
Мы намерены и далее наращивать объёмы утилизации попутного газа; реализовывать масштабную программу экологической модернизации и повышения энергоэффективности во всех секторах экономики; обеспечивать улавливание, хранение и использование углекислого газа от всех источников. Создаём также инфраструктуру производства водорода как в качестве сырья, так и энергоносителя.
Упомяну в этой связи, что в России, в Сахалинской области, начат пилотный проект по формированию системы углеродного ценообразования и торговли углеродными единицами. Его осуществление позволит достичь углеродной нейтральности этого российского региона уже к 2025 году.
Ни для кого не секрет, что ситуация, стимулировавшая глобальное потепление и проблемы, с ним связанные, возникла далеко не вчера. Какими видим пути комплексного решения этих проблем?
Первое. Углекислый газ держится в атмосфере сотни лет. Поэтому мало только говорить о новых объёмах эмиссии. Важно заниматься вопросами поглощения углекислого газа, накопленного в атмосфере. Отмечу, что Россия вносит, без преувеличения, колоссальный вклад в абсорбирование глобальных выбросов как своих, так и чужих за счёт поглощающей способности наших экосистем, которая оценивается в 2,5 миллиарда тонн эквивалента углекислого газа в год.
Второе. Следует учитывать все без исключения факторы, вызывающие глобальное потепление. К примеру, на долю метана приходится 20 процентов антропогенных выбросов. И каждая его тонна создаёт парниковый эффект в 25–28 раз больший, чем тонна СО2. Если бы, скажем, в предстоящие 30 лет удалось сократить эмиссию метана в два раза, то, по мнению экспертов, глобальная температура к 2050 году снизилась бы на 0,18 градуса. Что, кстати, составляет до 45 процентов разницы между текущей температурой и целью Парижского соглашения.
В этой связи было бы весьма важно наладить широкое и эффективное международное сотрудничество по расчётам и мониторингу объёмов эмиссии всех видов вредных выбросов в атмосферу.
Приглашаем все заинтересованные страны подключиться к совместным научным исследованиям, сообща инвестировать в практически значимые климатические проекты, активнее заняться разработкой низкоуглеродных технологий по смягчению последствий и адаптации к изменениям климата.
Третье. Убеждён, борьба за сохранение климата, конечно же, призвана объединять усилия всего мирового сообщества. Россия готова предложить целый набор совместных проектов, рассмотреть возможность преференций даже для зарубежных компаний, которые хотели бы инвестировать в чистые технологии, в том числе и у нас в стране.
И последнее. Глобальное развитие должно быть не просто «зелёным», но и устойчивым во всей полноте этого понятия. Причём для всех стран без исключения. А соответственно, тесно увязываться с продвижением вперёд по таким актуальным направлениям, как борьба с бедностью и сокращение разрывов в развитии между странами.
В заключение хотел бы ещё раз подчеркнуть, что Российская Федерация искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества, с тем чтобы продолжить поиск действенных решений проблемы изменения климата, как, впрочем, и всех других острых глобальных проблем. Собственно, этому и должны послужить итоги нынешнего видеосаммита.
Благодарю вас за внимание.

НАЗАД К ТРАДИЦИОННОЙ ДИПЛОМАТИИ!
АЛЕКСАНДР ЛУКИН
Д.и.н., профессор, руководитель департамента международных отношений, заведующий Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма НИУ ВШЭ.
С нервными нужно разговаривать спокойно, но твёрдо и последовательно. Никаких переговоров в прямом эфире, поменьше пышных пресс-конференций. Закрытая встреча и короткие сообщения, выход к прессе без вопросов – этим можно ограничиться. Такая тактика исключит желание партнёра использовать переговоры для пропаганды, а не для дела.
17 марта 2021 г. президент США Джо Байден в интервью утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, является ли его российский коллега Владимир Путин «убийцей». 13 апреля на фоне ухудшающихся двусторонних отношений он позвонил Путину и предложил встретиться в ближайшие недели. На следующий день он подписал указ о новых антироссийских санкциях. Ещё через день в специальном выступлении о своём подходе к России Байден выразил надежду на начало с ней стратегического диалога по сотрудничеству в контроле за вооружениями и безопасности. При этом один раз он назвал российского президента «Клютиным» (в размещенной на сайте Белого дома официальной расшифровке стоит пометка «так в оригинале»).
На основе анализа всех этих событий и высказываний эксперты и аналитики многих стран мира стали строить догадки о том, что бы это всё могло значить. Доминирующий в России подход состоит в том, что команда Байдена не вполне понимает, что делает и чего добивается, принимает решения ситуативно, потому результат выходит столь противоречивым. Пошли разговоры и о возрастной неадекватности американского президента, хотя эта теория возникла вовсе не в России, но активно распространяется республиканской оппозицией и её сторонниками в США.
Мне представляется, что поведение демократической администрации вовсе не является непоследовательным. Точнее, оно является непоследовательным с точки зрения остальных, но с её собственной точки зрения она придерживается линии, с которой сторонники Байдена шли на выборы, и которую они заявляли уже давно, противопоставляя её курсу Дональда Трампа.
Трамп, по их мнению, своей жёсткой и эгоистической линией не только отпугнул друзей, но и не мог конструктивно договариваться с оппонентами. Он обоснованно критиковал этих оппонентов (Китай, Россию, Иран, КНДР и других), но недостаточно делал, чтобы превращать давление в нужные для США результаты. Советники Байдена предложили свой подход: одновременно давить, критиковать, но и разговаривать на темы, выгодные США, склоняя противника к договорённостям и уступкам. Байден сформулировал этот принцип афористично, заявив, что «можно идти и жевать жвачку одновременно».
В действительности, ничего нового в этом подходе нет. Его активно применял и сам Трамп. Придя к власти, он как только ни клеймил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына: и «сумасшедшим», и «маленьким ракетным человеком», но всё это не помешало двум политикам встретиться и провести переговоры. Трамп обрушивался с резкой критикой на политику Китая, Ирана и даже таких дружественных стран, как Мексика и Канада, но это вовсе не означало, что он отказывается от переговоров с ними. Напротив, он считал жёсткое давление, включая доходящую до неприличия критику, чем-то вроде составной части начальной переговорной позиции, и в некоторых случаях (например, с Китаем и Мексикой), хотя и не во всех, такая тактика даже приносила определённый успех.
Свою новую тактику демократы заявляли ещё до выборов. Так, например, в интервью программе «Фронтлайн» компании PBS будущий госсекретарь Энтони Блинкен уже в 2017 г. фактически сформулировал стратегию, которую и проводит в жизнь теперь. С одной стороны, он говорил о необходимости «каким-то путём вернуться к месту, когда отношения между Соединёнными Штатами и Россией не являются игрой с нулевой суммой, но мы работаем в реальности вместе в областях, представляющих взаимный интерес». С другой, он призывал не допустить, чтобы российский лидер смотрел на мир через призму нулевой суммы без последствий для него и без того, чтобы платить за это. Таким образом, предлагался подход кнута и пряника, а не одного только кнута, которым, по мнению демократов, только и хлестал Трамп.
Подход этот относился не только к России, но и ко всем оппонентам. Придя к власти, демократы поначалу испробовали его на Иране и Китае. Резкая критика Тегерана не помешала провести с ним консультации по перспективам новой ядерной сделки. Иранское руководство в публичной сфере отвечало столь же резко, однако от разговора не отказалось.
Следующим испытуемым был Китай, встречу с делегацией которого в Анкоридже 18–19 марта 2021 г. тот же Блинкен начал с жёсткой критики Пекина по вопросам Синьцзяна, Тибета, Тайваня, Южно-Китайского моря и другим. После такого введения и не менее жёсткого ответа Китая начало встречи, передававшееся в прямом эфире, превратилось в перепалку. Однако после неё стороны всё же провели закрытые переговоры по вопросам, представляющим взаимный интерес (Иран, Северная Корея, Афганистан, климат и торговля), которые обе стороны назвали «конструктивными».
Таким образом, случай с Россией не исключительный, он вполне вписывается в новую американскую тактику. При этом по сравнению со временами Трампа скорее изменился стиль, чем основная идея. Вашингтон при Байдене больше не критикует союзников и сместил критику противников с геополитических аспектов на права человека и «ценности». Однако сама идея одновременного давления и переговоров сохранилась.
В этой обстановке для стран, которые Вашингтон считает своими оппонентами, встаёт естественный вопрос: как реагировать. Понять подобный подход как логичный им трудно. Дело в том, что все эти страны более традиционны как в целом, так и в своих подходах к дипломатии, которая столетиями считалась искусством избегать вооружённых конфликтов путём взаимных уступок и достижения взаимоприемлемых договорённостей. Для таких целей и был изобретён сложный дипломатический протокол, суть которого сводилась к выражению формального уважения к другой стороне при любых обстоятельствах, так как согласно представлениям о чести, существовавших в период развития дипломатии, в противном случае с тобой просто не будут разговаривать. В результате даже нота, заключавшая в себе ультиматум или объявление войны, должна была заканчиваться уверениями в «весьма высоком уважении».
Сегодня времена меняются. Понятие чести сменяется моральным эксгибиционизмом. Язык блогов и социальных сетей сливается с языком печати и приходит в политику, в особенности в странах, где политики зависят от выбора избирателей и во все большей степени должны разговаривать с ними на их языке. Трамп был, пожалуй, первым президентом США, избранный благодаря социальным сетям, он и говорил языком твитов и комментов. Кроме того, сама необходимость отличаться от предшественника и казаться «круче» его, заставляет устраивать шоу, подобные тому, что мы видели в Анкоридже.
Но это только одна сторона дела. Другая состоит в том, что в США реально не знают, что делать со странами, бросающими им открытый вызов (а с американской точки зрения, вызов бросает любой, кто отказывается подчиняться). После распада СССР в Вашингтоне возникла иллюзия всесильности.
Но внезапно возникшее подавляющее влияние США было не следствием укрепления их объективной мощи, а результатом самоубийства основного соперника.
В действительности относительная мощь США и доля американской экономики в мировой падали по мере укрепления Китая, стабилизации России и роста ряда других центров силы. Американское руководство крайне раздражено тем, что может повлиять на всё меньшее количество процессов в мире, и символом этого раздражения являются крупные непослушные игроки. Поскольку сделать с ними практически мало что можно, остаётся только ругать их публично, пытаться душить бессмысленными санкциями, чтобы избиратели внутри и союзники за рубежом не подумали, что Вашингтон слабеет. Но ведь и вопросы с ними надо как-то решать, отсюда и одновременное стремление вести переговоры.
Как реагировать?
Для начала эту логику и её причину надо понять. Это именно логика, а не сумасшествие, точнее логика крайне раздражённого человека, близкого к нервному срыву, который к тому же не хочет, чтобы его родственники и знакомые узнали о его состоянии. Другая возможная наглядная модель – стареющий человек, который не желает пока признаться ни себе, ни родственникам, ни поклонницам в том, что уже не может вести себя, как раньше. Иногда он пытается прыгать и бегать, как в молодости, но спотыкается и набивает шишки, из-за чего злится и клянёт окружающих, которые порой, действительно, пользуются его слабостями и хотят отправить его на пенсию. В другое время он, понимая, что годы берут своё, ведёт себя более осторожно и старается с окружающими договориться о новых, более выгодных условиях своей жизни.
С нервными нужно разговаривать спокойно, но твёрдо и последовательно. Излишние эмоции могут вызвать лишь ответные, ещё более сильные эмоции.
Китайская тактика встречных обвинений не кажется выигрышной. Западные союзники и американские избиратели Байдена не вдохновятся китайской пропагандой, они даже не обратят на неё внимания. Другое дело, если она тоже предназначена для собственного внутреннего потребления.
В обиде отказываться от переговоров тоже не стоит, решать проблемы со всё ещё сохраняющими значительное влияние США необходимо. К тому же и с той стороны некоторая заинтересованность просматривается, и этим шансом нужно пользоваться. Как бывший работник дипломатической службы, придерживающийся традиционных взглядов, я бы порекомендовал просто избегать публичных мероприятий. Никаких переговоров в прямом эфире, поменьше пышных пресс-конференций, вопросов на них и тому подобного. Закрытые переговоры и короткие сообщения, выход к прессе без вопросов – этим можно ограничиться. Такая тактика исключит желание партнёра использовать переговоры для пропаганды, а не для дела, не даст другой стороне шанса считать их инструментом общения с собственным избирателями и союзниками. Хочешь – говори дело, не хочешь – нечего и предлагать! А ругаться впустую в закрытом помещении без аудитории особого смысла нет: всё равно никто не услышит.

Десять на десять
МИД России объявил США об ответных мерах: из страны высылают 10 американских дипломатов
Текст: Федор Лукьянов ( профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")
Российско-американские отношения пережили за последнее время несколько интересных виражей, которые оставили в недоумении многих комментаторов. Грозные предупреждения, военная демонстрация, объявление о направлении военных судов в Черное море, потом отмена этого объявления, звонок Байдена Путину с приглашением встретиться, тут же введение санкций, правда, со словами, что они могли бы быть жестче, но пока не будут. Потом указ президента США о растущей российской угрозе и снова приглашение к разговору в обращении, которое в Вашингтоне считают примирительным…
Все это - да еще в такой короткий срок - действительно создает впечатление хаоса. Впрочем, некоторая ясность наступит, если принять во внимание два обстоятельства. Во-первых, мы присутствуем при окончательном демонтаже отношений Москвы и Вашингтона в том виде, как они существовали на протяжении длительного времени - нескольких десятилетий. Во-вторых, большинство действий международных игроков диктуются сложным внутренним состоянием их государств и обществ, ответ на эти вызовы является для всех первоочередной задачей. А внешняя политика осуществляется либо по остаточному принципу, либо, если речь идет о крупных державах, которые не могут самоустраниться с арены, находится под большим воздействием внутренних задач, является инструментом их решения.
Начнем с первого. С конца сороковых годов прошлого века Москва и Вашингтон были друг для друга, без сомнения, главными собеседниками. Беседа носила конфронтационный характер, но составляла стержень мировой политики. Ее центральность определялась военно-политическими возможностями сторон и паритетом этих возможностей. За годы "холодной войны" была выработана система стабилизации и рационализации противостояния, работавшая достаточно эффективно. С начала девяностых годов паритет исчез по большинству параметров, за исключением ядерной мощи. Но ее хватало для того, чтобы поддерживать основные элементы прежних отношений. И сущностные, и ритуальные.
К достижениям конца ХХ - начала XXI века можно отнести резкое повышение уровня взаимной открытости и активизацию политических и гуманитарных контактов, которая, однако, не привела к изменению природы отношений. Они оставались конкурентными с поправкой на резко изменившееся соотношений сил и возможностей. А с нарастанием противоречий открытость из достоинства быстро начала превращаться в недостаток.
Не будем здесь вдаваться в анализ, что пошло не так и могло ли вообще пойти иначе.
Сегодня Россия и США воспринимают друг друга не как значимых партнеров, пусть и по конфронтационному взаимодействию, а как крайне неприятную помеху в реализации собственных стратегий. Во время прошлой "холодной войны" между Советским Союзом и Соединенными Штатами присутствовало своеобразное взаимное уважение, признание идейно-политической легитимности друг друга. Сейчас этого нет. Обе стороны видят противоположную как движущуюся по пути упадка. И не имеющую ни морального, ни политического права вести себя так, как она это делает. Так что идти на серьезное обсуждение взаимных интересов даже в узкой сфере нецелесообразно.
Второй фактор - динамика внутренних изменений. Степень неуверенности в себе и своем будущем повсеместно очень высока. Это вполне понятно с учетом хаотического развития всей мировой системы. Выверенный и понятный курс развития отсутствует везде, политика ситуативна и импульсивна. Следовательно, нервозна. Мир намного более взаимосвязан, чем в годы прежней "холодной войны", поэтому нервозность быстро передается всем. В результате поведение каждого диктуется очень узким пониманием самосохранения. Не в общем контексте, как в период страха, что "холодная война" перерастет в горячую, а в плане поддержания способности к самоконтролю и стабильности внутри. Неуверенность заставляет ставить внешнеполитические действия в зависимость от внутренних, общая цель - как-то рассеять эту неуверенность. Внешняя реакция в учет не принимается.
На ситуации между Вашингтоном и Москвой все это сказывается непосредственным образом. Они превращаются в набор шагов, интерпретация которых гуляет в широком диапазоне. Выступление Джозефа Байдена по России в прошлый четверг американские толкователи представляют как акт конструктивный. Байден, объясняют они, не мог оставить незаконченными дела предшествующего периода, он должен был закрыть гештальт и наказать Россию за то, что она делала до последнего времени. Теперь же, когда это случилось, он предлагает начать с новой страницы. Впрочем, одновременно выпускает указ, согласно которому процедура дальнейшего введения санкций существенно упрощается, чтобы времени не терять и сил не тратить. Что, естественно, воспринимается в Москве как сигнал: на новой странице написано будет то же самое, только еще более убористо и густо. Как бы то ни было, ответные меры России в США называют эскалацией: это не ответ, а новый раунд.
Фактическое указание на то, что американский посол является нежелательным лицом, даже облеченное в форму рекомендации самому уехать проконсультироваться, конечно, выражение решительного неудовольствия. Дальнейшее ограничение возможностей работы дипломатов - и количественное, и качественное - тоже отражает состояние дел, вполне соответствующее ситуации "холодной войны". Если политические связи свелись к нулю, а экономические никогда и не были особенно прочными, чем заниматься такому большому числу людей в посольствах? Тем более что их попытки выполнять миссию представителей своего государства для людей (обществ) страны пребывания вызывают теперь крайне острые подозрения, как стремление на что-то неправомерно повлиять (это совершенно одинаково и в Америке для наших дипломатов, и в России для американских). Так что дипломатические меры - слепок с политической атмосферы.
В этом контексте странно выглядят журналистские и экспертные гадания насчет того, состоится ли все-таки предложенный Байденом саммит. Такое впечатление, что для многих саммит - какая-то магия, демиурги встретились - и случилось чудо. Даже в более упорядоченные времена встреча в верхах требовала большой подготовки и проводилась тогда, когда она могла дать какой-то конкретный результат. Между Россией и США сейчас практически не осталось никакой повестки, кроме того, что называют красивым словом "деконфликтинг" (Сирия, Украина) и чем должны заниматься военные. Они и занимаются. Даже палочка-выручалочка в виде стратегической стабильности зависла в воздухе - прежняя модель ушла, а чтобы появилась новая, нужна очень серьезная работа интеллектуального характера, то есть совместная выработка новой схемы, которая учитывала бы все новые международные и технологические обстоятельства. А чтобы эту работу вести, нужен энтузиазм и хотя бы базовое доверие. Ни того, ни другого не наблюдается. А саммиты, на котором смотрят в глаза собеседнику, чтобы разглядеть тайные помыслы, мы уже наблюдали. Из этого никогда ничего толкового не выходит. Тем более что нынешним президентам России и США знакомиться не нужно - они давно знают друг друга.
Концептуальную рамку отношений до сих пор задавали Соединенные Штаты, она выражается в формуле того же Байдена "идти и жевать жвачку одновременно". То есть работа с русскими над тем, что нужно США, а в других сферах - сдерживание либо игнорирование. Вашингтон исходит из того, что для любой страны ценность взаимодействия с Америкой превосходит все остальное. Поэтому какие бы условия и ограничения ни накладывала на контрагента американская сторона, он продолжит работать с ними там, где Соединенные Штаты предложат это делать. То есть Америка как "незаменимая держава" в формулировке Мадлен Олбрайт 90-х годов. В целом так и было до сих пор. Теперь перед Россией стоит принципиальный вопрос - принимать ли далее такой формат "избирательного взаимодействия" (а он, естественно, не Байденом изобретен, действует практически весь постсоветский период) либо от него отказаться. Текущее состояние отношений свидетельствует о том, что такой путь в нашем случае является тупиковым.
Помимо соображений престижа и самоуважения есть и еще одно обстоятельство. На протяжении длительного времени заявка Соединенных Штатов на такой тип отношений могла быть оправдана тем, что США действительно оказывали определяющее воздействие на всю международную систему. Сейчас американское лидерство - и политическое, и, главное, морально-этическое - переживает кризис, экономические успехи Китая производят более сильное впечатление, чем американские. Понятно, что Вашингтон имеет существенную фору в технологической сфере и фактически монополию в финансовой. Однако использование американцами этих преимуществ все больше имеет характер сдерживания и наказания конкурентов, и не только геополитических, но и коммерческих. Поэтому на репутацию влияет, скорее, негативно, стимулируя поиск способов обойти американские препоны.
Российско-американские отношения пребывают в глубоком кризисе, причины которого можно искать в конкретных действиях визави. Но истоки проблем не в этом. Прежняя модель отношений была порождением "холодной войны", в затухающем режиме они сохранялись три десятилетия по ее окончании. Реанимация духа "холодной войны" сегодня не означает возвращения ее "буквы". Мир совсем другой, и структура отношений несравнима с тогдашней, хотя содержит некоторые элементы прошлого. Попытки воссоздать прежнюю схему "свободный мир" против "агрессивных тираний", которые сейчас предпринимает администрация Байдена, обречены на провал, потому что в прежнем кристаллизованном виде нет ни того, ни другого. В некоторой степени Вашингтону стоит помочь - ответом на напор должна стать более тесная и продуманная кооперация России и Китая.
Тем более что в КНР ошарашены тональностью, которой Байден со товарищи решили начать свою главу отношений с Пекином. Снижение рисков ненужных столкновений и кропотливая работа над собственной устойчивостью к любым формам давления - главное направление российско-американских отношений на предстоящий период. А совместную работу стоит ограничить кругом совсем конкретных и практических вопросов, если таковые будут возникать. В какой-то момент появится запрос на новый тип отношений, но тогда о них и надо будет начинать говорить. Не раньше.
Как использовать санкции США на пользу российской экономике
Российский финансовый рынок быстро восстановился после объявленных США санкций. Россия также не будет отказываться и от выхода на внешний рынок заимствований. Но любые финансовые войны приносят и дополнительные риски, которые неизбежно вредят инвестициям, подчеркивают аналитики. Впрочем, эти же войны могут стать поводом и подумать о внутренних источниках экономического роста.
Россия в 2021 году не откажется от предыдущих планов по заимствованиям на внешнем рынке, рассказывал министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, это будут недолларовые заимствования, а заимствования в евро, как в прошлом году. Россия привлекает внешние заимствования через суверенные еврооблигации (евробонды). Летом 2019 года США запретили американских инвесторам покупать такие бумаги. Это фактически отрезало возможность для размещения евробондов в долларах США, поэтому внешние заимствования в 2020году производились в евро (это были два транша общим объемом 2 млрд евро при спросе покупателей в 2,8 млрд).
Но основной негатив зарубежных санкций все равно заключается в том, чтобы "отрубить" Россию от глобальных рынков капитала, подчеркивает заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН Яков Миркин.
"Мы давно уже, вместо того чтобы привлекать иностранные деньги в инвестиции, для ускорения своего роста, стали глобальным нетто-экспортером капитала, гасим старые долги, новых внешних инвестиций привлекаем все меньше. Для инвесторов стали выше "риски на Россию". Нерезиденты будут уходить и из других частей российского финансового рынка - их там много", - перечисляет Миркин.
По его словам, уход иностранцев с рынка - это всегда конвертация рублей в валюту. "Больше спроса на доллары и евро - меньше на рубль, ниже курс рубля. "Антисанкции" - а они непременно будут - это всегда новые ограничения для нас, "чрезвычайка" на финансовом рынке, то, что вне нормы", - считает эксперт.
Позитивная же сторона санкций в том, что можно еще раз задуматься о том, за счет каких внутренних источников расти экономике, если внешние - "отрубают", говорит Миркин. "У нас сверхпозитивный торговый баланс, валюта исправно поступает внутрь России, правда, избыточны резервы. Может быть, история с санкциями подтолкнет власти к тому, чтобы создать как можно больше стимулов для внутренних инвестиций и распаковать часть резервов для вложений внутри России, а не вовне, как это происходит, когда их преимущественная часть держится в валюте и в иностранных ценных бумагах", - рассчитывает он.
Но радоваться санкциям не стоит, предупреждает Миркин. "Финансовые войны приносят огромный ущерб. И они - надолго. Они могут вызывать кризисы и стагнацию. Риски всегда вредят инвестициям. Нам очень нужны годы и годы спокойствия в России, чтобы начать восстанавливать численность населения и резко, масштабно продвинуться в качестве жизни и технологической модернизации. Вопрос сейчас не в том, как резко и с каким ущербом для США ответить (наши финансовые возможности в этом ограниченны), а как использовать санкции для активизации нашей экономики, ее финансового сектора (как это случилось у аграриев)", - считает эксперт.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф также заявлял, что сами по себе новые санкции США серьезных проблем российской экономике не принесут, поскольку ограничивают покупку инвесторами только новых выпусков российского госдолга. "В противном случае возникла бы паника и зарубежные инвесторы начали бы распродавать бумаги", - подчеркивал Греф. Тогда российские инвесторы, по его словам, купили бы их с большим дисконтом. "Мы всегда соотносим программу заимствований с нашими возможностями, и вне зависимости от того, как будет складываться ситуация на внешних рынках, мы сможем ее выполнить. Похоже, что ситуация складывается более оптимистично, в том числе для бюджета", - считает глава Сбербанка.
Санкции Вашингтона против суверенного долга России являются относительно мягким вариантом ужесточения, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК "ФИНАМ" Ольга Беленькая. По ее словам, нерезиденты и так почти не принимают участия в аукционах по размещению новых выпусков рублевого госдолга с лета прошлого года - их выкупают крупнейшие банки.
В Банке России ранее отмечали, что доля иностранных инвесторов в общем объеме госдолга и еще в большей мере в первичных размещениях в течение последнего года значительно сократилась. "На начало апреля вложения нерезидентов в ОФЗ снизились до 19,7% от совокупного объема в обращении, и их доля в первичных размещениях ОФЗ в марте составила около 10%", - рассказывали в Банке России.
Подготовили Роман Маркелов, Елена Березина, Алексей Любовецкий

КОГДА СОЮЗ КИТАЯ И РОССИИ СТАНЕТ ВЫГОДЕН ИХ ПРОТИВНИКАМ? || РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ
ТИМОФЕЙ БОРДАЧЁВ
Кандидат политических наук, научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики», программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».
РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ || УГОЛОК РЕАЛИСТА
От редакции:
Журнал «Россия в глобальной политике» продолжает серию публикаций под рубрикой «Руководство к действию». В этой рубрике видные учёные-международники рассматривают текущие события с позиций одной из доминирующих школ международных отношений. У каждого своя линза и свой угол зрения. А нашим читателям мы предоставляем возможность выбирать, чья теория убедительнее интерпретирует события современной политики. В этот четверг – «Уголок реалиста» с Тимофеем Бордачёвым.
↓ ↓ ↓
Возрастающая координация внешнеполитических стратегий Китая и России является естественной реакцией двух держав на давление, которое оказывают на них страны Запада. Помимо того, что Москва и Пекин действительно придерживаются общих взглядов на важнейшие вопросы международного порядка, многие из стоящих перед ними практических задач могут быть эффективнее решены сложением их усилий.
Однако не менее существенно то, чтобы настолько важные с точки зрения безопасности каждой из этих стран отношения оставались стабильными в будущем по мере формирования нового глобального баланса сил. Для этого необходимо уже сейчас представлять себе, какие проблемы может принести реальная многополярность – наиболее желательное сейчас для Китая и России состояние международной политики.
Реалистская теория международных отношений считает, что каждое государство рассматривает сохранение и наращивание собственных силовых возможностей важнейшей целью внешней политики, доминирующей над всеми другими соображениями. Однако именно эти индивидуальные устремления формируют тот нестабильный, постоянно меняющийся и, конечно, никогда не идеальный баланс сил, при котором каждая держава испытывает недовольство своим положением, но никто не остаётся возмущённым им настолько, что готов развязать всеобщую войну.
Международная политика – не голливудское кино, где может быть Элизиум и все остальные. Попытка добиться абсолютных выгод (со стороны одного государства) неизбежно ведёт к сопротивлению остальных. Поэтому задача внешней политики любой державы может заключаться не в достижении гегемонии, а в построении такого баланса сил, который будет на определённом этапе обеспечивать ей большие относительные выгоды. Стремление США к мировому господству в последние тридцать лет, оставлявшее пространство получения выгод другими участниками международных отношений, сталкивалось с прямым или тайным противодействием всех значимых игроков. Россия и, несколько позже, Китай выступали против Соединённых Штатов напрямую, Европа – через попытки нарастить свои автономные силовые возможности в мировой экономике.
В результате так и не состоялся либеральный мировой порядок, при котором одной державе отводилась лидирующая роль, а выгоды остальных предполагались настолько значительными, что заставляли бы их мириться с несправедливостью международной политики.
И если не получилось создать такой порядок при помощи институтов и с опорой на экономические возможности глобализации, то уж совершенно точно этого не добиться силовым путём.
К чему может привести сопротивление необратимым изменениям в международной системе со стороны США и их союзников, помноженное на рост китайско-российского взаимодействия? Конечно, возможна всеобщая военная катастрофа, вероятность которой всегда является одним из сценариев. Но если смотреть на вещи более оптимистично, постепенно возникнет новый международный порядок, обеспечивающий баланс сил между ведущими державами, которые в отдельных случаях смогут ограниченно использовать институты, возникшие в предыдущую эпоху.
В действительности этот сценарий, наиболее желательный на первый взгляд сейчас, может поставить китайско-российские отношения перед новыми проблемами. Принято считать, что чем больше Соединённые Штаты давят на Москву и Пекин, тем больше они сближаются, и это является неразумной стратегией, поскольку в интересах США было бы перетягивать одного из этих противников на свою сторону, либо добиваться его нейтралитета. А качестве идеального решения наблюдатели рассуждают о политике Генри Киссинджера, обсуждая её большую или меньшую вероятность. Но та политика проводилась в принципиально других исторических условиях, и было бы странно рассчитывать на её воспроизводство теперь, когда Россию и Китай уже не разделяет соперничество в рамках коммунистического движения, между ними нет неурегулированных территориальных проблем и отсутствуют противоречия, связанные с желанием СССР сделать Китай инструментом в борьбе против Америки.
Именно на эти обстоятельства указывают те, кто говорит о невозможности применения опыта начала 1970-х гг. в современных условиях. Более того, препятствия были достаточно очевидны уже в середине 2010-х гг., когда на заре президентства Дональда Трампа в Вашингтоне любили порассуждать о возможности оторвать Москву и Пекин друг от друга. Тем самым невозможность «соблазнить» одну из этих держав и неизбежность китайско-российского сближения становится аргументом, оправдывающим нынешнее поведение США и, в меньшей степени, Европы.
Однако, с точки зрения реализма, такие действия не нуждаются в оправдании. И чем более тесным станет фактический союз России и КНР в ближайшие годы, тем более фундаментальными окажутся вопросы, на которые им будет нужно искать ответ послезавтра. Поэтому вне зависимости от того, руководствуются ли США, толкающие Москву и Пекин в объятия друг друга, стратегическими соображениями или подчиняются их отсутствию, современный Киссинджер такую политику должен бы приветствовать.
Среда, в которой будут складываться отношения Москвы и Пекина, меняется. До сих пор внешняя политика России и Китая была основана на философии институционального взаимодействия государств и центральной роли международного права. И то, и другое будет либо полностью уничтожено в процессе формирования нового международного порядка, либо сохранится только применительно к техническим вопросам, не имеющим прямого отношения к решению государствами своих приоритетных задач выживания и развития.
Державы больше не смогут прятать свои интересы в тени химеры международного управления или обращаться к институтам, как к посредникам для согласования своих интересов и ценностей.
Для Москвы и Пекина это составит проблему, но вполне решаемую. Несмотря на формальную приверженность многосторонним механизмам, обе столицы уже достаточно успешно развивают взаимодействие на двустороннем уровне в том, что касается их политики в отношении третьих стран. У России и Китая много объективных причин для компромисса – в первую очередь это проблема общего соседства в Евразии. За восемь лет, прошедших с момента начала поворота Китая к Центральной Азии, не возникло ни одного существенного повода для фундаментальных расхождений с интересами России. И нельзя сказать, что деятельность Шанхайской организации сотрудничества стала здесь решающим фактором. Да и в отношении международного права Москва и Пекин не всегда стоят на позициях его абсолютизации и, в принципе, также находят общий язык.
Есть ещё одно обстоятельство, которое, как считается, осложняет взаимоотношения. В долгосрочной перспективе китайско-российское сближение может привести к напряжению, поскольку грозит потерей гибкости для внешней политики каждой из этих держав. Но это может быть урегулировано самими державами на основе их исторического опыта двусторонних отношений. Центральное место в этом опыте занимает резкий переход от дружбы к враждебности пятьдесят лет назад и достаточно продолжительный период выхода из возникшей тогда ситуации. Пока мы (с удовлетворением) видим, как китайская и российская дипломатии формируют систему отношений, при которой общность принципов не ограничивает гибкость конкретных решений в области внешней политики и безопасности. Но учитывать вероятность этой проблемы при более тесном союзе всё равно необходимо. Тем более что по мере напряжения в отношениях с Западом Китаю и России всё равно придётся фундаментально корректировать свои интересы в соответствии с интересами партнёра.
Нерешаемой в условиях международного порядка, основанного на балансе сил, окажется следующая проблема: сближение России и Китая по большинству вопросов чревато нарастанием антагонизма между ними и остальными великими, средними и даже малыми державами. Присущее реалистской традиции рассмотрение силовой политики как основы взаимодействия между государствами имеет неоспоримое преимущество, потому что позволяет абстрагировать намерения держав и внешнюю реакцию на увеличение их возможностей. Причиной конфликта между ними являются не стремление одной из них (или группы) к тому, чтобы доминировать, а просто сам факт наличия сил для этого.
Поэтому в случае возникновения прочного китайско-российского альянса их противники могут рассчитывать не только на то, что обе державы рано или поздно начнут им тяготиться, а на более долгосрочные выигрыши, связанные с тем, что остальные страны мира станут сдерживать Россию и Китай вне зависимости от того, есть у них намерения добиться гегемонии или нет.
Наиболее подходящий пример здесь – политика Индии, которая совершенно не стремится стать частью порядка во главе с США, но своими действиями уже лишает Москву и Пекин определённых возможностей, а Вашингтону создаёт тактические преимущества.
В этих условиях Соединённым Штатам не понадобится стремиться к консолидации большинства стран мира вокруг себя – международная система сама позаботится о том, чтобы они могли извлекать достаточные относительные выгоды. Под вопросом остаётся только их собственная способность к благоразумному поведению и те меры, которые Китай и Россия примут, чтобы его вероятные последствия не оказались для них по-настоящему опасными.

Время закрывать границы
глобальные изменения мировой экономики и перспективы России
Валентин Катасонов
Социально-экономические итоги «коронавирусного» 2020 года оказались крайне тяжёлыми. Принятые подавляющим большинством стран мира из-за объявленной пандемии COVID-19 чрезвычайные меры привели, по оценкам МВФ, к сокращению мировой экономики в целом на 3,3%, или на 3,7 трлн долл. В докладе ООН говорится и об уменьшении на 7,8% объёма мировой торговли. В любом случае, это самые худшие результаты со времён Великой депрессии 30-х годов прошлого века. Причём результаты рукотворные. Национальные правительства принимали эти меры самостоятельно, без какого-либо давления извне, с учётом оценок, прогнозов и рекомендаций специалистов ВОЗ.
Вопрос о том, сколько ещё жертв могла унести коронавирусная инфекция без введения разорительных локдаунов, остаётся открытым на фоне примеров Швеции и Белоруссии, где смертность от COVID-19 находилась примерно на том же уровне, что и в странах с самым жёстким противоэпидемическим режимом.
Так или иначе, эта пандемия, с 2,5 миллионами умерших от неё за 2020 год и общим ростом смертности из-за COVID-19 на 0,0033%, очень многими влиятельными в мире силами была использована как повод для фундаментального изменения всей человеческой цивилизации в своих интересах. Это нашло своё выражение и в известном высказывании Генри Киссинджера: «Мир больше никогда не будет прежним», и в книге Клауса Шваба и Тьерри Маллере "COVID-19: Великая Перезагрузка", и во многих других заявлениях государственных, политических и корпоративных лидеров, по преимуществу западных.
Несмотря на то, что сейчас эта тема перестала быть «мейнстримной», а прогнозы на 2021 и последующие годы выглядят предельно оптимистично, предполагая бурный рост экономики при отсутствии новых сверхопасных пандемий или других форс-мажорных ситуаций, нет никаких оснований считать, что «Великая Перезагрузка» — вопрос теоретической дискуссии или дело какого-то будущего. Напротив, можно утверждать, что кардинальная трансформация всех сфер жизни современной человеческой цивилизации, включая переделку самого человека в духе так называемого трансгуманизма, уже не только началась, но и давно идёт полным ходом —пандемия COVID-19 придала лишь дополнительное ускорение, а также глобальный масштаб.
Если посмотреть на то, что происходило в мировой экономике и в мировой политике после объявления пандемии COVID-19, то мы увидим весьма целенаправленные и взаимосвязанные изменения.
Так, под флагом компенсации потерь от «коронавирусных» локдаунов ведущие центральные банки возобновили необеспеченную эмиссию денег, объёмы которой в целом оцениваются в 10 трлн долл. за прошлый год. Больше всех отличился американский Федрезерв. Но в его действиях появились неожиданные новые моменты. Прежде всего, имеется в виду создание ФРС совместно с федеральным казначейством США компаний специального назначения — SPV (special purpose vechicle), которые формируют свой капитал за счёт бюджетных денег, а кредиты получают от Федеральной резервной системы. И дальше на полученные деньги они скупают корпоративные бумаги, которые не отражаются на балансе ФРС — ей такие операции проводить запрещено.
Это немного похоже на российскую систему, потому что Банк России не скупает, скажем, государственные ОФЗ. А кредитует системообразующие коммерческие банки, типа «Сбера» и ВТБ, которые эти облигации покупают, и они скапливаются на их балансах. А Центробанк остаётся «чистым», на его балансе этих ценных госбумаг нет.
Но самое интересное, что управлять этими SPV-компаниями призвана частная инвестиционная компания BlackRock. Тем самым на месте привычного американского финансового дуумвирата из Минфина и Федрезерва возник триумвират, то есть Минфин, ФРС и BlackRock. А BlackRock, созданная в 1988 году, наряду с Vanguard, States Street и Fidelity входит в «большую четвёрку» крупнейших инвестиционных компаний мира, являясь крупнейшей из них. Эти компании, помимо собственных активов, имеют ещё и гигантские активы, находящиеся в их администрировании или в трастовом управлении. В частности, Black Rock управляет средствами клиентов на сумму 8,7 трлн долл., States Street — более 8 трлн долл., Vanguard — более 6,5 трлн долл. и Fidelity — более 4 трлн долл. Компании «большой четвёрки» тесно сплетены между собой системой перекрёстного владения акциями друг друга, в совокупности представляя невероятно мощную финансовую силу глобального масштаба. Для сравнения, находящиеся под их управлением активы превышают годовой ВВП США, Китая или Евросоюза.
И вот ещё в 2020 году, до инаугурации Джо Байдена, денежные власти Соединённых Штатов предоставили Black Rock особые полномочия для работы на финансовых рынках: как американских, так и зарубежных. В результате выстраивается очень интересная и, на мой взгляд, очень опасная схема. В марте прошлого года конгресс США утвердил, а президент подписал закон о помощи экономике и гражданам на сумму 2,2 трлн долл. Управлять этими деньгами тоже будет Black Rock. Но как управлять?
Это управление, судя по всему, будет осуществляться в рамках так называемой системы ESG (Environmental, Social, Governance), то есть экономики «экологичной, социальной и управляемой» — новых стандартов бизнеса, которые официально пока нигде не утверждены, но на практике уже достаточно широко используются, а теперь будут внедряться как явочный порядок, «основанный на правилах». А правила намерены устанавливать те, кто в реальности правит США и Западом в целом.
Что такое «экологичная» экономика, мы уже достаточно хорошо знаем. Сейчас главным её направлением названа борьба с изменениями климата, под которыми подразумевается «глобальное потепление», якобы вызванное выбросом гигантского количества «парниковых газов» вследствие экономической деятельности человека, прежде всего — ископаемых энергоносителей. Вынося основное производство в страны «третьего мира», западные монополии уже не довольствуются сверхприбылями — они намерены штрафовать производящие страны за «углеродный след», на своей территории развивая и финансируя — за счёт доли от всё тех же сверхприбылей и штрафов — пресловутую «зелёную энергетику» и «зелёную экономику».
В этой связи следует заметить, что при Трампе США отказались исполнять условия Парижского соглашения по климату, поскольку данное соглашение противоречило MAGA-стратегии Трампа: «Сделать Америку снова великой!» за счёт возвращения на её территорию производственных цепочек ТНК и расширения добычи полезных ископаемых. Байден уже 22 января 2021 года, на второй день после своей инаугурации, дал команду начать подготовку вступления США в Парижское соглашение по климату, которое состоялось уже 19 февраля, меньше чем через месяц. А значит, всё здесь было уже подготовлено, проработано и решено заранее. Кстати, без всеамериканского локдауна из-за COVID-19, сведшего на нет все успехи Трампа в сфере экономики, победа Байдена была бы не сомнительной, а скорее всего, просто невозможной.
Но случилось то, что случилось, и теперь BlackRock, частная корпорация, будет оценивать те или иные экономические проекты, те или иные компании в США, во всем мире на предмет влияния их деятельности, предполагаемой или актуальной, на климат, открывать или закрывать им финансирование. Тем, кого сочтут «грязными» или «углеродными», в праве на будущее откажут. А тех, кто найдёт иные источники финансирования, в том числе со стороны национальных государств, будут давить «климатическими» санкциями и штрафами точно так же, как сейчас давят «политическими».
Примерно то же самое касается «социальной» экономики, в обязательном порядке учитывающей и защищающей права различных меньшинств: расовых, сексуальных и так далее. Корпорации и другие субъекты экономической деятельности, которые не гарантируют соблюдения этих прав, будут подвергаться такому же финансовому остракизму, что и «климатические диссиденты».
Таким образом, планируется обеспечить и третий принцип, принцип «управляемой экономики», который приходит на смену принятой в 1992 году в Рио-де-Жанейро декларации ООН, помимо «устойчивого развития» (ныне — Governance) также включавшей в себя «ответственность за окружающую среду» (ныне — Environmental) и «социальный прогресс» (ныне — Social). Весьма показательно, что любые намёки на прогресс и развитие в рамках EGS полностью убраны. И это не случайность, поскольку данная система, видимо, и должна стать практическим воплощением «инклюзивного капитализма», призванного заменить собой капитализм классического, либерального типа.
По всему миру уже создано более 700 специализированных фондов, которые выпускают облигации ESG. Эти фонды обязуются направлять мобилизованные денежные средства лишь в те проекты, которые отвечают критериям ESG. Постепенно складывается рынок устойчивых долговых обязательств (sustainability bond market). Если в 2013 году были профинансированы только ESG-проекты в сфере «зелёной энергетики» на сумму 15 млрд долл., то в 2020 году их финансирование достигло 520 млрд долл. (из них «зелёная энергетика» — 303 млрд долл., «социальная сфера» — 148 млрд долл., и «управляемая экономика» — 69 млрд долл.) Рост почти в 35 раз всего за семь лет! Прогноз на текущий год — до 650 млрд долл. (соответственно: 375, 150 и 125 млрд долл.), рост ещё на 25%, в пять с лишним раз выше, чем рост мировой экономики в целом.
Целями ESG-сектора становится уже не замедление «развивающихся стран», как было в «Декларации Рио», а, как отмечено выше, сокращение экономики и, соответственно, численности человечества ниже «порога возобновляемых ресурсов планеты».
Первая цель — резкое сокращение масштабов производственной деятельности. В «дивном новом мире» будущего, согласно замыслу его создателей, должно жить не более одного миллиарда людей (из них — один «золотой миллион» представителей глобальной элиты; остальные 999 миллионов — обслуга с минимальными стандартами потребления). У Бжезинского в его "Технотронной эре" (1970) это называлось переходом к «постиндустриальному обществу», а в докладах Римского клуба излагалось в виде рекомендаций по деиндустриализации. Римский клуб утверждал, что сокращение масштабов промышленности продиктовано тем, что биосфера не в состоянии больше выдерживать достигнутый уровень техногенных нагрузок.
Вторая цель — резкое сокращение количества субъектов экономической деятельности, дающей им средства к существованию. План «Великой Перезагрузки» заточен на то, чтобы в экономике оставались лишь немногие компании. Хотя Клаус Шваб открыто не говорил о том, что малый и средний бизнес подлежит зачистке, это вытекает из всех его рекомендаций. В «дивном новом мире» управлять экономикой будут глобальные корпорации. Ещё более откровенно об этой особенности будущей экономики, выстраиваемой в интересах «золотого миллиона», писал Жак Аттали в книге "Краткая история будущего" (2006): государства будут поощрять создание корпоративных гигантов, со временем глобальные корпорации возьмут верх над государствами и, в конце концов, уничтожат их. Те же тезисы повторил и 46-й президент США Джо Байден на своей недавней пресс-конференции, и госсекретарь Тони Блинкен, то есть это уже программа действующего политического руководства в крупнейшей стране Запада.
Для проведения подобной перезагрузки предусмотрен ряд инструментов: печатные станки центробанков; выделяемые через государственные бюджеты гигантские «пакеты помощи»; периодические блокировки экономической деятельности локдаунами; ослабление антимонопольного законодательства; введения новых правил игры на товарных и финансовых рынках и т. п. Бизнесу придётся проходить через фильтры ESG, и можно догадаться, что 90 или даже 99 процентов субъектов экономической деятельности (фирм, компаний, организаций) через эти фильтры не пройдут. Глобальная конкуренция должна привести к глобальной же супермонополии.
После того, как лидеры России и КНР не согласились присоединиться к этому процессу и объявили курс на дедолларизацию своих экономик, поскольку доллар — главный инструмент трансформации современного человечества, тот же Джо Байден объявил о начале новой мировой войны: демократий (то есть всех сил, согласных на «Великую Перезагрузку») против автократий (то есть тех, кто на «Великую Перезагрузку» не согласен). И это — война, к которой Россия сегодня категорически не готова.
До сих пор наши границы полностью открыты для движения капиталов. В результате российская экономика фактически управляется из-за рубежа через механизмы установления валютного курса рубля в зависимости от движения капиталов. Достаточно дирижёрам мировых финансов, типа того же BlackRock, дать команду капиталам «на выход!» — и курс рубля пойдёт вниз. А в случае команды «на вход!», всё будет наоборот. В этом плане усилия Центробанка регулировать курс рубля при помощи повышения-понижения ключевой ставки напоминают мне следующую ситуацию.
Представьте себе: зима, на улице минус 30. Загородный дом с котлом. Котёл исправен, работает нормально. У хозяйки дома есть возможность регулировать его мощность. Вопрос: можно ли поддерживать плюсовую температуру и вообще жить в таком доме, если там настежь открыты все двери и окна? Ответ: вряд ли. Чтобы не жечь лишнее топливо и сам котёл, нужно просто закрыть и двери, и окна. То есть закрыть границы, ограничить бесконтрольные трансграничные блуждания капитала и прекратить нынешний театр финансового абсурда, явно противоречащий национальным интересам нашей страны.
В противном случае нас быстро сомнут, оставив на территории России 10-15 млн «грязного» населения, зарабатывающего на жизнь экспортом «грязных» и подсанкционных энергоносителей.

НОВЫЙ ВЕК ПРОТЕКЦИОНИЗМА
ГЕНРИ ФАРРЕЛЛ
Профессор Института Агоры при Фонде Ставроса Ниархоса на факультете передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса.
АБРАХАМ НЬЮМАН
Профессор на факультете внешней службы имени Эдмунда А. Уолша, а также на факультете государственного управления в Джорджтаунском университете.
«ВОЙНЫ ВАКЦИН» ОТ КОРОНАВИРУСА МОГУТ ПРЕДВЕЩАТЬ БОЛЕЕ ШИРОКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ СВОБОДНОГО РЫНКА
Великобритания и США первыми взяли на вооружение новую и беспощадную торговую политику: граждане хотели получить вакцины, и их правительства предприняли все усилия для того, чтобы снабдить их ими, чего бы это ни стоило. Китай и Россия пошли в другом направлении – они используют вакцины в качестве инструмента международного влияния. Эти решения уже начали менять траекторию глобализации, которая когда-то казалась предрешённой.
Недавно британский премьер-министр Борис Джонсон предупредил о грядущей «войне вакцин от коронавируса», в которой Великобритания будет противостоять Европе. Несколькими днями ранее ЕС ввёл меры, призванные остановить поставки вакцины производства компании AstraZeneca в страны, которые отказываются от экспорта вакцин, в частности в Великобританию. Комиссар Евросоюза Тьерри Бретон сказал, что «ни одна доза вакцины» не пересечет Ла-Манш до тех пор, пока Великобритания не изменит своей позиции по экспорту вакцин, добавив, что пока «нет предмета для переговоров».
Предлагаемые Евросоюзом ограничения экспорта означают резкую смену курса. До недавнего времени Европейская комиссия, исполнительный орган Евросоюза, была одним из самых громких голосов мирового сообщества в поддержку открытой торговли. Она много лет противодействовала праворадикальным популистам, таким, как бывший президент США Дональд Трамп, скептически настроенным в отношении свободной торговли, и многие на левом фланге считали её управление по торговле одним из командных штабов так называемого неолиберализма. Теперь же Еврокомиссия отстаивает что-то вроде «реверсного протекционизма», при котором страны не препятствуют импортным потокам, но не допускают экспорт критически важных товаров.
Внезапный уход Европы с мировых рынков вписывается в более широкий мировой сдвиг, спровоцированный пандемией. Великобритания и США первыми взяли на вооружение новую и беспощадную торговую политику: граждане хотели получить вакцины, и их правительства предприняли все усилия для того, чтобы снабдить их ими, чего бы это ни стоило. Лондон и Вашингтон опирались на конфиденциальные договоры с производителями вакцин, а Вашингтон ещё и на полномочия, предоставленные ему Законом об оборонном производстве, чтобы де-факто вводить запреты на экспорт вакцин. Если посмотреть на другие страны, то Китай и Россия пошли в другом направлении, но также активно продвигали свои интересы. Эти две страны используют вакцины в качестве инструмента международного влияния.
Эти решения уже начали менять траекторию глобализации, которая когда-то казалась предрешённой. Когда на кону оказался доступ к вакцинам и интересы государственной безопасности, богатые демократические правительства отбросили либеральные рыночные принципы в пользу агрессивных ограничений, нацеленных на удовлетворение внутриполитических требований. Их своекорыстное поведение разваливает альянсы и делает открытое государственное вмешательство новой нормой, причём это вмешательство достигает невиданных в новейшей истории пропорций. В будущем другие страны могут начать защищать свои интересы аналогичным образом, отступая от общепринятых в мире правовых норм, которые, как им кажется, направлены против их интересов.
Непреднамеренные последствия
Действенные вакцины от COVID-19 – это научное чудо, но оно имеет неприятные побочные последствия для политической сферы. Проблема довольно очевидна: в течение следующих двух лет гораздо больше людей будут готовы обнажать руку для получения укола вакциной, чем количество произведённых доз. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация с вирусом, предложение может отставать от спроса примерно до 2022 или даже 2023 года. Это означает, что людям слишком долго придётся находиться в подвешенном состоянии, когда на карту будет поставлена их жизнь и средства к существованию.
Нехватка вакцины уже стала причиной неприглядного поведения. На первом этапе любые попытки координировать мировое производство провалились, потому что богатые страны демонстрировали нежелание вписываться в такую систему сотрудничества, которая бы ограничивала их способность обеспечивать своих граждан вакциной в достаточном количестве. В начале пандемии Великобритания и США выдвинулись на передовые позиции, размещая крупные заказы на производство вакцин у ведущих фармацевтических компаний мира и авансируя их, чтобы получить преимущественное право на производство и поставки вакцин для своих граждан. И лишь спустя многие месяцы, развитые страны, наконец-то, обещают долгосрочное сотрудничество и помощь через Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX) – инициативу, спонсируемую Всемирной организацией здравоохранения. Но эти благородные обязательства шли рука об руку с беспощадным краткосрочным произволом.
В отличие от этих двух стран, ЕС двигался медленнее – в основном, из-за сложной внутренней политики. В начале пандемии страны – члены ЕС сталкивались друг с другом из-за нехватки средств личной защиты, и Союз, в конце концов, ввёл несколько временных запретов на экспорт. После этого катастрофического опыта блок договорился о принятии общей стратегии вакцинирования и поручил Европейской комиссии провести переговоры с фармацевтическими компаниями от имени всех стран-членов. Однако между многими правительствами оставались разногласия по важным вопросам, включая стоимость вакцин. Некоторым вовсе не улыбалось платить за дорогие вакцины, производимые в богатых странах, например, в Германии, и многие министерства здравоохранения стран-членов не были готовы делегировать свои полномочия по контролю за качеством препаратов.
Вследствие организационной неразберихи, у Европейского союза в итоге оказалось гораздо меньше вакцин для граждан, чем он рассчитывал. Отчасти это было следствием невезения: Брюссель сделал серьёзную ставку на французского фармакологического гиганта Sanofi, но его программа разработки вакцины провалилась. Политические междоусобицы тоже не помогли. ЕС надеялся, что вакцина AstraZeneca, разработанная исследователями Оксфордского университета, будет дешёвой и эффективной. Эти надежды в целом оказались оправданными, но в феврале компания объявила, что не сможет уложиться в оговоренные сроки поставки вакцин в ЕС. Европейская комиссия осудила эту компанию и непрозрачно намекнула на то, что AstraZeneca поставляет вакцины, предназначавшиеся для Европы, в Великобританию.
Эти неудачи и препоны усугубили реальную проблему ЕС: его решение оставаться приверженным глобальным рынкам в тот самый момент, когда Лондон и Вашингтон освободились от этой зависимости. Формально ни Великобритания, ни Соединённые Штаты не вводили запрет на экспорт, но обе стороны без лишней шумихи фактически заблокировали экспорт с помощью контрактов. США также воспользовались Законом об оборонном производстве, позволявшим американскому правительству заставлять частные компании ставить на первое место потребности внутреннего рынка. В отличие от них, европейские предприятия по-прежнему были тесно связаны с глобальными рынками, производя десятки миллионов доз вакцин и поставляя их по контрактам в другие страны мира. До тех пор, пока ЕС не предпринял решительных мер в конце марта, европейские компании были свободны продавать вакцины по всему миру, тогда как американские и британские компании поставляли вакцины для граждан своих стран. Однако растущее давление со стороны электората подталкивает Европу в направлении протекционизма.
Нельзя перекладывать ответственность на других
Демократически настроенные политики в Брюсселе, Лондоне, Вашингтоне и других странах реагируют на радикальный сдвиг в политической мотивации. На протяжении десятилетий они верили, что могут, ничем не рискуя, делегировать полномочия по принятию важных экономических решений, касающихся балансировки спроса и предложения, глобальным рынкам и международным технократам. Хотя правительства определяли стандарты безопасности для фармацевтических компаний и иногда торговались о ценах, когда речь шла о государственных программах здравоохранения, они оставляли главные аспекты управления цепочкой поставок частному сектору.
Но теперь, в условиях пандемии, граждане считают, что политические лидеры несут прямую ответственность за любые сбои в этой системе. Политикам не удаётся избавиться от навязчивых мыслей о договорах на закупку жизненно важных препаратов и о сложностях глобальных цепочек поставок вакцин, хотя раньше они безбоязненно перепоручали эту задачу другим. Если они стремятся к переизбранию или переназначению на свои посты, им нужно обеспечить приемлемый результат, что в нынешних условиях означает непосредственное руководство сложным процессом закупки, хранения и транспортировки вакцин, а также гарантии населению, что все желающие получат инъекцию. Промахи вроде подписания договоров на поставку вакцин с производителями, срывающими сроки, могут обернуться для чиновников, находящихся на выборных должностях, потерей работы.
Этот новый политический климат помогает понять, почему демократически избранные лидеры так неохотно отправляют вакцины за рубеж. Например, ЕС долго не решался признать, что экспортирует десятки миллионов доз, обеспокоенный тем, что эта новость вызовет негодование у европейцев, отчаянно нуждающихся в вакцинах, но не получающих их. Со своей стороны, США располагают десятками миллионов доз вакцины AstraZeneca, которые могут им не понадобиться, поскольку американские законодатели до сих пор не дали добро на использование этой вакцины. Вместе с тем чтобы начать поставки вакцины в Мексику, Соединённые Штаты добились уступок со стороны мексиканского правительства, и к экспорту вакцины южному соседу их также подтолкнул усиливающийся гуманитарный кризис на американо-мексиканской границе. Вашингтон до сих пор не предоставил вакцину своим европейским союзникам, несмотря на их многократные просьбы.
Автократические правители, напротив, больше оторваны от потребностей народа. Они гораздо охотнее, чем демократии, используются вакцины в качестве инструмента влияния. Несмотря на неясные данные об эффективности вакцины «Спутник V», России удалось убедить Венгрию и Словакию одобрить её применение (что спровоцировало политический кризис в Словакии). В свою очередь, Китай экспортировал свою вакцину «Синовак» в страны Африки, Азии, Европы и Латинской Америки, и Пекин только что объявил о новой визовой политике для туристов, вакцинированных китайской вакциной. Хотя демократии дают отпор, они не готовы предложить в качестве альтернативы собственные готовые к применению вакцины.
Влиятельные силы
Наверное, внутренние междоусобицы между демократическими странами вскоре утихнут. Если не случится какой-либо непредвиденной катастрофы, ЕС должен иметь к концу июня от 300 до 350 млн доз вакцин. Такой запас ослабит решимость Еврокомиссии продлевать экспортные ограничения, которые нанесли бы урон экономическим и политическим отношениям ЕС с другими странами и нарушили бы цепочки поставки будущих вакцин.
Но, несмотря на это, контроль экспорта будет иметь долгосрочные последствия. Политики сегодня понимают, что доступ к вакцинам крайне важен для национальной безопасности и что международные поставки ненадёжны в период кризиса. Это понимание перестроит отношения между могущественными странами. По мнению Адара Пунаваллы, генерального директора Института Серума, главного производителя вакцин в Индии, «почти любая страна сегодня хочет наладить производство вакцин, чтобы никогда больше не зависеть от иностранных поставщиков». Более того, исследователи выявили «вакцинный клуб», в который входят тринадцать стран, играющих ключевую роль в производственных сетях. Каждая из них, несомненно, желает наращивать свои производственные мощности, чтобы другие члены клуба не могли угрожать ей. Страны, не входящие в этот элитарный клуб, но имеющие достаточный вес в мировой экономике, вероятно, попытаются присоединиться к нему.
Однако самые важные вопросы тревожат тех, кто находится за рамками этого клуба и не имеет шансов войти в него. Склоки между могущественными и влиятельными странами заслонили колоссальные трудности, с которыми сталкиваются слабые страны, вообще не имеющие доступа к вакцинам. Богатые страны, заключившие соглашения с производителями лекарств на особых условиях, быстро опередили COVAX в гонке за вакцинами, и сегодня Фонд изо всех сил старается обеспечить развивающийся мир вакцинами в любых масштабах до 2022 года. Недавно Вашингтон объявил, что работает вместе с Австралией, Индией и Японией над тем, чтобы увеличить производство вакцин (и, видимо, над нейтрализацией влияния Китая), и это, безусловно, позитивное известие. И всё же США не желают делиться вакцинами, пока не закончится вакцинация американских граждан. Индия также изменила свою позицию и временно заблокировала экспорт вакцин, разработанных институтом «Серум», предназначенных для Глобального фонда доступа к вакцинам и для Великобритании.
Даже если США ослабят свою жёсткую хватку и выразят готовность делиться вакцинами, их щедрость будет иметь очевидные ограничения, равно как и щедрость Великобритании и ЕС. Могущественные страны могут ссориться по поводу распределения вакцин в краткосрочной перспективе; однако они договариваются о долгосрочном распределении политической и экономической силы. В марте крупная коалиция развивающихся стран призвала Всемирную торговую организацию отказаться от международных требований защиты интеллектуальной собственности в отношении вакцин, что в принципе могло бы позволить им наладить собственное производство вакцин. Великобритания, США и ЕС были против этого шага и тем самым сделали невозможным какое-либо соглашение. Маловероятно, что западные державы согласятся каким-то образом ограничить свою грубую политико-экономическую силу, которая позволяет им накапливать запасы медицинских препаратов и вакцин, чтобы использовать их для граждан своих стран, даже если это поставит под угрозу производство вакцин для развивающегося мира.
Невидимая рука
Недавно проявленная Евросоюзом склонность к реверсному протекционизму (в отношении экспорта, но не импорта) вскрыла скрытую борьбу за власть и влияние. Эта борьба выходит далеко за пределы битвы за вакцины; она разоблачает фундаментальные проблемы с глобализацией, которые трудно закамуфлировать. Государства сегодня рассматривают мировую экономику как источник уязвимости и роста одновременно – как площадку, на которой можно ограничить собственную зависимость, при этом эксплуатируя слабости своих оппонентов. Геополитика медленно выдавливает свободные рыночные отношения из мировой повестки. Хотя автократии и богатые демократии могут выживать и даже процветать в этом новом мире, более слабые и бедные страны должны решить, как им защитить свои интересы.
Конечно, власть (сила) и своекорыстные интересы всегда тайно угрожали мировой экономике. Свободная торговля всегда шла рука об руку с правилами разрешения споров между инвесторами и защиты интеллектуальной собственности, которые редко стояли на страже интересов менее могущественных и влиятельных стран. Но по мере того, как сила и своекорыстные интересы всё более явно выходят на поверхность, преимущества нынешней системы международных отношений уменьшаются. Бедные государства будут искать способы защитить свои интересы любыми способами и могут начать отказываться от соблюдения мировых правил о защите интеллектуальной собственности, которые мешают им реагировать на чрезвычайные обстоятельства и налаживать собственное производство необходимых препаратов, вакцин и других благ. Могущественные страны способны смириться с этим или же прибегнуть к принуждению, чтобы так или иначе добиться своего. Так называемые вакцинные войны, о которых предупреждал Джонсон, в действительности представляют собой кратковременные склоки внутри небольшого клуба могущественных государств. Вопрос лишь в том, являются ли эти склоки первым залпом, знаменующим возникновение более глобального пожарища, которое распространится на всю мировую экономику.

Николай Петренко: «Нам очень повезло, что пандемия происходит именно сейчас, когда у нас есть современные коммуникационные технологии»
По его мнению, компании, которые быстро и эффективно адаптировали новые технологии в свои бизнес-процессы, выиграют в перспективе
Эксперт Cisco по решениям для совместной работы Николай Петренко рассказал о том, как изменился офис из-за перехода на дистанционную работу, почему будущее за корпоративными коворкингами и как заставить участников видеоконференций придерживаться регламента.
Николай, какие главные изменения, может быть, какие-то сломы в сознании произошли в отношениях бизнеса и «офиса» в пандемийный год?
Николай Петренко: Компании по всему миру, во многом вынужденно, встали на путь трансформации. Поверили, что сотрудники в свое рабочее время могут работать, находясь не в офисе, а где угодно. Для кого-то эти перемены стали болезненными, кто-то был к ним уже морально и технологически готов, но сегодня все ведущие аналитики мира и представители крупнейшего бизнеса говорят о том, что будущее за гибридным офисом, когда сотруднику разрешается работать некоторое количество дней из дома или откуда он захочет, и у него есть возможность приехать в офис и в комфортной обстановке заняться задачами, которые требуют живого общения или использования специального оборудования, которое есть в офисе.
Мы начали разговор с бизнеса, но в этих отношениях бизнес — сотрудник — офис не один участник, это такой любовный треугольник. Как изменилась в этом треугольнике роль сотрудника, изменилось ли восприятие сотрудником офиса и необходимости бывать в нем, изменилось ли отношение сотрудника к удаленной работе? Что об этом говорят те данные, которыми вы располагаете?
Николай Петренко: Это двустороннее движение: с одной стороны, бизнес думает, как адаптировать свои затраты, свои бизнес-процессы к новой реальности. Но делает он это не сам по себе, а во многом под давлением сотрудников, которые в своей массе поняли преимущества удаленной работы, когда им нет необходимости неэффективно тратить время на поездку в офис. У них дома сформировалась вполне комфортная среда для работы. Они смогли себе такие условия создать и теперь хотят, чтобы работодатель предложил более гибкие правила игры.
Лучшие соискатели ожидают от своего работодателя возможности работать в формате гибридного офиса.
Что говорит третья вершина этого треугольника? Как владельцы офисных площадей и создатели офисных центров отреагировали на пандемию? Видим ли мы какие-то сдвиги в их отношении и к арендаторам, и к сотрудникам арендаторов?
Николай Петренко: Они были вынуждены отреагировать. Первая волна пандемии привела к тому, что люди массово из офисов ушли. Компании попытались оптимизировать затраты на аренду площадей и так далее. Владельцы бизнеса пересматривают подходы к тому, какие площади будут им нужны для того, чтобы удовлетворить потребности своих сотрудников.
Владельцы недвижимости, предоставляющие офисы в аренду, переформатируют свой бизнес. Многие из них выбирают формат корпоративных коворкингов, когда пространство коворкинга предоставляется не физическим лицам или малым компаниям, а сдается большими кусками крупному бизнесу. Но теперь этот крупный бизнес не сконцентрирован в одном большом офисе где-то в центре города. Он может быть распределен между несколькими коворкингами высокого класса на территории города. Тем самым мы обеспечиваем сотруднику возможность быстрее добраться до офиса своей компании. Логистика упрощается, эффективность растет. Это те изменения, которые идут со стороны компаний, предоставляющих офисные пространства.
Если говорить о бизнесе, он выигрывает или проигрывает от новых правил игры в области организации работы из дома и из офиса?
Николай Петренко: Я бы сказал так: бизнес адаптируется, и те, кто делает это быстрее и грамотнее, — могут выиграть. По умолчанию, любое изменение, навязанное внешней средой, воспринимается как трудность, как затраты, потому что приходится менять бизнес-процессы. Но компании быстрые, компании, готовые к переменам с точки зрения цифровизации своих бизнес-процессов и — очень важный момент! — культуры, эти компании оказываются в выигрыше.
Бизнес адаптируется, и наиболее продвинутые представители делового сообщества от этого выиграют. Они смогут оптимизировать затраты на офисы. Возможно, они сократят площади, возможно, оставят ту же площадь, но переделают ее таким образом, чтобы меньшему количеству сотрудников было комфортнее там находиться, — тем самым они выиграют в эффективности своих бизнес-процессов и возможности привлекать лучшие кадры за счет того, что у них будут лучшие условия труда.
Вы сказали, что сейчас лучшие, наиболее привлекательные для бизнеса кандидаты настаивают на возможности гибридного офиса, на возможности частичной работы из дома. Очевидно, не лучшие — не настаивают. Есть ли какое-то расслоение между сотрудниками в отношении к гибридному офису, удаленному офису, работе из дома?
Николай Петренко: Я думаю, многое связано с возможностью или невозможностью конкретного человека организовать комфортные условия труда у себя дома. Насколько ему удобно в таком стиле работать. Задача работодателя — дать ему такой выбор. Не могу сказать, что это однозначно связано с лучшими или худшими кадрами…
Лучшие кадры, очевидно, диктуют свою политику. Они понимают, что в сложившейся ситуации могут претендовать на позиции в любом городе и любой стране. Современные технологии совместной работы это позволяют. Изменения на рынке труда, рост запроса на удаленные коммуникации и совместную работу стали серьезным стимулом для всех ключевых игроков — и для Cisco в том числе. Мы очень много инвестировали в разработку, в появление новых функций, новых продуктов, изменение ценовой политики. За прошедший год коммуникационные сервисы стали значительно более качественными и доступными для активного использования бизнесом.
Очевидно, изменившиеся правила игры потребуют и нового подхода к инструментарию, с помощью которого сотрудники общаются, работают, проводят совещания, брейнштормы, обмениваются информацией. Как сейчас выглядит набор инструментов, который необходим для гибридной работы, для работы из гибридного офиса? Какие решения предлагает Cisco и чем этот набор отличается от того, что было раньше?
Николай Петренко: В момент старта пандемии все платформы коммуникаций испытали взрывной рост нагрузки. Многие компании и их сотрудники были вынуждены использовать публичные и бесплатные сервисы: публичные мессенджеры, публичные платформы конференций и так далее. Но то, что отлично работает при личном использовании, не всегда хорошо для корпоративной среды. Происходит смешение личной и корпоративной переписки. Есть вопросы к информационной безопасности и удобству использования именно для работы.
В момент выхода из пандемии и планирования долгосрочной IT-инфраструктуры для крупного бизнеса мы в Cisco рекомендуем рассматривать корпоративные инструменты. В нашем случае это платформа Webex — сервис, объединяющий в себе корпоративный мессенджер, который может быть интегрирован с инфраструктурой компании, с ее списком контактов, календарем и так далее. Эта же платформа может взять на себя функции корпоративной телефонии, чтобы сотрудник, находящийся в режиме домашнего офиса, мог без проблем сделать звонок своему клиенту либо получить телефонный звонок от своего коллеги из офиса. И, конечно, это платформа онлайн-коммуникаций, видеоконференций для того, чтобы коллеги могли собраться на внутреннюю встречу проектной группы, они могли провести онлайн-встречу с подключением гостя по обычной ссылке, презентовать продукт клиенту, провести совещание… Все эти три сценария реализуются на базе платформы Webex.
Давайте обсудим офисное пространство и то, какие возможные технологические решения позволяют это офисное пространство подготовить к гибридной работе и использовать его более эффективно?
Николай Петренко: Пока у компаний есть еще небольшое окошко возможностей с точки зрения подготовки возвращения людей в офисы. Об этом надо начинать думать. Все аналитики сходятся во мнении, что нагрузка на переговорные комнаты в офисах возрастет. Будет увеличиваться количество переговорных комнат, и, скорее всего, их размер будет уменьшаться. Для того чтобы правильно спрогнозировать необходимое количество площадей, нужны соответствующие средства.
То, что мы делаем в компании Cisco, — это развитие нашей линейки оборудования для переговорных комнат, для видеосвязи, которое позволяет не только собраться и на высоком качестве провести переговоры, но и дать службам, отвечающим за развитие офиса, объективную информацию о том, сколько людей находятся в переговорной комнате, какой там уровень фонового шума, какое качество воздуха в этом помещении. Это позволяет динамически менять структуру офиса в соответствии с потребностями компании.
Например, переговорная комната рассчитана на 8 человек, а в ней в среднем присутствует 20. В такой обстановке невозможно работать. Или, наоборот, конференц-зал на 30 человек, а в нем в среднем 5 человек. А в это время 10 сотрудников никак не могут собраться на совещание, потому что не хватает переговорных комнат.
Следующее направление развития — это оптимизация и упрощение бронирования переговорных комнат: упрощение доступа к этой информации и простое бронирование одной кнопочкой на консоли около двери.
Мы все время говорим про офис, а гибридная работа предъявляет дополнительные требования — новые требования — и к организации второго рабочего места, второго рабочего пространства дома, где человек проводит большую часть рабочего времени. Какие тенденции вы здесь видите, какие решения вы предлагаете?
Николай Петренко: Домашний офис превратился в часть офиса обычного, поэтому требования к качеству аудио- и видеосвязи из дома такие же, как если бы сотрудник находился на деловых переговорах в офисе. Но к этому добавляется вопрос с приватностью, потому что мы находимся в своих квартирах, нам нужно думать о том, что может попасть в кадр, о том, какие нас окружают звуки и внешние шумы.
Мы в Cisco уделяем этому большое внимание. У нас есть как программные, так и аппаратные решения для того, чтобы сформировать качественную среду, качественный домашний офис. К примеру, на платформе Cisco Webex при звонках или участии в конференции вы можете использовать встроенную функцию шумоподавления для улучшения качества звука. Ставшая стандартом качества функция виртуального фона, позволяет скрыть все, что находится за спиной.
Мы запускаем новые продукты. Cisco предлагает клиентам гарнитуры, в том числе с аппаратным шумоподавлением. Мы начинаем поставлять клиентам веб-камеры, в том числе для домашнего использования, которые очень хорошо работают в условиях недостаточной освещенности.
Николай, как изменился деловой этикет, как изменились практики ведения переговоров в связи с наступлением пандемии и более активным использованием удаленной работы? Какие перемены вы тут видите и какие решения можете предложить?
Николай Петренко: Большее количество людей, в том числе и топ-менеджмент, стали активно использовать видеосвязь. Категории управленцев, которые до этого предпочитали только личные встречи, в какой-то мере вынужденно, стали использовать видеосвязь и поняли, что это на самом деле работает! Включение камер является важнейшим элементом любой онлайн-встречи. Когда человек не включает камеру, он позволяет себе заниматься какими-то параллельными делами. Это часть культуры, которая в крупных компаниях прививается руководителями. Они требуют от своих подчиненных включения камер и считают это частью рабочего процесса.
Другой момент, связанный тоже с культурой проведения деловых переговоров, — это корректное бронирование времени, корректный тайм-менеджмент для себя, для своих коллег. Мы теряем некие границы между личным временем и временем рабочим, мы теряем границы, обозначающие конец одной встречи и начало следующей. Новый уровень развития культуры связан с тем, чтобы мы более бережно относились к времени своих коллег. Когда мы приглашаем их на виртуальные встречи, мы обязательно оставляем возможность сделать перерыв, передохнуть между звонками.
В Cisco мы планируем запустить новую функцию в наших конференциях. Это шаблоны видеовстреч, когда время проведения и даже время выступления каждого из участников будет строго регламентировано. Чтобы никто не мог захватить микрофон, скажем так, и бесконечно что-то рассказывать. Каждый участник получит свои несколько минут, и будет соблюден временной регламент встречи.
Давайте обсудим вопрос интеграции новых каналов коммуникации с бизнес-процессами компании. Прежде всего, это продажи и сервис. Какие способы интеграции существуют и какие решения вы предлагаете?
Николай Петренко: На мой взгляд, интеграция бизнес-процессов в коммуникационную среду — это высший пилотаж, когда компания настолько глубоко продумывает и прорабатывает свои коммуникационные процессы, что может включать их в бизнес.
Это могут быть продажи, когда руководитель отдела продаж получает информацию о сделке не в CRM-системе, а в мессенджере. И чат-бот предоставляет ему всю необходимую фактуру, параметры проекта и спрашивает, согласовать или не согласовать. Для согласования достаточно нажать одну кнопочку. Мы не заставляем ключевого сотрудника тратить время на использование сторонних приложений, притом, что именно CRM-система, в конечном счете, и фиксирует все изменения.
Это касается и системы управления проектами. В корпоративном мессенджере Webex есть набор готовых интеграций с наиболее популярными на рынке платформами, управляющими разработкой и проектами. Готовая интеграция может быть подключена в групповой чат, чтобы все сотрудники получали уведомления о вновь открытой заявке, о ее изменениях, могли из дома фиксировать все изменения в системе управления проектами, просто отвечая на короткий вопрос боту.
Это важнейшая история, которая влияет на скорость проведения рутинных операций и, в конечном итоге, освобождает время сотрудника для более производительной работы.
Мы сегодня говорили о гибридном офисе, изменении бизнеса, о том, как бизнес подстраивается под новые требования, которые предъявляются к офисному пространству, как перестраиваются сотрудники и технологические компании. Эти перемены в целом, если смотреть на них сверху, во благо или, наоборот, для бизнеса, для общества, для экономики в целом? Переход к гибридной модели делает мир лучше или, может быть, если не хуже, то, как минимум, сложнее?
Николай Петренко: Я думаю, что это, конечно, больше благо. Нам очень повезло, что пандемия происходит именно сейчас, когда у нас есть подобные возможности, подобные технологии. Сложно представить, насколько драматичными могли быть последствия для бизнеса при отсутствии современных коммуникационных технологий. Буквально за несколько недель или месяцев бизнес по всему миру смог перестроиться и продолжить работу.
Технологии стали использоваться активнее, произошло массовое внедрение облачных технологий, переход к корпоративным, защищенным платформам вместо публичных систем. Все это принесет в перспективе значительную пользу тем компаниям, которые быстро и эффективно адаптировали новые технологии в свои бизнес-процессы.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ БЕЗУМИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ГОНКИ, США И КИТАЮ СТОИТ ИЗУЧИТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
ЧЖОУ БО
Старший полковник в отставке, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа, эксперт China Forum.
Соперничество – часть человеческой натуры, но пытаться разместить на орбите оружие, чтобы атаковать Землю и уничтожить противников, будет безумием. Астронавт Майкл Коллинз как-то сказал, что политикам стоит посмотреть на нашу планету с расстояния 160 тысяч километров, чтобы изменить свои взгляды.
Сегодня мы с интересом следим за тем, как за один месяц на Марс прибыли три визитёра с Земли. Сначала, 9 февраля, прилетела межпланетная станция ОАЭ под названием «Аль-Амаль» («Надежда»), через день китайский аппарат «Тяньвэнь-1» вышел на орбиту Марса, а 18 февраля на поверхности Красной планеты совершил посадку новейший марсоход НАСА «Персеверанс». Почему страны не могут объединить свои ресурсы и знания для решения невероятно сложных и дорогих, титанических задач?
В космическом пространстве все вопросы сводятся в итоге к двум темам: мирное использование и демилитаризация космоса. Первая звучит многообещающе, но реальный вызов всё же представляет вторая. Министр обороны США Ллойд Остин назвал космос «ареной конкуренции великих держав».
Но в период холодной войны США и СССР удавалось сотрудничать по проекту «Союз – Аполлон», который стал первым международным партнёрством в космосе. 17 июля 1975 г. американский космический корабль «Аполлон», запущенный двумя днями ранее, пристыковался к советскому «Союзу».
К сожалению, между Китаем и США, двумя крупнейшими экономиками мира, такое невозможно. Поправка Вулфа ограничивает возможности правительственных ведомств США, включая НАСА, сотрудничать с китайскими коммерческими и государственными структурами. Тем не менее процветающий Китай может позволить себе инвестиции в собственную космическую отрасль, которая будет автономной и устойчивой.
В некоторых сферах Китай уже опередил США. Китайский сферический телескоп с 500-метровой апертурой – больше, чем у сферического рефлектора в американской обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико, – сегодня является крупнейшим в мире. 1 декабря 2020 г., когда китайский лунный зонд совершил посадку на спутнике Земли, телескоп в Аресибо разрушился из-за упавшего облучателя антенны.
В отличие от Вашингтона, не допускающего китайских астронавтов на МКС, Пекин настроен более открыто по поводу сотрудничества с другими странами в космосе.
Пекин высказывался о готовности поделиться пробами лунного грунта с учёными и международными институтами, так как космос принадлежит всем. В меморандуме ООН говорится, что китайская космическая станция, которая должна быть завершена в 2022 г., будет использоваться для международных научных экспериментов и полётов астронавтов из разных стран.
Срок эксплуатации Международной космической станции завершится в 2024 году. Продление её жизни до 2030 г. было одобрено американским Сенатом, но застряло в Палате представителей. После этого китайская космическая станция может остаться единственной на орбите. Попросят ли американцы Пекин о сотрудничестве тогда?
Избежать милитаризации космического пространства – высокая цель, но в этом случае говорить проще, чем сделать. Договор о космосе 1967 г. запрещает размещение оружия массового уничтожения на орбите, создание военных баз, проведение испытаний любого вида оружия или военных учений на Луне и других небесных телах.
С 1980-х ООН неоднократно проводила дебаты о недопущении гонки вооружений в космосе. Но до сих пор страны не условились о новом договоре. В 2018 г. США проголосовали против четырёх резолюций ООН, требовавших не допустить гонки вооружений в космическом пространстве и не размещать первыми вооружение на орбите.
Как определить, что такое космическое оружие и милитаризация космоса, – отдельная проблема. Большинство космических технологий по своей сути имеют двойное назначение, то есть могут использоваться в военных и мирных целях. Даже спутник, проходящий слишком близко к другому спутнику, может представлять угрозу. Лазеры, радиоэлектронные помехи, направленное энергетическое оружие, киберинструменты – всё это может блокировать работу спутников.
Разница в интерпретации не должна стать непреодолимым барьером, если все государства признают: в космической гонке вооружений победителей не будет. США, Китай, Россия и Индия успешно провели противоспутниковые испытания. В этом смысле Соединённые Штаты более уязвимы, чем другие страны – у них больше гражданских и военных объектов в космосе, которые могут подвергнуться потенциальной атаке противников.
Пекин тоже уязвим. За последние три года Китай совершил больше ракетных запусков, чем любая другая страна. В космосе становится тесно. За один запуск в январе SpaceX Falcon 9 вывел на орбиту 143 небольших спутника, в ближайшие десять лет в космос будут отправлены тысячи новых. Все страны заинтересованы в безопасности космического пространства.
Уроки холодной войны могут оказаться полезными. В тот период осознаваемое взаимное уничтожение помогало не допустить глобальной ядерной войны. Но концепция сформировалась только после того, как Вашингтон и Москва поняли, что не смогут воспользоваться преимуществом друг над другом в гонке вооружений, а стратегическое равновесие, даже основанное на страхе, лучше любой войны.
Точно так же для решения проблемы милитаризации космоса, вероятно, нужно признать взаимную уязвимость ведущих космических держав, что в конечном счёте приведёт к выработке договора о неразмещении оружия в космическом пространстве.
Если противники могли сотрудничать в период холодной войны, почему это невозможно сегодня? Администрация Байдена, к счастью, пошла на продление договора СНВ-3, который, помимо прочего, запрещает странам вмешиваться в работу национальных технических средств, используемых для мониторинга выполнения соглашения. В том числе имеются в виду спутниковые разведывательные системы.
Сотрудничество Китая и США по отдельным гражданским космическим проектам привлечёт другие страны и позволит объединить усилия в освоении космоса. Это возможно. Во время китайской лунной миссии в 2019 г. НАСА получило одобрение Конгресса на взаимодействие с Национальным космическим управлением Китая и следило за посадкой зонда на неосвещённой стороне Луны с помощью своего лунного орбитального аппарата.
Соперничество – часть человеческой натуры, но пытаться разместить на орбите оружие, чтобы атаковать Землю и уничтожить противников, будет безумием. Астронавт Майкл Коллинз как-то сказал, что политикам стоит посмотреть на нашу планету с расстояния 160 тысяч километров, чтобы изменить свои взгляды. Что они увидят? «Жизненно важные границы окажутся незаметными, и этот резонансный аргумент вдруг потеряет актуальность».
Центр международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

























