Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Технический рай, социальный ад…
Чем завершится эпоха раздражения?
Опубликовано в журнале Вестник Европы, номер 55, 2021
Михаил Эпштейн — филолог, философ, эссеист, профессор теории культуры и русской литературы университета Эмори (Атланта, США). Основные темы исследований: методология гуманитарных наук, философия культуры и языка, поэтика русской литературы, постмодернизм, семиотика повседневности, проективная лингвистика, перспективы развития метафизики и теологии. Автор 40 книг и более 1000 статей и эссе, работы переведены на 25 иностранных языков.
Техно-футуристический сценарий
Еще совсем недавно будущее рассматривалось прежде всего как поле сотрудничества или состязания двух разумов: естественного и искусственного. Большинство футурологов склонялось к победе искусственного разума, который постепенно интегрирует в себя человеческий и поведет за собой цивилизацию, оставляя для нашего биологического вида сужающееся поле свободы в выборе развлечений, в художественном творчестве, религиозных исканиях. Разногласия касались в основном того, насколько сам человек, усовершенствованный как киберганизм, сможет вобрать искусственный интеллект в свой «дополненный» мозг и путем техно-генетических модификаций обрести физическое бессмертие. Или же судьба «неусовершенствованного» человека — стать обитателем ноопарков будущего, вполне благоустроенных территорий, похожих на нынешние заповедники, зоопарки и ботанические сады для обитателей биосферы?
Илон Маск уверен, что цифровая интеллектуальная революция произойдет в ближайшие годы. «Мы стремительно продвигаемся к созданию цифрового суперинтеллекта, который намного превосходит любого человека, я думаю, что это довольно очевидно, — сказал Маск. — У нас есть лет пять»[1]. Маск пошел еще дальше и назвал человечество «биологическим загрузчиком для цифрового разума. К сожалению, это все более и более вероятно»[2].
Некоторые пророки такого «постчеловеческого» будущего, например, изобретатель и футуролог Рэй Курцвейл, воспринимают его с оптимизмом, прогнозируя к 2045 г. «технологическую сингулярность», когда мощность компьютерных программ превысит совокупную вычислительную мощность человеческого разума. В результате эволюция разума приобретет взрывной характер, поколения самообучающихся программ будут стремительно сменять друг друга. Традиционное представление о линейном ходе истории, творимой медленно, биологически обусловленной сменой человеческих поколений, подойдет к концу, и будущее за пределом этого горизонта событий становится непредсказуемым, поскольку оно будет твориться уже не нами.
Другие мыслители рассматривают такое будущее с пессимизмом, хотя и не сомневаются в его неизбежности. Апокалиптические последствия техно-интеллектуального взрыва обобщены в книге Джеймса Баррата «Последнее изобретение человечества. Искусственный интеллект и конец эры Homo sapiens» (2013). Юваль Ной Харари в книге «Homo Deus: Краткая история завтрашнего дня» (2016) предсказывает, что торжество алгоритмов и «больших данных», т.е. самодовлеющего информационного процесса, грозит вытеснить человека из будущей истории разума:
«…Высокотехнологичные гуру и пророки Силиконовой долины создают новый универсальный нарратив, который узаконивает авторитет алгоритмов и Больших Данных. Это новое вероучение можно назвать «датаизмом». В своей крайней форме сторонники датаистского мировоззрения воспринимают всю вселенную как поток данных, не видит в организмах ничего, кроме биохимических алгоритмов, и считают, что космическое призвание человечества состоит в том, чтобы создать всеобъемлющее системы обработки данных – и затем раствориться в них. Мы уже становимся крошечными чипами внутри гигантской системы, которую никто не понимает… Когда это случится, люди потеряют свою власть, а гуманистические практики, такие как демократические выборы, станут такими же устаревшими, как танцы для вызывания дождя и кремниевые ножи»[3].
Искусственный разум будет знать подноготную каждого из нас лучше, чем мы сами, и создаст для каждого спокойную и, возможно, даже счастливую жизнь, лишенную того, что некоторые из нас ценят больше всего — свободы. Или того, что мы считали свободой, находясь в плену этого мифа, обусловленного несовершенным знанием наших инстинктов и психофизических детерминаций. Мы еще не успеем подумать или решить, чем хотим заниматься сегодня, какую одежду надеть, что приготовить на обед; а алгоритмы, проникающие глубоко в нейроны мозга, умеющие обобщать наши поступки и предпочтения на протяжении всей жизни, уже устанавливают для нас режим поведения, т.е., в конечном счете, подменяют нашу собственную волю, держат нас под полным контролем. Алгоритм вырастает в Судьбу. «Оглядываясь назад, человечество окажется просто рябью в космическом потоке данных»[4]. Мы были биологической и психической машиной, ослепленной иллюзией своей свободной воли. Будущее лишит нас этой иллюзии, но кроме этого мы, по сути, ничего не потеряем, — искусственный разум обеспечит нам психологический комфорт, физическое здоровье и будет обслуживать наши нужды лучше, чем мы это делаем сами. Главная черта будущего в такой перспективе — это перенос основных конструктивных усилий и решений на совокупный естественно-искусственный интеллект при стремительно растущей доле последнего.
Эпоха раздражения
Однако за последние несколько лет перспектива стала сильно меняться. Хотя ничто не остановило триумфальный научно-технический прогресс, связанный во многом с потрясающими успехами Илона Маска, его космической, транспортной, кибернетической программами, — но заботы человечества переместились в область «внутренних разборок». Глобализация, технологизация, победа над силами природы, овладение космосом отошли на второй план, поскольку стало ясно, что труднее всего человечеству договориться не с искусственным разумом, а с самим собой. Множество человечеств, возникающих на наших глазах из бывшего человечества, все больше превращается в набор племен, сражающихся за своих божков. Если вплоть до конца 20 в. человечество, раздираемое горячими и холодными войнами, еще не дорастало до планетарного единства, а с падением железного занавеса, казалось, впервые его обрело, то теперь оно стало вырываться из этого единства и разделяться по линиям рас, этносов, религий, идеологий, хотя уже не таких цельных, как раньше. Вдруг оказалось, что быть человеком — это не значит быть собой, личностью, и не значит быть представителем человеческого рода, но — представителем какой-то группы. Идентификация с ней и делает наш голос слышимым — только в составе хора. Сам по себе человек, да и человечество в целом вдруг выпали из фокуса цивилизационного развития. Отсюда такая степень раздраженности, которая определяет отношения между этими группами.
Мы живем в эпоху раздражения. Все раздражены чем-то, против чего-то и не знают, как с этим справиться, поскольку источник раздражения либо неотвратим, либо неясен.
Когда началась эта эпоха? В России, мне кажется, с рокировки Путина и Медведева (сентябрь 2011). Вдруг в ходе времени возникла странная петля или, как любил говорить Ельцин, загогулина. Второй президент России пришел на смену третьему — это был разрыв исторической перспективы, как если бы царь Александр II стал править после Александра III. А дальше источником раздражения стало дело Pussy Riot (март 2012), когда впервые фактором государственной политики и правопорядка стали чувства — в данном случае «оскорбленные чувства верующих». Вдруг оказалось, что чувства — это не внутреннее состояние индивида, а государственное дело.
Мало ли что кого может оскорбить и какие вызвать чувства — но вдруг общество, которое развивалось в направлении всё большей рациональности, захлестнул поток эмоций, — и не только в России. Люди раздражаются и обижаются от любого сколь-нибудь артикулированного высказывания или поступка — остается либо молчать, либо говорить о погоде. Кто-то не так посмотрел: слишком внимательно, призывно — или, напротив, небрежно, искоса. Кто-то непочтительно отозвался о святынях, оскорбил патриотические или гендерные чувства. Недавно британский комик российского происхождения Константин Кисин пожаловался, что перед выступлением в студенческом клубе от него требуют подписать «Поведенческий договор» (behavioural agreement form), включающий длинный список запретных тем: расизм, сексизм, классовость, возраст, инвалидность и ограниченные способности, гомофобия, бифобия, трансфобия, ксенофобия, исламофобия, антирелигия, антиатеизм[5]… Над всем этим теперь нельзя шутить, чтобы, не дай Бог, не оскорбить чьих-то чувств по признаку пола, класса, нации, возраста, религии, сексуальной ориентации и т.д. и т.п. Артист возмущается тем, что свободолюбивая Британия, куда бежали его предки из Советского Союза, подальше от КГБ и ГУЛАГа, теперь сама начинает вбирать черты оруэлловского «ангсоца». Такая вот шутка истории, перешутившей профессионального юмориста.
Этот список «оскорбительных» понятий все время расширяется. Сегодня, 14 октября 2020 г., когда я заканчиваю эту статью, словарь Merriam-Webster добавил помету «оскорбительное» (offensive) к одному из значений слова «предпочтение», приведя в пример выражение «сексуальное предпочтение» (sexual preference). Тем самым словарь оперативно отозвался на сегодняшнее высказывание сенатора-демократа на слушаниях в Конгрессе. «»Сексуальное предпочтениe» – оскорбительный и устаревший термин, он используется активистами, выступающими против ЛГБТК, чтобы предположить, что сексуальная ориентация — это выбор, а это не так… это ключевая часть личности человека»[6].
В мире создается атмосфера психической интоксикации, то ли алкогольной, то ли наркотической, но при этом ее основа — не психоделики, а то, что можно назвать «социоделиками», сходными по воздействию с психотропными веществами. Социальные и коммуникативные факторы выступают в роли психотропных средств, стимулирующих иллюзорные, измененные состояния сознания. Социальные сети приводят личность в состояние аффекта или эйфории. Социоделики, как ни странно, особенно сильно действуют в демократических обществах, где увеличивается зависимость личности от «коллективной души»[7]. Социоделики притупляют метафизический страх одиночества, болезни, смерти и, зомбируя граждан, надёжно охраняют их от экзистенциальных бездн, от свободы и тоски. Вместе с тем люди пребывают в социоделическом «плавающем» сознании, в социотрансе — не чувствуют реальности, не воспринимают фактов и логики, теряют сознание личной ответственности. Распространение социальных сетей, новые информационные технологии делают настолько проницаемыми внутренний мир, личные секреты, конфиденциальные разговоры, что все труднее провести границу между внутренним и внешним, между публичным и приватным. У этих осетенелых, социально опьяненных, — что на уме, то и на языке. Ведутся бесконечные «холивары» (holy wars) даже между представителями сравнительно близких воззрений. Образуется взрывчатая смесь самых сильных мнений и эмоций, и люди вынуждены либо утаивать свои мысли, хранить неприступность, — либо подвергнуться общественному осуждению и нападкам троллей и хейтеров. Чем более открыто пространство общения, тем скорее оно заполняется раздражением и ненавистью.
В американском обществе укрепляется атмосфера подозрительности и нетерпимости, обозначаемая сверхпопулярным термином woke (от англ. wake – будить, проснуться, быть начеку). Это сознательность радикально левого толка, сверхбдительное отношение к любым отступлениям от политической корректности. «Wоке people» — это «начекисты», те, которые всегда начеку, бдят, готовы обличить, отменить, разрушить общественный статус и карьеру любого, кто посмеет отклониться от набора прогрессистских идеологем. Нельзя назвать начекистов прямыми наследниками советских чекистов, но их объединяет бдительность по отношению к врагам единственно правильного мировоззрения, основанного на идеях классовой или расовой идентичности. Соответственно укрепилась так называемая «cancel culture» — «культура отмены», или «культура запрета». Кто бдит, тот и отменяет. Каковы бы ни были твои заслуги перед обществом, культурой, наукой, бизнесом, спортом – за любую неосторожно высказанную мысль, недостаточно «прогрессивное» словечко можно поплатиться репутацией, карьерой, всем жизненным итогом.
Даже либеральнейшие мыслители, писатели, журналисты, еще хоть сколь-нибудь сохраняющие верность первой поправке к Конституции США (свобода слова и прессы), выступили против стремительно растущей нетерпимости в «Письме о справедливости и открытых дебатах» (июль 2020), которое подписано 150 крупнейшими деятелями американской и английской культуры. Среди авторов — писатели Джоан Роулинг, Салман Рушди и Маргарет Этвуд, лингвист и политический публицист Ноам Хомский, философ и политолог Фрэнсис Фукуяма, гарвардский профессор Стивен Пинкер, лауреат Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум, защитница гражданских свобод Надин Строссен, шахматист и политик Гарри Каспаров, джазовый музыкант Уинтон Марсалис…
«Сейчас слишком часто можно услышать призывы к скорому и жёсткому возмездию в ответ на то, что воспринимается как неправильное слово или мысль. А ещё больше вызывает тревогу то, что общественные лидеры, стремясь к контролю над паникой, наносящей вред обществу, склонны применять поспешные и несоразмерные наказания вместо обдуманных реформ. Редакторов увольняют из-за спорных моментов в текстах, книги изымаются из-за предполагаемой недостоверности фактов, журналистам запрещено писать на ряд определённых тем, профессора становятся подозреваемыми после цитирования в классе «не той» литературы, исследователей увольняют за распространение академической работы, уже прошедшей официальное рецензирование, глав организаций смещают за мелкие ошибки и недочеты. Какими бы ни были аргументы в каждом конкретном случае, результат один – неуклонное сужение границ того, о чём можно говорить без риска быть подвергнутым репрессиям. И мы уже расплачиваемся за это — писатели, художники и журналисты всё больше боятся риска отступить от общего консенсуса или даже просто недостаточно энергично выступить в его поддержку. Эта удушающая атмосфера в дальнейшем нанесёт огромный вред основным устремлениям нашего времени»[8].
Страна контролируется полицией мысли, властные претензии которой гораздо более тотальны, чем у полиции, охраняющей порядок на улицах городов. Задача полиции — предотвращать преступления; полиция мысли отрицает свободу мысли и слова, как если бы она была преступлением.
В Европе — свой источник раздражения: растущий приток иммигрантов (с 2015) и отделение Британии от Европы по референдуму 2016 года. Юг приближается, вливается в Европу — Север отдаляется, откалывается. Европа становится зоной, промежуточной между христианством и исламом. Демократия оказывается механизмом самоподрыва. Мир без границ, без стен, «жить единым человечьим общежитьем» — но плодами демократии с наибольшей выгодой пользуются те, кому она чужда. Полная толерантность обращается против самой себя, поскольку предоставляет свободу нетолерантным. Западное общество оказывается толерантнее к чужим, чем к своим. Приезжим, иноверцам позволительнее нарушать правила и законы (о неприкосновенности личности, о харассменте и т.д.), которые со всей строгостью применяются к своим, коренным гражданам.
Все это можно было бы считать нормальной политической нестабильностью. Мир всегда так жил: от войны к войне, от революции к революции, от кризиса к кризису. Но в этой новой нестабильности есть нечто особенно раздражающее, поскольку ее источник непонятен, не согласуется с общим вектором движения человечества, с такими его составляющими, как научно-технический прогресс, рост бытового комфорта, преодоление голода, развитие новых форм досуга и коммуникации, социальные сети, искусственный интеллект, виртуальные миры, глобализм, свобода путешествий, распространение демократических принципов по всему миру. Что-то выявилось досадное, отталкивающее в самой природе «хороших вещей»: демократии, рациональности и прогресса.
Раньше люди испытывали страх перед иррациональным, перед угрозами войн, терроризма, эпидемий, социальных волнений, но сейчас, даже в разгар пандемии, это скорее не страх, а именно растущее раздражение, смутное и именно поэтому трудное для разрядки. Это раздражение людей, уже готовых войти в другую жизнь, в светлое будущее, но задержанных на входе. Начинается тягостная проверка, и пройти в счастливый мир будущего нам не дают. Остается всего один шаг — нет, извольте отойти в сторону. — Что вы, собственно, ко мне прицепились?
Представим себе типичные размышления технократа и футуриста, задержанного на пороге. Какие-то бородатые люди из третьего мира, которые меня ненавидят, почему-то считают себя вправе поселиться в моем доме. Какие-то милые женщины, которых я иногда ласково трепал по плечу или игриво обнимал за талию, вдруг подают на меня в суд, поскольку я покушался на суверенность их тела. Какие-то меньшинства, уже составляющие большинство, обвиняют меня в привилегиях и требуют от них отказаться, хотя я все заработал честным трудом. Наконец, вирусы, долетевшие из далекой коммунистической Азии, превращают мой дом в осажденную крепость, разрушают все мои планы. Вроде бы все уже давно забыли о чуме, холере, тифе, испанке — и вдруг в эпоху стерильности и всякого медицинского прогресса я становлюсь так же уязвим и внезапно смертен, как какой-нибудь дикарь в странах тропической лихорадки. И это все знаки прогресса: глобализация, этническое, гендерное, социальное равенство. Но почему-то движение вперед по этому пути создает свой собственный тормоз.
Это не страх, а именно раздражение. Страх вызывается превосходящими силами неизвестного — угроза направлена на нас, и наши ответные чувства тоже имеют конкретную направленность. Последним большим страхом, потрясшим Америку, были террористические акты 2001 г. и стоящий за ними исламский фундаментализм, с которым, очевидно, было нужно и можно бороться. Но, — размышляет футурист, — можно ли бороться с иммигрантами, с меньшинствами, с движением Me Too, с движением BLM, со всеми этими бесчисленными претензиями, нападками, жалобами, которые не дают мне двигаться вперед, тянут в прошлое? Там, в самом деле, было много несправедливости, — но почему я должен платить по счетам тех, кто жил за несколько веков до меня, по другим историческим законам и этическим нормам?
Неотъемлемая часть демократии — меритократия (буквально «достовластие»), т.е. власть самых достойных, одаренных, энергичных, образованных, трудолюбивых. Меритократия в составе демократии возникла не вдруг, она вела борьбу с аристократией и финансовой олигархией, с привилегиями класса, сословия, нации, расы, рода, наследства. Цель: определять свой вес и вклад в цивилизацию не по размерам капитала, не по классовому происхождению, а по передовой линии ума, таланта, мозговой и нервной энергии, созидая ноосферу, в которую постепенно переселятся биосфера и социосфера. Поэтому от старых критериев наследственной и имущественной элиты меритократия перешла к демократическому принципу: каждый человек — один голос, власть определяется количеством голосов, за единицу считается индивид, невзирая на его экономический и общественный статус. А дальше передовой отряд демократии — меритократия — совершит резкий рывок в будущее и увлечет все человечество за собой. В будущее возьмут всех — это функция меритократии в системе демократии.
Если же из демократии вычесть меритократию, то останется охлократия (от др.-греч. ?χλος «толпа» + κρ?τος «власть»). Это вырожденная форма демократии — власть толпы, попадающей под влияние демагогов. И вот в XXI в., на вершинах развития, оказалось, что демократия сама по себе неустойчива и подвержена бифуркациям, развилкам. Ее энергийная и организованная часть тяготеет к меритократии, а энтропийная и хаотическая — к охлократии. Возможно, мир сейчас попал в точку бифуркации, и всеобщее раздражение — это критическое состояние системы, при котором она становится неустойчивой в силу флуктуаций. Возникает неопределённость: станет ли состояние системы хаотическим или она перейдёт на новый, более тонкий и сложный уровень упорядоченности? Заранее невозможно предсказать, куда двинется система.
Пандемия как метафора
К социальному раздражению добавляется еще и биологическая уязвимость. Каждой эпохе соответствует определённый тип болезни. Болезнь – явление не только физиологическое, но и моральное, и историческое. Вот как пастернаковский доктор Живаго, страдающий от склероза сердечных сосудов и умирающий от инфаркта, объясняет природу этой болезни: «В наше время очень участились микроскопические формы сердечных кровоизлияний… Это болезнь Новейшего времени. Я думаю, ее причины – нравственного порядка. От огромного большинства из нас требуют постоянного, в систему возведенного криводушия… Наша нервная система не пустой звук, не выдумка. Она – состоящее из волокон физическое тело…» (Б. Пастернак. «Доктор Живаго»).
Среди огромного множества недугов можно выделить эпохальные: болезни-эмблемы, символы. Чума — и Средние века. Сифилис — и Ренессанс. Туберкулез (чахотка) — и XIX век. Рак — и XX век. СПИД — и конец XX века. Например, чума символизирует средневековую культуру и раскрывает ее смысл не менее ярко, чем крестовые походы, трубадуры и карнавалы… Чума – абстрактна, как схоластика, она постигает человека за неведомые ему грехи, тогда как сифилис – ужасающе конкретен, как тяга ренессансного индивида ко всему земному. Все это не просто болезни, но метафоры определенной эпохи и состояния общества[9].
В этом смысле COVID-19 — это метафора нашего времени. Еще задолго до пандемии быстро росло биологическое отчуждение в западном и особенно американском обществе, которое становилось все стерильнее. Все меньше людей непринужденно и естественно касаются друг друга, разговаривают друг с другом, потому что там, где личности соприкасаются, они нарушают границы частного пространства, что дает повод к обвинениям и подозрениям. Намного легче общаться на расстоянии, через телефоны и компьютерные сети. Впрочем, даже звонок по телефону в наши дни считается уже не вполне приличным вторжением в частную сферу, если он заранее не согласован, — все-таки, это живой голос, желательно его предварить или заменить электронным сообщением. Люди окукливаются в своих электронных оболочках. Человек становится подозрителен, опасен, потому что он не так предсказуем и управляем, как механизм. Вообще физическая реальность, по растущему контрасту с виртуальной, где каждый волен сам себе выбирать удобное окружение, все больше воспринимается как зона дискомфорта. Даже если технический разум еще не утвердился целиком в современном обществе, он дает знать о своем торжестве «от обратного» — через неприязнь и подозрительность ко всему живому. Этот комплекс можно назвать биофобией. От живого не знаешь, чего ожидать, особенно от самой своенравной и свободолюбивой формы жизни — человеческой[10]. Животные и особенно растения в этом смысле гораздо предпочтительней: можно вынести рядом с собой орхидею или кота, но человека — гораздо труднее.
Биофобия проявляется многообразно. Например, растет число асексуалов, предпочитающих вообще избегать этой чересчур интимной стороны жизни или вступать во взаимодействие с механизмами. Среди молодежи во всем мире стал популярен японский термин «хикикомори». Подростки, называющие себя «хикки», стараются максимально изолировать себя от общества, исключить все социальные связи, по возможности не покидая собственной комнаты. Категорический отказ от любых контактов с людьми — тревожный признак биофобии и социофобии. Причем многие «хикки» доживают до среднего возраста, так и оставаясь на попечении своих родителей и замыкаясь в своих квартирах. Всякая инаковость возмущает, приводит к неврозам. Кто-то не готов к общению, а кто-то слишком настойчив. Кто-то слишком хмур, а кто-то слишком много смеется. Кто-то ведет себя манипулятивно, а кто-то абьюзивно. Людям тяжело выносить присутствие друг друга. Они становятся всё нарциссичнее, а окружающий мир – всё непереносимее.
Знаменательно, что рост биофобии и социофобии совпал с распространением электронных способов коммуникации — или дискоммуникации, когда человек просто погружается в виртуальные миры, игры, сериалы. И не случайно ужесточение правил против харассмента приходится на 1990-е гг., когда стала стремительно расширяться сфера интернета, где люди благополучно обходятся без физических контактов, все более трудных и досадных по контрасту со стерильностью экранной среды. Электронный мир стал психологически удобнее, привлекательнее для человека — и общество не замедлило отреагировать устрожением этикета.
Нашествие вирусов заострило эту биофобию, хотя сами вирусы, как известно, – это не живые организмы, они становятся таковыми, лишь проникая в организм своей жертвы. Но коронавирус в современном восприятии знаменует опасность жизни вообще: опасность человеческого дыхания и прикосновения, опасность воздуха, замкнутых пространств, любых поверхностей, которых касалась рука человека. Нужно держать дистанцию и загораживаться масками, перчатками, очками или прозрачными щитками, а лучше вообще не выходить из дому. «Как бы чего не вышло». Чеховский человек в футляре становится героем нашего времени. К его фуфайке и вате в ушах добавить бы маску и резиновые перчатки — и получился бы типичный представитель коронавирусной эпохи[11]. Возрастают дисконтактность, отчуждение, психологический нарциссизм и аутизм.
Какой вывод из всего это можно сделать? XXI век подготовил людей к самоизоляции еще до того, как на них набросился коронавирус. Это болезнь эпохальная, символизирующая дух своего времени — точнее, сам дух времени приобретает форму болезни. В этом смысле COVID-19 — именно та болезнь, которую человечество «выстрадало» за последние десятилетия.
От биофобии к технофобии
Итак, от био- мы с новым энтузиазмом бросаемся в область техно-. Все прячутся по домам, пандемия оборачивается «пандомией», вторичным «одомашниванием» цивилизации, которая скрывается за порог и запирается на ключ. Биофобия здесь получает социальную поддержку и материальное воплощение. Переход цивилизации из «реала» в виртуальные миры, начавшийся в последние три десятилетия, неимоверно ускоряется в связи с тем, что сам реальный мир начинает нас из себя выживать. Всё переходит в онлайн: бизнес, торговля, образование, услуги, искусство — причем счет таких преобразований идет уже не на годы и десятилетия, а на месяцы.
Казалось бы, этот «уход в астрал» снимает остроту раздражения от физической близости иных субъектов. Но, как ни странно, и те средства коммуникации, которые приходят на смену живым контактам, не вызывают особого доверия, а оборачиваются еще одной разновидностью фобии. Дальнейшее развитие технических возможностей сети, усложнение коммуникативных каналов увеличивает ощущение уязвимости, опасность сбора персональных данных, хакерства, шпионажа. Люди начинают бояться именно того, что издалека открывает их другому, боятся стать объектом манипуляций каких-то сверхмощных программ. Принудительная «чипизация» становится жупелом и кошмаром XXI века.
Однако приходится бояться не только могучего Левиафана, всевидящих глаз и всеслышащих ушей государства, но и друг друга. Представим, что люди научатся выражать свои мысли непосредственно нейросигналами, идущими от мозга. Казалось бы, торжество коммуникации. И душа с душою говорит… Но люди еще больше замкнутся в себе, будут бояться не только говорить, но и мыслить, чтобы кого-нибудь невзначай не обидеть и не подвергнуться суду или преследованию со стороны полиции нравов. На место оруэлловского телескрина («1984»), который не только вещает, но и подглядывает и подслушивает, придет нейроскрин, с такими же двойными, обратимыми функциями. Человек, оснащенный приборами мышления, встроенными в его мозг, как продолжение нервных клеток и волокон, будет не столько могуществен, сколько прозрачен и подотчетен в каждом движении своей мысли. Собственно, основной продукт, который приобретают социальные сети и хайтек компании в обмен на свои услуги, — это данные о своих потребителях. О том, как закупают «живые души», — недавний нашумевший документальный фильм «Социальная дилемма» (режиссер Джефф Орловски, 2020). Дилемма: отдаваться ли всемогущему демону социализации, который ловит тебя через сети, — или избрать одиночество в пустеющем реале? Чем больше возможностей, тем больше опасностей. Каждое новое достижение создает новый повод для страха. Так что к 2050 году, когда постареют мои дети, и достигнут зрелости внуки, мир может оказаться технически сверхоснащенным, а психологически очень неуютным, — местом, где даже самые близкие люди, способные читать мысли друг друга, могут испытывать постоянное раздражение и отчуждение.
Поскольку жизнь станет коммуникативно еще более прозрачной, любой жест и взгляд, любой шаг и слово будут фиксироваться в электронной памяти, люди будут непрестанно наблюдать друг за другом. Мощь наблюдения резко ограничит свободу действия. Все будут судиться друг с другом, возникнет общество тотального сутяжничества, где каждый будет чувствовать себя чем-то оскорбленным. Нынешние масштабы ресентимента покажутся мизерными в сравнении с абсолютной открытостью, всепроницаемостью нейросферы/инфосферы грядущего. Возникнет система автоматических доносов и наказаний. С развитием интернета вещей даже обычные предметы или продукты, наделенные датчиками, штрихкодами и включенные в систему «туманных вычислений» (fog computing), смогут жаловаться на людей. Например, нестиранная рубашка или просроченная для употребления сметана пошлют донос на своего владельца, и с него станут снимать штрафы за пренебрежительное отношение к материальной среде, за антиэкологическое поведение. Все предметы, наделенные компьютерными чипами, станут участниками всеобщего круговорота информации, обзаведутся своими электронными адресами и правом сообщать о своем состоянии. Возникнет общество охраны прав потребляемых (commodity rights), которое будет конфликтовать с обществом охраны прав потребителей (consumer rights). Тем более несомненно, что к раздраженным чувствам людей добавятся раздраженные чувства животных и растений, по мере того, как их тоже втянет растущий информационный кругообмен. Не исключено, что к ним присоединятся — и их заглушат — голоса человеческих душ, находящихся еще в непосредственной близости от покинутых ими тел и способных передавать живым свой посмертный опыт благодаря новейшим дигитально-сенсорным техникам[12]. В общем, тихо не будет — даже при устранении прямых телесных контактов человеческий мозг будет полниться шумом от мириад инфоемких сущностей и существ.
Вселенские масштабы и метафизическая тревога
Мы подошли к еще одному источнику растущей неуверенности — месту человека в космосе, которое по мере расширения становится все более зыбким и потенциально опасным. Человек осваивает все новые области бытия за пределами естественной среды своего обитания. Он вторгается в микромир, оперирует атомами, молекулами, элементарными частицами, энергией распада атома и его ядра. Он изучает структуру клеток, бактерий и вирусов и производит искусственные их аналоги. Энергией своего мозга он взбудоражил весь окружающий мир, от ближайшего космоса и атмосферы Земли — до наночастиц. Он проложил свой путь к ним — и их путь к себе. А ведь сам он, как биовид, остается в основном тем же, чем был и десятки тысяч лет назад. Те же внутренние органы и органы восприятия, те же видовые размеры, вес, та же потребность в воздухе и пище. В крови должен быть определенный уровень кислорода, сердце должно биться с определенной частотой… Вступая в миры, чуждые своей биологической природе, на иные уровни материи, человек предоставляет себя их воздействию, обрушивает на себя все развязанные им энергии микромира и мегамира, все порядки иных измерений, в которые ему удалось проникнуть и пробудить к ответному действию, по принципу стимул-реакция.
Иными словами, человек, как революционер, вызывает против себя реакцию других порядков бытия. Точнее, не против себя — он просто погружается, по воле своего разума, по векторам своей интеллектуальной и технологической экспансии, в те слои бытия, где биологически он не может выжить. По словам физика Алексея Бурова, сотрудника Fermilab (Чикаго), «сегодня перед человеческим взглядом раскрыты 45 порядков Вселенной, 10^45. Девятнадцать порядков вниз, от размера человека до масштаба предсказанного полвека назад и недавно открытого Хиггс-бозона, и двадцать шесть порядков вверх, от человека до самой Вселенной — таковы сегодняшние границы научной мысли, синтезирующей теорию и наблюдения. Таков раскрывшийся на сегодня масштаб самого человека. За прошедшее столетие число порядков примерно удвоилось: мы живем в уникальную эпоху»[13].
Но ведь нельзя распахнуть дверь на весь этот диапазон величин, 10 в 45-й степени, чтобы самому не оказаться на этом космическом сквозняке. Представим себе батискаф, опускаемый не в толщу воды, а в толщу клеток, генов, микроорганизмов, вирусов, радиации, потоков микрочастиц. Так погружается в них человечество с каждым открытием и изобретением — оно пытается овладеть всеми еще неведомыми силами иных миров и само вступает в зону их воздействия, отдает себя во власть неведомому.
Это совсем не то социальное-экономическое отчуждение, о котором было принято писать и бить тревогу в XIX и XX веках. Люди отчуждали свои силы и способности в виде товаров и рынка (капитализм) или партии и государства (социализм, бюрократия), становились игралищем превосходящих, но все-таки человеческих, овеществленно-социальных сверхструктур. В XXI веке это отчуждение другого порядка — метафизическое, трансфизическое, выход на те уровни материи, где человек не может жить, дышать, видеть, осязать. По-новому воспринимаются строки Б. Пастернака, продиктованные чувством потерянности человека в гигантизме социалистического строительства: «Но как мне быть с моей грудною клеткой / и с тем, что всякой косности косней?» Человек вырывает себя из средней, соразмерной себе биологической ниши, измеряемой сантиметрами-километрами и минутами-годами, и бросается на простор низов и верхов мироздания, в потоки иного времени, измеряемого миллиардными долями секунды и миллиардами световых лет.
Каждому интуитивно понятно, что такое секунда — это примерно один удар пульса или одна произнесенная единица счета: раз, два, три… Такова человеко-соразмерная единица времени. А по науке, «в настоящее время в Международной системе единиц (СИ) принято следующее определение секунды: «одна секунда — это интервал времени, равный 9 192 631 770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя сверхтонкими уровнями основного квантового состояния атома цезия-133 в покое при 0 К (по Кельвину)»»[14]. Иными словами, секунда определяется через квантовое состояние атома, через миллиардные периоды микроизлучения и т.д. Как с этим жить? Как это вобрать в свое бытие млекопитающему среднего размера? «Прилив растет и быстро нас уносит /В неизмеримость темных волн. /Небесный свод, горящий славой звездной, /Таинственно глядит из глубины, – /И мы плывем, пылающею бездной
Со всех сторон окружены» (Ф. Тютчев). Эта пылающая бездна уже не только вокруг нас, но и в нас самих, в глубинах «естества», которое мы носим в себе: биомолекулы, клетки, протеины, липиды, гены, хромосомы, метаболиты… Это и есть мера расчеловечения человека в современной научной картине мира и в технологиях его преобразования. В попытках очеловечить мир, проникнуть во все его измерения, утрачивается принцип «человек есть мера всех вещей».
Это вызывает чувство постоянной метафизической тревоги: человек погружается в бездну сверх- и нечеловеческого. И такое расчеловечение мира — по мере успехов человека — будет все больше возрастать. Сами усилия и успехи разума сводят нас с ума. По словам одного из величайших современных физиков и математиков Роджера Пенроуза, новейшего нобелевского лауреата (2020), «то, что происходит в природе, в устройстве мира – настоящее безумие. Квантовая механика – полнейшее безумие, но она работает. Потому что Вселенная не в своем уме. Ее нормальный человек понять не способен – возьмите хотя бы космологию: время, пространство, Большой взрыв. Вот ты придумал идею – вроде она достаточно безумная, чтобы подойти этому безумному миру. А потом понимаешь, что мир еще безумнее, чем тебе казалось, и нужно придумать еще одну, более безумную идею, чтобы в нем разобраться»[15].
Это открытие Вселенной, которая «не в своем уме», взрывает не только человеческий ум, но и психику, чувствительность, всю сферу пространственно-временных ориентаций. То, что открывается разуму, передается дальше эмоциям, подсознанию, нервам, соматике — и расшатывает их, т.е. опять-таки приводит в крайнее раздражение, к утрате ориентиров.
Наложение разных масштабов, макро и микро, проявляется не только в научно-технической сфере, но и в самой элементарной, обыденной жизнедеятельности. Дело в том, что человек — неточное существо, он действует приблизительно, часто не понимая себя или противореча себе. А техника очень точна, отслеживает все до микрона, до нанометра. Например, уже сейчас, во избежание сутяжничества, предлагается любовникам и даже супругам заключать юридически заверенные соглашения о сексуальных отношениях. А если эти отношения варьируются от эпизода к эпизоду, и то, что удовлетворяет договору месячной давности, уже не подходит? Заключать отдельный брачный договор для каждой встречи? Для каждой минуты? Техника может отслеживать это и предъявлять примеры нарушения тех или иных детальных условий. Получается, что микромир, из законов которого вырастает техника, накладывает свою меру точности на человека. Касаясь другого существа, он сам не всегда знает, хочет ли выразить дружескую ласку, утешить, приободрить — или им движут более дерзкие намерения. Как рассечь это живосплетение взглядов, касаний, разорвать отношения личностей, оцифровать психику, свести ее к бинарным единицам? Это своего рода агрессия дигитального разума, который надвигается на нас из будущего и требует попрать нашу диалогическую природу, рассечь эмоциональные волны до дискретных частиц. До какого миллиметра или микрона физическое сближение будет считаться дозволенным, «легитимным» — или переходить в правовую зону насилия, домогательства?
Человеку придется самому стать механизмом, управлять собою с помощью компьютерной программы, чтобы соответствовать всем условностям и ожиданиям электронно вооруженного общества. Это, с одной стороны, сужение личной свободы, а с другой — расширение космического масштаба. Человеку придется жить по универсальным часам, отмеряющим не только время, но и множество других параметров, построенных по масштабам иных микро- и мегамиров: калории, гормоны, состав крови и выделений, атмосферное давление, влияние космических лучей, расположение небесных светил и галактик… Возмечтав когда-то стать богом, человек примет на себя меру бытия и вселенских гигантов, и мельчайших частиц. Тогда державинская хвала человеку: «Я связь миров, повсюду сущих, /Я крайня степень вещества… /Я телом в прахе истлеваю,/ Умом громам повелеваю, /Я царь — я раб — я червь — я бог!» — может прозвучать уже не как величавый гимн, а как проклятье тому, кто осужден на муки многобытийности.
Парадоксальное заключение
Как соединить эти расходящиеся тенденции нашего времени, которые оказались неожиданными для всех, кто из конца XX века оптимистично заглядывал в грядущий XXI век? После первых полетов в космос и на Луну, после рождения интернета, после падения коммунизма и Берлинской стены ожидалось дальнейшее торжество научно-технического и социально-политического разума. Была надежда на объединение человечества, даже, быть может, создание планетарного государства и учреждение нового политического строя, который придет на смену аристократии, демократии, тирании, автократии, олигархии, плутократии, тоталитарной идеократии (коммунизм и фашизм) и всем другим «кратиям» прошлого. Царство грядущего виделось как ноократия[16] — форма политического устройства под началом всепланетного разума, действующего в коммуникативных сетях. Это власть не отдельных индивидов или социальных групп, а коллективного мозга, который сосредоточит в себе интеллектуальную потенцию всех мыслящих существ и машин и будет действовать как на биологической, так и на квантовой основе. Ноократия, как способ самоуправления глобальной цивилизации, наиболее соответствовала бы политике ноосферы, когда творческая мысль, а не социальное происхождение, богатство или мнение большинства является регулятором политической власти.
Оказалось, что эти линии развития: научно-техническое и социально-психологическое — расходятся. Не исключено, что к 2050 г. человечество станет технически еще вооруженнее, а психологически еще разобщеннее, чем сейчас. Как ни странно, истоки этого разобщения находятся там же, где и возможности сплочения. Если сейчас опасность исходит прежде всего от мощных государств, то по мере развития техники отдельные группы и индивиды смогут в усложненных социальных и информационных сетях вызывать все более масштабные катастрофы, пользуясь знаменитым эффектом бабочки, которая взмахом крылышек вызывает бурю в других частях света. Собственно, этот эффект бабочки — точнее, летучей мыши (или панголина) — разыгрался на наших глазах с всемирным распространением коронавируса из одной крошечной локации в провинциальном городе Китая. Происходит дисперсия, рассеяние случайности или свободной воли во всех способах ее расширенной технической реализации, включая компьютерные и биологические вирусы. Все настолько взаимосвязано, что действие любого человека потенциально оборачивается последствиями для всего человечества, включая и данного индивида. Эта обратимость будет усиливаться по мере усложнения коммуникаций и создания информационной среды, проницаемой даже для мозговых процессов, нейронных импульсов.
Иначе говоря, именно те средства технического развития, которые превращают нашу жизнь в рай, могут превратить ее в ад. Материальный комфорт может обернуться чудовищным душевным дискомфортом. Таким может оказаться состояние человечества в 2050 г. — адо-раем. Научно-техническим раем и социально-психологическим адом. Собственно, мы переживаем это будущее в микродозах уже сейчас.
Примечания
- http://www.vestifinance.ru/articles/100217
- «Hope we’re not just the biological boot loader for digital superintelligence. Unfortunately, that is increasingly probable» https://space-hippo.net/go-ahead-biological-boot-loaders-ai/
- Yuval Noah Harari on big data, Google and the end of free will. Financial Times. August 26, 2016. https://www.ft.com/content/50bb4830-6a4c-11e6-ae5b-a7cc5dd5a28c
- Yuval Noah Harari. Homo Deus: A Brief History of Tomorrow. London: Vintage, 2017. Р. 460.
- https://www.dailymail.co.uk/news/article-6493921/Comedian-signed-behaviour-agreement-reveals-family-fled-censorship-Soviet-Russia.html
- https://www.foxnews.com/politics/merriam-webster-changed-definition-sexual-preference-barrett-hearing Кажется, даже в коммунистическую эпоху словари не реагировали так чутко на идеологические новации.
- См.: Эпштейн М. О «демократической тирании». Прав ли и сегодня Алексис де Токвиль? «Сноб». 23.8.2020. https://snob.ru/profile/27356/blog/169663/
- Старейший (с 1850 г.) и влиятельный ежемесячный журнал «Harper’s Magazine», октябрьский выпуск 2020. https://harpers.org/a-letter-on-justice-and-open-debate/
- См., в частности, характерное для Солженицына сравнение коммунистической системы и особенно ГУЛАГа с раком, дающим метастазы. Сьюзен Сонтаг в своих книгах «Болезнь как метафора» (1978) и «СПИД и его метафоры» (1989) приводит множество примеров метафоризации и символизации рака и СПИДа, хотя сама призывает к медицинско-прагматическому пониманию этих болезней.
- Вспоминается голос из Достоевского: «Мы даже и человеками-то быть тяготимся, — человеками с настоящим, собственным телом и кровью» («Записки из подполья»).
- См.^ М. Эпштейн. Герой нашего времени. Новая газета. 30.4.2020. https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/30/85165-geroy-nashego-vremeni
- Об этом — фильм «Открытие» (The Discovery, 2017) американского режиссёра Чарли Макдауэлла.
- Буров А. Человек глазами науки. https://snob.ru/profile/27355/blog/65012
- https://ru.wikipedia.org/wiki/Секунда
- Интервью 2013 г. https://www.svoboda.org/a/30880546.html
- От греч. noos – разум, kratos – правление.
© Текст: Михаил Эпштейн

Алексей Лукацкий: «Пора переходить от удаленного к мобильному офису. Наша задача — сделать этот переход безопасным»
По его словам, после завершения пандемии клиенты не планируют возвращать сотрудников в офисы в прежнем объеме
Бизнес-консультант по безопасности компании Cisco Алексей Лукацкий рассказал о том, как работа в период пандемии сказалась на защищенности информационных систем бизнеса. Какие решения предлагает Cisco? К какому будущему готовит своих клиентов?
С точки зрения эксперта по IT-безопасности, что изменилось в том, как работает бизнес на конец 2020 года?
Алексей Лукацкий: Для многих организаций 2020 год оказался очень непростым. В авральном режиме пришлось переводить большую часть своих сотрудников на «удаленку». Раньше компании исходили из того, что все сотрудники работают внутри корпоративного периметра, используют корпоративные средства защиты. Но после перехода на работу из дома сотрудник остается один на один с хакерами, и его компьютер, если он не подготовлен, очень быстро оказывается лакомым кусочком для злоумышленников.
Возможно, этот год стал решающим в понимании бизнесом того, что периметр больше не является надежной защитой вне зависимости от того, сидят ли сотрудники в одной комнате или в комнатах, распределенных по стране?
Алексей Лукацкий: Да, это так. Само понятие «периметр» трансформируется. Раньше периметр был границей между корпорацией и интернетом. Сегодня эта линия проходит через все рабочие места, в том числе удаленные или мобильные, и облачные сервисы. Средства защиты периметра также переместились с границы предприятия на рабочие места сотрудников и в облака.
Этот год хочется поделить на части. В первой половине бизнес решал задачу любой ценой сохранить работоспособность при переходе на удаленный режим. Во второй — задумался о том, как обустроить жизнь и работу в «новой нормальности». Вы чувствуете такую сегментацию?
Алексей Лукацкий: Соглашусь. И по собственному опыту, и по запросам в компанию Cisco я вижу, что начиналось все с аврального режима: «Дайте нам срочно решение, чтоб мы быстро перевели сотрудников на работу из дома». Но уже с конца лета пошли вопросы: «Как нам перенастроить процессы, чтобы они остались работоспособными в 2021-м, а может быть, и в 2022-м»? Заказчики говорят: «Пусть сотрудники продолжат работать из дома, или «в полях», как можно ближе к клиентам, к партнерам, к деньгам. Давайте от удаленного офиса перейдем к мобильному офису».
При переходе к удаленной работе многие сотрудники начали использовать в качестве рабочего свой домашний компьютер. Насколько концепция bring your own device оказалась работоспособной в новой реальности?
Алексей Лукацкий: Слово bring я бы заменил на setup. Сотрудник сейчас ничего и никуда не приносит, он пользуется тем, что у него установлено дома, и настраивает именно это устройство, которое используют все члены его семьи. Оно не предназначено для работы корпоративных приложений именно с точки зрения безопасности — я оставлю в стороне вопросы производительности. Перед нами встает задача разделить данные и приложения на домашние и корпоративные, защитить устройство. А вот если сделать шаг вперед и подумать, как мы будем вести бизнес после всех самоизоляций, то тогда у нас возникнет задача защиты и концепции BYOD, которая, к счастью, не сильно отличается от защиты домашних ПК.
Могут ли технологии Cisco обеспечить достаточный уровень безопасности при работе на домашнем компьютере?
Алексей Лукацкий: Могут и обеспечивают. Это как минимум два компонента. VPN-клиент, с помощью которого мы обеспечиваем защищенное подключение к корпоративным ресурсам. Помимо этого наш VPN-клиент AnyConnect включает в себя и ряд дополнительных защитных механизмов, позволяющих оценивать безопасность устройства перед подключением к корпоративным активам, а также следить за защищенностью устройства в процессе работы.
Второй компонент — решение Cisco Umbrella, задача которого — мониторить и блокировать все попытки пользовательского компьютера зайти на фишинговый, вредоносный или зараженный сайт. Если на компьютере пользователя была запущена программа-шифровальщик, которая пытается связаться со своими хозяевами, Cisco Umbrella мгновенно фиксирует и блокирует такие попытки. При этом никакого защитного ПО на компьютер пользователя ставить не надо — в этом отличие нашего подхода от антивирусов и других защитных решений, которые надо сначала установить на персональное устройство.
Насколько уязвимым является момент входа в корпоративную сеть?
Алексей Лукацкий: Это одна из самых уязвимых операций. Обычные пароли легко перехватить, например, через домашний wi-fi, который, как правило, не защищен.
Корпоративным стандартом становится многофакторная аутентификация, такая как Cisco Duo, где, помимо логина и пароля, вторым фактором могут выступать «умные» часы, телефон, эсэмэска с кодом, биометрические данные. Cisco Duo не только проверяет факт предъявления правильной учетной записи и сопутствующих факторов, но и непрерывно мониторит поведение сотрудника на предмет отклонений от его типичного поведения. Если в поведении выявляются аномалии, это сигнал для службы безопасности. Также Duo проверяет и безопасность устройства сотрудника перед подключением к сети предприятия, снижая риски подключения уязвимых или уже скомпрометированных устройств.
Первое приложение, которое запускает сотрудник в начале рабочего дня, это по-прежнему электронная почта. Насколько этот инструмент уязвим?
Алексей Лукацкий: По статистике Cisco, до 90% всех кибератак и инцидентов начинается с электронной почты. Сотрудники разного уровня, начиная от генеральных директоров, получают по электронной почте сообщения с вредоносными вложениями или ссылками, которые ведут на фишинговые сайты. Электронная почта — это и самый старый инструмент общения, и самый незащищенный. Независимо от того, где развернута почта, — на корпоративных серверах или в облаке — угроза одинаково серьезна.
Решение, которое мы предлагаем, это Cisco Secure Email. Его задача защитить пользователя от широкого списка угроз как во входящей, так и в исходящей электронной почте. Это спам, фишинг, вредоносный код, утечки информации, злоупотребление брендом, когда от нашего имени кто-то, например, нанятое нами рекламное агентство, рассылает не только нашу рекламу, но и вредоносные программы, подмена адресата и тому подобное. Все это мы можем обнаруживать и блокировать с эффективностью где-то 99,98%.
Рассказывая про контроль учетных записей, вы сказали, что современная защита — это не факт, а процесс. Насколько эта концепция универсальна в тех решениях, которые вы предлагаете?
Алексей Лукацкий: Все проблемы в области безопасности, которые мы наблюдаем, связаны с дискретностью, когда что-то происходит через заданные интервалы времени. Проверяются учетные записи, безопасность узлов, безопасность сотрудников, приложений, данных. Это делается через час, через день, через неделю. За это время злоумышленники успевают украсть данные, перехватить управление, закрепиться в корпоративной сети, замаскироваться под легальное устройство или пользователя.
Безопасность Cisco строится на принципе непрерывности, когда мы постоянно мониторим абсолютно все: удаленные рабочие места, мобильные устройства, облака, периметр (как бы мы его ни ругали), внутреннюю корпоративную сеть, центры обработки данных, промышленные площадки и так далее. У компании Cisco, которая, как и многие, начинала со средств предотвращения угроз, сегодня в портфолио основной акцент делается именно на решения по мониторингу и реагированию.
Мы с вами говорим «защита информационной системы», как будто это нечто единое целое. Насколько я вижу из материалов вашей компании, часть вашей концепции состоит в обратном — максимально разбить внутреннюю структуру информационной системы, чтобы уязвимость одной части не приводила к поражению всей системы.
Алексей Лукацкий: Это концепция сегментации. Если злоумышленник в физическом мире смог проникнуть в кабинет руководителя, он получает доступ ко всему, что находится в этом кабинете. Если кабинеты не закрываются, он получает доступ к этажу или ко всему зданию. Сегментируя информационную систему, мы ставим дополнительные преграды на его пути. В корпоративной сети с помощью технологий Cisco можно сделать и динамическую, и микросегментацию, когда случайное или целенаправленное проникновение в любой сегмент не дает злоумышленнику возможности проникнуть дальше. В правильно настроенной сети этот сегмент будет ограничиваться одним компьютером. При этом эти возможности уже присутствуют в сетевом оборудовании, на котором построена инфраструктура, — потребуется не более 5-7% дополнительных инвестиций для многократного повышения уровня безопасности.
Каким вы видите ближайшее будущее бизнеса с точки зрения организации информационных ресурсов? К какому будущему готовится компания Cisco и готовит своих клиентов?
Алексей Лукацкий: Мы видим будущее облачным, но, к счастью, не туманным. Бизнес-процессы уйдут в облака, которые в условиях изоляции позволяют решать очень многие задачи на том же уровне эффективности, что и раньше, давая возможность бизнесу фокусироваться на своих основных компетенциях. Мы это видим не только на примерах телеконференций, но и по многим другим бизнес-приложениям — электронной почте, управлении предприятием, общении с заказчиками и тому подобное.
Бизнес будет становиться все более мобильным. Для офисных сотрудников мобильность станет нормой жизни. Они будут подключаться к корпоративным ресурсам и облакам с личных или корпоративных устройств. Задача компании Cisco — помочь нашим заказчикам сделать это наиболее безопасным образом.

Михаил Поддубский: «Новые фискальные стимулы означают рост инфляционных ожиданий»
Управляющий активами «МКБ Инвестиции» Михаил Поддубский полагает, что в среднесрочной перспективе фондовый рынок восстановит справедливость относительно недооцененных акций компаний «старой экономики», в первую очередь сырьевых. Однако частному инвестору, желающему заработать на этом тренде, нужно быть готовым к тому, что придется ждать несколько лет.
Петр Рушайло
Михаил Поддубский родился в г. Котовске Тамбовской области. Окончил Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина. Работает на фондовом рынке с 2012 г. С прошлого года присоединился к команде «МКБ Инвестиции», где занимает должность управляющего активами. Ориентировочный объем активов под управлением – более 1 млрд рублей.
Платформа «МКБ Инвестиции» запущена в 2020 г. Предоставляет частным инвесторам единую линейку продуктов на основе брокерского обслуживания, инвестиционного консультирования и доверительного управления.
«Переоценивать значимость большинства демократов не стоит»
– Каковы ваши ощущения от начала года?
– На рынке сверхоптимистичные настроения. Такая картина наблюдается уже два с половиной месяца, с ноября мы видим непрерывный рост. Начало года данной тенденции не поменяло. Конец декабря и начало января – период, когда крупнейшие инвестиционные банки публикуют свои годовые стратегии. И уже можно говорить, что на рынке сложился определенный консенсус, причем наблюдается редкостное единодушие. Все сходятся, что этот год будет годом полного восстановления деловой активности. Общий консенсус предполагает, что II полугодие проходит без серьезных карантинных ограничений в Европе и США. На этом фоне восстанавливаются цены на сырьевые активы, при этом стимулы как монетарного, так и фискального характера останутся ощутимыми.
– Откуда такая уверенность?
– Вся риторика центробанков свидетельствует о том, что процентные ставки останутся на низком уровне как минимум в ближайшие несколько лет. ФРС США при этом готова к тому, что в ближайшее время инфляция превысит ее целевой ориентир, но не видит оснований из-за этого сразу же переходить к повышению ставок. Победа демократов на выборах в сенат увеличивает вероятность того, что фискальная поддержка в 2021 году будет ощутимой. Конгресс может представить еще несколько соответствующих проектов, что также поддерживает и инфляционные ожидания, и в целом аппетит к риску на рынках акций.
– Еще в октябре консенсус был несколько иным. Пессимистично воспринимался сценарий blue wave – победы демократов на президентских выборах в США с одновременным получением ими контроля над сенатом. Из-за опасений роста налогов.
– Здесь ситуация неоднозначная. Если мы посмотрим на историю президентских выборов в США за последние десятилетия, в большинстве случаев происходит следующее. С лета и до начала ноября, когда проходят выборы, волатильность на рынках растет, аппетит к риску придавлен. Финансовые институты предоставляют разные прогнозы о том, что будет при том или ином исходе, но по факту обычно сценарий один: неопределенность уходит, настроения улучшаются, рынок начинает жить своей жизнью и ориентироваться на другие факторы.
Приход демократов действительно увеличивает вероятность повышения налогов для американских корпораций и наиболее состоятельных граждан. Однако переоценивать значимость их большинства в сенате тоже не стоит. Аналогичная ситуация была в начале президентского срока Барака Обамы. Тогда у демократов было преимущество в обеих палатах конгресса, но оно, как и сейчас, не было столь ощутимым, чтобы у администрации были развязаны руки в плане повышения налогов, поскольку внутри самой партии нет полного единодушия относительно целесообразности этого. Словом, время покажет. Пока рано говорить о том, что налоги будут сильно повышаться. При этом в отношении целесообразности фискальных послаблений полное единодушие, и рынок пока растет именно из-за данных ожиданий.
– На какие активы в связи с этим стоит обратить внимание?
– Новые фискальные стимулы означают рост инфляционных ожиданий. Поэтому логично ориентироваться на активы, которые выигрывают от роста инфляции. Это сектора базового потребления, «нефтегаз», циклические компании в целом. Вообще же в последние несколько лет на глобальных рынках акции стоимости сильно проигрывают акциям роста. Карантинные ограничения 2020 года только усилили этот дисбаланс. В результате в прошлом году спред между компаниями роста и компаниями стоимости настолько разошелся, что в годовом выражении такого не было даже во второй половине 1990-х годов, во времена бума доткомов. Поэтому мы считаем, что восстановление деловой активности в 2021 году (вкупе с вероятными фискальными стимулами) позволит компаниям старой экономики это отставание частично компенсировать, особенно в бумагах нефтегазового сектора. Для российских фондовых индексов это весьма оптимистичный сценарий: у нас три четверти рынка – циклические компании старой экономики, значительная часть которых как раз нефтегазовые.
«Не стоит делать ставку на то, что именно в этом году акции компаний стоимости серьезно отыграют отставание»
– Каким должен быть горизонт инвестирования, чтобы воспользоваться потенциалом восстановительного роста акций стоимости?
– Это вопрос не месяца или даже года, а скорее нескольких лет. Существует масса неопределенностей относительно того, как будут сниматься карантинные ограничения, с какой скоростью будет происходить вакцинация. Самый оптимистичный взгляд: как только основные группы риска будут вакцинированы, снизится нагрузка на медицинскую систему и ограничения можно будет смягчать. Но это только предположение, что-то всегда может пойти не так. Поэтому не стоит делать ставку на то, что именно в этом году акции стоимости серьезно отыграют отставание. И вообще в принципе акции – это класс активов, предназначенный для инвесторов с горизонтом в несколько лет. Инвесторы какие-то краткосрочные истории могут находить, но в целом акции – инструмент, дисконтирующий будущие денежные потоки компании. Поэтому временной горизонт здесь должен быть заметно длиннее года.
– Вы говорили, что три четверти российского рынка акций – бумаги компаний стоимости. Как вы оцениваете их перспективы?
– Для начала надо отметить, что российский рынок акций уже не дешев. Во второй половине 2010-х годов значение мультипликатора P/E для индекса МосБиржи находилось на уровне 7, сейчас – уже более 10. По EV/EBITDA российский рынок в последние годы находился на уровне 4–5, а сегодня – уже ближе к 8. То есть по мультипликаторам он дорог относительно самого себя в историческом плане, правда, при этом все равно еще недооценен относительно других emerging markets.
Эта дороговизна по мультипликаторам обусловлена несколькими причинами. Ключевой фактор – низкий уровень ставок по альтернативным вложениям. Даже в текущем кризисном году дивидендная доходность индекса МосБиржи выше, чем доходность ОФЗ на коротком (в пределах трех лет) интервале. Исторически такая ситуация благоприятствовала росту рынка акций.
Также стоит учесть, что вследствие кризиса резко, почти вдвое, упали показатели прибыли на акцию. С восстановлением экономики, ростом цен на сырье этот провал будет отыгрываться. По нашим оценкам, до 70% может быть скомпенсировано уже в этом году. Следовательно, будет расти и дивидендная доходность. При сохранении нынешних цен на акции она уже через два года может превысить доходности корпоративных облигаций. Поэтому мы считаем, что российский рынок акций в среднесрочной перспективе сохраняет потенциал роста.
– То есть, условно говоря, сейчас вы ожидаете падения дивидендной доходности, потому что год был неудачный, но дальше она начнет восстанавливаться. Такая логика?
– Не совсем. То, что все начнет восстанавливаться, – это верно. Что касается дивидендной доходности, то здесь логика немного другая. В начале 2020 года ориентир по этому показателю для индекса МосБиржи был 6+% годовых. Сейчас же картина следующая. Во-первых, российский рынок акций вырос от уровней, которые были в начале 2020 года. Во-вторых, финансовые показатели компаний заметно просели, но при этом многие не сильно сокращали размеры дивидендов. В результате ожидаемая дивидендная доходность сейчас в районе 5+%. По мере восстановления деловой активности, роста рублевой стоимости барреля нефти, при сохранении цен на акции на текущем уровне через два года мы ждем, что она будет снова 6+%. И это на текущий момент уже выше индекса корпоративных облигаций. Эта доходность, которую раньше инвестор мог получить на депозите, сейчас в ликвидных инструментах не доступна нигде, кроме как на российском рынке акций. Понятно, это совершенно другой класс активов с точки зрения рисков, но для инвесторов, которые в разные классы активов инвестируют, это способствует тому, что доля вложения в акции может постепенно увеличиваться.
– Каким конкретно акциям вы отдаете предпочтение при формировании портфеля?
– Слишком глобальный вопрос. Здесь важен не набор бумаг, а процедура формирования портфеля. Мы рассматриваем все бумаги, которые входят в индекс МосБиржи. Плюс еще 5–7 эмитентов. По всем у нас есть финансовые модели, которые регулярно корректируются с точки зрения вводных. Например, курса рубля, цен на сырье, макропоказателей, инфляции и прочего. После этого мы получаем некую таблицу с нашими целевыми показателями по этим компаниям. У нас есть целевая цена, есть текущая цена. Определяем потенциал роста. И в зависимости от ренкинга определяем вес каждой конкретной компании сравнительно с индексом МосБиржи. Например, у какой-то бумаги вес в индексе 5%, а наша модель показывает, что у нее хороший потенциал роста. Значит, в нашем портфеле она займет условно не 5%, а 8.
– Это стандартная модель взвешивания. Но что показывает ваша модель сейчас? Кто является вашим фаворитом? Как в секторальном разрезе, так и в персональном зачете.
– С точки зрения секторов в принципе большого крена в какую-либо сторону сейчас мы не делаем, все в целом равномерно. У нас есть небольшой недовес по технологическим компаниям. Это такие бумаги, как «Яндекс», «Киви», Mail.ru. Нам очень нравится бизнес этих компаний, но, с нашей точки зрения, их цена уже учитывает очень много позитива. Есть небольшой перевес в сторону недвижимости, но скорее технический – его в индексе практически нет, мы же точечно включили в портфель бумаги ряда компаний. «ЛСР», «Эталона», например.
С точки зрения каких-то отдельных историй в нефтегазовом секторе нам нравятся компании, которые традиционно имеют большой вес в индексе. Это «Лукойл» и «Газпром». «Лукойл» в каждом из кварталов 2020 года сумел сгенерировать положительный денежный поток. При этом он направляет на выплаты дивидендов 100% скорректированного денежного потока. По нашим оценкам, если цены на нефть остаются в рублях на текущем уровне, компания способна платить более 500 рублей за акцию, что означает дивидендную доходность, близкую к двузначной.
Если говорить про финансовый сектор, тут тоже «банальная ситуация»: нам нравится Сбер. Компания стоит относительно недорого, примерно 1,3 капитала. При этом рентабельность, которую она генерирует, очевидно недоступна конкурентам. В конце прошлого года Сбер представил новую стратегию развития, в которой ориентир по ROE немного снизился, но все равно остается на достаточно высоком уровне – более 17%. Компания способна генерировать дивиденд более 21 рубля в 2022 году – для голубой фишки это замечательно. Если про более нишевые истории, в секторе металлов и добычи нам нравится «АЛРОСА», «Русал», ММК. Правда, бумаги ММК уже неплохо выросли в последнее время и стали менее привлекательны. Среди телекомов выделяем МТС, также позитивно смотрим на АФК «Система».

Россия должна выучить урок, который прогулял Трамп
Игорь Ашманов
Российские СМИ переполнены рассказами о всемогущих американских ИТ-платформах, забанивших президента Америки и внезапно начавших управлять миром. В утренних и вечерних передачах ТВ и радио, на ток-шоу и в газетах, не говоря уж о соцсетях и ТГ-канальчиках, все горячо обсуждают, насколько страшны FB и Twitter, а не цензура ли это или "это другое", не перейдет ли Трамп в Telegram, станут ли Telegram и Signal заменой тоталитарным Twitter и Facebook и тому подобное.
Мне лично все это кажется не очень интересным. И вот почему.
Это — старые новости.
Возможно, Трамп не читал "Трилогию желания" великого американского писателя Теодора Драйзера о похождениях могучего финансиста и капиталиста Каупервуда. А мы-то читали.
В ней Драйзер описывает, как еще в конце XIX века в Чикаго группировка отцов города (смешанная из демократов и республиканцев), владевших всеми СМИ, зачморила, заплющила и выгнала бодрого, ушлого и богатого новичка, попытавшегося стать первым парнем на Чикаго. Новичок захватил все железные дороги и сладкие концессии на постройку обычных дорог, скупил продажный муниципалитет. А враги применили все уже известные нам приемы — медийную атаку в СМИ, наем уличных люмпенов для "майдана", закрикивание всех, кто пытался выступать против группировки, и тому подобное. Купить или подкупить СМИ у Каупервуда не получилось, майданщиков — тоже.
В результате полностью купленный Каупервудом муниципалитет откачнулся от него, напуганный медийным давлением и уличным криком, — и лишил его концессий и прочего благоприятствования. Каупервуд был из всех капиталистов города самый умный, энергичный и хитрый — но ничего не смог сделать, потерял бизнес и уехал из Чикаго. Быть альфа-хищником — недостаточно, политикой нужно заниматься.
Так что управление политикой с помощью медийных атак — обычная, привычная история для Америки. Собственно, и подавляющее медийное доминирование обамовско-клинтонско-байденской группировки так называемых либералов, то есть союза глобальных финансистов, медийщиков, айтишников, капиталистов и военных, — тоже не новость. Google, FB, Twitter "топили" в пользу Обамы и Клинтон последние 12 лет — о чем было довольно много исследований.
Наивно думать, что их наглый "каминг-аут" последних недель — внезапный и неожиданный или вызван "обращениями трудовых коллективов", возмущенных преступлениями кровавого режима Трампа.
Думать, что это глобальные американские ИТ-платформы захватили власть и делают что хотят, обладая безграничными деньгами и аудиториями, — тоже наивно. Достаточно посмотреть видео 2018 года, где вызванный в сенат Марк Цукерберг в плохо сидящем неудобном костюме четыре часа краснеет, потеет и оправдывается перед сенаторами за то, что нашел мало следов Русских Хакеров™ в избирательной кампании Трампа — 2016, чтобы понять, что не ИТ-платформы в Америке главные. В 2019-м Марк еще четыре часа оправдывался — в конгрессе США — за попытку запустить свою криптовалюту.
Можно посмотреть и более свежее видео встречи четырех ИТ-гигантов с конгрессом в июле 2020 года, прямо перед выборами, где платформы песочили за недостаточное благоприятствование демократам и требовали обещать не препятствовать победе Байдена.
В общем, не Марк управляет конгрессом, а конгресс Марком. А точнее — присланный Марку куратор. Более-менее известно, что практически во все ИТ-компании за последние 15-20 лет введены в топ-менеджмент или совет директоров кураторы от оборонки или разведки.
Кадровый безопасник Эрик Шмидт управлял Google вообще с начала 2000-х. С этими кураторами доходит, казалось бы, до смешного: бывший директор ЦРУ Леон Панетта приходит в Oracle (производитель баз данных, при чем тут ЦРУ), советник президента США по нацбезопасности Кондолиза Райс — в Dropbox (производитель сетевого диска для перекидывания файлов, ну при чем тут нацбезопасность) и тому подобное.
Но становится ясно, что это вовсе не смешно, когда компания Oracle внезапно начинает покупать американский бизнес китайской компании TikTok по требованию администрации США, а облачный хостинг Amazon вдруг сносит плохую социальную сеть трампистов.
Мне лично, как разработчику программного обеспечения, интересно не это. Я не могу понять, почему Трамп так позорно слил медийную войну. Я уже писал в 2016 году, что это политологический миф, будто Трамп выиграл предыдущие выборы за счет невероятных новых технологий манипуляции микросегментами аудитории в соцсетях, с помощью инновационной фирмы "Кембридж Аналитика" и других яйцеголовых научных волшебников. На самом деле деньги Трампа на продвижение в интернете были по большей части украдены, как говорят знающие люди, а его предвыборную рекламу видели в основном боты — именно потому, что он в этом не разбирается и стал жертвой мошенников. А выиграл он за счет своего свежего и привлекательного месседжа для "ветхой Америки" (как называет ее Виктор Мараховский).
Медийное доминирование Клинтон в 2016 году было подавляющим: из пятисот "верхних" американских СМИ только 25 "топили" за Трампа, далеко не самые топовые. А остальные 95 процентов "топили" за Клинтон, как и все интернет-компании Google, FB, Twitter и другие.
Похоже, выборы тогда особенно никто и не подтасовывал, потому что не было необходимости — все были уверены, что при таком господстве в медийном воздухе у Трампа нет шансов.
Шок от победы Трампа показал демократам, что медийное давление — это еще не все. Они усвоили этот урок и на этот раз подготовились лучше. А именно: вместо общего непрямого, идеологического управления ИТ-платформами прислали им кураторов в органы управления, чтобы блокировать Трампа и трампистов в одночасье, просто по звонку; построили технологии фальсификации выборов (в том числе протащив голосование по электронной почте, с помощью которого потом вбрасывали сотни тысяч однородных писем за Байдена); построили систему легитимизации фальсификаций (в том числе на уровне высших судов, которые потом отклоняли иски Трампа "на подлете"); договорились со всеми институциями по передаче власти, что они признают победу их кандидата при любых фальсификациях, с банками, чтобы они закрывали счета Трампу. Ну и так далее.
То есть они урок выучили и сделали домашнюю работу.
Но почему его не выучил Трамп? Он же обещал в 2017-м расследовать деятельность проклинтоновских журналистов и топовых СМИ во время выборов и наказать их за ангажированность и медийные фальсификации. Но не сделал этого. Почему?
Он видел, что происходит с медийными ИТ-платформами, не мог не замечать все больше тревожных сигналов о подготовке атаки на себя и на своих сторонников ("вынос" трампистов и противников либеральной группировки из соцсетей и интернета начался сразу после 2016-го, пометки типа "президент врет" на его твитах тоже начались не во время выборов-2020).
Почему он не создал свои медийные средства? Разработать технический аналог Twitter или FB — вполне обозримая и подъемная задача, сейчас это сделать гораздо легче и дешевле, чем на заре социальных сетей, на рынке есть сколько угодно инструментов и специалистов. Это вопрос десятков миллионов долларов и года работы — которые у Трампа были.
А потом крикнуть своим 80 миллионам подписчиков в Twitter "айда за мной" — и вот тебе взлетающая независимая соцсеть, сразу преодолевшая трение покоя, проблему курицы и яйца.
Ну вот же — кто-то (возможно, Трамп или его трамписты) создали с нуля независимую от байдено-клинтонцев сеть Parler — технически работающую, но маленькую и уязвимую, уничтоженную на прошлой неделе буквально за пару дней. Но если ты рассчитываешь в медийной войне на сеть Parler (или вообще она твоя) — тогда купи для нее надежный хостинг не на ангажированном, управляемом противниками Amazon. Создай своего хостера, купи сервера, в конце концов. Конгресс не даст на это бюджета? Но ведь Трамп миллиардер, ему это по карману, казалось бы?
Все начинания и проекты Трампа оставляют смутное ощущение недоделанности, нерешительности, остановки перед достижением результата. Какой-то американский Янукович.
В чем тут причина? Он не разбирается в медиа и ИТ?
Может быть, это синдром хорошего мальчика, как уже писали неоднократно, нежелание его и его последователей-консерваторов нарушать правила или идти на прямую конфронтацию, забота о "благе Америки"?
Возможно, он не ожидал подобного агрессивного, подлого и наглого поведения оппонентов (подтасовки, медийная атака, блокировки, предательство аппарата)? Да, у негодяев всегда арсенал средств шире. Но и Трамп не выглядит монахиней.
Или это неспособность к систематической работе, гордыня, иллюзия, что он и так красавец, что можно управлять страной и миром с помощью твитов в своем супер-аккаунте? Ну, казалось бы, умный же мужчина, успешный супербизнесмен из списка "Форбс".
Можно выбирать объяснение на свой вкус. Но медийная война, выборы и политическая карьера в результате этой нерешительности — Трампом проиграны. Перебегание трампистов в Signal или в "наш" Telegram, продолжение медийной борьбы, кажется, уже ничего не решает. Власть сменила руки. И новые хозяева — систематичны и безжалостны. Участникам штурма Капитолия (не считая убитых при штурме) будут давать чудовищные американские сроки по 25-30 лет за "внутренний терроризм" и попытку госпереворота, остальных трампистов будут банить и блокировать, самому Трампу уже закрывают счета в банках, ему грозит импичмент, а также, скорее всего, настоящее уголовное дело за "провоцирование" того же штурма парламента.
В общем, Трамп свой урок не выучил и "за полстихотворенья полчетверки получил". Но мы-то не можем себе этого позволить. Мы в еще худшем положении, чем американский президент: мы совсем не контролируем популярные у нас FB, Twitter, YouTube, Instagram, в которых до 50-60 процентов всех аккаунтов пользователей Рунета, а эти платформы — в руках нашего геополитического противника, называющего нас врагом № 1 во всех своих стратегиях. Они уже банят наши каналы и сайты, занимаются пропагандой — в общем, подают нам те же самые косвенные сигналы, что подавали и Трампу в 2016-2020 годах.
Давайте учиться на чужих ошибках наконец уже.

Александр Разуваев: Стоит ориентироваться на $60-70 за баррель
В глобальной экономике доминирование США уходит в прошлое, уступая место доминированию Китая
Рынок ожидает, что вакцина от COVID-19 избавит мировую экономику от рецессии. При этом ФРС будет проводить очень мягкую денежно-кредитную политику. C высокой вероятностью в будущем году можно ожидать ослабления доллара США против основных мировых валют и рост большинства рынков акций. А также снижения цен на золото на фоне снижения глобальных рисков. Для нефтяного рынка это все также позитивно. Однако Байден, вероятно, смягчит санкции в отношении Ирана. Иран уже объявил о планах увеличить поставки на мировой рынок почти 2,3 млн б/с, что в 17 раз выше текущих объемов. Согласно последнему прогнозу ОПЕК, общий мировой объем спроса в 2021 году составит 95,89 млн б/с против 89,9 млн б/с в текущем.
Мы полагаем, что рынок переварит иранскую нефть.
Мы ориентируемся на $60-70 за баррель в будущем году.
По информации из деловых кругов, позитивный опыт использования цифрового юаня дополнительно усилит китайский валютный пакет в его противостоянии с номинированными в долларах финансовыми инструментами.
Это позволит значительно, до 50–55%, расширить бездолларовую зону в мировых транзакциях уже в течение первой половины 2021 года.
Это фактически лишит Федрезерв статуса эмитента мировой валюты номер один и запустит сход долларовой лавины внутри США. Последний сценарий выглядит почти фантастическим. Вместе с тем трудно отрицать, что в глобальной экономике доминирование США уходит в прошлое, уступая место доминированию Китая. При этом при Джо Байдене экономическая политика Вашингтона, несомненно, будет более разумной. Конфронтация с Европой и Китаем уступит место разрядке. Пока весь современный мир завязан на доллар США, Китай — крупнейший кредитор северо-американских штатов.
Рынок считает, что санкции Байдена не будут серьезными. Т.е. не затронут ОФЗ.
На фоне ускорения инфляции мы полагаем, что цикл понижения ключевой ставки Банком России подошел к концу.
На последнем заседании Банк России оставил ключевую ставку без изменений — 4,25%. В конце года Банк России начнет ужесточение монетарной политики. В начале 2021 года годовая инфляция превысит 5%, однако, в итоге снизится до таргета ЦБ в 4%. При этом очень вероятно укрепление рубля до 65-67 руб. за доллар и 78-80 за евро. Индекс РТС должен выйти примерно на 2000 пунктов, в этом случае капитализация рынка акций будет адекватна размеру ВВП.
Что касается перспектив возможного усиления налогового давления на бизнес, а также ужесточения контроля над доходами/расходами россиян, то хочется надеяться, что этого удастся избежать. Однако риски дальнейшего увеличения НДФЛ и корпоративного налога на прибыль существуют. При этом я бы вообще отменил НДФЛ с дивидендов по акциям — ведь дивиденды выплачиваются из чистой прибыли. Вероятно, борьба с зарплатами в конвертах ужесточится.
Александр Разуваев
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари»

«Цифровая битва началась…»
говорит специалист в области информационных технологий Игорь Ашманов
Андрей Фефелов Игорь Ашманов
"ЗАВТРА". Игорь Станиславович, недавно в системе "Гугл" произошёл глобальный получасовой сбой: перестал открываться YouTube, не работали почта Gmail, система Google Docs и так далее. Как заявили впоследствии специалисты американской компании, инцидент был связан со службой аутентификации, в которой возникли проблемы с квотой внутреннего хранилища. Но интересны не эти технические подробности, а то, что во время неполадок в недрах "архипелага ГуглЛага" отключились и наши внутренние социально значимые сервисы, например Сбербанк-онлайн и система продажи билетов РЖД. Почему это произошло?
Игорь АШМАНОВ. Конечно, данное отключение нужно изучить для точного диагноза, но, скорее всего, когда у Гугла "повалилась" система авторизации, это зацепило и приложения, основанные на сервисах и библиотеках Гугла. Приложение РЖД, выложенное в магазине приложений Google Play, возможно, использует систему авторизации самого Гугла, поэтому оно могло перестать работать. У нас вообще довольно много инфраструктуры завязано на сервисы Гугла. Конечно, многое в Рунете привязано к платформам Яндекса и Mail.ru, но тем не менее.
По сути, Интернет сейчас — это верхняя десятка суперсервисов, в которую входят помимо названных ещё Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и так далее. И есть ещё миллионы сайтов и приложений, которыми, как планктоном, питаются эти гиганты.
"ЗАВТРА". То есть наши внутренние системы очень сильно вросли в Гугл?
Игорь АШМАНОВ. Это Гугл в нас, скорее, врос. Поэтому при его очередном падении или отключении будет серьёзный кризис, глобальная встряска наших сайтов, платёжных систем, внутренних систем предприятий. Мы без него, конечно, проживём, но если его в одночасье выключить, то "повалится" почти весь Рунет.
"ЗАВТРА". Выключить нас могут и сознательно, и из-за технических неполадок. Но в любом случае получается, что мы не управляем ситуацией у себя в стране.
Игорь АШМАНОВ. Управляем, но с оговорками. Дело в том, что Россия стала "цифровой колонией" Запада уже довольно давно. Первый шаг к этому был сделан ещё в начале 70-х из-за рокового решения ЦК КПСС копировать серию суперкомпьютеров IBM 360, а не продолжать развивать свои. А ведь мы тогда были лидерами в области машинных вычислений, у нас были свои, оригинальные суперЭВМ, например, лучшая в мире БЭСМ-6. А причина примерно такая же, что и сейчас, — маркетинговая и товарная упаковка: у IBM 360 было больше приложений (баз данных, бухгалтерии и прочего), больше документации, протоколов использования, периферии.
Стали копировать — так была создана серия суперкомпьютеров ЕС ("Единая система") — ЕС-1055 и так далее. А наши суперкомпьютеры оказались "в загоне", хотя были круче и по производительности, и по архитектуре. То же касалось и собственных чипов и микропроцессоров: они до перестройки у нас были не хуже западных.
После 1991 года интеллектуальная собственность нашего проекта "Эльбрус" была куплена корпорацией Intel вместе с командой его создателя Бабаяна (около 300 человек). А ведь это был наш собственный процессор, превосходящий по архитектуре тогдашнюю интеловскую продукцию, — мы уже делали устройства следующего поколения. И коллектив проекта в те годы тоже частично переехал в США. Есть городская легенда, что интеловский Пентиум середины 90-х, собственно, назван так в честь перешедшего в Intel Пентковского — главного специалиста Бабаяна.
Ещё стоит отметить, что уже с середины 80-х к нам на массовый рынок "зашёл" Майкрософт с операционной системой (ОС) MS-DOS. Поначалу MS-DOS можно было воспроизвести, то есть сделать свою подобную систему. Например, компания "Физтех-софт" сделала свою операционную систему PTS-DOS. Но позже, когда в России появилась ОС Windows, все её стали просто пиратить. Я думаю, за 90-е годы мы недоплатили Майкрософту десятки или даже сотни миллиардов долларов — за разнообразные лицензии пиратских версий этой ОС и Офиса (MS Office). Это было классическое, почти стопроцентное пиратство в масштабе страны, но компания "Майкрософт" смотрела на это сквозь пальцы, потому что захватывала наш рынок. Периодически она устраивала разные перформансы, изображающие борьбу с пиратами, собирала конференции, раз в несколько лет пыталась запустить уголовные процессы, но в реальности никто всерьёз с копированием Windows и Офиса не боролся.
"ЗАВТРА". И в конце концов все мы стали работать на Windows — цель была достигнута.
Игорь АШМАНОВ. Да, мы даром повысили компьютерную грамотность населения, но стали зависимы от внешнего производителя. А потом наши крупные организации, в том числе государственные, начали платить за лицензии, ведь неприлично же госорганам бесконечно пиратствовать. Так оно и работает до сих пор.
Надо сказать, что эта "цифровая колонизация" произошла так или иначе во всём мире, наша ситуация не уникальна. У нас тоже, как и во всём мире, продвижение продуктов Майкрософт, Oracle шло путём взяток; эти западные компании были одними из самых крупных взяткодателей в нашей стране. Они подкупали IT-директоров крупнейших компаний (нефтяных, банковских) и накрывали их "маркетинговым зонтиком" — листовками, буклетами, презентациями, готовыми ТЗ, тренингами, обоснованиями, которые обеспечивали уверенность чиновника: меня не уволят, если я куплю Майкрософт.
И до сих пор, несмотря на законы об импортозамещении, идут гигантские закупки Windows и MS Office в разных организациях, в госорганах, госкорпорациях, даже там, где эта ОС и Офис в новой версии, да ещё в полной комплектации, никому не нужны. Условно говоря, и на вахтёра, и на уборщицу покупают Мicrosoft Office в максимальной комплектации, включая СУБД Access. Покупают сотни тысяч лицензий на рабочие станции.
Почему так происходит? Да потому, что люди, которые эти закупки делают, с Майкрософтом в одной лодке ещё с 90-х: живут с местными менеджерами MS рядом, дома построили на Рублёвке забор в забор — это одна тусовка, там абсолютный симбиоз.
И эта "цифровая колонизация" продолжается. С появлением мобильников она только усилилась.
"ЗАВТРА". С Гуглом, кстати, такая же история: семинары, обучающие курсы они не зря везде проводили.
Игорь АШМАНОВ. Конечно. Они всюду втюхивали Google Docs как средство коллективной работы с документами — в министерствах, в том числе в секретных отделах, в Минсвязи, в Минэкономразвития, в регионах. Везде пропихивали свои средства коллективной работы, хранение файлов на "облачных дисках". То есть они работают систематически, годами — с прицелом на будущее. Это и есть "цифровая колонизация".
Гугл может конкурировать с Майкрософтом на поисковом поле внутри США, а здесь они заодно. Это им очень выгодно, они друг другу помогают. Это, по сути, одна огромная колонизационная компания, размером крупнее большинства государств, входящих в ООН, примерно как раньше были гигантские Ост-Индская и Вест-Индская компании.
"ЗАВТРА". Но всё это явно противоречит нашей государственной стратегии, нацеленной на суверенный цифровой порядок.
Игорь АШМАНОВ. Это верно. И знаете, тут начинаются совсем нехорошие вещи. Ведь было уже не раз объявлено на самом высоком уровне, что надо перейти в такие-то сроки на отечественное программное обеспечение, но то Ассоциация банков России направит Путину просьбу отложить это на три года (не готовы, мол), то Торгово-промышленная палата начнёт по какой-то причине горячо поддерживать западников: дескать, давайте импортозамещение немножко затормозим, давайте ослабим условия…
Например, существует Реестр российского программного обеспечения ("Единый реестр Минкомсвязи для электронных вычислительных машин и баз данных"). Если кто-то хочет купить некое иностранное программное обеспечение, то по закону он должен обратиться к этому Реестру, и если есть отечественный аналог, то или не покупать зарубежные программы, или обосновать, почему нужно купить именно иностранное.
Так вот сейчас с разных сторон пытаются ослабить критерии вхождения в Реестр. Хотят добиться того, чтобы западные компании в лице своих российских юрлиц, бутафорских "прокладок", изображающих из себя местных разработчиков, а на деле пропихивающих Майкрософт, Oracle, SAP, признавались "российскими разработчиками". Хотя там всё шито белыми нитками, трюки эти на поверхности. И по другим направлениям очень много противодействия импортозамещению, много коррупции, ангажированности.
"ЗАВТРА". Помимо этого колониально-коррупционного аспекта у проблемы есть и объективная сторона: "рубильником" эту задачу не решить.
Игорь АШМАНОВ. Да, всё настолько проросло иностранным программным обеспечением. Самое ужасное, что 99% промышленных систем, то есть систем управления производством как дискретного, так и непрерывного цикла (так называемые АСУ ТП — автоматические системы управления технологическими процессами), у нас в стране западные. Западные системы управляют у нас и плавкой металла, и добычей нефти, и выработкой алюминия. Это, в частности, вызвано тем, что когда у нас предприятия приватизировались и выводились на западные биржи для привлечения инвестиций, то иностранные инвесторы ставили именно такие условия. Так же как и то, что самой компанией — финансами, поставками, кадрами, отчётностью — должна управлять исключительно платформа управления предприятием SAP R/3 — ведущая западная система.
Наши системы АСУ ТП на рынке имеются, и заменить систему управления на каком-нибудь гигантском заводе можно, конечно, но если только, фигурально выражаясь, приставить дуло пистолета к голове директора завода и приказать: "Всё заменяй!" Это ведь действительно чудовищно трудно: нужно менять не только программное обеспечение, но и бизнес-процессы, и привычки персонала.
"ЗАВТРА". А в западные системы не заложена возможность управлять процессами на наших предприятиях извне?
Игорь АШМАНОВ. Очень часто заложена. Сейчас подавляющее большинство компьютерных систем в нашей стране имеют удалённое управление. Они как минимум скачивают апдейты, то есть обновления, и мы уже знаем проблему с обновлениями — например, в Крыму их попросту отключили.
А недавно Московскому государственному техническому университету имени Баумана объявили, что он больше не будет получать обновления для Windows. Возможно, они посчитали, что Бауманка связана с оборонной промышленностью.
Но если даже установить у себя какую-то западную систему, а потом отключить её от Интернета, потому что таковы требования безопасности, то она через некоторое время устареет. Дело в том, что "материнская компания", которая всё произвела, постоянно находит уязвимости и присылает "заплатки" к ним — так называемые патчи, которые повышают безопасность, улучшают функциональность и тому подобное.
А ты не скачиваешь эти обновления и становишься уязвимым. А если ты скачиваешь обновления, то в них тебе время от времени прилетает и устанавливается неизвестно что — то, что может содержать в себе и управляющие инструкции, и передачу данных неизвестно кому. А тщательно проверять каждое обновление невозможно.
Есть и прямое удалённое управление. Я слышал истории о том, что, например, сложные станки с ЧПУ (числовым программным управлением), которые часто производят у нас что-нибудь оборонное, имеют встроенный GPS-модуль. И если такие станки переместить из цеха в цех, на 400 метров, к примеру, они могут выключиться. Формально это объясняется, например, внешними поставщиками тем, что они борются с перепродажей продукции: мол, вы станки переместили, а мы не знаем, куда и почему, — вот и выключили.
"ЗАВТРА". Значит, несмотря на все законы о суверенном Интернете, мы абсолютно голые — без кольчуги, без лат…
Игорь АШМАНОВ. Пока что да. Хотя кое-что своё у нас есть, безусловно. Нашими АЭС или ключевыми секретными объектами Минсвязи не управляют западные системы, в "оборонке" их тоже нет. Естественно, это касается и деятельности ФСБ, ФСО и особо важных структур остальных наших спецслужб. Но во многих других случаях мы действительно голые, беззащитные.
"ЗАВТРА". Что же делать? Существуют ли меры протекционизма цифрового?
Игорь АШМАНОВ. Они есть, прописываются в документах и инструкциях, но для их воплощения необходима государственная воля. А эта воля размывается двумя потоками. Первый — коррупционный, с которым всё понятно. А второй, примыкающий к первому, — гораздо хуже. Это желание дружить с Западом, быть "просвещённым европейцем", боязнь, что назовут "недемократом", "авторитарным душителем свобод". Таким представителям элиты хочется ездить на Запад, чтобы попутешествовать, "поесть в горных альпийских деревушках нежнейшего крафтового сыра недорого" (практически дословно цитирую), приобрести там собственность, детей учить "по-настоящему" и так далее.
Если бы государственная воля этим всем не размывалась, то было бы у нас примерно как в Китае. А в Китае сказали: "Мы к 2024 году должны полностью импортозаместиться по программному обеспечению и "железу" — по 25% в год. Всё! Исполняйте!" А там, если не исполнишь, у тебя будут огромные проблемы. Тебя проработают на партийном собрании, исключат из партии, снимут с работы и так далее.
Надо понимать, что Китай — это страна, управляемая компартией, живущая по пятилетним планам. Там бутафория с как бы частными компаниями нужна, только чтобы создавать фасад для Запада. Практически все миллиардеры, эффективные "стартаперы" и ведущие частные управленцы в КНР — члены КПК. У них в любой организации всегда есть свой первый отдел, профком, партком, в том числе в частных интернет-компаниях (котирующихся, заметим, на американских биржах и мимикрирующих под Гугл и Амазон). И они исполняют все партийные предписания.
Можно взять для примера недавний скандал с Джеком Ма, основателем "Алибабы". Этот миллиардер, член КПК, в конце октября на конференции в Шанхае сказал, что старое руководство страны не понимает, что у нас новая экономика, что искусственный интеллект (ИИ), онлайн-бизнес и микрокредиты нового типа — теперь самое главное. Тут товарищи по партии его поправили. Весь Китай вскипел, все как один писали: "Что за идиот! Как он себя ведёт?!" И человек исчез, его уже не видно в публичном поле. Планировавшееся самое большое в истории IPO (выход на биржу) внезапно отменили.
Так что попытки противоречить генеральной линии партии заканчиваются плачевно. Это Китай, они так живут. Похоже, их это устраивает. У нас это не так. К сожалению или к счастью, не знаю.
"ЗАВТРА". Китай не сдал свои рынки в 90е, не пустил к себе западные социальные сети. Нам в этом отношении гораздо тяжелее сейчас…
Игорь АШМАНОВ. Но, согласитесь, в 1941-м была ситуация куда хуже — у нас сходу половину европейской части страны захватили. Тем не менее Берия сумел вывезти заводы на восток и построить там новую промышленность, причём круче прежней, которая за полгода начала производить новые танки и пушки. И сейчас всё не так плохо. Нужны решимость и стремление работать.
В случае Китая основная история заключается в том, что эта страна, как бы производя поворот к контролируемому "социалистическому капитализму", не устраивала грабительской приватизации. Китай позволил развивать частную экономику сбоку — на пустом месте, в чистом поле, независимо от государственных активов. Никто там не грабил, не дербанил, не приватизировал. Не было воровских залоговых аукционов и криминальных банкротств здоровых предприятий. И только в позапрошлом году китайская частная экономика сравнялась по объёму с государственной — спустя почти 30 лет.
Китайская государственная воля — совершенно явственная, понятная: раз импортозамещаемся, значит именно так, а не иначе — и в заданные сроки. А если какой-то товарищ мешает процессу, то к нему пошлют партийный контроль, а потом и следователей: пусть поинтересуются, в чём дело.
"ЗАВТРА". Вопрос и в том, как грамотно замещаться, чтобы ничего не "полетело".
Игорь АШМАНОВ. Это решаемый вопрос. Смотрите, смысл того же закона о суверенном российском Интернете, принятого чуть более года назад, довольно прост — сделать свой "генератор Интернета". То есть поставить свой, образно говоря, дизельный генератор, а не ждать, пока сумасшедшие байдены нас выключат извне, и мы потеряем уже привычный и необходимый нам Интернет, потому что нам нечем будет "завести" систему.
Для этого необходимо дублировать серверы, маршрутизаторы раздачи имён, серверы раздачи сертификатов — тут всё понятно, как делать. Нужно запустить проекты, выделить средства, привлечь специалистов. Хорошо бы нанять генерального конструктора, как когда-то у нас было. Там нечего особенно придумывать даже, надо просто делать. Делать срочно: слишком многое зависит у нас от Интернета.
"ЗАВТРА". После ракет это самое главное, пожалуй.
Игорь АШМАНОВ. К сожалению, уже даже не "после". Это надо понимать. Ещё 5-10 лет, и всё будет решаться в области искусственного интеллекта, а не ракетами. Американцы рассчитывают с помощью высокоточного, автономного, сверхбыстрого "умного оружия" снять ограничения ядерного сдерживания и нанести первый удар. Это совершенно очевидно. Они об этом прямо пишут в своих государственных стратегиях, в стратегиях "мозговых центров", открыто говорят в публичных статьях.
"ЗАВТРА". Отсюда идея — вместо ИнтерНЕТа строить ИнтерДА на базе нашей военной системы "Портал", которую недавно презентовали в России.
Игорь АШМАНОВ. Я не знаю, что это за система, но думаю, что проще строить прямо на существующем "фундаменте", его лишь надо стерилизовать, сделать безопасным.
"ЗАВТРА". Есть ещё такая проблема: наш интернет-канал "День ТВ" существует в основном в пространстве YouTube, но, для того чтобы он развился, например, в Яндекс.Эфире, YouTube должен быть отключен…
Игорь АШМАНОВ. YouTube, конечно, можно рано или поздно отключить, потому что он явно нам враждебен, не считается с нашей юрисдикцией. Если будет продолжать в том же духе, не будет договариваться, — отключат.
Но чтобы на другой платформе раздавать миллионы роликов в день, нужно иметь гигантскую серверную базу. И иметь кроме центральной серверной базы систему доставки контента CDN (Content Delivery Network), которая в разных регионах кэширует (накапливает) то, что там смотрят. То есть всю эту огромную инфраструктуру надо ещё построить.
А проблема в том, что это стоит миллиарды долларов и не делается за неделю. В прошлом, когда два аспиранта построили YouTube, а потом продали его Гуглу, порог вхождения на рынок видеохостингов был низкий: рынка, по сути, ещё не было, нагрузки были ниже; можно было "въезжать" постепенно — пользователи тоже не сразу распробовали видеохостинги. Кроме того, один из этих аспирантов был зятем Джима Кларка, совершенно легендарной личности. Тот мог просто "подозвать" какой-нибудь знаковый фонд типа Sequoia Capital и сказать: "Вот этому аспиранту занеси-ка денег!" Так он, видимо, и поступил в данном случае (Джим Кларк — человек, который, по существу, создал известный нам Интернет, выпустил Netscape Navigator, создал компанию Silicon Graphics, сервис Heltheon).
С тех пор порог вхождения увеличился, и сейчас, чтобы сделать второй Яндекс, нужно потратить несколько миллиардов долларов. Даже Яндекс в масштабах Рунета, не говоря уже про аналог Гугла в мировом масштабе.
То же касается аналога YouTube в России. У нас есть Rutube (в "Газпром-медиа"), ещё что-то, но всё это развивается слабо, вяло. Там проблема с нагрузкой и с аудиторией. Это две стороны одной медали, а также замкнутый круг: не держишь нагрузку — не будет аудитории, значит, не будет денег, значит, не сможешь купить сервера, чтобы держать нагрузку.
Для создания аналогов западных интернет-сервисов нужно будет построить мощнейшие "серверные фермы", где только на "железо" уйдут миллиарды долларов. И здесь надо проявить государственную волю: если хотим всё-таки наш русский YouTube (с другим названием, понятно), то придётся подписать проект на 300-500 миллиардов рублей. Дешевле никак не сделать, а ведь деньги в таком проекте — далеко не основное.
"ЗАВТРА". И другого выхода нет! Иначе нас сожрут.
Игорь АШМАНОВ. Да, другого выхода нет. Но и "входа" такого пока не видно. Поясню ситуацию на примере поисковиков (это и к YouTube приложимо). Предположим, есть два поисковика, которые ищут примерно одинаково по качеству. Но если ваш поисковик будет отдавать результаты поиска на полсекунды медленнее, с него начнут перебегать миллионы пользователей в неделю. И постепенно перебегут все. Вот что такое полсекунды — время реакции пользователя. Чуть затормозилось — и конец вам. От вас все уйдут.
"ЗАВТРА". Так это инструмент воздействия — можно замедлить конкурента! Разве нет?
Игорь АШМАНОВ. Можно замедлять Гугл (на мой взгляд, это вполне допустимый протекционизм, который только что, в декабре, узаконен Госдумой), но только если ваш поисковик быстрее и лучше работает. Можно замедлять YouTube, но только если у вас свой видеохостинг будет работать быстрее, а это стоит гигантских усилий и денег. Чтобы быстро "отдавать" миллионы роликов, нужна своя выстроенная инфраструктура, и только потом можно закрывать или замедлять западные ресурсы.
Помимо денег такое импортозамещение требует очень квалифицированных людей, которых в стране всего пара сотен. Их надо переманить, замотивировать, уговорить, дать им денег на "железо", так как без этого они не будут работать. Нужно не спугнуть их "эффективными" администраторами, которые не понимают в предметной области. Я в таких ситуациях пару раз был. Меня звали, например, делать поисковик "Спутник". Помните такой?
"ЗАВТРА". Да, был такой проект, разрекламированный.
Игорь АШМАНОВ. А средств на него дали в пятьдесят раз меньше, чем нужно. Мне лично было заранее известно, что этого точно не хватит. Мы ведь непосредственно перед этим делали с нашей командой новую версию поисковика "Рамблер", мы могли бы сделать и "Спутник", но не в условиях такой нехватки средств и административного давления. Ходить в магазин без денег — неинтересная деловая игра.
"ЗАВТРА". То есть нам нужен аналог нашего атомного проекта как некая абсолютная программа выживания в XXI веке?
Игорь АШМАНОВ. Да, и это должен быть цифровой проект. Но он не должен быть программой, которую напишут Сбербанк, "сколковские" и прочие "институты развития"… Тем более что они до сих пор ничем особенным не прославились, кроме того, что счета умеют открывать и деньги переводить. Это не венчурное инвестирование в стартапчики, а стратегический проект масштаба страны и планеты. И западные апологеты искусственного интеллекта ("евангелисты цифры") в этом проекте не нужны. Такой работой должны заниматься совершенно другие люди.
"ЗАВТРА". Этот сверхпроект обязательно состоится в России. Только когда, какой ценой?
Игорь АШМАНОВ. Конечно, проект состоится, здесь нельзя опоздать и проиграть. Цифровая гонка началась, в частности, в сфере ИИ. Китай уже принял стратегию развития ИИ. В США тоже издана стратегия по ИИ и высоким технологиям, где написано, что они будут доминировать в этой сфере, а Россия является врагом номер один. Враг номер два — Китай.
Мы не можем не участвовать в этой гонке. У нас очень хорошие шансы, ведь наши программисты — лучшие в мире, и у нас по-прежнему лучшее в мире математическое образование.
Мы можем в этой гонке стать лидерами. Не обязательно лидировать по всему спектру, надо выбрать несколько ключевых направлений и на них всех обогнать так, чтобы даже сомнений не было. Как с Гагариным.
"ЗАВТРА". Нашему обществу предстоит ещё пройти между Сциллой и Харибдой — между обскурантизмом, который отрицает цифровизацию, считая её исчадием ада, и колониальным "цифровым сознанием", радостно пользующимся чужими сервисами.
Игорь АШМАНОВ. Да, так как и то и другое смертельно опасно. Нам обязательно нужно в этой сфере работать, необходимо удержать ценные кадры. Нужно им предложить проекты космических масштабов. И подумать об их быте: о специальной ИТ-ипотеке, о социальных пакетах, чтобы программист и не думал куда-то уехать. Нужно сделать всё, чтобы он в своей тёплой "капсуле" мог заниматься любимым делом — программированием. И главное, чтобы были масштабы, поражающие воображение. Как, например, в конце 80-х вся страна делала "Буран". Сотни предприятий, тысячи институтов внесли свою лепту в эту программу.
"ЗАВТРА". Это и есть наша национальная идеология на ближайшие годы. Ничего другого и не надо!
Игорь АШМАНОВ. Я думаю, что да. Может, и на Марс неплохо бы полететь. Это тоже "вытащило", оздоровило, загрузило бы у нас всё. Короче, такие большие проекты необходимы.
"ЗАВТРА". Так и будет. А если вернуться к тому краткому глобальному сбою, о котором мы говорили в начале беседы, то легко можно представить ситуацию: вам надо было в тот момент срочно ехать, а продажа билетов остановилась. И если вы на вокзале попытаетесь постучаться в окошко к доброй тётеньке-кассиру: "Продайте, пожалуйста, билет!" — то и она только разведёт руками: "У меня не работает компьютерная система…" Это же касается и магазинов, и денег вообще как таковых — всё завязано на Интернете. И если вдруг встанут системы жизнеобеспечения из-за того, что за океаном что-то закоротило или нас намеренно отключили, найдётся ли у наших властей экстренный план "Б"?
Игорь АШМАНОВ. Надеюсь, что да.

Хайль, Твиттер
Илья Титов
Произошедшее 6 января в Вашингтоне открыло не календарный — настоящий 2021 год. 2020-й начался с убийства Касема Сулеймани, напомнившего миру о хрупкости существовавшего миропорядка, которому суждено было пасть под вой сирен "скорой помощи". 2021-й открылся тем, что ворвавшиеся в здание Конгресса показали, насколько американский Deep State, взявший в заложники весь мир, истеричен и мстителен.
Итак, 6 января сотни людей ворвались в здание на Капитолийском холме. Были выбиты несколько окон и дверей, конгрессменов, обсуждавших заявление представителя штата Аризона о фальсификациях на выборах, пришлось эвакуировать, а некоторые залы — баррикадировать. При штурме одного из помещений охранник здания без особой необходимости открыл огонь. Ветеран ВВС Эшли Бэббит получила ранение в шею и позже скончалась. Протестующие всё же прорвались в здание. Но, ворвавшись внутрь, толпа разбрелась по коридорам и кабинетам этого громадного строения, принялась фотографироваться и брать на память всё, что не прикручено, — так, по некоторым данным, в руках протестующих оказался жёсткий диск с компьютера спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и стойка для пресс-конференций с эмблемой Конгресса. После того, что можно описать как "излишне агрессивная экскурсия", но никак не "разгром здания парламента", все разошлись.
И здесь началось самое интересное.
Сразу после того, как Капитолий опустел, а на площадь перед ним высыпали вооружённые гвардейцы, было объявлено о том, что ФБР внёс всех, кого удалось идентифицировать, в списки потенциальных террористов. Это значило, что любые авиаперелёты для них отныне закрыты, а во многих компаниях они оказались персонами нон грата. В глазах демократических деятелей право на бунт есть только у отрядов антифа, чьи пожары и беспорядки принято называть "мирными протестами". А когда демонстранты (не исключено, что ведомые опытными провокаторами из тех же активистов антифа) разбивают в Капитолии окно и выбивают двери, попутно роняя какие-то предметы мебели, это называется "переворотом", "мятежом", "покушением на демократию" и "внутренним терроризмом".
Именно последний термин употребил тот, кто проложил себе дорогу в Белый дом голосами мертвецов. Байден назвал требовавших честных выборов "мусором и бунтовщиками", в чём ему вторили бесчисленные толпы журналистов. Покойную Эшли поливали грязью — так, публицист Артур Чу заявил, что рад тому, что Бэббит "кормит червей". Женская солидарность, на которую так любят упирать феминистки, оказалась забыта — довольно быстро публике разжевали, что бывшая военнослужащая сама напросилась, и вообще пуля по ней давно плакала. Другие вслух мечтали о том, чтобы все присутствовавшие на митинге в поддержку Трампа разделили судьбу Бэббит. Эти же самые люди, напомним, в мае рвали на себе волосы по поводу смерти от передоза бандита-рецидивиста Флойда.
Дальше — больше! В крупных СМИ пошла волна раскрытий личностей участников демонстрации, и некоторые рядовые пользователи Твиттера с радостью поддержали бессовестную акцию. Дошло до того, что некая девушка в отместку за то, что мать не отпустила её на протесты BLM летом, выложила пост с данными своей собственной матери на митинге, в результате чего последняя мгновенно оказалась жертвой травли и была уволена с работы. В такой ситуации оказались сотни человек — к ним были применены куда более жёсткие меры, чем к грабителям и ворам, опустошавшим американские города этим летом. В такой ситуации очень пригодилась бы помощь людей, обладающих большими полномочиями. Но видные представители Республиканской партии — Линдси Грэм, Митт Ромни, Буш-младший, Митч Макконелл — отвернулись от тех, кто маршировал с их лозунгами, назвали произошедшее попыткой государственного переворота и объявили протестующих врагами Америки.
Параллельно с митингом в Вашингтоне проходили выборы в Сенат в Джорджии. Отныне и впредь за исход выборов демократы могут не волноваться — можно выставить кандидатуру хоть живого трупа, хоть дохлой вороны, хоть табуретки и всё равно получить нужное количество голосов. Так и произошло в Джорджии, где республиканцы в пух и прах проиграли последние выборы и потеряли контроль над Сенатом. Теперь весь Конгресс и Белый дом — две из трёх ветвей власти — оказались в руках демократов.
Для Байдена, от которого требуется хотя бы сохранять видимость вменяемости следующие два года, это станет мощным подспорьем для претворения в жизнь любых инициатив либерального мейнстрима. При этом можно быть уверенным, что демократический Конгресс не будет терять времени даром, как это делали республиканцы, последние несколько лет всё собиравшиеся, да так и не собравшиеся урезать свободу воздействия соцсетей на публичное информационное поле, заставить их подчиняться Первой поправке, гарантирующей любому свободу слова. Правый публицист Мэтт Уолш отметил, что все четыре года президентства Трампа республиканцы — как партийные функционеры, так и рядовые граждане — занимались убеждением себя в том, что всё происходящее — сложная шахматная партия и что нельзя делать резких движений, чтобы не спровоцировать врага.
Теперь потерявшие власть республиканцы обречены беспомощно наблюдать, как враг, совершенно не стесняясь и не задумываясь ни о каких шахматных партиях, принимает и утверждает одну безумную инициативу за другой. Так, первым шагом Байдена-президента, который ещё недавно обещал "примирить всех американцев", станет разработка и принятие закона о борьбе с внутренним терроризмом, который будет духовным наследником "Патриотического акта" (к нему, кстати, тоже в своё время приложил руку Байден) и позволит спецслужбам и другим организациям ещё глубже проникать в частную жизнь граждан, нормализовав и узаконив то, что творилось в следующие несколько дней после штурма Капитолия. Само собой, ни о каком ограничении влияния Big Tech (так, по аналогии с Big Pharma, прозвали олигополию, оккупировавшую рынок социальных медиа) речи не идёт — верные сторонники либеральной диктатуры с радостью поспособствуют травле любого, на кого падёт хотя бы тень обвинения во внутреннем терроризме.
Демократы полны намерений утвердить свою победу окончательно и бесповоротно — Нэнси Пелоси, чей кабинет оказался осквернён присутствием в нём простолюдинов, объявила о готовности начать очередную процедуру импичмента. Конечно, это глупость — большинство в Палате представителей и численное большинство в Сенате никак не помогут демократам, ведь для отстранения президента от власти нужно 2/3 голосов сенаторов. Но сам факт того, что главная демократка рвёт и мечет в попытках выгнать из Белого дома того, кому и так скоро оттуда выезжать, очень показателен. Пелоси позвонила главе американского Комитета начальников штабов с требованием (на которое у неё нет ни тени полномочий) аннулировать коды доступа к ядерному оружию, чтобы "спятивший" Трамп не развязал ядерную войну. На это советник Пентагона по ядерному оружию прямым текстом обвинил спикера нижней палаты американского парламента в том, что та несёт вздор и ничего не понимает в принципах действия ядерного оружия.
Трамп при этом продолжает стоять на своём. Он заявил, что никогда не признает итоги выборов и не пойдёт на инаугурацию Байдена, на что сам Байден, которому уже 20-го числа предстоит обращаться ко всей стране со ступеней, ещё недавно бывших площадкой для "внутреннего терроризма", ответил что-то в духе "вот и хорошо".
Чтобы Трамп не мог обратиться к нации, Твиттер сначала заблокировал, а потом удалил аккаунт президента США. В бессрочный бан отправились также десятки тысяч аккаунтов сторонников Трампа не только в Твиттере, но и в сообществах на Reddit и Facebook. Twitch, Shopify, Instagram, Snapchat, Discord — все эти сервисы одновременно устроили массовую зачистку по спискам, которые, очевидно, хранились у них уже очень давно.
Это было колоссальным ударом по Трампу, поскольку президент предпочитал все четыре года обращаться к аудитории напрямую, через соцсети, без посредничества СМИ, гораздых переиначивать и выкручивать даже самые нейтральные его высказывания. Фактически Трамп был Трампом только в Твиттере — даже такие не допускающие двойных интерпретаций вещи, как брифинги из пресс-зала Белого дома, истолковывались экспертами телеканалов в удобном для демократов ключе. Когда исчез аккаунт Трампа с 89 миллионами подписчиков, исчезла связь Трампа с ними. Твиттеру с его громадной аудиторией просто не осталось альтернатив. Радикальные любители рыночной экономики в ответ на такие волны банов всегда говорят что-то вроде: "Не нравится? Иди и сделай свой собственный Твиттер и бань там кого хочешь". Этот "собственный Твиттер" — независимая сеть Parler — ненадолго стала прибежищем изгнанных из Твиттера. Трамп тоже перенес аккаунт на Parler, но в ответ Гугл снёс приложение Parler из своего маркета, а Apple поставил его руководству ультиматум: либо Parler вычищает и цензурирует аккаунты консерваторов в соответствии с мнением Apple, либо приложение Parler уничтожается в Applestore. В довершение провайдер отключил электронную почту Трампа.
Также Твиттер удалил аккаунты Сидни Пауэлл — адвоката, занимавшегося фальсификациями на выборах, и знаменитого генерала Майкла Флинна. Были уничтожены аккаунты самого популярного в США радиоведущего консерватора Раша Лимбо и ютуб-канал идеолога консерватизма Стива Бэннона.
Атака на сторонников Трампа была проведена одновременно и скоординированно — всё это напоминало глобальный интернет-путч, переход информационных гигантов на совершенно другой уровень, их открытую декларацию себя как филиала Демократической партии. Былая скромность и изворотливая трактовка правил были отброшены — на смену им пришла твёрдая решимость карать отклоняющихся от линии партии. Новое слово "деплатформинг" (лишение доступа к информационным площадкам) уже прочно вошло в словари 2021 года как аналог внесения в проскрипции.
Разумеется, западные массмедиа восприняли это сугубо положительно (их реакция уже давно не удивляет), а вот мнения российского медиапространства представляют определённый интерес. Оппозиция в общем и целом поддержала решение тех, кто выделяет им гранты. Само понятие свободы слова и цензуры оказалось ими хитро вывернуто. Блогер Максим Кац, например, заявил, что когда цензуру осуществляет частная компания, то это не цензура вовсе, а совсем даже наоборот. Следуя логике Каца, неугодных скоро перестанут обслуживать в торговых сетях — ведь они же частные, а это право частного бизнеса, кого обслуживать, а кого нет.
Сотрудница Навального Любовь Соболь вообще поставила происходящее в пример России, которой Люба и её друзья так страшно недовольны. "Так и работают институты общества", — заявила она. Ещё один соратник Навального Владимир Милов в своём Твиттере на кривом английском пролепетал своим западным хозяевам, что российская оппозиция не поддерживает Трампа, — как писал Достоевский, русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить.
Публицисты патриотических взглядов в который раз уповали на создание в России щита против беспредела западных соцсетей. Одни вспоминали случаи громких банов последних четырёх лет, а другие пытались предсказать, кто же падёт следующим. Среди этого хора голосов очень редко звучало самое главное: управляющий Соединёнными Штатами надправительственный конгломерат толстопузов Уолл-стрита, вашингтонских демократов, либеральных журналистов и модераторов соцсетей окреп настолько, что сумел заткнуть рот действующему президенту. Сам факт того, что IT-компания лишила президента США единственного надёжного канала связи с аудиторией, означает, что суперкорпорации заменяют государства, а люди становятся лишь обслугой для гигантских механизмов этих суперкорпораций.
Всё чаще в массмедиа стали звучать мнения о том, что демократы так и не извлекли никакого урока из четырёх лет президентства Трампа, что вашингтонский Deep State ничего не понимает, что в будущем намеренное поливание грязью 74 миллионов американцев (чьё число будет лишь расти) ещё аукнется… Это вряд ли. Сидящих в Вашингтоне можно считать кем угодно — сволочами, мздоимцами, но нельзя считать идиотами — это крайне опасное заблуждение. Разгул американской геронтократии, оккупировавшей Белый дом и Конгресс, больше напоминает не заблуждение глупца, а сознательное повышение оборотов безнадёжно умирающего двигателя. Америка ещё не выжата досуха, ей ещё многим предстоит насытить своих хозяев. И лишь после того, как некогда сиявший град на холме будет разорён, сожжён, разгромлен ордами либеральных хунвейбинов, завален неубранным мусором от калифорнийских наркоманов и оставшимися от вольностей частной медицины трупами, глобальный паразит, потрёпанный собственноручно вызванным коллапсом глобальной экономики, присосётся к новой жертве. Только тогда действительно настанет постамериканская эра, наступление которой на днях провозгласил глава американского Совета по международным отношениям Ричард Натан Хаас.

США НЕ СМОГЛИ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЮ КИБЕРСТРАТЕГИЮ, И РОССИЯ ВНЕЗАПНО АТАКОВАЛА
РОБ НЕЙК
Старший научный сотрудник Совета по внешним связям Совета по внешним связям и научный сотрудник Центра Белфера Гарвардского университета. С 2011 по 2015 гг. был директором в Совете национальной безопасности, отвечавшим за политику в киберпространстве.
В этой статье отечественному читателю особенно интересны предложения автора, что считать адекватными ответами на кибератаки, а что нет и почему. Довольно познавательно и явно востребуется в скором времени для понимания перспектив.
В прошлом месяце компания FireEye, занимающаяся кибербезопасностью, предупредила правительство США о том, что хакеры взломали его защиту и получили доступ к сетям клиентов, включая многочисленные федеральные агентства и крупные корпорации. С тех пор государственные следователи раздобыли доказательства гигантской операции по взлому сетей, которую на протяжении многих месяцев осуществляла иностранная держава. В результате получен доступ как минимум к внутренней информации 18 тысяч компаний и государственных организаций из-за слабых связей в цепочках поставок: управляющих программах, разрабатываемых и поставляемых техасской компанией SolarWinds. Аналитики всё ещё расследуют источник взлома, но факты указывают на российскую Службу внешней разведки, известную как СВР. Похоже, Россия легко преодолевает кибероборону США. По меньшей мере, шесть федеральных ведомств не сумели выявить злонамеренных действий в своих сетях, включая Государственный департамент, министерства торговли и энергетики.
Дорогостоящая система Einstein, закупленная Департаментом внутренней безопасности, также не распознала этой враждебной активности. В конце концов, взлом обнаружен не искусственным интеллектом, не алгоритмами машинного обучения и не с помощью засекреченных возможностей контрразведки, а сотрудником компании FireEye, заподозрившим неладное. Хакеры попытались добавить многофакторную аутентификацию к взломанному устройству, действующему в сети FireEye, и аналитик из центра безопасности попросил собственника устройства проверить легитимность запроса. Владелец сказал, что это нелегитимный запрос, и FireEye начала расследование, которое позволило разоблачить кампанию взлома сетей.
Такой грандиозный провал вполне логично мог бы побудить наблюдателей задним числом раскритиковать давно принятую Соединёнными Штатами киберстратегию. Но по мере того, как всплывают детали хакерской кампании, они, похоже, свидетельствуют о том, что дело тут не в стратегии, а в её выполнении.
Чтобы устранить уязвимость нашей страны, сегодня требуется не новая большая стратегия кибербезопасности, а дисциплина и средства для реализации имеющейся.
Это означает, что нужно заложить фундамент для совершенствования сотрудничества и координации между государственными ведомствами и частными технологическими компаниями по проведению тщательного расследования провалов, которые привели к взлому систем компании SolarWinds. Затем требуется пропорциональная реакция и принятие мер, которые в будущем позволят своевременно обнаруживать кибератаки со стороны России и других противников США.
Жизненно важное государственно-частное партнёрство
В течение двух десятилетий, и даже более, американская киберстратегия обусловливалась потребностью совместной работы правительства и частных предприятий по противодействию угрозам. Ни одно федеральное ведомство не сможет выявлять и сдерживать всех зарубежных противников в киберпространстве, необходимо сотрудничество государственного и частного сектора. Тем не менее Соединённые Штаты так и не создали структуры или возможности, необходимые для полноценной организации совместных усилий. Вместо этого каждые четыре-восемь лет президент или Конгресс собирают разные группы экспертов для долгого обсуждения нового подхода. Это делала Комиссия по кибербезопасности при центре стратегических и международных исследований для 44-го президента США в 2008 г., Комиссия Белого Дома по усилению национальной кибербезопасности в 2016 г., а также прошлогодняя Комиссия по киберпространству (Cyberspace Solarium Commission).
У каждой из этих комиссий были широкие полномочия для переосмысления киберстратегии, и каждая пришла к одному и тому же выводу: единственный жизнеспособный подход заключается в государственно-частном партнёрстве. Каждая из комиссий рекомендовала длинные перечни средств для налаживания партнёрства, в том числе за счёт усиления механизмов и процедур сотрудничества и обмена информацией между федеральными ведомствами и частным сектором. К сожалению, большая часть рекомендаций были выполнены частично или вообще проигнорированы.
Например, в 2014 г. хакеры, связанные, как представляется, с правительством Северной Кореи, взломали файлы компании Sony Pictures. В ответ администрация президента Барака Обамы создала Центр исследования киберугроз (CTIIC) наподобие Национального центра борьбы с терроризмом для координации сбора и передачи информации о киберугрозах. Но этому центру CTIIC не было предоставлено достаточного финансирования или полномочий для осуществления миссии. Конкуренция, забота о неприкосновенности личной жизни, а также культура секретности и конфиденциальности по-прежнему препятствуют свободному обмену информацией о киберугрозах разведывательными сообществами, ведомствами и частными охранными предприятиями.
Пока преждевременно давать точный диагноз причин провала разведывательного сообщества, чтобы сказать наверняка, почему оно не сумело своевременно выявить российскую кампанию взлома сетей и воспрепятствовать ей. Возможно, Агентству национальной безопасности США (АНБ), которое отслеживает кибератаки против государственных учреждений и частных американских компаний, не удалось получить доступ к российским сетям и проследить за действиями российских спецслужб. Ещё больше тревожит возможность того, что правительство просто не сумело связать все факты в единое целое: АНБ и другие разведывательные ведомства, вероятно, собрали отдельные элементы ребуса, но не делились ими с другими государственными учреждениями или частными предприятиями, которые не смогли сопоставить их с данными правоохранительных структур или частного сектора. Поэтому и не удалось вовремя распознать хакерскую кампанию и принять меры до того, как был причинён ущерб.
Соединённые Штаты отчаянно нуждаются в достаточно масштабной организации, наделённой необходимыми полномочиями для разработки и реализации централизованной политики в сфере кибербезопасности, а также для мобилизации федеральных ресурсов, требуемых для успешного проведения этой политики.
К счастью, пробел вскоре будет восполнен. В Новый год Конгресс принял Закон о полномочиях в области национальной обороны. Тем самым была выполнена одна из главных рекомендаций Комиссии Solarium относительно назначения национального директора по кибербезопасности (НДК) в Белом Доме. У него должно быть достаточно сотрудников и полномочий для преодоления помех в координации усилий по реализации киберстратегии, с которыми страна сталкивалась в последние два десятилетия. (Остаётся посмотреть, выделит ли Конгресс достаточно средств для нового управления, которые позволили бы ему выполнить поставленную задачу).
Как только должность будет утверждена, НДК следует провести исчерпывающее расследование последнего провала, чтобы понять, как СВР смогла проникнуть в американские сети и шпионить за ними несколько месяцев, оставаясь незамеченной. НДК должен будет не только документировать возможные провалы американской политики и систем безопасности, но и предлагать решения, проверять и реализовывать их. Если расследование натолкнётся на препятствия (например, не желающие сотрудничать федеральные ведомства или частные компании), НДК должен будет документировать эти препоны и добиваться от Конгресса полномочий на их преодоление. Когда будут найдены компромиссы между неприкосновенностью частной жизни и безопасностью, НДК необходимо изложить перед законодателями свои озабоченности, чтобы они утвердили достигнутый компромисс.
По всей вероятности, НДК обнаружит, что системы потерпели неудачу на всех уровнях. Некоторые инструменты кибербезопасности окажутся неспособны выявить признаки злонамеренных действий. Другим удастся обнаружить подобные действия, но работающие с ними ведомства или компании не поделятся находками с остальным сообществом, обеспечивающим кибербезопасность. Если НДК удастся это вскрыть в процессе расследований, ему следует предложить новые механизмы и стимулы для обмена информацией между всеми заинтересованными ведомствами, а также между государством и частным сектором.
Тщательно выверенная реакция
Будущей администрации избранного президента Джо Байдена необходимо не только повысить способность Соединённых Штатов обнаружить и пресекать хакерские кампании, но и реагировать на вмешательство России во внутренние дела США таким образом, чтобы сдерживать агрессию в киберпространстве в будущем. Какой должна быть эта реакция и как её преподнести, будет зависеть от мотива хакерской кампании, проводимой Россией. Американские аналитики по-прежнему над этим работают.
Если все улики будут указывать на то, что данная кампания была призвана подготовить почву для разрушительной кибератаки на правительство или промышленность, могла бы быть оправдана аналогичная реакция – например, отключение электричества в Москве.
Однако если целью России был шпионаж, оправдать такие карательные действия будет труднее. В этом случае Москва не нарушает нормы сбора разведывательной информации – в конце концов, это то, чем занимаются разведки всех стран. Когда шпионов ловят с поличным, страны, за секретами которых они охотятся, заявляют вялые протесты, но дают понять по другим каналам, что не намерены прибегать к эскалации. Как сказал генерал Майкл Хейден, руководивший ЦРУ и АНБ при администрации президента Джорджа Буша – младшего после того, как Китай взломал файлы Управления кадров США, «позор не им, а нам».
Возможно, будущая администрация пожелает рассмотреть принятие новых норм, согласно которым такой широкомасштабный сбор разведданных будет признан неприемлемым. Такие нормы могут улучшить положение Соединённых Штатов по отношению к их недругам, поскольку США смогут добывать нужную им информацию посредством ограниченных, целенаправленных операций или пойти на риск организации широкомасштабной кампании в надежде не быть пойманными с поличным. Шпионские действия отчасти считаются приемлемыми из-за предположительно стабилизирующего влияния шпионажа: засекреченная информация часто свидетельствует о том, что намерения недругов не столь зловещи, какими до этого казались. Однако эта норма сбора разведданных появилась до возникновения киберпространства, и она не учитывает того, что хакеров нередко ловят публично или при обстоятельствах, когда правительства не могут молчать (если это делается третьими сторонами). В демократиях такого рода публичный скандал оказывает дополнительное давление на избранных лидеров, побуждая их отреагировать на кибершпионаж эскалацией.
Вызов для будущей администрации в том, чтобы отреагировать на взлом SolarWinds пропорционально, не копируя при этом дурное поведение Москвы.
Такая реакция телеграфирует русским, какие аспекты её хакерской кампании можно считать более или менее приемлемыми, а какие США считают недопустимыми и выходящими за рамки дозволенного.
Но какие бы сигналы новая администрация Байдена ни посылала, и какие бы действия ни предпринимала, ей будет трудно защитить федеральные ведомства и частные предприятия от будущих хакерских кампаний, если она не реализует киберстратегию, впервые сформулированную более двух десятилетий назад. Только сильное государственно-частное партнёрство, содействующее обмену разведывательными данными, собираемыми в киберпространстве, а также скоординированный ответ на угрозы, сможет сохранить все системы Соединённых Штатов в безопасности.
Foreign Affairs

С Америки сдирают шкуру
граждане России, кончается время вечеринок, фестивалей, праздничных салютов
Александр Проханов
Дональд Трамп - белый революционер. Он поднял восстание белых - восстание изначальной традиционной Америки, которая была поругана, затоптана банкирами, глобалистами, беспощадными либералами. Восстание Трампа было восстанием националистов, которые стремились свернуть глобалистский курс, уйти из Европы и НАТО, выйти из мировых договорённостей, будь то иранская сделка, всемирное экологическое соглашение или договор с Россией по разоружению.
Трамп сделал ставку на Америку, которая трудится на заводах, служит в армии, совершает открытия, стремится в космос. Он хотел отринуть паразитарный, медийный, основанный на либеральной мифологии, слой, который истощал Америку, погружал её на историческое дно.
Это белое восстание провалилось. Крупнейшие информационные корпорации Америки, которые контролируются либералами, устроили травлю Трампа, делая его посмешищем и идиотом в глазах американцев. Во время предвыборной кампании они всей своей мощью, всеми своими бульдозерами сгребали избирателей к урнам, убеждая голосовать за Байдена. Грандиозная фальсификация, которую стремился вскрыть Трамп, не нашла отражения в СМИ, а напротив, была зашифрована прессой. И вся технология чудовищной фальсификации - голосование по почте, бесконечные вбросы - оставалась невидимой для большинства американцев.
Либералы, сокрушая белую революцию Трампа, устроили чёрную контрреволюцию, выведя на улицы американских городов чёрных расистов и левых экстремистов троцкистского толка. Уличные беспорядки, погромы и поджоги были интерпретированы прессой как протест чёрного населения, отвергающего белый расизм Трампа. Вина за эти погромы возлагалась на Трампа. Когда состоялся подсчёт голосов и Байдену была вручена победа, Трамп, истерзанный, загнанный в угол, доведённый до психического отчаяния, направил своих сторонников на штурм Капитолия. Этот подавленный штурм был последним аккордом блестяще разыгранной симфонии ниспровержения революции Трампа. Штурм Капитолия напоминал поджог Рейхстага в 1933 году, что позволило Гитлеру разгромить коммунистов и социал-демократов и установить в Германии тотальную нацистскую диктатуру.
Подобное происходит сейчас в Америке. Трамп сокрушён. Его трусливые сторонники предали его и разбежались. У победивших демократов больше нет конкурентов ни в законодательной, ни в исполнительной власти. Наступает пора однопартийной диктатуры. Республиканцам больше никогда не увидеть Белого дома. Они диффамированы, они будут загнаны в свои норы, в тупики. И Америка Байдена обретает форму либеральной, глобалистской, цифровой постковидной диктатуры. Именно с этой диктатурой придётся иметь дело России. Именно эта концентрированная, могучая, несокрушимая мощь направит на Россию все свои удары. И Россия, которая возводит бастионы по периметру своих границ, должна успеть к началу тотального американского наступления.
Граждане России, кончается время вечеринок, фестивалей, праздничных салютов. Слушайте чёрные рупоры громкоговорителей, вещающих с фонарных столбов. Ждите услышать: «Отечество в опасности. Россия, примкнуть штыки!»

Самый мирный смутьян
Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")
До инаугурации Джозефа Байдена остается неделя, которая будет наполнена страстями, слухами и склоками, однако можно смело подводить итоги президентства Дональда Трампа. Останется он в политике или нет, станет внесистемным игроком и попытается сплотить обделенных или попробует бороться за влияние на Республиканскую партию - это следующий этап. Эксперимент с эксцентричным смутьяном в Белом доме окончен.
Трамп - столь яркий персонаж, что при оценке его политики трудно сохранять беспристрастность. Попробуем абстрагироваться от эмоций.
В Соединенных Штатах он обеспечил срывание "всех и всяческих масок" - острое социально-политическое противостояние и раскол общества, копившиеся с 1980-х годов, выплеснулись наружу в форме, как многие назвали, "холодной гражданской войны".
Не Трамп был причиной такого положения вещей, но благодаря личным особенностям он вызвал на свет божий всех возможных "духов" - от крайне правых до крайне левых. Конфликт разных Америк - очередная коллизия двух американских ипостасей. Одна - консервативная и традиционалистская, уходящая корнями в мировоззрение первых переселенцев, которые бежали из Европы в поисках личной свободы и обособленного от других "золотого века".
Вторая - либеральная, связанная с энергией социальных и прочих инноваций, которые за 150 лет превратили США из гордого постороннего в доминанту мировой политики. На каждом новом витке истории страны эти два образа все сложнее примирять. Но сейчас внутриамериканский кризис отягощен тем, что он разворачивается в условиях изменений всего мирового порядка и является его частью.
Этим отчасти объясняется и ожесточенность схватки, которая далека от окончания. Дестабилизация общественно-политической системы очень серьезная.
И главное - ни с какой стороны нет стремления к компромиссу, желания смягчить противоречия. Либералы предчувствуют возможность чистой победы - традиционалистская Америка скукоживается под давлением демографических и технологических факторов. Консерваторы это тоже понимают, поэтому руководствуются логикой "ни шагу назад!". Трамп как утрированное олицетворение конфликта электрифицировал и тех и других.
Все это оставалось бы делом одной конкретной страны, не занимай она уникального места в мире.
Перспектива потрясений в Соединенных Штатах многих пугает из-за возможных последствий для остального человечества. Можно согласиться, но с двумя оговорками. Во-первых, снижение уровня глобального американского доминирования происходит и без катаклизмов в США - по общей логике международного развития. Во-вторых, совсем недавно по историческим меркам мир пережил крушение системообразующей сверхдержавы - СССР, и адаптировался с этому довольно быстро.
Трамп приходил к власти под лозунгом "возвращения домой" - Америке пора заняться своими делами, а не размениваться на международные авантюры. Лозунг "глобального лидерства" он заменил на необходимость первенства в "стратегическом соперничестве великих держав". Иными словами, быть самыми сильными, чтобы в любой момент иметь возможность обеспечить собственные интересы, но не брать обязательство регулировать международную ситуацию. В целом этот поворот произошел.
Следующая администрация постарается вернуть лозунги дотрамповской эпохи и заверить остальных, что американское руководство миром снова в силе. Однако воплотить в жизнь это будет крайне сложно, не только потому, что "Трамп все испортил", как будут говорить. Международная система приспосабливается к децентрализации, и это объективный процесс.
Тем не менее возможны попытки вернуть Соединенным Штатам лидирующую роль, опираясь на идеологические инструменты наподобие анонсированного Байденом "саммита демократий". Напористое проведение такой повестки довольно опасно, памятуя, к чему вели силовые меры по продвижению демократии в конце ХХ - начале XXI века.
И в любом случае это не приведет к желаемой цели, скорее заставит другие страны искать, как обезопасить себя от внешнего воздействия. Кстати, удар технологических гигантов по Трампу после беспорядков на Капитолии, показавший мощь этих корпораций и степень монополизации информационной сферы, только подстегнет "антимонопольную" работу в других частях планеты.
Одно можно точно записать в актив Дональда Трампа. Он стал самым мирным президентом США за десятилетия, пожалуй, со времени Рональда Рейгана. Мирным в буквальном смысле - не начал ни одной войны (упоминание Рейгана в этом контексте кажется парадоксальным, но кроме фарсовой демонстрации силы против мизерной Гренады он военных операций не проводил).
Все его последователи по нарастающей участвовали в войнах. Будучи президентом Трамп попытался переосмыслить экспансионизм в экономических категориях, преимущественными были, соответственно, экономико-политические, а не военно-политические инструменты.
Тарифные и санкционные кампании приняли при нем новый масштаб, и это наследие сохранится, наверное, с иной словесной упаковкой. Байден и его команда, правда, относятся к политической генерации, карьера которой резко шла вверх в эпоху частых военных акций США - начиная с президентства Билла Клинтона. Так что относительную сдержанность Трампа на международной арене, мы, возможно, еще вспомним добрым словом.

ОТ ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ К СИСТЕМНЫМ РЕФОРМАМ
ЛЕОНИД ГРИГОРЬЕВ, Ординарный профессор, заведующий кафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики; главный советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ.
АЛЕКСАНДР АСТАПОВИЧ, Доктор экономических наук, профессор.
США МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
Великая депрессия в США у большинства экономистов и политологов стойко ассоциируется с набором ключевых фраз: Франклин Делано Рузвельт, «Новый курс», Джон Гэлбрейт, Великая электоральная коалиция Рузвельта, отмена сухого закона, закон Гласса – Стиголла, страхование банковских депозитов, основы социального страхования, общественные работы, вклад в прикладные основания теории Джорджа Мейнарда Кейнса.
В институциональном плане Великая депрессия заложила основы роста «монополистического капитала». В рамках теории экономических циклов она рассматривается через крах 1929 г. и три года рецессии, а затем долгий тяжёлый выход из неё и развитие кейнсианства. Реформы Рузвельта для истории системных кризисов, масштабных преобразований государственного регулирования и отношений собственности стали «матерью всех реформ» капитализма, и так было, по крайней мере, вплоть до конца XX века.
В те годы сама организация экономики и социальной сферы Соединённых Штатов оказалась в «ловушке» определённого этапа развития капитализма, который перерос свои институты и поставил их на грань развала. Разумеется, имелись и внешние факторы, этому способствовавшие, – в частности, конкурентные девальвации валют ведущих стран. В целом это был огромной важности процесс реформирования «старого капитализма», столь отличный от катастроф великих европейских держав и скандинавского опыта «антикоммунистического социализма» (после Второй мировой войны ставшего общеевропейским). Американская элита сумела найти выход из институциональной «ловушки», сохранив демократию, независимость судов, приоритет частного предпринимательства. В успехе этих реформ в долгосрочном плане решилась судьба экономического соревнования с «коммунистическим экспериментом», а в среднесрочном – в немалой степени и судьба будущего противостояния союзников с Гитлером.
Десять лет бума: от Первой мировой войны до краха 1929 года
Катастрофический кризис 1929–1933 гг. не был неизбежным в части тяжести и последовательности событий. 1920-е гг. стали для страны временем громадных позитивных перемен. Среднегодовая рождаемость достигала 21,5 рождений на тысячу человек, иммиграция составила 4,3 млн человек, а нетто-иммиграция – 3 млн человек, так что население увеличилось с 106,5 до 121,5 млн человек. Промышленное производство выросло втрое. Были осуществлены колоссальные инвестиции в инфраструктуру и промышленность. С 1921 по 1929 г. ВНП на душу населения вырос с 641 до 847 долларов, что создало естественное ощущение благополучия. В 1920–1929 гг. построено 7 млн домов (из них 1,7 млн с «тремя и более квартирами») и продано 32,3 млн автомобилей. К 1930 г. почти 70 процентов зданий (в том числе 10 процентов ферм) были электрифицированы, 45 процентов семей имели радио и 40 процентов – телефоны.
Тем не менее предпосылки кризиса накапливались с Первой мировой войны. Наиболее ранней и очевидной из них был аграрный кризис. Огромный спрос на продовольствие во время войны вызвал рост его производства в США, но фермеры расширяли это производство в кредит. После войны естественное падение цен на сельскохозяйственную продукцию и сокращение физического спроса в Европе, где восстанавливалось собственное производство, сделали высокую задолженность большой доли американских фермеров хронической.
Одновременно обострилась проблема государственного долга как внутри страны, так и во всём мире. За три года войны (1916–1919) Соединённые Штаты увеличили долг, в основном внутренний, с 1,2 до 25 млрд долларов. Средства в значительной степени потрачены на помощь союзникам. Это вынудило последних выплачивать ощутимые средства США, так что сами они постарались переложить бремя платежей на репарации Германии с известными тяжёлыми последствиями для внутренней экономики и политики последней. Для самих Соединённых Штатов такая ситуация означала переход от традиционного заимствования капиталов из Европы к кредитованию (в том числе стран Латинской Америки) и созданию ненадёжного кредитного портфеля, который обрушился в ходе последовавшего кризиса.
Потрясения на биржах и банкротства банков вполне регулярны в рыночной экономике – вопрос в масштабах и моменте.
Колоссальный выпуск новых акций и корпоративных облигаций происходил в 1927–1929 годах. С 1926 г. вплоть до «краха Уолл-стрит» 24–29 октября 1929 г. курс акций вырос вдвое, при росте ВНП лишь на 10 процентов, а промышленного производства на 15 процентов. Корпоративный долг за три года поднялся с 76 до 89 млрд долларов. Перегрев финансовых рынков был достаточно очевиден, чтобы вызвать панику. Остановка роста курсов акций означала угрозу устойчивости огромного финансового сектора, в котором ещё не было ни прозрачности состояния эмитентов и должников, ни осторожности регуляторов.
В 1926–1930 гг. американский бизнес накрыла волна слияний и поглощений, в которой вместо старых горизонтальных слияний (к тому времени запрещённых антимонопольным регулированием) преобладали «вертикальные» слияния вдоль цепочки добавленной стоимости. Они оказались дополнительным дестабилизирующим фактором в условиях кризиса, поскольку доходы также «сворачивались» по цепи падения спроса. В результате крах был узнаваемым по форме, но необычным по масштабам финансового сектора и характеру накопленных дисбалансов.
Ещё одним важным риском в растущей американской экономике являлось социальное неравенство. Его пик в первой половине ХХ века достигался дважды – в 1916 и 1929 гг. (с падением в годы войны). 5 процентов населения получали примерно 30 процентов всех доходов, особенно в форме процентов, дивидендов и ренты. Автомобили, дома, новые средства связи, распространившиеся в 1920-е гг., создали драйвер роста и задали новые стандарты образа жизни. Материальное богатство семей расширилось, хотя социальное неравенство доходов, потребления и сбережений возросло. Но эти будущие безработные и обедневшие в ходе Великой депрессии слои общества уже отличались от пролетариата времён Маркса или Ленина. У слоёв среднего и даже низшего классов появились жильё, телефоны, счета в банках и автомобили – им уже было «что терять». Идея предпринимательства, личного успеха и неограниченных возможностей, по сути, материализовалась. Этот огромный успех закладывал психологические ожидания процветания на будущее. Практически мы видим апофеоз индустриального общества в его наиболее ярком проявлении.
«Вниз по спирали»: 24 октября 1929 г.– 4 марта 1933 года
Основные параметры кризиса 1929–1930 гг. сопоставимы с предшествовавшими кризисами (хотя падение биржи глубже обычного), которые повторялись каждые три года: в 1921, 1924 и 1927 годах. Падение промышленного индекса Доу-Джонса с пика 3 сентября 1929 г. длилось в течение полутора месяцев, после чего (24–29 октября) всё рухнуло. Крах биржевых индексов смёл огромное по тем временам богатство, но, в общем, это был именно тот пузырь, который образовался в 1927–1929 годы. На 1929 г. приходится пик корпоративных долгов, бурный рост курсов акций до сентября и всё ещё значительный рост продаж автомобилей (рекордный год – 5,3 млн автомобилей). Однако более детальный анализ показывает, что промышленное производство падало примерно два месяца до «чёрной пятницы» 24 октября.
Ещё драматичнее выглядел перелом в динамике жилищного строительства. В 1929 г. построено 509 тысяч домов после 753 тысяч в 1928 г. (минус 32,4 процента). Снижение шло в течение ряда лет – ещё в 1925 г. возведено 938 тысяч домов. При этом накопленная сумма долгов по закладным подскочила с 21,5 млрд долларов в 1926 г. до 29,44 млрд долларов в 1929 году. Этот спад в жилищном строительстве вполне мог создать предпосылки спада в промышленности при общей закредитованности. События прямо напоминают крах 2008 г. в США, которому предшествовал длительный ипотечный кризис.
Принципиально важно, что ситуация 1929 г. не являлась тяжёлым мировым кризисом, который надо было ограничивать экстраординарными мерами. Не был это и «системный кризис», при котором требуется срочно перестраивать систему управления государством, социальные отношения и характер американского капитализма. Имел место тяжёлый спад вслед за беспрецедентным экономическим подъёмом, после которого следовало перестраивать характер институтов, что не было очевидно политикам и экономистам.
Кризис «неправильно лечили» и довели до такой тяжести к 1933 г., что поиск выхода из него на новой основе и сделал его вынужденно «системообразующим».
Спираль скручивания экономической активности оказалась резко усиленной двумя факторами: мировая торговая война, сопровождавшаяся девальвациями валют, и банковский кризис на фоне ошибочных шагов Федеральной резервной системы. Историки и экономисты согласны, что в 1929–1932 гг. ФРС действовала неудачно. Достаточно указать на то, что ставка дисконта Федерального резервного банка Нью-Йорка составляла 5 процентов на протяжении 1929 г., но в августе-октябре, когда уже снижалось промышленное производство, поднялась до 6 процентов. Дальнейшее снижение ставки до 3 процентов стало, видимо, ещё одним опозданием. В дальнейшем политика ФРС, как полагают, несёт частично ответственность и за «депрессию Рузвельта» в 1937–1938 годы.
Прямым ударом по мировой торговле стал Тарифный акт Смута – Хоули начала 1930 года. Импортные тарифы повысили в среднем с 40 до 48 процентов, что подрывало импорт и вызывало ответные меры торговых партнёров. В результате ответных мер объём мировой торговли сократился с 36 млрд долларов в 1929 г. до 12 млрд в 1933 году. Наступил конец процветанию 1920-х гг. в форме почти четырёхлетнего общемирового падения экономической активности.
В результате взаимодействия объективных событий и ошибок регуляторов индекс промышленного производства в годовом выражении снизился с 23 до 12 пунктов с 1929 по 1932 годы. Минимальный уровень ВВП на душу населения отмечен в 1933 г. – падение на 48 процентов по сравнению с 1929 г. (442 доллара против 847 в текущих долларах). Огромный приток мигрантов 1920-х гг. сменился оттоком в 1930-е годы. Продажи автомобилей упали с 5,3 до 1,3 млн штук и колебались до 1940 г., так и не достигнув исходного пика. Сходную динамику демонстрировали сокращения курсов акций (с 26 до 7 пунктов), рост банкротств и изменения других ключевых показателей (рисунок 1).
Рисунок 1. Рост ВНП, индекс промышленного производства и индекс S&P в 1920–1940 годы
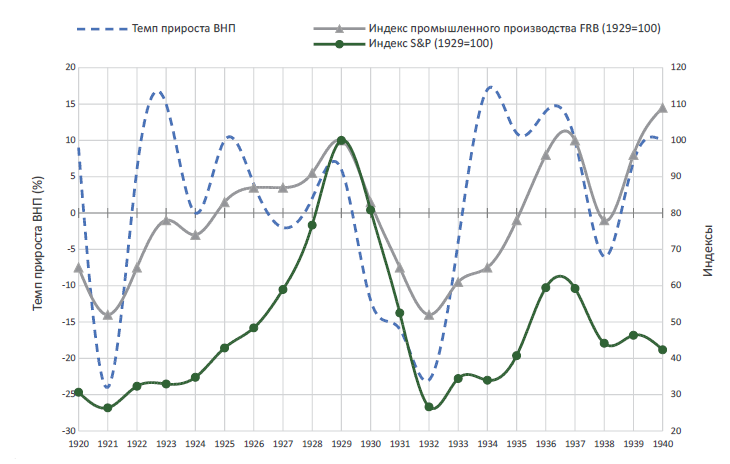
Источник: Bicentennial Edition: Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970.
Практически три с половиной года финансовые потрясения вели к падению потребительского спроса (особенно на товары длительного пользования) и капиталовложений, что сжимало доходы банков и финансовых посредников и возвращалось в реальный сектор новыми потрясениями из сферы финансов. За четыре года обанкротилось 40 процентов банков, сбережения потерял каждый четвёртый американец. Эту цепь не смогли разорвать при президенте Герберте Гувере, что привело к кризису в сельском хозяйстве с банкротством порядка 600 тысяч ферм. Половина ферм в 1933 г. имела просроченные платежи по закладным. Промышленное производство в ряде отраслей, особенно в автомобильной и у её поставщиков, упало более чем на 50 процентов. Кризис пошагово передавался в сферу накопления: ключевой показатель деловых инвестиций упал с 13 млрд долларов в 1929 г. до 4 млрд в 1933 году. Сокращение капиталовложений оказалось рекордным за все кризисы рыночного хозяйства мирного времени.
Запуск машины реформирования
Франклин Делано Рузвельт победил на президентских выборах в 1932 году. Он принял к управлению страну в ужасном состоянии. Целую серию реформ провели очень быстро – в течение нескольких месяцев, причём они явно задумывались как антикризисные – одна область экономики за другой. Но не все они действовали сразу – некоторые имели отложенный эффект.
Рузвельт попытался запустить все имеющиеся инструменты в первые сто дней своего президентства, чтобы начать возвращать людей на работу. Отмена сухого закона 5 марта стала хорошим стартом. Одновременно президент закрыл все банки и начал «чистку» банковской системы, что дало вкладчикам уверенность в надёжности вновь открытых банков. Он лично проводил разъяснительную работу с населением, выступая по радио в рамках цикла регулярных передач «Беседы у камина». В течение нескольких месяцев банки открывались, и депозиты стали возвращаться. В дальнейшем открылось более 9 тыс. банков, но более 40 процентов мелких – наименее стабильных – закрылись.
Правительство запретило частные операции с золотом (и владение золотом более чем на 100 долларов) и выкупило его по 35 долларов за унцию внутри страны. Изъятие золота выглядит антилиберальной мерой, но важно, что оно было оплачено с существенным бонусом для населения по сравнению с прежней ценой 20,67 долларов за тройскую унцию, державшейся с 1835 года. После получения массы золота из других стран в 1920-е гг. благодаря покрытию торговых дефицитов в рамках действия золотого стандарта этот запас в Форт-Ноксе служил основанием для выпуска бумажных долларов.
В 1936 г. ВНП США превысил уровень 1932 г. на 48 процентов, но оставался ещё на 20 процентов ниже уровня 1929 г. (рисунок 2). Рост ВНП позволил снизить безработицу с 25,2 процента до 17 процентов (в 1929 г. она составляла 3,2 процента). В 1938 г. ВНП ещё раз падал на 6 процентов, а безработица подскакивала на 4 процента – кризис, получивший название «депрессия Рузвельта» и «депрессия в депрессии». В результате даже в 1940 г. ВНП был на 4 процента ниже уровня 1929 г., а безработица оставалась на уровне 14,6 процента.
Технологический прогресс шёл в рамках освоения достижений начала ХХ века, получивших развитие в период Первой мировой войны, а далее в 1920-е годы. Появились и некоторые новшества, например, использование нейлона. Стало развиваться авиасообщение – для почтовой службы. В 1930-е гг. сначала резко упали производство и покупки автомобилей и радиотехники, но постепенно они росли, хотя и не достигли прежних уровней к 1940 году. Однако за десять лет, 1930–1939 гг., обедневшие американцы всё же купили 31,1 млн автомобилей.
«Новый курс» Рузвельта предусматривал отход от республиканского либерализма предыдущих лет и возлагал на государство ответственность за благосостояние нации и регулирование многих важных сфер экономической деятельности. Но в стране частной собственности, господства права и свободы предпринимательства изменения всё равно исходили из установки на личный успех.
В этой сложной ситуации концентрация управления в руках правительства в основном не выходила из правового поля (были некоторые исключения), не покушалась на права собственность (кроме роста налогов), не выстраивала большой системы государственных компаний для решения экономических задач. Создавались «институты развития», институты регулирования и надзора за соблюдением правил игры, которые передавали средства бюджета на решение срочных и важных задач. Управление же бизнесом оставалось в основном в руках частных предпринимателей, позднее – менеджеров.
Наиболее простой и понятный антикризисный манёвр Рузвельта и его правительства состоял в организации общественных работ, которые финансировались из бюджета и обеспечили занятость безработным. В общей сложности на такие работы было потрачено около 4 млрд долларов. Используя государственные институты как промежуточные каналы целевого финансирования – фактически это были институты развития в современных терминах – правительство создавало общественные проекты. Непосредственно антикризисный эффект имели меры по найму – за счёт государства – сотен тысяч людей, особенно молодых, на строительство дорог и инфраструктурных объектов. Одновременно осуществлялись большие вложения в природоохранные мероприятия, лесное хозяйство, борьбу с наводнениями и другие важные проекты. Тогда же была создана авиационная инфраструктура: только Управление общественных работ обеспечило строительство 547 авиационных полей и 100 других объектов в области авиации и аэронавтики.
Рисунок 2. Социально-экономические показатели развития США в 1920–1940 годы
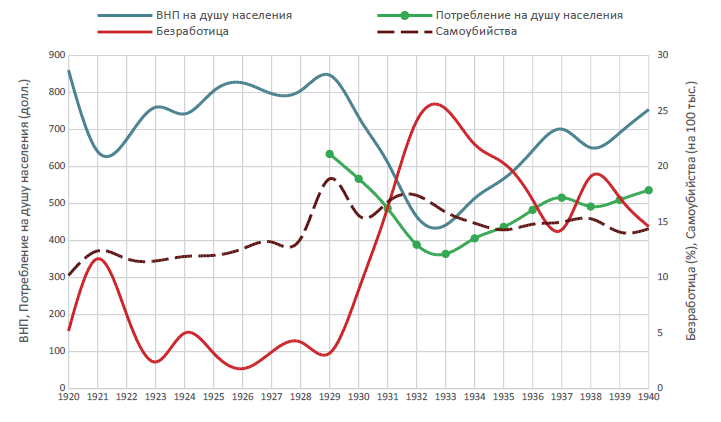
Источник: Bicentennial Edition: Historical Statistics of the United States, Colonial Times to 1970.
Поворот к прямому регулированию экономики был запущен несколькими законами 1933 г. и созданием ведомств по их реализации. Восстановление промышленного производства связано с принятым 16 июня 1933 г. законом о восстановлении промышленности (National Industrial Recovery Act). 12 мая 1933 г. подписан билль о помощи фермерам, или закон о регулировании сельского хозяйства (Agricultural Adjustment Act). Для реализации законодательства создано Национальное управление по восстановлению экономики (National Recovery Administration, NRA). Эти законы вызвали дебаты и были в конечном итоге отменены Верховным судом летом 1935 г., но многое уже реализовалось «в рабочем порядке» через NRA. Конфликт президента с Верховным судом в 1935 г. признаётся историками и теоретиками как важный прецедент по сохранению незыблемости разделения властей. Решение Верховного суда 27 мая 1935 г. в отношении статьи I акта «О восстановлении национальной промышленности» гласило: «Исключительные обстоятельства могут требовать исключительных мер. Но исключительные обстоятельства не могут создавать или расширять существующие конституционные полномочия». Хотя в 1935–1937 гг. Рузвельту не удалось провести реформу Верховного суда, но постепенно был достигнут рабочий компромисс, и тот больше не препятствовал его инициативам.
По мнению Алана Гринспена, запреты двух основных актов по восстановлению промышленности и сельского хозяйства и части деятельности NRA в 1935 г. пошли на пользу и самому Рузвельту: детали этого законодательства с массой бюрократов, регламентов и предписаний выглядят весьма непривлекательно. Со временем деятельность многочисленных экономических ведомств, которые вмешивались в рыночные процессы, ограничивали конкуренцию, пытались поддерживать высокие цены для фермеров путём сокращения производства продукции сельского хозяйства, сменило более развитое законодательство о конкуренции. Между тем доля государства в ВВП подскочила с 4 процентов в 1930 г. до 9 процентов в 1936 г., а госслужащие составляли уже 7 процентов всех занятых.
Большие изменения произошли при Рузвельте в банковском регулировании. В 1933 г. президент подписал закон Гласса– Стиголла, запретивший коммерческим банкам заниматься инвестиционной деятельностью и ограничивший право банков на операции с ценными бумагами. Он решал проблему спекуляций и разграничивал коммерческие банки и инвестиционные (отделял Уолл-Стрит от Мэйн-Стрит). Одновременно создавалась Федеральная корпорация по страхованию вкладов (современное название – FDIC) и вводилось обязательное страхование депозитов до 5 тысяч долларов. Значение этого закона для развития банковской системы и финансовых рынков трудно переоценить.
За год с небольшим Рузвельт смог предъявить обществу рост экономической активности и стабилизацию банковской системы – теперь настала очередь финансовых инструментов. Президент создаёт ряд учреждений по финансовому регулированию, которые сегодня представляются естественными – в частности Комиссию по ценным бумагам и биржу. Практически это признание командой президента (при всей популистской риторике) того факта, что финансовые рынки – средство хранения и перераспределения сбережений, инвестирования и фиксации богатства.
Огромную роль играли отношения с профсоюзами. Президент дал крупнейшим из них существенные права при переговорах с компаниями. Тем самым Рузвельт пытался решить сразу три задачи: стабилизация ситуации в больших отраслях и интеграция профсоюзных лидеров в политическую систему (хотя забастовки продолжались); подъём заработной платы в массовых промышленных отраслях для стабилизации потребления в стране; укрепление поддержки и позиций Демократической партии на выборах 1936 года. Ключевую роль в решении этих задач сыграл закон Вагнера 1935 г. и создание регулятора в сфере трудовых отношений как третейской силы в отношениях между крупным бизнесом и профсоюзами.
Такое «навязывание» сотрудничества компаний с профсоюзами дало президенту время и опору для удержания страны в рамках социальной стабильности на выходе из тяжелейшего кризиса.
Наконец, «американская мечта» в традиционном смысле слова – это собственный дом. В 1933 г. Рузвельт создал Корпорацию кредитования домовладельцев (Home Owners’ Loan Corporation), в 1934 г. – Федеральное управление жилищного строительства (Federal Housing Administration), в 1938 г. – Федеральную национальную ипотечную ассоциацию (Federal National Mortgage Association, известную как «Фэнни Мэй»). Эти институты заложили основы развития жилищного хозяйства, повлияли на характер расселения по стране, финансирования массового индивидуального жилищного строительства и образа жизни. Жилищный сектор, пройдя через тяжёлые кризисы 1980-х и 2008–2009 гг., до сих пор является одной из опор экономики США, содержащий в себе гигантский объём богатства и комфорта. Во многом он так и стоит на институтах финансирования, разработанных в 1930-х годы.
Трансформация общества и институтов
В течение нескольких месяцев после победы на выборах 1932 г. команда Рузвельта осуществила огромный объём работы. На отчаявшуюся страну обрушили целый каскад мер: доверительные «беседы у камина», новое законодательство, государственные расходы и пиар. Среди множества принятых законов, программ и проектов были и неудачные, допущен ряд ошибок. Но и масштабы задач были гигантские. Рузвельт и его команда выдержали свои первые сто дней и тяжелейший 1933 г., и так – вплоть до 1936 года. После этого они победили на выборах вновь, причём со значительным оживлением риторики против богатых (“the people against the powerful”).
В итоге американская нация, общество и экономика провели серию тяжелейших экспериментов, но сохранили правовое государство с защищённой частной собственностью, свободой предпринимательства и оптимизмом. Они подарили миру первую масштабную и в конечном итоге удачную трансформацию рыночной экономики от неорганизованного капитализма к сложному институциональному хозяйству с высокой эффективностью и массой проблем, которое это хозяйство по-прежнему с большим трудом постоянно решает. Эпоха меняется, сложность социально-экономических проблем растёт. Но уроки Великой депрессии и реформ Рузвельта остаются не столько важным источником конкретных решений (набором инструментов), сколько уроком подходов, поиска комплексных решений текущих задач и одновременно долгосрочных проблем, причём таким образом, чтобы страна в это верила.
Новый курс вытекал из логики развития капитализма. На определённом этапе стало ясно, что экономика в целом, отдельные компании, миллионы граждан не выживут без регулирования и перераспределения ресурсов со стороны государства.
Успешность американского пути развития, масштабы американской экономики, критическая важность эпохи проведения реформ, а также разнообразие и интенсивность применённых методов делают Новый курс «матерью всех рыночных реформ».
Рост числа профсоюзов и административное укрепление их роли в крупных отраслях были серьёзным фактором поддержки правящей коалиции. В 1936 г. Рузвельт вновь получил подавляющее большинство голосов выборщиков, а Демократическая партия – мест в Конгрессе. Мелкая буржуазия – традиционный сторонник республиканцев – могла остаться недовольна выросшими налогами, государственными расходами и долгом. Растущие государственные расходы, однако, создали массу государственных служащих, что, вероятно, позволило включить их в коалицию демократов. Сложный выход из кризиса был произведён на новых «кейнсианских» принципах: изменение социальной структуры, создание системы государственного вмешательства в экономику и социального страхования, перестройка финансового регулирования и поддержание стабильного контроля над социально-политическими процессами. Серьёзных неналоговых попыток экспроприации крупной собственности не было. Сохранился приоритет традиционной опоры на предпринимательство и конкуренцию при защите прав собственности, в том числе с помощью независимой судебной системы.
Резкое усиление государственного вмешательства в социально-экономические процессы стало одним из ключевых изменений в условиях функционирования рынков, в характере потоков капитала, практике действий крупного бизнеса. Было создано «большое государство», которое смогло формулировать более широкие задачи, включая продвижение идеи «американской исключительности» и внешнюю политику. Но популизм и разрастание государства идеологически и практически не противопоставлялись личной инициативе и знаменитому духу предпринимательства. Успех как выигрыш в конкуренции, а не как захват ренты уживался с использованием государственных средств в личных целях. Однако общая система институтов, судов и судебных решений оставалась прорыночной и ориентированной на конкуренцию.
Появилась система социального страхования в целом и безработных в частности, что с тех пор позволяет стабилизировать положение населения в условиях экономических спадов. Общественные работы по строительству дорог, мостов и общественных зданий, защите природы – меры в принципе необходимые в любом обществе и при любой конъюнктуре. Сочетание этих важных целей с их антикризисным использованием за счёт государственного бюджета – американская новация. Все созданные институты развития вмешивались в бизнес в основном путём выдачи средств по определённым правилам, контроля и целеполагания. В отличие от Европы американское государство никогда не создавало государственных корпораций и не входило в капитал компаний на долгосрочной основе, то есть не вмешивалось в текущий менеджмент.
Рузвельт, видимо, первым в массовом порядке ввёл интеллектуалов в управление страной, и они не только продержались два срока президентства, но и создали прецедент, который нередко использовался в других странах и случаях. Кейнсианство, отражая эпоху 1920–1930 гг., во многом является идеологией государственного вмешательства в экономику в условиях провалов рынка. Джон Мейнард Кейнс стал знаменит в 1930-е гг., а его имя навсегда связано с духом этих антикризисных действий.
В ходе финансовых потрясений 1929–1933 гг. «смыт» слой финансовых спекулянтов в пределах 5 процентов богатейшего населения, работавших в «чрезмерно либеральной» манере. Практически верхний слой трудящегося населения утратил сбережения, вложенные в обанкротившиеся финансовые инструменты. В известном смысле стремящимся к быстрому обогащению без длительного применения труда, инвестиций (с их рисками) и талантов преподан «моральный урок». Создана система мониторинга и контроля на финансовых рынках и страхование депозитов населения. Это не предотвратило финансовых кризисов как таковых, но следующий действительно масштабный кризис случился в стране только через 75 лет – в 2008 году. Было завершено создание системы «всеобщей задолженности»: государства, компаний, населения (по закладным), которая вынуждает вести рациональную монетарную политику.
Вопреки антиолигархической риторике Рузвельта, крупный капитал понёс лишь ограниченные потери и не утратил контроля над основной массой богатства. Перестройка системы финансового контроля (закон Гласса – Стиголла) сделала финансовые группы более гибкими. Но с высоты прошедшего времени это давление выглядит комбинацией политической борьбы за свободу рук для президента и понятного пропагандистского хода демократов на выборах. Экспроприации собственности богатых не случилось, но её постоянное присутствие в риторике делало Рузвельта «своим парнем» для миллионов. В ходе второго срока наладилось взаимодействие с бизнесом. Расширение роли государства и формирование политических коалиций для удержания власти и продолжения реформ имело колоссальное значение для переформатирования социальной структуры общества. Появился важный и массовый компонент среднего класса – государственные служащие.
Выдающийся лидер вместе с политическими элитами «откорректировали» поведение бизнеса и создали систему устойчивого перераспределения выросшего национального дохода в пользу безработных, бедных и обеспечения общественных благ. Именно в тот период сложилась двухпартийная система примерно в том виде, в которой она существует в Соединённых Штатах все последние десятилетия.
Конституционные сроки электорального процесса и деловой цикл редко совпадают по длине и интенсивности. Исключение составило президентство Гувера, которое практически целиком пришлось на кризис и почти не замеченное «вызревание катастрофы». Решение многих экономических задач, как и выход из Великой депрессии, требуют более четырёх лет, что ставит лидеров перед необходимостью отчитаться и возобновить мандат на управление страной. И здесь необходимо иметь солидные результаты предшествующего срока, надёжную политическую опору (социальную коалицию) и организованную пропаганду, основанную на целях, обещаниях и результатах реальной деятельности. Рузвельт показал, что систему коалиций из разнородных элементов с меняющимися интересами можно сделать устойчивой и выиграть выборы четыре раза подряд в условиях демократии.
«Американская мечта» – одна из ключевых объединяющих опор общественного сознания. Это не только традиционный дом, о котором мечтает бедный европейский иммигрант в Америке. Это образ жизни, который долго формировался, пережил один из своих расцветов в 1920-е гг. и оказался под угрозой краха. Рузвельт дал стране надежду в самую тяжёлую минуту социального кризиса. По большому счёту он оправдал ожидания нации во время Депрессии, оставив макроэкономистам скучную работу – подсчитывать его ошибки через 70 лет. Впрочем, тяжелейший кризис 2008–2009 гг. показал, что при развитой и изощрённой макроэкономике и теории финансов критики действий президента Рузвельта сами допустили финансовый крах в стране.
Масштабные программы социальной помощи и общественных работ стабилизировали социально-экономическую ситуацию, но очень медленно выводили страну из депрессии. Созданное финансовое регулирование в дальнейшем предотвратило много крахов, но позднее, будучи ослаблено, не могло спасти страну от Великой рецессии 2008–2009 годов. Социально-политическая коалиция Рузвельта, продержавшаяся более полувека, не решила проблемы социального неравенства и расовых противоречий, зато расчистила пути выхода из кризиса. Меры 1930-х гг. не могут быть повторены в совершенно других условиях в совершенно другую эпоху. Но их урок состоит в том, что великий политик способен найти способ объединения, координации, учёта и компромисса для разнородных (часто конфликтующих) интересов социальных слоёв и элитных кланов, причём в динамике, в условиях быстро меняющих обстоятельств.
Подробнее см. Очерк социально-экономического анализа № 1: «Великая депрессия и реформы Ф.Д.Рузвельта: уроки выхода из кризиса для наших дней», департамент мировой экономики НИУ ВШЭ декабрь 2020 года. https://wec.hse.ru/data/2020/12/02/1354736567/Очерк%20департамента%20мировой%20экономики%20НИУ.._Астапович%20А.З.,%20Григорьев%20Л.М..pdf

ОТЧАЯННЫЕ ВРЕМЕНА – ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ
МЕГ ДЖЕЙКОБС
Старший научный сотрудник на факультете публичной и международной политики Принстонского университета.
УРОКИ НОВОГО КУРСА
Летом 1932 г., в самый разгар Великой депрессии, Франклин Рузвельт прилетел в Чикаго, чтобы принять выдвижение в президенты от Демократической партии. На арене, где проходило действо, звучала песня – лейтмотив его избирательной кампании – «Счастливые дни возвращаются». Однако немногие согласились бы с её жизнеутверждающими словами: «Небо над нами снова просветлело».
Каждый четвёртый американец сидел без работы, а миллионам работающих снизили заработную плату. Росла заболеваемость, особенно в афроамериканском сегменте общества, где туберкулёз встречался в пять раз чаще, чем среди белых американцев. Наблюдался всплеск уличных беспорядков, и их наиболее частыми жертвами становились чернокожие мужчины и профсоюзные активисты. Выступая с официальным заявлением о согласии стать кандидатом в президенты, Рузвельт, занимавший тогда должность губернатора штата Нью-Йорк, обещал найти выход из общенационального кризиса, предлагая «Новый курс для американского народа».
Несколько недель спустя его оппонент и тогдашний президент Герберт Гувер ужесточил свои и без того неудачные методы борьбы с Великой депрессией. Десятки тысяч обнищавших ветеранов Первой мировой войны развернули палаточный городок в Вашингтоне, требуя у Конгресса выплаты премиальных денег, которые им причитались за службу. Идея помощи ветеранам получила некоторую поддержку в Конгрессе, но недостаточную, а Белый дом и вовсе выступал категорически против этого. Президент возражал против любых трат федерального бюджета. «Благоденствие нельзя восстановить посредством опустошения казны», – любил повторять Гувер. Вскоре он приказал армии убрать с площади палаточный городок. Разгонять ветеранов направили солдат с обнажёнными штыками, слезоточивым газом, танками и дымовыми шашками. Двое мужчин погибли, поражённые пулями из стрелкового оружия. «Почему Гувер не предложил этим ветеранам кофе и сэндвичи?» – спросил Рузвельт у своего помощника.
Личные размышления Рузвельта не только отражали тактический подход к протестующим, они олицетворяли его общую стратегию вывода страны из Великой депрессии. Когда он стал президентом, была создана основа для радикального разворота в американской публичной политике.
Благодаря беспрецедентному взрыву активности в законодательной и исполнительной ветвях Новый курс позволил перераспределить политическую и экономическую власть в пользу наиболее униженных. В рамках этого курса оказывалась помощь всем, кто в ней нуждался: безработному ветерану, фермеру-арендатору, мигранту-сборщику овощей, подсобному рабочему на текстильной мануфактуре, шахтёру, рабочему на конвейере и миллионам других.
Политика Рузвельта вызывала более решительную отповедь со стороны критиков, чем сегодня принято думать. Последним казалось, что федеральное правительство выходит далеко за рамки своего мандата, а это создаёт серьёзную угрозу. Но президент знал – и это нелишне помнить тем американским политикам, которые борются с нынешними трудностями, – что самой большой ошибкой, которую можно допустить во время кризиса, это предпринимать недостаточно усилий. Не нужно бояться сделать слишком много – нужно бояться сделать слишком мало.
Экстренные меры
Выступая с официальным обращением по случаю вступления в должность холодным, пасмурным субботним днём в марте 1933 г., Рузвельт дал ясно понять, что будет совсем другим президентом. Он запросил «широкие исполнительные полномочия, чтобы вести войну с бедствием – не меньше тех, которыми я был бы наделён, если бы в нашу страну вторгся иностранный захватчик». Но, даже имея такие полномочия, Франклин Делано Рузвельт (ФДР) не мог по своему желанию положить конец депрессии, которая погрузила страну в глубины отчаяния. В тот момент, когда он говорил соотечественникам, что «единственное, чего нам нужно бояться, – это самого страха», американцы в панике снимали с банковских счетов сбережения и вынуждали губернаторов объявлять кредитные каникулы, чтобы избавиться от набегов кредиторов. Тысячи мелких банков обанкротились, и даже могущественный Уолл-Стрит сталкивался с неплатёжеспособностью.
ФДР не тратил время попусту. В понедельник после инаугурации он объявил каникулы национального банка, а в четверг подписал законодательство о страховании депозитов. В следующее воскресенье, во время первой из многочисленных «Бесед у камина», он упрашивал американцев оставить деньги в банках вместо того, чтобы держать их под матрасами. «Капитализм был спасён за восемь дней», – отмечал потом политолог Реймонд Моли, член так называемого мозгового треста Рузвельта.
Но как быть с безработными и голодными? В течение ста дней, задав тем самым новую высокую планку для будущих президентов, ФДР со своей администрацией создал Гражданский корпус охраны окружающей среды, дав работу 250 тысячам молодых людей, занятых землеустройством. Их называли ещё «Древесной армией Рузвельта». А для тех, кто стоял в очередях за бесплатным питанием и зависел от благотворительной помощи, Конгресс учредил Федеральную администрацию по оказанию чрезвычайной помощи, предоставлявшую гранты штатам на продовольствие для голодавших американцев. В первый день работы Гарри Хопкинс, один из ближайших советников ФДР, возглавивший эту администрацию, открыл пункт выдачи в вестибюле здания и за первые два часа потратил 5 млн долларов.
Подобный подход ознаменовал резкий отход от политики Гувера, который сделал ставку на кредиты большому бизнесу в тщетной надежде, что крупные предприятия поделятся благами с нуждающимися.
Чтобы помочь людям пережить зиму 1933–1934 гг., Хопкинс взял на себя руководство созданием Управления промышленно-строительными работами общественного назначения (WPA), которое к первому Рождеству Рузвельта в Белом доме создало более трёх миллионов рабочих мест.
Таким образом, Рузвельт запустил две программы по созданию рабочих мест, которые осуществлялись на протяжении всего Нового курса: Управление общественных работ (WPA, или УОР) и Администрацию общественных работ (PWA, или АОР), утвердив для них более объёмные бюджеты, чем те, которые когда-либо раньше выделялись в мирное время. В то время как АОР работала с частными подрядчиками и фокусировалась на крупномасштабных проектах, УОР нанимало безработных. Так было трудоустроено 8,5 млн человек.
Эти программы не только облегчили положение обездоленных американцев, но и заложили основу для экономического роста в последующие десятилетия. АОР ежегодно приобретала почти половину всего бетона и треть всей стали, производимых в Соединённых Штатах. От миллиона километров дорог и 800 аэропортов до тысяч плотин и канализационных колодцев, АОР и УОР создали массивную инфраструктуру, особенно на недостаточно развитом Юге и Западе. АОР построила новые школы почти в половине округов, включая афроамериканские школы в 24 штатах, преимущественно на Юге.
Эти программы позволили пережить самые трудные периоды Великой депрессии. Но без ответа оставался принципиальный вопрос: что предпринять, чтобы избежать её повторения?
Тем временем на ранчо
С начала президентства Рузвельт повторял одно и то же: экономика разбалансирована. В 1920-е гг. происходил феноменальный экономический рост: «форды» и «шевроле» сходили с конвейеров мощным потоком, и фондовый рынок брал всё новые и новые высоты. Однако доходы и богатство оставались сосредоточенны на вершине пирамиды американского общества. Задолго до того, как кейнсианская революция внедрила в сознание экономистов истину о важности поддержания платёжеспособного спроса, либеральные политики увидели кризис капитализма в современной потребительской экономике, доказывая, что только государство может предложить выход. «Сегодня наша задача не в обнаружении и эксплуатации природных ресурсов или непременном наращивании производства товаров, – говорил Рузвельт. – Она состоит в более трезвом и менее драматичном ведении бизнеса… в решении проблемы недопотребления… более справедливом распределении товаров и благосостояния, а также в том, чтобы приспособить имеющиеся экономические организации и институты к служению людям».
В первых рядах тех, кто нуждался в государственной помощи, находились фермеры, сильно пострадавшие в 1920-е гг. и настроенные мятежно. Заложив земли в годы Первой мировой войны для расширения производства и приобретения современной техники, они увязли в долгах и попали в порочный круг, из которого не могли выбраться. Чем больше продуктов они поставляли на рынок, тем ниже опускались цены. С 1929 по 1932 гг. средний подушный доход фермерских семей упал более чем на две трети. Ко дню инаугурации ФДР для покупки пары обуви стоимостью 4 доллара нужно было продать столько пшеницы, сколько умещалось на футбольном поле.
Рузвельт был решительно настроен на спасение фермеров. Сформировав Управление регулирования сельского хозяйства, он дал возможность фермерам заключать договоры с федеральным правительством для получения прямых наличных выплат в обмен на ограничение производства. В «Беседе у камина», призванной протащить законопроект через Конгресс и преодолеть противодействие скептически настроенных сенаторов, опасавшихся взятия сельского хозяйства под контроль федеральным правительством, Рузвельт попытался представить свою программу не радикальной, а вполне демократической мерой. Указывая не добровольность контрактов и передачу полномочий местным комитетам самоуправления, которые будут определять квоты для каждой фермы, он назвал это «партнёрством между государством и фермерством, но не партнёрством в разделении прибыли». И всё же всем было понятно, что Управление регулирования сельского хозяйства представляет собой беспрецедентный уровень вмешательства федерального центра в старейшую из американских отраслей.
Конечно, проблемы возникали. На первый взгляд всё выглядело так, будто государство платит фермерам, чтобы те зарывали урожай, пока многие голодают, и это не могло не вызывать праведного гнева. Правительство выкупило шесть миллионов свиней, многие из которых пошли под нож. Критики называли это «закланием невинных». Более того, чтобы утихомирить недовольных законодателей из южных штатов, контролировавших ключевые комитеты в Конгрессе, в окончательном варианте программы землевладельцам передали право принимать решения, какие земли оставить под паром вместо того, чтобы напрямую выдавать фермерам субсидии. Это означало, что почти миллион фермеров-арендаторов и испольщиков были выдавлены с пахотных земель. Однако Новый курс позволил поднять доходы фермеров, а стало быть, и потребительский спрос. Без такого плана, объяснял Рузвельт, «миллионы людей, занятых в городской промышленности, не смогут продавать промтовары селянам и аграриям».
Некоторые представители сельскохозяйственной отрасли ещё больше обнищали. ФДР предложил гранты и кредиты для переселения сотен тысяч обездоленных фермеров, построив федеральные лагеря для рабочих-мигрантов. В романе «Гроздья гнева» Джон Стейнбек уловил чувство коллективной надежды в этих чистых лагерях с водопроводом и бесплатной медицинской помощью. В одном из них жила вымышленная семья Джоудов, которая, подобно тысячам других так называемых «оки» (выходцев из Оклахомы), потеряла ферму и приехала на заработки в Калифорнию. «Это начало – от “я” до “мы”» – написал Стейнбек. В то время, как крупные землевладельцы запрещали и жгли его роман-бестселлер, первая леди Элеанора Рузвельт превозносила автора в своей регулярной колонке. Её муж дважды принимал Стейнбека в Белом доме.
Чтобы стимулировать и ускорить региональное развитие и снизить стоимость электроэнергии на Юге, ФДР создал Управление ресурсов бассейна Теннесси. Восстанавливаясь в Тёплых Источниках (Warm Springs) штата Джорджия после полиомиелита, парализовавшего нижнюю часть тела от талии, Рузвельт узнал не понаслышке, как сельская Америка осталась на обочине «ревущих двадцатых». В бассейне реки Теннеси лишь у нескольких семей было электричество в домах. Немногие имели ванные комнаты или даже удобства во дворе, и многим фермерским жёнам приходилось идти несколько сот метров за водой для дома.
Администрация по электрификации сельских районов ещё больше изменила жизнь фермеров. Частные провайдеры коммунальных услуг долго игнорировали сельскую Америку, потому что не получали прибыль от подключения изолированного фермерского дома к электросети. Данная программа финансировала местные кооперативы, обеспечивавшие самые отдалённые ранчо и хижины дешёвой электроэнергией. Бригады рабочих протягивали линии электропередачи по всей стране, заводили провода в миллионы домов и хозяйственных построек, устанавливали осветительные приборы и электрические розетки в каждой комнате самых захудалых домиков. Электричество совершило революцию в сельской жизни. Благодаря «деревьям свободы для фермеров», как называли столбы линий электропередач, семьи получили возможность замораживать продукты и качать воду насосами. Улучшилось питание, и снизилась детская смертность. В течение двух лет после создания Администрации по электрификации сельских районов 350 кооперативов в 45 штатах провели электричество в 1,5 млн ферм.
Сила в профсоюзном единстве
Новый курс также произвёл революцию на заводах, фабриках и в шахтах. Бум 1920-х гг. обошёл стороной промышленных рабочих точно так же, как и фермеров; беднейшие 40 процентов нефермерских семей в среднем зарабатывали всего 725 долларов в год, а новейший потребительский товар, радиоприемник, стоил 75 долларов. В течение 1920-х гг. располагаемый доход снизился у 93 процентов городских рабочих, и лишь у 1 процента он вырос на 75 процентов.
Чтобы выйти на рост доходов, Рузвельт стремился дать рабочим право создавать профсоюзы. Он хотел решить проблему недопотребления не с помощью госрасходов, а за счёт усиления переговорной позиции рабочих, которая позволила бы им добиваться от работодателей более высокой заработной платы. Он доказывал в «Беседе у камина», что «для работодателя это лучше, чем безработица и низкая заработная плата, потому что так увеличивается число тех, кто может купить его продукцию». ФДР изложил свои доводы как бы между прочим, но это стало сигналом исторического отхода от 1920-х гг., когда суды принимали постановления против профсоюзов, а ополчения штатов подавляли их активность.
Закон о восстановлении национальной промышленности, также принятый в течение первых ста дней после прихода Рузвельта в Белый дом, приостановил действие антимонопольного законодательства, чтобы дать возможность предприятиям скоординировать производство и зарплаты. Он оказался провальным, поскольку капитаны бизнеса использовали его, чтобы сокращать рабочее время и заработную плату. Но зато он давал рабочим право на самоорганизацию, сея семена для одной из самых далеко идущих реформ Нового курса: демократизации на рабочих местах. В результате рабочие перешли на сторону Рузвельта. «Президент хочет, чтобы вы вступали в профсоюз», – заявил Джон Льюис, президент Профсоюза шахтёров Америки. В штатах, где добывался уголь, шахтёры, которые до этого опасались последствий вступления в любое объединение, бросились самоорганизовываться. Новые права, особенно те, что бросали вызов большому бизнесу, приживались нелегко. Весной и летом 1934 г. бастующие рабочие, требующие от работодателей признания их права на самоорганизацию, вышли на улицы Толедо, Миннеаполиса и Сан-Франциско, где произошли ожесточённые столкновения с полицией. Но к тому времени, когда американцы уже проголосовали на промежуточных ноябрьских выборах, программы Нового курса дали работу миллионам безработных и создали ощущение национальной идеи. Демократы увеличили большинство в Палате представителей на девять, а в Сенате на десять человек. Второй раз со времён Гражданской войны партия, контролирующая Белый дом, расширила своё представительство в Конгрессе.
Электоральная победа заложила основу для более далеко идущих реформ. Летом 1935 г. сенатор Роберт Вагнер из Нью-Йорка, ведущий либерал в Конгрессе, получил голоса, необходимые для того, чтобы провести в жизнь национальный закон о трудовых отношениях, известный также как Закон Вагнера.
Впервые у рабочих появилось не только право на свободу слова, петиций и собраний – они также могли выбирать на выборах свой профсоюз без вмешательства работодателя, а федеральное правительство теперь было готово осуществлять надзор над этим процессом.
За два года после принятия закона почти пять миллионов рабочих вышли на забастовки, требуя, чтобы работодатели выполняли новый закон о земле. Самая знаменитая забастовка случилась на заводе «Дженерал Моторс» в городе Флинт штата Мичиган, где с 1936 г. рабочие автогиганта проводили «сидячую забастовку», оккупировав цеха и, в конце концов, добившись признания профсоюза. Как сказал один сотрудник «Дженерал Моторс», «даже если бы мы ни черта больше не добились, по крайней мере, у нас теперь было право бесстрашно открывать рот и чего-то требовать».
Новый порядок
Наряду с правом на самоорганизацию, Новый курс дал рабочим право на социальное страхование после принятия Закона о социальном обеспечении. ФДР говорил, что в эпоху массовой безработицы правительство вынуждено предлагать защиту от превратностей судьбы, таких как потеря работы или крайняя нужда в старости.
У закона были изъяны. С одной стороны, он исключал слуг и наёмных тружеников сельского хозяйства, тем самым упуская из виду подавляющее большинство афроамериканских работников – это та цена, которую потребовали законодатели южных штатов, где действовали «законы Джима Кроу» (неофициальное название законов о расовой сегрегации в ряде штатов в 1890–1964 гг. – прим. ред.), за поддержку законопроекта. С другой стороны, создана двухуровневая система государственной помощи, которая распространялась в основном на мужчин-кормильцев, тогда как вдовы, инвалиды и дети без работающего отца получали более скупое пособие в зависимости от уровня своего достатка.
Хотя программы социального обеспечения и другие инициативы в рамках Нового курса опирались на господствовавшие расовые и гендерные предрассудки, ставя в более привилегированное положение работников-мужчин, они всё же привели федеральное правительство во все города страны, лишив местных чиновников исторической привилегии управлять существующим общественным порядком и иметь при этом беспрекословный авторитет. От ферм до заводов между федеральным правительством и беднотой образовались новые связи, дававшие возможность в корне изменить экономические отношения. В городе Аликвиппа, штат Пенсильвания, где настроенные против профсоюзов сталелитейные бароны десятилетиями управляли этой деловой столицей и доминировали в местной политике, рабочие устроили марш в поддержку Рузвельта. «Америка принадлежит тебе – написали они на плакатах. – Организуй её и предъяви на неё права!».
ФДР верил, что Новый курс позволит предотвратить депрессии в будущем – отчасти воодушевив граждан заявить претензии на новые экономические права, защищённые новым «экономическим конституционным порядком», как он его называл. Цель, как он объяснял, когда впервые баллотировался на пост президента, заключалась в том, чтобы дать американцам полномочия добиваться «большего равноправия и получать больше возможностей участвовать в распределении национального богатства». После десятилетних спекуляций Уолл-Стрит и взлетевшего до небес курса акций на фондовом рынке, для обуздания которого предшественник Рузвельта почти ничего не делал, все понимали радикализм этих слов.
Тот человек в Белом доме
Хотя сегодня многие вспоминают Рузвельта как великого героя, в своё время он не был любим всеми. Миллионы американцев благоговели перед ним и возвращали его в Белый дом ещё три раза на президентских выборах, но были и миллионы презиравших его. Они называли его диктатором и предателем своего класса. Некоторые, не желая даже произносить его имени, говорили «тот человек в Белом Доме».
Для Рузвельта это не было сюрпризом. «В данной избирательной кампании есть одна проблема, – сказал он в 1936 г. незадолго до опроса, выявившего, что 83 процента республиканцев считали, будто его администрация может привести к диктатуре. – Это я сам, и народ должен определиться: он за меня или против меня». В Хэллоуин он провёл массовый митинг на Мэдисон-сквер-гарден. «Никогда ещё раньше за всю нашу историю эти силы не были настолько сплочёнными, чтобы противодействовать одному кандидату, как сегодня», – дерзко провозгласил он. Три дня спустя Рузвельт победил на выборах, получив 60 процентов голосов. С 1820 г. никто ещё не побеждал с таким перевесом.
Противники Рузвельта ненавидели его не потому, что он отказался от преимуществ своего аристократического воспитания, и не из-за его склонности накапливать беспрецедентную исполнительную власть, хотя всё это так. Они ненавидели его потому, что он пошёл на радикальный разрыв с традиционной публичной политикой. Новый курс был настолько популярен, что Демократическая партия привлекла под свои знамёна миллионы новых рабочих, иммигрантов и афроамериканских избирателей. Это привело к образованию устойчивой коалиции, которая обеспечила победу ему и его последнему вице-президенту Гарри Трумэну. Новый курс дал демократам контроль над обеими палатами Конгресса на протяжении следующих 50 лет с небольшими перерывами, позволив формировать законодательную повестку дня в течение нескольких десятилетий. Однако политика Рузвельта вела к появлению победителей и проигравших, причём это делалось умышленно. Как он сам выразился, «экономические роялисты сетуют на наше желание уничтожить американские институты. Но на самом деле их не устраивает наше стремление отнять у них власть».
Во время чрезвычайных происшествий в стране и в мире, когда на родине было столько отчаяния, а за рубежом к власти приходили диктаторы, Рузвельт стремился заново отстроить экономику как способ восстановления процветания и сохранения демократии. Проводя разбор экономической катастрофы 1932 г., он сказал стране, что «экстренных» мер будет недостаточно. «Реальная экономическая терапия должна заключаться в уничтожении болезнетворных бактерий в организме, а не в лечении внешних симптомов», – говорил он. Истинное разрешение кризиса требовало того, что он называл «строительством снизу вверх».
Если Рузвельт и разжигал вражду, то делал это потому, что верил: для достижения успеха Новый курс должен заменить этику упования на свои силы расширением государственных полномочий, благодаря чему можно поднять доходы и материальный достаток миллионов людей на нижних ступенях экономической лестницы. Это не было время сдержанности.
Почти столетие спустя США снова сталкиваются с эпическими угрозами политической элите: пандемия COVID-19, резкий экономический спад и нападки на демократические институты. Непопулярный республиканский президент, сделавший, по мнению многих, слишком мало для разрешения национального кризиса, потерял президентские полномочия после голосования. Подобно Рузвельту, новому президенту-демократу предстоит сделать выбор между аккуратным продвижением шаг за шагом и смелыми действиями. Залечивая травму в обществе, Вашингтон может довольствоваться ограниченной ролью, которую он традиционно играл в последние годы, в надежде, что постепенное наращивание одних и тех же мер каким-то образом выведет страну из нынешнего лабиринта и тупика. Однако отчаянные времена требуют отчаянных мер, поэтому разумнее ошибиться в процессе энергичных действий, нежели в процессе бездействия.
«Правительства могут заблуждаться, президенты ошибаются. Но бессмертный Данте говорит, что божественное правосудие взвешивает грехи хладнокровных и горячих сердцем людей на разных весах, – эти слова Рузвельт сказал в 1936 г., принимая повторное выдвижение от своей партии в Филадельфии. – Лучше эпизодические промахи правительства, действующего в духе благотворения и добрых дел, чем систематические упущения правительства, замёрзшего во льдах собственного безразличия».

РЫНОК КАК ВОЖДЕЛЕНИЕ
ДЭВИД ЛЭЙН
Почётный научный сотрудник Колледжа Эммануэль Кембриджского университета; член Академии общественных наук; вице-президент Европейской социологической ассоциации.
КАКОЙ ИМЕННО КРИЗИС ПОГУБИЛ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ МИР?
В ходе дискуссий, периодически вспыхивающих в связи с эпохой строительства социализма в России, обычно поднимаются такие темы, как роль Ленина и Коммунистической партии в захвате политической власти, последующие успехи Советского Союза в качестве силы модернизации в СССР и Азии и влияние революции на Запад.
Анализируются выдающиеся советские достижения: роль в мобилизации государственных ресурсов для осуществления плана индустриализации и урбанизации, привлечение многонационального населения к государственному строительству, победа над нацистской Германией и её последствия. Естественно, упоминаются и теневые стороны, прежде всего, сталинские репрессии и засилье бюрократии.
Но очень немногие задаются вопросом, как и почему возглавляемые СССР социалистические страны были в конце XX века неожиданно упразднены. Эпоха, начатая Октябрьской революцией 1917 г., закончилась в марте 1990 г. с изъятием из Конституции СССР пункта о ведущей и руководящей роли КПСС. Эти перемены примечательны, ведь последствия других социальных революций, в частности французской, английской и американской, оказались необратимыми.
Возникает вопрос, а не преследовала ли Октябрьская революция заведомо порочную цель, намереваясь преодолеть стадию капитализма?
Критики утверждают, что Октябрь, конечно, заложил основы государственной политики индустриализации и построения коммунистических государств, создал системы здравоохранения и образования, обеспечил строительство жилья, но социалистическая система планирования оказалась непригодной на стадии потребительского капитализма.
Замедление экономического развития
Главной причиной крушения системы называют её неспособность удовлетворять материальные и духовные потребности населения. Это явное преувеличение. Замедление экономического роста в европейских социалистических странах – всего лишь одна сторона дела. Темпы экономического роста в СССР снизились с 5 процентов в 1961–1970 гг. до 2 процентов в 1981–1988 гг., а падение производства в социалистических странах Восточной Европы было и того значительней. Но экономический рост продолжался даже там. Рисунок 1 свидетельствует о том, что социалистические страны немногим отличались от капиталистических государств соответствующего уровня развития. В период с 1980 по 1987 гг. в Западной Германии темпы экономического роста составляли 1 процент, в Великобритании 1,3 процента, а во Франции – 0,5 процента. Однако аналитикам не кажется, что европейские капиталистические страны постиг экономический крах. Китай в то же время развивал темпы роста в 8,68 процента, но сохранял существенные черты социалистической системы.
Рисунок 1. Экономический рост в капиталистических и социалистических странах, 1961–1988
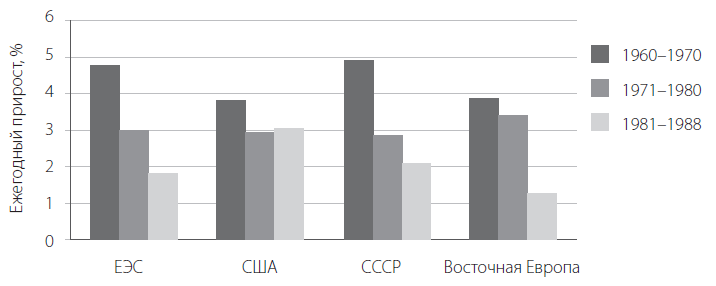
Источник: Economic Report of the President 1985-89 // Washington DC: US Government Printing Office, 1989.
Всякий раз, когда в капиталистических странах происходят экономические кризисы (вспомним Великую депрессию 1930-х гг., финансовый кризис 2007 – …), в рыночной системе происходят реформы. Горбачёвские реформы привели к разрушению социальных институтов Советского Союза, уничтожив административно-командную систему, а заодно с ними и легитимность центрального планирования и партийного руководства. Так было покончено с завоеваниями Октябрьской революции.
Классовые революции и переход к капитализму
При своём зарождении и Французская, и Октябрьская революции были революциями классовыми. В обеих критически важную роль играли классовые права, ставшие катализатором и стимулом социальных перемен. Но стал ли конец социализма в России следствием осуществления классовых интересов?
Большинство аналитиков в это не верят: в социалистических странах отсутствовали явно «антагонистические» классовые силы, а буржуазия была уничтожена в процессе социалистического строительства. Однако с моей точки зрения, в социалистических обществах выработалась классовая структура, включавшая два основных элемента, которые взаимодействовали с зарубежными элитами в деле разрушения режима. Во-первых, административно-исполнительный класс и, во-вторых, «приобретательский» класс.
Административный класс
Административный класс состоял из чиновников, занимавших посты, которые обеспечивали им контроль над средствами производства, а также над идеологическими институтами, вооружёнными силами и службами безопасности. Его представители имели высокие должности в партийной и профсоюзной иерархии, а также занимали исполнительные посты в правительственных ведомствах (в том числе на хозяйственных предприятиях, в области образования и здравоохранения и в СМИ). Отличие от системы рыночного капитализма состояло в том, что эти чиновники не могли ни передать свои посты по наследству, ни распоряжаться фондами, которые они контролировали. К тому же руководство производственных предприятий в отличие от своих коллег, работавших в условиях свободного рынка, не извлекало никаких выгод из прибавочной стоимости, создававшейся при производстве товаров и услуг.
Представители административной прослойки находились в двусмысленном положении. Принадлежа к правящей элите, они занимали важные, надёжно защищённые и привилегированные должности, многие пропагандировали коммунистические ценности. В то же время, конвертировав административный контроль в собственность, они могли завоевать ещё более выгодные экономико-классовые позиции. Из сидящих на зарплате членов административной прослойки они выросли бы в часть капиталистического класса, обладающей законными правами на экспроприацию прибавочной стоимости и на владение частной собственностью.
Средний «приобретательский» класс
Вторая классовая группа была связана с рынком. В условиях плановой экономики рабочие и служащие получали за свой труд заработную плату от государственного предприятия или учреждения: государство обладало монополией найма и определяло ставки зарплаты и условия труда. Обмен рабочей силы на деньги оставался характерной чертой государственного социализма, а доход, извлекаемый из работы по найму, оказывал большое влияние на уровень жизни каждого отдельного работника. При капитализме рыночная позиция выявляется в ходе секторальных переговоров, что создаёт неравенство между работниками. Иные профессионалы – врачи, артисты эстрады, менеджеры – могут выторговать себе дополнительные льготы.
При государственном социализме размер материального вознаграждения не имел отношения к переговорам или объёму продаж на рынке и устанавливался в административном порядке. Разница между существующим уровнем вознаграждения и воображаемым изобилием материальных благ, которое якобы должен был принести рынок, и создала в среде многих профессиональных групп, работников административного звена и квалифицированных рабочих настроение в пользу введения рыночной системы. При государственном социализме разница в оплате труда была минимальной. Среди интеллигенции такое относительное равенство порождало недовольство.
Чувство обделённости предрасположило некоторые общественные группы к тому, чтобы настаивать на проведении рыночной политики, а позднее – на приватизации государственной собственности.
Многим казалось, что предоставляемых им относительных льгот недостаточно для вознаграждения предпринимательской деятельности и усилий по овладению высокой квалификацией, что дало дополнительные доводы тем, кто ратовал за переход к рыночной системе, которую считали «более справедливой», если речь шла о вознаграждении квалифицированного труда. Либеральную интеллигенцию к тому же возмущал административный контроль над деятельностью в области культуры, что подрывало профессиональный престиж её деятелей, а также над свободой передвижения и выезда за границу.
Социальный базис контрреволюции
В основе реформ лежали интересы упомянутых групп: части государственной бюрократии и членов среднего класса («приобретательский класс»), считавших, что лично они выгадают от того, что их жизненные перспективы будут определяться товарными качествами их квалификации. Обе группы могли конвертировать свои социальные позиции в классовые права в два этапа: (1) введение рыночной экономики, (2) приобретение права на собственность. Эти-то социальные слои системы государственного социализма и сформировали новый восходящий класс.
Впрочем, важно помнить о неоднородности этих социальных групп. В обеих имелись верные сторонники и защитники социалистической системы. Особенно сильную поддержку существующей социалистической системе оказывали высшие эшелоны государственной бюрократии. В начале, формулируя программу реформ для придания нового импульса развитию экономики, Михаил Горбачёв рассчитывал осуществить переход к рынку в рамках политической системы, во главе которой стояла КПСС. Дабы обеспечить поддержку политике перемен, руководство нарушило политическое равновесие в партии, выдвинув на смену сторонникам традиционных форм административно-политического контроля более молодых деятелей с политическими связями в приобретательских слоях. Более того, поощряемый лидерами западных держав Горбачёв ввёл систему конкурентных выборов, тем самым создав условия для значительного расширения рамок политических возможностей.
Однако для реализации классовых интересов необходима политическая мобилизация.
Политические параметры государственного социализма и интересы государственной безопасности налагали жёсткие ограничения на выражение альтернативных мнений и не давали развиться альтернативным движениям.
Как следствие – реформистскому движению недоставало политического веса и энергии для выработки политики, ведущей в направлении к бесповоротному переходу к основанной на приватизации рыночной системе.
Это может быть проиллюстрировано на примере преобразований, осуществлённых в Восточной Европе. Самые первые реформы в таких странах, как Чехословакия, Венгрия, Польша и ГДР не затрагивали системы государственного планирования и государственной собственности. Внутренние экономические преобразования в Китае не покушались на гегемонию КПК и оставили в неприкосновенности систему государственной собственности. Догорбачёвское политическое руководство жёстко пресекало мобилизацию контрреволюционных сил, и то же самое происходит сейчас в Китае.
На заре горбачёвских преобразований многие из тех, кто принадлежал к административным и приобретательским кругам поддерживали идею «рынка», но не перехода к приватизации объектов государственной собственности. В июле 1990 г. в Верховном Совете РСФСР состоялось голосование по программе «силаевских реформ», посредством которых в России вводилась рыночная система. Реформы получили поддержку более 70 процентов членов государственной и партийной элиты и более 80 процентов депутатов – выходцев из профессиональной среды и органов исполнительной власти.
Однако при анализе уровня поддержки идеи приватизации выясняется, что правительственные и партийные элиты выступали против неё. В декабре 1990 г. большинство депутатов отвергло предложение о введении частной собственности – против него проголосовало 70 процентов тех, кого я называю представителями «административного класса». С другой стороны, «против» проголосовало только 40 процентов выходцев из профессиональной среды («приобретательский класс»). Стало быть, маловероятно, чтобы у национальных административных элит ради перехода к неопределённости капитализма возникла личная заинтересованность в уничтожении собственного политического базиса. К тому же многие из них по-прежнему верили в превосходство социализма.
Внешнее измерение
Но помимо этих двух классов имелись ещё и заинтересованные внешние силы, действовавшие через мировые политические элиты, которые оказывали поддержку переходу к рынку и приватизации и его легитимировали.
Это международное измерение сыграло важнейшую роль в качестве механизма внушения, действие которого привело к ясному осознанию элитами своих классовых интересов.
Получив отпор, советское руководство ради сохранения линии на переход к капиталистической экономике волей-неволей попало в зависимость от внешних сил. Как убедительно свидетельствует бывший советник Горбачёва Андрей Грачёв, «задача [внешней политики Горбачёва] состояла не в том, чтобы защитить СССР от внешней угрозы или обеспечить внутреннюю стабильность, а едва ли не в прямо противоположном: использовать отношения с внешним миром в качестве дополнительного орудия осуществления внутренних перемен. Он хотел сделать Запад своим союзником в политической борьбе против консервативной оппозиции, противостоявшей ему внутри страны, поскольку его настоящий политический фронт был именно там»[1].
Политика радикального реформистского руководства – во главе сначала с Горбачёвым, а потом с Ельциным – была направлена на оформление союза с внешними мировыми игроками. Как в то время указывал дипломат Раймонд Гартхофф, архитекторы политики Запада перешли от «сдерживания» коммунизма к его «интеграции в международную систему». Западом под руководством США были разработаны и основные правила такой интеграции, включавшие внедрение в государственную организацию конкурентной рыночной системы (соперничающие между собой политические партии и конкурентные выборы); то же самое относилось и к сфере экономики (приватизация производственных предприятий за валюту, котировка национальной валюты на международных рынках). Переход должен быть закреплён образованием правового государства, гарантирующего права собственности на имущество и доходы с него.
Такая политика имела непосредственное влияние на переход к капитализму в СССР и позднее – в Российской Федерации. Рыночная форма обмена привела к появлению на предприятиях западного персонала, товаров и капитала (для приобретения фондов). Связи с иностранными интересантами в процессе перехода к капитализму породили политический балласт, занявший место туземного буржуазного класса или, как на заре капитализма, аристократов-землевладельцев с коммерческой жилкой.
Взаимодействие этих трёх политических сил и положило конец эпохе, начавшейся в октябре 1917 года. Произошёл контрреволюционный переворот. В странах, уцелевших после разгрома социалистического лагеря, – Китае, Кубе и Северной Корее – геополитический фактор встретился с сопротивлением, а нарождающиеся силы социальных перемен оказались неспособными сформулировать свои классовые интересы.
Комментарий был заказан Международным дискуссионным клубом «Валдай» и впервые опубликован на сайте клуба в разделе «Аналитика».
--
СНОСКИ
[1] Andrei Grachev, ‘Russia in the World’. Paper Delivered at BNAAS Annual Conference, Cambridge, 1995, p.3.

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПЁРЛ-ХАРБОР»
ИГОРЬ МАКАРОВ
Руководитель Департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
МАКСИМ ЧУПИЛКИН
Стажёр-исследователь Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
НЕФТЯНОЙ КРИЗИС 1973 ГОДА
Нефтяной кризис 1973 г. – одно из важнейших событий второй половины XX века. То, что в одно мгновение нефть превратилась из дешёвого товара в дорогой, не только кардинально изменило образ жизни людей в странах Запада, но и привело к трансформации всей системы общественных отношений: изменению роли государства, направлений научно-технического прогресса, относительной значимости различных отраслей экономики, географии и структуры международных торговых потоков.
Вместе с тем нефтяной шок стал не столько первопричиной, сколько катализатором перемен. Эпоха послевоенного экономического роста, основанного на экстенсивном промышленном развитии и потребительском буме, в любом случае была близка к завершению. В 1960-е и начале 1970-х гг. противоречия в экономическом развитии ведущих стран достигли критического уровня. Социальные расходы увеличивались, а производительность труда падала. Росла озабоченность нехваткой природных ресурсов. В кризис вступила Бреттон-Вудская валютная система, не справлявшаяся с бурным расширением экономической активности и растущими трансграничными потоками капитала. Переход ведущих экономик мира от индустриального в постиндустриальный мир, а также проходившая в послевоенные десятилетия гуманизация ценностей и либерализация общественной жизни требовали иных принципов управления экономикой.
Внешний шок и последовавшая за ним стагфляция не позволили далее игнорировать накапливающиеся проблемы. Пять-шесть лет после нефтяного кризиса ушло на то, чтобы подстроить под новые условия энергетические системы, найти новые внешнеполитические решения в условиях масштабного перераспределения богатства и переформулировать принципы экономической политики. Однако адаптация не затрагивала ни ключевых ценностей западного мира, ни основ рыночного хозяйствования.
В итоге самый масштабный кризис Запада во второй половине ХХ века подтолкнул его к той экономико-политической модели, которая уже через полтора десятилетия праздновала глобальный триумф в духе «конца истории», а в настоящее время претерпевает кризис, пути выхода из которого пока не найдены.
Причины кризиса
Послевоенные десятилетия были золотым веком для Запада. США наслаждались беспрецедентным экономическим процветанием, План Маршалла сделал возможным динамичное восстановление европейских экономик, Япония, как и Германия, переживала экономическое чудо. В Японии темпы роста достигали 10 процентов в год, во Франции и ФРГ – 5–6 процентов, в США и Великобритании – 3 процентов в год, но с более высокого исходного уровня. В 1960-е гг. безработица во многих странах не превышала 1–2 процентов. Быстро росла производительность труда, в гражданский оборот входили технологические достижения, разработанные в военное время. Быстрее, чем когда-либо в мировой истории, расширялась международная торговля. Макроэкономическую стабильность обеспечивали кейнсианская политика и Бреттон-Вудская валютная система. Сформировалось государство всеобщего благосостояния современного типа, а также экономика потребления. Наилучшим отражением оптимизма того времени стал бэби-бум во всех уголках западного мира.
Тем не менее уже в 1960-е гг. в экономической и политической жизни ведущих западных стран начали обозначаться противоречия. Формирование «общества изобилия» (заглавие известной книги американского экономиста Джона Гэлбрейта 1958 г.) в послевоенные десятилетия привлекло внимание к социальным проблемам, остававшимся нерешёнными. Казалось, что расцвет экономики несовместим с сохранением бедности части населения. Как следствие – во всех ведущих странах формировалась современная модель государства всеобщего благосостояния. В 1960–1975 гг. социальные расходы в Соединённых Штатах и Великобритании росли на 3 процента в год, в континентальной Европе – на 4–5, в Японии – более чем на 8 процентов в год[1]. В США президент Линдон Джонсон запустил программу «Великое общество», которая включала государственную поддержку образования и дорогостоящие программы государственного здравоохранения Medicare и Medicaid.
В ответ на замечания о том, что эти программы слишком накладны, он возражал: «Меня утомляют люди, говорящие о том, что мы не можем чего-то сделать. Чёрт возьми, мы богатейшая страна мира, самая влиятельная. Мы можем всё»[2].
Одновременно росли траты американцев на помощь союзникам во время холодной войны и поддержание войны во Вьетнаме: военные расходы с 1965 по 1970 гг. увеличились на 60 процентов. Эти расходы финансировались за счёт низких процентных ставок и запуска печатного станка: с 1961 по 1970 гг. инфляция в США выросла с 1,1 до 5,8 процента; во Франции с 2,4 до 5,3 процента; в Великобритании с 3,5 до 6,4 процента; в Японии с 5,4 до 7 процентов. Центральные банки были в полной зависимости от исполнительной власти, разгоняя инфляцию в такт выборным циклам. Когда в начале 1970-х гг. инфляция вышла из-под контроля, они наконец начали поднимать ставки. В результате затягивание поясов в качестве расплаты за большие расходы прошлого десятилетия совпало с экономическим шоком[3].
Из-за высокой роли профсоюзов и индексации зарплат гибкость рынка труда была низкой, что затруднило адаптацию экономики к последовавшему шоку и усилило риск стагфляции. Самый известный пример роли организованного труда в усугублении экономического кризиса – забастовка шахтёров в Великобритании. Из-за высокой инфляции, в том числе увеличенной начавшимся нефтяным эмбарго, шахтёры требовали повышения зарплат. Когда государство на это не пошло, профсоюзы начали забастовку, что вместе с топливным кризисом привело к переходу Великобритании на трёхдневную рабочую неделю.
Перегрев экономик развитых стран, в первую очередь Соединённых Штатов, привёл к дестабилизации мировых финансов. Бреттон-Вудская система, существовавшая с 1944 г., предполагала конвертацию доллара в золото по постоянной ставке 35 долларов за унцию. Однако по мере увеличения дефицита платёжного баланса США объём долларов за рубежом рос и в 1966 г. впервые превысил золотой запас Соединённых Штатов. Высокая инфляция и государственный долг, а также замедление экономического роста в США привели к усилению недоверия к доллару. Министр финансов Франции Валери Жискар д’Эстен в 1970 г. назвал особую роль доллара «непомерной привилегией». Многие ведущие страны принялись активно обменивать его на золото[4]. В 1971 г. президент Ричард Никсон вынужден был объявить об отмене золотого стандарта, и одновременно запустить план Новой экономической политики (по горькой иронии повторяющий известный советский термин), включавший замораживание цен и зарплат и 10-процентную таможенную пошлину на импортные товары[5].
Нефтяное эмбарго, фактически введённое 17 октября 1973 г., стало лишь катализатором кризисных явлений, последним элементом «идеального шторма» в мировой экономике. Само решение стран ОПЕК о запрете поставок нефти Соединённым Штатам и их союзникам (Канаде, Японии, Нидерландам и Великобритании) было принято в ответ на оказание американцами военной помощи Израилю в Войне судного дня против Египта и Сирии. Однако нефтяной кризис не был случайным событием – «чёрным лебедем», прилетевшим из ниоткуда.
В 1960-е гг. роль нефти в производстве и потреблении западных стран выросла невероятно. Так, с 1961 по 1973 г. её доля в производстве электроэнергии в США поднялась с 6 до 17 процентов; во Франции с 4 до 40 процентов; в Великобритании с 15 до 26 процентов; в Японии с 20 до 73 процентов. На нефти базировались ключевые отрасли промышленности того времени. А одновременно и общество потребления. 80 процентов взрослых американцев ездили на работу на автомобилях. Гонки на автомобилях, с ностальгией показанные Джорджем Лукасом в фильме «Американские граффити» 1973 г., были типичной формой досуга молодёжи. Цена на нефть 1–2 доллара за баррель не стимулировала домохозяйства сдерживать потребление, а компании – инвестировать в энергоэффективность.
При этом Соединённые Штаты оставались единственной из развитых стран с возможностями собственного производства нефти – все остальные целиком зависели от поставок из Персидского залива.
Но с 1960 по 1973 гг. доля США в мировом производстве нефти упала с 33,5 до 16,5 процента, а доля стран ОПЕК выросла с 39,4 до 53,3 процента.
Высокая зависимость от Ближнего Востока не рассматривалась как проблема. В американской внешней политике доминировала идея, что рынок нефти контролирует покупатель, а не продавец. Это действительно было так, но контроль был не рыночным, а политическим. До 1973 г. часть арабских стран находилась под прямым управлением Великобритании, а в других правили подконтрольные лидеры. К 1973 г. колониальное управление закончилось, а в Египте, Ираке, Тунисе, Йемене, Ливии, Сирии и Алжире к власти пришли революционные лидеры, скептически относящиеся к сотрудничеству с Западом[6].
Снижалась роль западных компаний. В 1952 г. крупнейшие из них, получившие название «семь сестёр», контролировали 90 процентов производства нефти и 75 процентов производства нефтепродуктов вне США, СССР и Китая. К 1958 г. их доли снизились до 75 и 50 процентов соответственно. ОПЕК как раз и была создана в 1960 г. как механизм координации таких стран, как Иран, Ирак и Саудовская Аравия, объединённых целью снизить контроль Запада над нефтяными месторождениями и рынком нефти[7].
Спусковым крючком, который сделал нефтяной кризис неизбежным, стал крах Бреттон-Вудской системы. Сопровождавшая его девальвация доллара привела к падению доходов арабских стран-нефтеэкспортёров, продававших нефть за американскую валюту. Для компенсации выпадавших доходов ОПЕК была вынуждена искать возможности повышения цен.
Последствия кризиса
За введением эмбарго – «энергетическим Пёрл-Харбором», по выражению советников президента Никсона, – последовал рост цен на нефть с 2,9 до 11,7 доллара за баррель. «Великим американским гонкам наступает конец», – констатирует герой Джона Апдайка[8]. К заправкам выстраиваются очереди длиной в несколько кварталов. Бензина на всех не хватает, он отпускается лимитированно. Президент Никсон вынужден ограничить скоростной режим. Похожие меры применяются в разных странах Европы: прекращение телевещания и закрытие офисов в ночное время, запрет на световую рекламу, переход на летнее время для экономии энергии, запрет на вождение по воскресеньям. В Японии происходят набеги покупателей на магазины потребительских товаров, в результате чего государству приходится регулировать цены на них.
Не менее значимый эффект кризиса 1973 г. – резкий скачок инфляции. Почва для него уже была подготовлена чрезмерно мягкой монетарной политикой в 1960-е гг., базировавшейся на ошибочных представлениях о неизбежной обратной взаимосвязи между инфляцией и безработицей[9]. Однако резкий скачок цен на нефть привёл к повышению цен на топливо и, соответственно, к повышению издержек компаний. В результате во многих странах наступила стагфляция – одновременное сокращение производства и повышение цен. Так в США с 1972 по 1974 гг. инфляция выросла с 3,3 до 11,1 процента; во Франции с 6,1 до 13,7 процента; в Японии с 4,8 до 23,2 процента; в Великобритании с 7,1 до 16 процентов (рисунок 1). К 1975 г. безработица в США достигла 8,5 процента, а во Франции и Великобритании – 4 процентов. Для стран, ещё недавно ставивших целью полную занятость, это были высокие показатели.
Рисунок 1. Цена на нефть и инфляция (индекс потребительских цен) в странах ОЭСР в 1961–1990 годы[10]
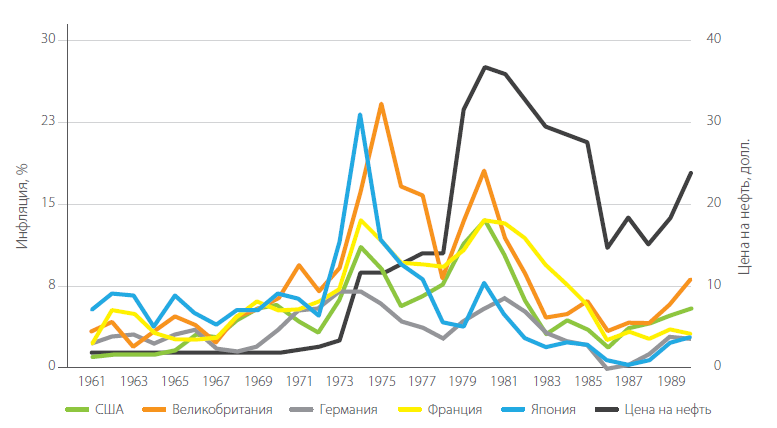
В марте 1974 г. госсекретарю Генри Киссинджеру удалось добиться снятия нефтяного эмбарго. Спустя несколько месяцев оно было отменено и для союзников Вашингтона. Но кризис социально-экономических систем Запада уже был запущен.
Кейнсианство рухнуло, будучи бессильно перед стагфляцией. Не менее важно и то, что повсеместно рухнуло и доверие к «большому правительству». Со времён Нового курса Рузвельта государство приучило людей, что оно ответственно за их благосостояние. Конец 1970-х гг. стал крупнейшим провалом государства с тех пор. В США три президента подряд (Ричард Никсон, Джеральд Форд и Джимми Картер) не удержались более одного срока (Никсон выиграл на повторных выборах 1972 г., но ушёл в отставку ввиду неминуемого импичмента в 1974 г. – прим. ред.). В Великобритании 1974 г. ознаменовался провалом Консервативной партии. Правда, и лейбористы не смогли предложить адекватных решений накопившихся проблем и удерживали большинство лишь пять лет. В ФРГ правящая Социал-демократическая партия проиграла выборы в ряде земель, но всё же сохранила большинство.
В США нефтяной кризис больно ударил по главным отраслям промышленности того времени: производству стали и особенно автомобильной промышленности. Производство самого популярного американского автомобиля Chevrolet снизилось с 2,5 млн единиц в 1973 г. до чуть более 800 тысяч в 1975 году. Появился термин «Ржавый пояс». Сотни тысяч людей в Детройте, Буффало, Питтсбурге, Кливленде и других крупнейших городах этого региона потеряли работу. Города стали приходить в запустение по мере того, как состоятельные люди перебирались в пригороды. Даже в таких мощных центрах, как Нью-Йорк и Чикаго, увеличилась преступность. На смену идиллии «Американских граффити» в 1976 г. пришёл фильм «Таксист» Мартина Скорсезе, показывающий безнадёжность новой городской жизни.
Нефтяной кризис ударил по научно-техническому прогрессу, драйвером которого в 1950–1960-е гг. были энергоёмкие технологии и отрасли. После резкого скачка издержек производство в них вернулось к технологиям середины или начала 1960-х. Рост производительности труда с 1973 по 1979 гг. снизился с 0,7 процента до -1,2 процента в Японии и с 0,4 до -0,7 процента в год в Соединённых Штатах[11].
Всё это в совокупности положило конец золотому веку экономического роста в развитом мире. Если с 1960 по 1973 гг. среднегодовые темпы прироста ВВП в Японии составляли 10–11 процентов, в США 4,3 процента, во Франции 5,9 процента, а в Германии 5,4 процента, то с 1973 по 1979 гг. в Японии они упали до 3,8 процента, в США до 2,8 процента, во Франции до 3,1 процента, в Германии до 2,4 процента. Даже после возврата к устойчивому экономическому росту в 1980-е гг. его темпы так и не вернулись к докризисным уровням (таблица 1).
Таблица 1. Среднегодовые темпы экономического роста в ведущих странах Запада и Саудовской Аравии в 1961–2019 годы[12]
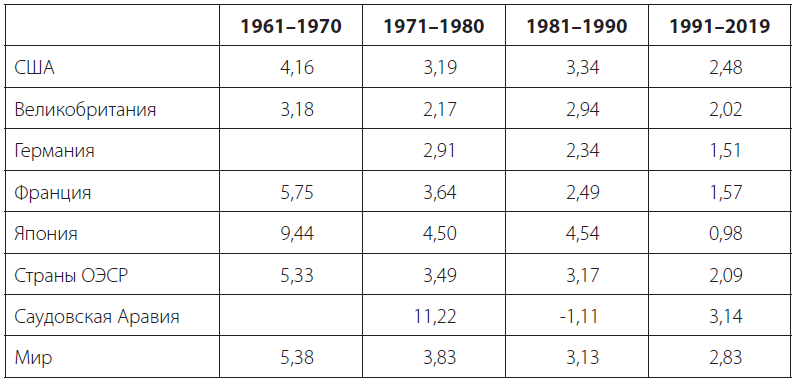
В Японии и ФРГ завершилось экономическое чудо, во Франции – «славное тридцатилетие». Впрочем, нефтяной кризис был скорее завершающим ударом. Источники экономического роста послевоенных десятилетий – восстановление промышленности и инфраструктуры, перераспределение ресурсов из сельского хозяйства в индустриальный сектор, экстенсивное использование природных ресурсов и привлечение на рынок труда большого количества новых работников (в том числе женщин) – в любом случае иссякали[13].
В то же время произошло одно из самых драматичных в мировой истории изменений географии торговли, а как следствие – и перераспределения богатства (таблица 1). Только за 1974 г. доходы стран ОПЕК от продажи нефти выросли на 70 млрд долларов. Переток доходов из стран ОЭСР составил примерно 2 процента их ВВП[14]. В 1979 г. произошёл новый нефтяной шок, связанный с иранской революцией, но к тому моменту страны ОЭСР уже адаптировались к новой реальности.
Таблица 2. Сальдо счёта текущих операций стран ОПЕК, ОЭСР и ненефтедобывающих развивающихся стран в 1973–1980 годах[15]
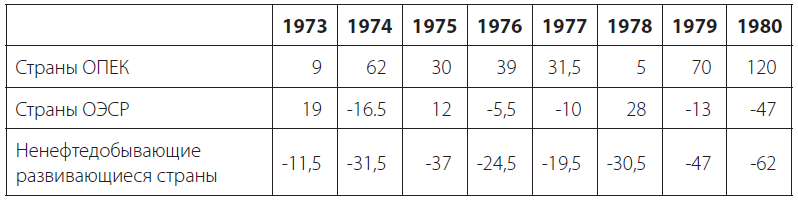
Реакция на кризис
Нефтяное эмбарго потребовало от правительств западных стран не только оперативных решений по борьбе с инфляцией и дефицитом энергии, но и серьёзных усилий по подстройке энергетической, экономической и внешней политики под новые условия, когда один из важнейших факторов производства в одночасье стал дорогим.
Остро встал вопрос обеспечения энергобезопасности. Каждая страна стремилась к диверсификации источников поставок нефти и снижению зависимости от Ближнего Востока, диверсификации источников энергии и снижению зависимости от нефти, а также к стимулированию энергоэффективности и энергосбережения[16].
Франция пошла по пути создания собственной энергетической отрасли силами государства. Её ядром стала атомная энергетика. Сразу после нефтяного кризиса был принят План Мессмера, целью которого было производство 100 процентов электроэнергии страны на атомных электростанциях. В 1973 г. доля ядерной энергии в общем объёме производства электроэнергии во Франции составляла 8 процентов, к 1983 г. она выросла до 48,8 процента, а к 1990 г. – до 75,2 процента.
Великобритания решила проблему энергетической безопасности посредством ускоренного освоения запасов нефти и газа в Северном море. Ещё в 1970 г. на собственные нефть и газ в стране приходилось 4,5 процента потребления первичной энергии. К 1978 г. эта величина достигла 41,4 процента. Если добавить к этому уголь, а также атомную и гидроэнергетику, к 1978 г. Великобритания самостоятельно обеспечивала 80 процентов своих энергетических потребностей[17].
Япония выбрала стратегию инвестирования в общую энергетическую эффективность производства. Из непосредственно энергетических отраслей масштабную поддержку получили лишь ядерная и солнечная энергетика, опиравшиеся на японские технологии. Их развитие сопровождалось наращиванием импорта угля и сжиженного природного газа[18]. Японии удалось компенсировать потери от роста импорта энергоносителей расширением промышленного экспорта, в первую очередь автомобильного. Малолитражные японские автомобили Toyota Corolla, Honda Civic, Mitsubishi Galant и Datsun Sunny завоевали американский рынок, легко выигрывая конкуренцию у американских «пожирателей бензина». Экспансия японских автомобилей произошла и в Великобритании.
В Германии протекала диверсификация источников энергии и её поставок (развитие атомной энергетики и рост потребления природного газа из СССР и Норвегии) и делались масштабные инвестиции в энергосбережение – как в промышленности, так и в коммунальном хозяйстве.
В США последовательная стратегия приспособления энергетической системы к новым условиям так и не была выработана. В 1975 г. появился стратегический нефтяной резерв, а в 1977 г. создан Департамент энергетики в составе правительства. Некоторые инвестиции были направлены на развитие новых технологий и альтернативных источников энергии. Они включали в себя и атомную энергетику, и некоторые технологии, ставшие тупиковыми (синтетическое топливо) либо давшие плоды спустя десятилетия (добыча сланцевого газа)[19]. В целом эти инвестиции не были столь же успешными, как в ряде европейских стран. Контроль цен на энергоносители сохранялся до 1979 г., что не создавало стимулов ни к снижению их потребления, ни к росту внутреннего производства. В условиях необходимости соблюдать баланс интересов между неповоротливым «большим государством», бизнесом и профсоюзами ни одна из решительных мер, которые обсуждались в тот момент, будь то национализация энергетической отрасли или, наоборот, прекращение контроля цен, так и не были приняты.
Так как последствия кризиса вышли далеко за рамки энергетики, подстройка под новые условия также должна была охватывать все стороны экономической и политической жизни.
Основным результатом кризиса 1973 г. во внутриполитической жизни стал переход от кейнсианства к неолиберализму. Опыт высокой инфляции, чрезмерной роли профсоюзов и регулирования экономики привёл к переходу баланса от государства к рынку.
Из-за инерции «большого правительства» этот переход не был моментальным: он начался к концу 1970-х гг., но окончательно оформился с приходом сильных лидеров, способных его осуществить: Маргарет Тэтчер в Великобритании и Рональда Рейгана в Соединённых Штатах. Низкая инфляция заменила полную занятость в качестве основной цели экономической политики. Был взят курс на снижение налогов и ослабление регулирования. Самое резкое снижение верхней ставки налогообложения, сразу с 98 до 75 процентов, произошло в Великобритании в 1979 г. после прихода Маргарет Тэтчер. В 1981 г. снижение верхней ставки с 69,1 процента до 50 процентов произведено в США президентом Рейганом. Во Франции и Германии налоги почти не снижались, однако обе страны приняли основные формы неолиберальной политики – в частности, жёсткий ориентир на низкую инфляцию. Независимость центрального банка от исполнительной власти была признана ключевым условием предотвращения новой волны роста цен.
Способствовало переходу к неолиберализму и оформление Ямайской валютной системы, пришедшей на смену Бреттон-Вудской. В 1976 г. Совет директоров МВФ официально отменил золотой стандарт и золотые паритеты, плавающие валютные курсы были признаны нормальной формой экономической политики. Для регулирования платёжных балансов разных стран и формирования резервов в рамках МВФ была создана система специальных прав заимствования. Фактически в неизменном виде Ямайская валютная система существует и сегодня.
Кардинально изменилась международная среда. Кризис подорвал единство Запада. Несмотря на то, что Соединённые Штаты ещё при Никсоне всячески пытались обеспечить координированный ответ стран ОЭСР на нефтяное эмбарго, сделать этого не удалось. Более того, ухудшились отношения внутри НАТО: частично из-за большой зависимости от импорта арабской нефти, частично из-за непримиримой позиции Франции страны Европы запретили США использовать европейские военные базы для поддержки Израиля. Германия обвинила Францию в том, что та хочет «развода» Европы и США[20]. Единственным новым инструментом координации развитых стран в энергетической сфере стало учреждённое в 1974 г. Международное энергетическое агентство. Однако его роль не вышла за пределы информационного обмена между странами ОЭСР. Переговоры с ОПЕК все пострадавшие от эмбарго государства вели, по сути, в одностороннем порядке.
Франция в целях защиты от будущих нефтяных шоков заключила соглашения со странами ОПЕК о долгосрочных контрактах на поставку нефти на государственном уровне[21]. Япония стала использовать ресурсную дипломатию: японские политики поддерживали арабские страны на международной арене для того, чтобы гарантировать поставки нефти[22]. Великобритания начала выстраивать отношения с разбогатевшими на нефти арабскими странами на новой основе: нефтедоллары вкладывались в лондонский Сити, а британские компании начали разворачивать в Саудовской Аравии промышленные проекты и поставлять туда вооружения[23]. Вашингтон подписал соглашение об экономическом и военном сотрудничестве с Эр-Риядом спустя три месяца после снятия эмбарго. За этим последовали поставки военной техники, вложения Саудовской Аравии в американские активы, а также её активное участие в борьбе против распространения коммунизма. Саудовская Аравия также сдерживала своих партнёров по ОПЕК от новых подъёмов цен в 1970-е годы[24]. США поставляли оружие и в Иран – до Исламской революции 1979 г., вызвавшей новый виток роста цен на нефть.
В то же время нефтяное эмбарго не привело к сколь-либо серьёзным сдвигам во внешней политике западных стран в отношении Израиля. Низкая эффективность эмбарго в достижении его прямых целей, объясняющаяся высокой вовлечённостью политиков пострадавших стран в дела Израиля, стала хорошей иллюстрацией характера ответа Запада на нефтяной шок. Этот ответ заключался в подстройке своих экономических и политических систем, создании амортизационных механизмов и в переходе в новое равновесное состояние развития экономики и международных отношений, но не в изменении основных целей и позиций[25].
Заключение: кризис, который изменил мир
Удар, нанесённый кризисом 1973 г. по странам ОЭСР, был очень сильным. Завершилась эра безусловного американского лидерства, наступившая после Второй мировой войны.
Пошатнулось единство Запада, стало очевидно, что Германия и Япония – это уже не прилежные ученики Соединённых Штатов, а их прямые конкуренты.
Оптимизм послевоенных десятилетий сменился ощущением тревоги, особенно сильной на фоне казавшихся тогда несомненными успехов Советского Союза. В 1975 г. обложку журнала Time украшал заголовок «Выживет ли капитализм?». В США всерьёз обсуждалась возможность перехода к централизованному планированию[26].
Тем не менее западные страны пережили нефтяной шок, хотя отдельные политические лидеры – нет. Выход из кризиса опирался в целом на те же системы институтов и убеждений. Кризис потребовал амортизации и адаптации, но не фундаментальных сдвигов в основах общественных отношений. Капитализм выжил, хотя и был переформатирован – сильнейшим образом со времён Великой депрессии.
1970-е гг. ознаменовали закат традиционного индустриального мира – особенно в Соединённых Штатах. Но у него уже была замена: мир финансов и технологий. На смену Питтсбургу и Детройту уже приходили Уолл-стрит и Кремниевая долина – символы нового постиндустриального общества, требовавшего, однако, другой системы общественных отношений. Слом «большого правительства» и переход к дерегулированию начался при Джимми Картере, а завершился при Рейгане. Схожие процессы происходили в Великобритании с самого начала правления Маргарет Тэтчер: там зарождалась мощь лондонского Сити. Франция и Германия приняли основные постулаты новой экономической политики, но остались верны модели социальной экономики со значительной ролью государства и сильным регулированием. Но даже несмотря на это, опробованные в США и Великобритании рецепты быстро стали претендовать на универсальность: в дальнейшем они оформились в идеи «вашингтонского консенсуса».
Мировая экономика никогда больше не росла такими же темпами, как до нефтяного кризиса.
Новая нормальность, запущенная в 1970-е гг., характеризовалась более низкими темпами экономического роста, более высокой его волатильностью[27], большей зависимостью от инновационных отраслей, а также растущим неравенством.
В краткосрочном плане главными выигравшими от кризиса стали страны-экспортёры нефти. Их экспортные доходы выросли более чем втрое с 1973 по 1974 год. Нефтедоллары использовались странами Персидского залива для создания системы общественных благ, трансфертов населению и финансовой поддержки сторонников действующих режимов. Впрочем, в долгосрочном плане эффект неожиданного богатства не столь однозначен. Не всем удалось справиться с ним: например, в Иране спустя несколько лет произошла Исламская революция. Почти во всех странах ОПЕК приток лёгких денег закрепил практики неэффективного управления, запустив механизм «ресурсного проклятья». Всесилие ОПЕК сошло на нет менее чем через десятилетие.
Рост цен на нефть сильно повлиял и на развитие СССР. Валютная выручка от продажи нефти в страны ОЭСР за 1970-е гг. выросла примерно в 10 раз. Это обстоятельство позволило решить часть текущих внутриэкономических проблем, нарастить импорт оборудования и потребительских товаров, продолжить участие в гонке вооружений и ввязаться войну в Афганистане[28]. В 1970–1986 гг. темпы роста капитальных вложений в производство нефти и газа превышали рост инвестиций в промышленность и сельское хозяйство в 3–5 раз[29]. Страна оказалась на нефтяной игле, с которой так и не смогла слезть.
Кризис 1973 г. спровоцировал, возможно, самое масштабное перераспределение богатства в истории, направив огромные потоки доходов из стран ОЭСР в страны ОПЕК. Но в то же время именно этот кризис заставил страны Запада преодолеть противоречия, накапливавшиеся с 1960-х годов. Переформатировав барахливший капитализм, они первыми шагнули в постиндустриальный мир, самостоятельно сформировав его облик и заложив тем самым основы своего глобального лидерства на десятилетия вперёд.
--
СНОСКИ
[1] OECD. Social Expenditure 1960-1990. Problems of Growth and Control. OECD, 1985. URL: http://www.oecd.org/social/soc/40836112.pdf
[2] Цит. по Greenspan A., Wooldridge A. Capitalism in America. An Economic History of the United States. New York: Penguin Press, 2018.
[3] Blanchard O., Gali J. The Macroeconomic Effects of Oil Shocks: Why are the 2000s so different from the 1970s? National Bureau of Economic Research, No. w13368, 2007.
[4] Bordo M. The Operation and Demise of the Bretton Woods System; 1958 to 1971. National Bureau of Economic Research, No. w23189, 2017.
[5] Greenspan A., Wooldridge A. Capitalism in America. An Economic History of the United States. New York: Penguin Press, 2018.
[6] Issawi C. The 1973 oil crisis and after // Journal of Post Keynesian Economics, Vol.1, No. 2, 1978.
[7] Frankopan P. The silk roads: A new history of the world // Bloomsbury Publishing, 2015.
[8] Апдайк Дж. Кролик разбогател // Москва, АСТ, 2009.
[9] Замулин О. Концепция реальных экономических циклов и ее роль в эволюции макроэкономической теории // Вопросы экономики, №1, 2005.
[10] По данным World Development Indicators и BP.
[11] Jorgenson D.W. Productivity and economic growth in Japan and the United States // The American Economic Review, Vol. 78, No. 2, 1988.
[12] По данным World Development Indicators.
[13] Temin P. The golden age of European growth reconsidered // European Review of Economic History, Vol. 6, No. 1, 2002.
[14] Ikenberry G.J. Reasons of State: Oil Politics and the Capacities of American Government // Cornell University Press, 1988.
[15] Ikenberry G.J. Reasons of State: Oil Politics and the Capacities of American Government. Cornell University Press, 1988
[16] Ikenberry G.J. The irony of state strength: comparative responses to the oil shocks in the 1970s // International Organization, Vol, 40, No. 1, 1986.
[17] Bank of England. North Sea oil and gas in the UK balance of payments since 1970. Bank of England, 1979. URL: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/1979/north-sea-oil-and-gas-in-the-uk-balance-of-payments-since-1970.pdf
[18] Moe E. Vested interests, energy efficiency and renewables in Japan // Energy Policy, Vol. 40, 2012.
[19] Ross M. How the 1973 oil embargo saved the planet // Foreign Affairs, 2013.
[20] Turner L. The politics of the energy crisis // International Affairs, Vol. 50, No. 3, 1974
[21] Ikenberry G.J. The irony of state strength: comparative responses to the oil shocks in the 1970s // International Organization, Vol. 40, No. 1, 1986.
[22] Yorke V. Oil, the middle east and Japan’s search for security // International Affairs, Vol. 57, No. 3, 1981.
[23] Wearing D. Forty years on, the effects of the 1973-74 oil crisis still shape British foreign policy in the Middle East // Open Democracy, 2003. URL: https://www.opendemocracy.net/en/opendemocracyuk/forty-years-on-effects-of-1973-74-oil-crisis-still-shape-british-foreign-po/
[24] Gause F.G. The International Relations of the Persian Gulf. Cambridge University Press, 2010.
[25] Licklider R. The power of oil: the Arab oil weapon and the Netherlands, the United Kingdom, Canada, Japan, and the United States // International Studies Quarterly, Vol. 32, No. 2, 1988.
[26] Gordon D.M. ‘’Recession is Capitalism as usual’’ // New York Times, 1974. URL: https://www.nytimes.com/1975/04/27/archives/recession-is-capitalism-as-usual-a-radical-economist-argues-that.html
[27] Григорьев Л.М., Иващенко А.С. Теория цикла под ударом кризиса // Вопросы экономики, №10, 2010.
[28] Гайдар Е.Т. Гибель империи. Уроки для современной России // М.: РОССПЭН, 2006.
[29] Ермолаев С. Формирование и развитие нефтегазовой зависимости Советского Союза // Московский центр Карнеги, 2017. URL: https://carnegie.ru/2017/03/31/ru-pub-68448

ПАНДЕМИЧЕСКАЯ ДЕПРЕССИЯ
КАРМЕН РЕЙНХАРТ
Профессор международной финансовой системы в Гарвардской школе имени Кеннеди. После написания этой статьи была назначена главным экономистом Всемирного банка.
ВИНСЕНТ РЕЙНХАРТ
Главный экономист и специалист по макростратегии Mellon.
ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА НИКОГДА НЕ БУДЕТ ПРЕЖНЕЙ
Пандемия COVID-19 представляет для населения планеты уникальную угрозу, встречающуюся раз в поколение. Хотя это не первое заболевание, распространившееся по всему миру, но впервые в современной истории правительства вынуждены столь ожесточённо бороться со вспышкой.
Меры, включая локдаун и ограничения передвижения, направлены на замедление распространения инфекции и сбережение имеющихся медицинских ресурсов. Для финансирования этих усилий правительства привлекают экономический потенциал в невиданных ранее масштабах.
События, начавшиеся в 2008 г., назвали глобальным финансовым кризисом, хотя по сути это был банковский кризис в одиннадцати развитых экономиках. Благодаря двузначному росту в Китае, высоким ценам на сырьё и простым балансовым отчётам развивающиеся рынки выдержали удар последнего глобального кризиса. Нынешний экономический спад – другое дело. Из-за общей природы этого шока – новый коронавирус не признаёт национальных границ – в рецессии оказалась огромная часть мирового сообщества, больше, чем когда-либо прежде со времён Великой депрессии. И восстановление не будет таким же резким и быстрым, как спад. Фискальная и монетарная политика смягчит, но не ликвидирует экономические потери, понадобится длительное время, чтобы глобальная экономика вернулась к уровню начала 2020 года.
Пандемия привела к масштабному сокращению экономики, которое повлечёт за собой финансовый кризис во многих регионах планеты, необслуживаемые корпоративные займы будут расти, как и число банкротств. Также вероятен дефолт по госдолгу в странах развивающегося мира. Сегодняшний кризис будет развиваться по аналогии с событиями 2008 г., но масштабы краха глобальной экономики станут катастрофическими. Кризис ударит по семьям и странам с низким доходом сильнее, чем по более состоятельным. По оценкам Всемирного банка, около 60 млн человек в мире окажутся в нищете. Можно ожидать кардинального изменения функционирования мировой экономики: балансы уйдут в минус, и неумолимое шествие глобализации остановится.
Стоп машина!
В последнем отчёте Всемирный банк прогнозирует сокращение мировой экономики на 5,2 процента в 2020 году. Бюро трудовой статистики США недавно опубликовало худшие данные по месячной безработице за 72 года своего существования. Большинство аналитиков прогнозирует двузначные показатели безработицы в Соединённых Штатах до середины следующего года. Банк Англии предупреждает, что в этом году Великобритания столкнётся с самым значительным падением промышленного производства с 1706 года. Ситуация настолько тяжёлая, что её можно назвать депрессией, пандемической депрессией. К сожалению, воспоминания о Великой депрессии мешают экономистам и другим экспертам использовать это слово, потому что глубина и продолжительность спада тогда были настолько катастрофическими, что, кажется, их невозможно повторить. Но в XIX и XX столетиях было множество депрессий. Учитывая число людей, потерявших работу или вынужденных закрыть бизнес, кажется неуместным использовать другое слово для описания текущей ситуации.
Эпидемиологи считают коронавирус, вызывающий COVID-19, новым, следовательно, его распространение вызывает новые реакции общества и частных акторов. Существует консенсусный подход, согласно которому, чтобы замедлить распространение инфекции, нужно держать работников подальше от рабочих мест, а покупателей – от торговых точек. Если предположить, что второй и третьей волны, как в случае с эпидемией испанки в 1918–1919 гг., не будет, то нынешняя пандемия начнёт развиваться по перевёрнутой V-образной кривой: число заражений и смертей будет расти, а затем падать. Но даже если этот сценарий окажется верным, в некоторых регионах мира COVID-19, скорее всего, задержится (статья написана до начала второй волны заболевания – прим. ред.).
Пока заболеваемость идёт несинхронно. Количество новых случаев сначала упало в Китае и других странах Азии, затем в Европе, а потом очень постепенно в некоторых штатах США (позже стала вновь расти). В то же время горячие точки COVID-19 появились в таких отдалённых друг от друга странах, как Бразилия, Индия и Россия. А за болезнью следуют экономические потрясения. Такой сдвоенный удар оставляет глубокие шрамы на мировой экономической активности.
Ряд ключевых экономик сейчас вновь открывается, подтверждение этого факта мы видим в улучшении условий ведения бизнеса в Азии и Европе, а также в смене тренда на американском рынке труда. Однако этот отскок не стоит путать с восстановлением. Во всех самых тяжёлых финансовых кризисах с середины XIX века требовалось в среднем восемь лет, чтобы ВВП на душу населения вернулся к докризисному уровню (медианный показатель – семь лет). Учитывая рекордные уровни фискального и монетарного стимулирования, можно ожидать, что Соединённые Штаты справятся быстрее. Но у большинства стран нет возможности сгладить экономический ущерб от COVID-19. Поэтому наблюдаемый сейчас отскок – лишь начало долгого пути из глубокой пропасти.
Хотя в этих обстоятельствах любым прогнозам мешает неопределённость, есть три показателя, позволяющие предположить, что путь к восстановлению будет долгим.
Первый фактор, это экспорт. Из-за закрытия границ и локдаунов глобальный спрос на товары сократился, ориентированные на экспорт экономики получили тяжёлый удар. Ещё до пандемии многие экспортёры столкнулись с давлением. С 2008 по 2018 гг. рост мировой торговли снизился наполовину по сравнению с предыдущим десятилетием. В последнее время экспорт страдал от торговой войны между Вашингтоном и Пекином, которую президент Дональд Трамп развязал в середине 2018 года. Для экономик, основным источником роста которых является туризм, прекращение международных поездок стало катастрофой. По прогнозу Международного валютного фонда, в Карибском регионе, где в некоторых странах туристическая индустрия обеспечивает от 50 до 90 процентов дохода и занятости, прибыль от туризма вернётся на докризисный уровень постепенно через три года.
Упал не только объём торговли, снизились цены на многие экспортные товары. Драматичное падение особенно ощущается на нефтяном рынке. Экономический спад вызвал резкое снижение спроса на энергоресурсы и спровоцировал разногласия в хрупкой коалиции под названием ОПЕК+. В её состав входят члены ОПЕК, Россия и другие производители нефти, которые на протяжении последних трёх лет удерживали цены в диапазоне 45–70 долларов за баррель. ОПЕК+ удавалось сотрудничать, пока спрос был устойчивым и требовалось чисто символическое сокращение добычи. Однако из-за пандемии понадобилось более существенное уменьшение добычи, что вынудило двух ключевых игроков картеля, Россию и Саудовскую Аравию, пойти на действительно болезненные шаги, к которым они не были готовы. Перепроизводство и пикирование цен на нефть стало проверкой на прочность для бизнес-моделей всех производителей, особенно на развивающихся рынках, включая американский сланцевый нефтегазовый сектор. Дополнительные финансовые трудности усугубили положение и без того ослабленных компаний – как в США, так и в других странах. Зависимый от нефти Эквадор, например, объявил дефолт в апреле 2020 г., за ним могут последовать и другие нефтедобывающие страны.
Прежде удары по глобальной экономике не были полномасштабными. Так, во время десятилетнего долгового кризиса в Латинской Америке в начале 1980-х гг. и азиатского финансового кризиса 1997 г. большинство развитых экономик продолжали расти. Развивающиеся рынки (особенно Китай) стали главным источником роста во время финансового кризиса 2008 года. Сейчас всё по-другому. В последний раз сбой всех двигателей произошёл в период Великой депрессии, сейчас коллапс будет таким же резким. Всемирная торговая организация прогнозирует падение глобальной торговли на 13–32 процента в 2020 году. Если фактический результат окажется где-то в середине этого диапазона, это будет худший год глобализации с начала в 1930-х годов.
Второй фактор, указывающий на длительное и медленное восстановление, – это безработица. В результате мер по замедлению пандемии нарушились механизмы современной рыночной экономики, самой сложной системы в истории, и не удастся вновь собрать воедино все части быстро и без последствий. Некоторые закрытые предприятия и бизнесы уже не откроются. Их владельцы, потеряв сбережения, будут относиться к предпринимательству с большой осторожностью. Предпринимательский класс, прошедший естественный отбор, не будет поддерживать инновации.
Более того, некоторые отправленные в неоплачиваемый отпуск или уволенные сотрудники покинут рынок труда навсегда. Другие утратят навыки и лишатся возможности профессионального развития из-за длительного перерыва в работе. В итоге они окажутся менее привлекательными для потенциальных работодателей. Но самые уязвимые – это новички, выпускники вузов, столкнувшиеся с ослабленной экономикой. Уровень зарплат сорока- и пятидесятилетних всегда можно объяснить их статусом в начале карьеры. Те, кто споткнулся уже на старте, так и будут влачить шлейф неудачников. Нынешние школьники, в свою очередь, получат образование ниже стандарта в своих социально дистанцированных онлайн-классах. В странах с низкой скоростью интернета студенты массово покидают образовательные учреждения. Это ещё одна группа отстающих.
Конечно, политика того или иного государства имеет значение. Европейские экономики стараются субсидировать зарплаты сотрудников, не имеющих возможности работать или переведённых на сокращенный график, чтобы предотвратить массовую безработицу. Соединённые Штаты этого не делают. В развивающихся экономиках у людей нет государственной подушки безопасности. Но независимо от имеющихся ресурсов все правительства тратят больше, а получают меньше. Многие муниципальные и региональные органы власти по закону обязаны иметь сбалансированный бюджет, а значит, долги, которые они накапливают сейчас, позже потребуют урезания расходов. Пока центральные правительства увеличивают расходы, хотя их налоговая база сокращается. Страны, зависящие от сырьевого экспорта, туризма и денежных переводов граждан, работающих за рубежом, ждут сильнейшие экономические потрясения.
Но самое тревожное – депрессия началась в период, когда экономические основы во многих государствах, включая беднейшие, были уже ослаблены. Отчасти в результате такой нестабильности рейтинговые агентства понизили суверенный кредитный рейтинг рекордного числа заёмщиков с 1980 года. Корпоративные заёмщики повторяют эту траекторию, что чревато последствиями для правительств: ошибки частного сектора нередко становятся обязательствами для государства. В результате даже страны, разумно использующие ресурсы, могут опуститься на дно.
Третий фактор этого кризиса – его регрессивное воздействие внутри стран и на международном уровне. Экономические неурядицы особенно сказываются на людях с низкими доходами. Как правило, они не могут работать удалённо и не обладают ресурсами, чтобы пережить трудный период. В США, например, почти половина работников заняты в малом бизнесе, в основном в сфере услуг, где зарплаты низкие. Эти предприятия наиболее подвержены банкротствам, особенно на фоне воздействия пандемии на поведение потребителей, которое может продлиться дольше, чем сами локдауны.
В развивающихся странах, где господдержка недостаточна или вообще отсутствует, падение уровня жизни произойдёт в первую очередь среди беднейших слоёв общества. Регрессивную природу пандемии может усугубить глобальный скачок цен на продукты питания, поскольку распространение заболевания и локдауны нарушили цепочки поставок, а также схемы миграции сельхозработников. ООН уже предупредила об угрозе самого тяжёлого продовольственного кризиса за пятьдесят лет. В беднейших странах на продукты питания приходится от 40 до 60 процентов потребительских расходов, в процентах от своих доходов люди в беднейших странах тратят на еду в 5–6 раз больше, чем жители развитых стран.
Путь к восстановлению
Во второй половине 2020 г., когда кризис в системе здравоохранения медленно удалось взять под контроль, стали появляться позитивные данные об экономической активности и занятости, вызвавшие оптимизм финансовых рынков. Но эффект отскока не принесёт полного восстановления. Даже продуманная, скоординированная макроэкономическая политика не позволяет продавать продукты, которые не были произведены, и услуги, которые не были оказаны.
До сих пор фискальная реакция в мире была относительно узконаправленной и запланированной как временная мера. Обычно малоподвижный американский Конгресс принял четыре пакета законопроектов о мерах поддержки приблизительно за четыре недели. Однако большинство этих мер одноразовые или имеют чётко обозначенный срок действия. Скорость реакции безусловно связана с важностью и внезапностью проблемы, у политиков просто не было времени, чтобы добавить содержательности в законопроекты. На США приходится львиная доля из почти 11 трлн долларов финансовой помощи, которую страны G20 влили в свои экономики.
Как всегда, большой размер обеспечивает большое пространство для манёвра. Страны с большой экономикой разработали более амбициозные планы поддержки.
Суммарный размер помощи десяти развивающихся рынков G20 на 5 процентных пунктов ниже, чем у их развитых партнёров. К сожалению, это означает, что контрциклический ответ будет слабее в тех местах, которые сильнее пострадали от удара. Но, судя по цифрам, даже в странах с развитой экономикой фискальные меры не столь впечатляющи, как кажется. В G20 только Австралия и Соединённые Штаты потратили больше денег, чем было выделено компаниям и физическим лицам в форме кредитов, займов и гарантий. Меры поддержки в европейских странах – это в основном балансы крупного бизнеса, а не расходы, что вызывает вопросы об эффективности этих шагов в преодолении падения спроса.
Центральные банки тоже пытались стимулировать терпящую крах глобальную экономику. Регуляторы, у которых ещё не связаны руки предыдущими решениями держать ключевую ставку на минимальном уровне – как у Банка Японии и ЕЦБ, – ослабили контроль над финансовыми потоками. В эту группу вошли центробанки развивающихся экономик, включая Бразилию, Чили, Колумбию, Египет, Индию, Индонезию, Пакистан, ЮАР и Турцию. В прошлые кризисы главы центробанков таких стран обычно следовали в противоположном направлении: повышали ставки, чтобы не допустить обесценивания национальной валюты, сдержать инфляцию и отток капитала. Общий шок выровнял игровое поле, заставив забыть об оттоке капитала, который, как правило, сопровождает обесценивание валюты и падение ключевых выставок.
Не менее важно, что центральные банки отчаянно борются за сохранение финансовых потоков, закачивая валютные резервы в банковскую систему и снижая требования к резервам частных банков, чтобы заёмщики могли выплачивать долги. ФРС США, например, сделала и то и другое, удвоив объём вливаний в экономику за два месяца и снизив необходимый объём резервов до нуля. Статус Соединённых Штатов как эмитента мировой резервной валюты возложил на ФРС уникальную ответственность по обеспечению глобальной ликвидности доллара. Для этого она заключила соглашение по валютным свопам с девятью другими центробанками. В течение нескольких недель после соглашения данные финансовые институты заимствовали почти полтриллиона долларов, чтобы кредитовать свои банки.
Самое главное, что центробанкам удалось сохранить кредитоспособность временно лишившихся ликвидности компаний. Регулятор может сквозь пальцы смотреть на волатильность рынка и приобретать неликвидные активы, кажущиеся кредитоспособными. Центральные банки применили все пункты руководства по этой теме, взяв на себя обеспечение в том числе частных и муниципальных долгов. Длинный список банков, которые ввели подобные меры, включает почти всех обычных акторов развитого мира – Банк Японии, ЕЦБ и ФРС, а также регуляторов развивающихся экономик – Колумбии, Чили, Венгрии, Индии, Лаоса, Мексики, Польши и Таиланда. По существу, эти страны пытаются перекинуть мост над нынешней неликвидностью к будущей восстановленной экономике.
Центральные банки действовали вынужденно и поспешно. Но почему они должны были делать это? Разве законодательные и регулятивные усилия, предпринятые после прошлого финансового кризиса, не должны были смягчить следующий?
Вылазка центробанков за пределы привычной территории – результат конструктивных недостатков предыдущих попыток исправить ситуацию.
После кризиса 2008 г. правительства ничего не предприняли, чтобы изменить рисковые предпочтения инвесторов. Регулируемому сообществу, прежде всего крупным коммерческим банкам, просто стал дороже обходиться спрос на низкокачественные займы из-за введения ограничений по качеству активов, стресс-тестов и так называемого заявительного порядка. Результатом такого тренда стал рост теневых банков, когорты фактически нерегулируемых финансовых институтов. Центробанкам теперь приходится иметь дело с новыми активами и новыми участниками, потому что их официальная политика вытеснила коммерческие банки, которые ранее поддерживали неликвидные компании и правительства.
Конечно, действия центробанков остановили кумулятивное ухудшение функционирования рынков благодаря снижению ставок, масштабным вливаниям ликвидности и приобретению активов. Подобные действия встроены в ДНК центробанков с тех пор, как провал ФРС в 1930-е гг. привёл к трагическим последствиям. Однако чистый результат такой политики нельзя признать удовлетворительным в преодолении масштабного шока, который мир переживает сейчас. Ставки находились на достаточно низком уровне ещё до пандемии. И, несмотря на огромные объёмы долларов, которые ФРС направляет за границу, курс американской валюты скорее вырос, а не упал. Этих монетарных мер стимулирования недостаточно, чтобы заставить семьи и компании тратить больше, учитывая нынешние экономические проблемы и неопределённость. В итоге главные банкиры мира – управляющий Банка Японии Харухико Курода, председатель ЕЦБ Кристин Лагард и глава ФРС Джером Пауэлл – были вынуждены призвать правительства к введению дополнительных мер финансовой поддержки. Их призывы были услышаны и удовлетворены, но не полностью, поэтому мы наблюдаем резкое падение мировой экономической активности.
Экономика и недовольство ей
Тень нынешнего кризиса будет более длинной и тёмной, чем у предыдущих. По прогнозам МВФ, соотношение дефицита бюджета к ВВП в развитых экономиках возрастёт с 3,3 процента в 2019-м до 16,6 процента в этом году, в развивающихся – с 4,9 процента до 10,6 процента. Многие развивающиеся страны следуют примеру своих развитых партнёров и открывают финансовый кран. Но у многих стран как среди развитых, так и среди развивающихся, фактически нет такой возможности. Результат – раздутые государственные бюджеты.
Проблема долгов будет препятствовать восстановлению. G20 уже отложила выплаты 76 беднейших стран. В ближайшие месяцы богатым странам и кредитным организациям предстоит сделать больше, включив в схемы помощи по долгам другие экономики и привлекая частный сектор. Но для таких шагов может не хватить политической воли, если страны решат заниматься собственными проблемами, а не восстанавливать мировую экономику.
Глобализация впервые была отброшена назад с приходом к власти администрации Трампа в 2016 году. Темпы отступления будут только нарастать, потому что на глобализацию возложат вину за нынешнюю катастрофу.
Открытые границы облегчили распространение инфекции. Зависимость от экспортных рынков привела к экономическому спаду в ряде стран, когда мировая торговля приостановилась. Многие развивающиеся экономики пережили крах цен на их основные экспортные товары и прекращение денежных переводов от граждан, работающих за рубежом. Настроения общества влияют на экономику, и трудно представить, что отношение к зарубежным поездкам и образованию за границей восстановится быстро. Вообще, доверие – лучшее смазочное средство для рыночных транзакций, и сейчас его явно не хватает. Границы будет трудно пересечь, сомнения по поводу надёжности некоторых зарубежных партнёров усугубятся.
Ещё одна причина нарушения глобального сотрудничества – политики, которые могут принять краткосрочный отскок за длительное восстановление. Остановить падение доходов и производства – ключевая задача, но не менее важно ускорить восстановление. Чем дольше мы будем выкарабкиваться из воронки, которую нынешняя пандемия пробила в глобальной экономике, тем дольше некоторые люди будут оставаться без работы, а это значит – меньше перспектив среднесрочного и долгосрочного роста.
Экономические последствия ясны. Доходы падают, долговое бремя растёт. Социальные последствия прогнозировать сложнее. Рыночная экономика подразумевает договор между гражданами: ресурсы будут использоваться максимально эффективно, чтобы сделать большой экономический пирог и увеличить шансы на его дальнейший рост. Когда обстоятельства меняются в результате технологических прорывов или открытия международных торговых маршрутов, происходит перераспределение ресурсов, появляются победители и проигравшие. Пока пирог увеличивается в размерах быстро, проигравшие спокойны, потому что их кусок пирога стабильно растёт. Например, 4-процентный рост ВВП – норма для развитых экономик в конце прошлого столетия – предполагает удвоение производства за восемнадцать лет. Если рост составляет 1 процент – преобладающий показатель после кризиса 2008–2009 гг. и рецессии, – то на удвоение производства уйдёт 72 года. На фоне очевидных издержек нынешнего периода и преимуществ, скрывшихся далеко за горизонтом, вполне возможно, что люди решат пересмотреть этот рыночный договор.
Историк Генри Адамс отмечал, что политика – это систематическая организация ненависти. Избиратели, потерявшие работу, вынужденные закрыть бизнес и лишившиеся сбережений, ощущают злобу. Нет никаких гарантий, что нынешнему – или следующему – политическому классу удастся направить их гнев в конструктивное русло. В период экономических трудностей нередко нарастает волна популистского национализма, поэтому недоверие в мировом сообществе только углубится. Это ускорит упадок мультилатерализма и может привести к порочному кругу, который похоронит будущие экономические перспективы. Подобное уже происходило между двумя мировыми войнами, когда процветали национализм и политика «разори соседа».
У сегодняшних политических и социальных проблем нет решения, единого для всех. Но разумный план действий состоит в том, чтобы не допустить появления экономических условий для усугубления ситуации. Властям необходимо продолжать расширять меры поддержки. И самое главное, нельзя путать отскок с восстановлением.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs №5 за 2020 год. © Council on foreign relations, Inc.

ВАЖНЕЙШЕЕ СОБЫТИЕ XXI ВЕКА
МАРК УЗАН
Исполнительный директор Комитета за обновление Бреттон-Вудской системы (RBWC), Нью-Йорк, США
«Существует только одно равновесное решение – экономическое бездействие до полного исчезновения опасности», – именно так Джейсон Фурман, бывший председатель Совета экономических консультантов и профессор Гарвардского университета, резюмировал нынешнее уникальное состояние мировой экономики.
Когда в Китае вспыхнула пандемия, никто и предположить не мог, что мировая экономика остановится почти полностью на фоне множественных потрясений, происходящих одномоментно и с одинаковой силой, что совершенно беспрецедентно в мировой истории. Вот лишь некоторые из этих потрясений.
Шок в производстве и торговле с разрывом цепочек поставок, действующий по принципу домино, привёл к блокировке глобальных цепочек поставок.
Цены на сырьевые товары упали до уровня начала 1970-х гг. (нефть по 25 долларов), что вызвало неожиданную и массовую остановку потоков частного капитала на развивающиеся рынки, более серьёзную, чем та, с которой им пришлось столкнуться во время истерической реакции рынков в 2013 году.
Наблюдается сильный рост неприятия риска. По данным Института международных финансов, с момента начала пандемии из акций и облигаций стран с формирующимся рынком было выведено 80 млрд долларов, что почти в четыре раза больше, чем во время финансового кризиса 2008 года. Это поставило страны с развивающимся и формирующимся рынком на грань кризиса платёжных балансов. Весьма скоро более 20 стран могут попросить помощи и поддержки у Бреттон-Вудских учреждений. В число потенциальных кандидатов входят Ливан, Эквадор и Замбия, которые и до этого испытывали проблемы с погашением задолженности по иностранным долгам. Кризис, вызванный пандемией коронавируса, приведёт не только к глубокой депрессии в Китае, Европе, Японии и Соединённых Штатах, но и к серьёзной катастрофе из-за падения объёмов мировой торговли, оттока капитала из этих стран и снижения цен на сырьевые товары.
Смягчение последствий кризиса в области здравоохранения было приоритетом для всех правительств. Меры налогово-бюджетной политики направили на поддержку социального страхования.
Ответ на резкое сокращение объёмов экономической деятельности в Соединённых Штатах состоял в направлении единовременного базового пакета помощи в каждое домохозяйство. Ещё один пакет мер стимулирования был ориентирован на поддержку малых предприятий. Политика европейских стран заключалась во введении многочисленных систем защиты прав работников и предприятий. В течение этого времени изоляции были предприняты меры денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики для помощи предприятиям и домохозяйствам в период экономического шока.
Между тем европейские страны отказались от бюджетных правил – Маастрихтских критериев, в рамках которых допускается дефицит государственного бюджета в размере не более 3 процентов от ВВП. Это решение исторического масштаба. Европейская комиссия предоставила членам ЕС полную гибкость в бюджетных правилах, чтобы они могли увеличить свои расходы, но при условии принятия агрессивных мер налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики. Европе ещё предстоит пережить свой «момент Гамильтона» (решение одного из отцов-основателей США, министра финансов Александра Гамильтона выпустить федеральный долг, который ускорил процесс превращения конфедерации в федерацию – прим. ред.) – выпуск евробондов (пресловутых европейских коронавирусных облигаций), – но пока что Север и Юг не нашли взаимопонимания в этом вопросе. Компромиссное решение для стран еврозоны – Европейский фонд спасения, нечто вроде европейского Плана Маршалла. Из него должен получиться ключевой инструмент восстановления после пандемии для стран, пострадавших от этого глубокого шока.
Жёсткая политика сдерживания и социального дистанцирования привела почти к полному прекращению экономической деятельности. Неопределённость будущего заставила инвесторов и экономистов подвергнуть сомнению их собственные оценки мощности шоков в области спроса и предложения. ВВП Китая упал на 13 процентов за первые два месяца нынешнего года. Глобальная безработица достигнет уровня, невиданного со времён Великой депрессии.
По мере того как власти во всём мире активизируют меры по борьбе с кризисом и принимают важные решения для спасения национальных экономик, одно можно сказать наверняка. Мировая экономика выйдет из изоляции кардинально другой и изменится больше, чем когда-либо прежде, больше, чем после Великой депрессии и Великой глобальной рецессии. С макроэкономической точки зрения в большинстве стран Организации экономического сотрудничества и развития и стран с развивающейся экономикой возникнет беспрецедентно жёсткий дефицит государственного бюджета и образуется чрезмерная задолженность в мировом масштабе. Мы станем свидетелями конца раздельного существования бюджетной и денежно-кредитной политики. Резкий сдвиг в сфере сбережений и инвестиций во всём мире произойдёт, когда суверенным фондам благосостояния потребуется репатриировать средства из-за рубежа.
Некоторые вопросы носят фундаментальный характер. Сумеет ли мировая экономика снова стать единым целым? Будет ли это концом парадигмы глобализации? Остановит ли это рост экономики Китая как экономической супердержавы? Уцелеет ли глобальная финансовая архитектура, созданная после Второй мировой войны? Сохранит ли доллар США свою роль резервной валюты или мы увидим ускорение роста валют на основе цифровых технологий?
Я не затрагивал в этом эссе социальные, этические и философские последствия этого крупнейшего мирового события XXI века. Позвольте кратко обрисовать некоторые возможные варианты событий.
COVID-19 может сказаться на мировых поставках продукции. Как найти баланс между открытостью и защитой, взаимозависимостью и самодостаточностью? Также вполне вероятно, что происходящее необратимо повлияет на глобальные цепочки поставок, ориентированных на Китай. Компании и страны будут переоценивать свою зависимость от китайских запчастей и товаров, особенно тех, которые считаются критически важными с точки зрения обеспечения национальной безопасности в широком смысле этого слова. Ключевым вопросом является будущее мирового производства. «Хотим ли мы по-прежнему зависеть на уровне 90 или 95 процентов от китайской цепочки поставок для автомобильной, фармацевтической и авиационной промышленности или мы воспользуемся данной ситуацией для строительства новых заводов и новых производств и обретения большей независимости и суверенности? Это не протекционизм – это просто необходимость, если мы рассчитываем сохранить суверенность и независимость с промышленной точки зрения», – заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.
Макрополитические меры носят национальный характер. Каждое правительство поощряет нынешнюю экономическую спячку своими постановлениями. Эта пандемия приведёт к тому, что страны, предприятия, а также домашние хозяйства будут иметь более высокий уровень задолженности. Произойдёт массовое списание долгов на суверенном, корпоративном и бытовом уровне.
Вирус представляет собой серьёзнейший стресс-тест для глобализации. Он вызывает переоценку взаимосвязанной глобальной экономики. По этим причинам кажется, что мы не можем сравнивать эту «рецессию по указу» ни с глобальным финансовым кризисом 2008 г., ни с Великой депрессией 1930-х годов. В 2008 г. проблемой были сбои в финансовых потоках, которые могли быть восстановлены за счёт ликвидности центрального банка. Сегодня это внезапная остановка производства и внезапное прекращение экономической деятельности. Единственным результатом может стать то, что миру, возможно, придётся последовать концепции суда по делам о банкротстве.
Человечество замерло и должно будет сосредоточиться на автоматической приостановке всей деятельности и времени изоляции в качестве основного приоритета для спасения человеческих жизней.
Автоматическая приостановка всей деятельности позволит составить планы восстановления в поствирусный период сродни послевоенному восстановлению мировой экономики. Возрождение торговли, устранение границ, создание новых институтов и глобальной системы безопасности наподобие глобального базового дохода.
Что мы пока видим с точки зрения глобальных политических мер, которые могут подвигнуть нас задуматься о восстановлении после пандемии? Федеральный резерв (ФРС) разрешил иностранным центральным банкам использовать свои государственные облигации в качестве обеспечения краткосрочных долларовых займов для нового механизма РЕПО1. Центральные банки смогут справиться с внезапным прекращением потока долларов. Федеральный резерв стал глобальным кредитором последней инстанции, глобальным центральным банком. В конце концов сами центральные банки и их деятельность будут переосмыслены: мы можем назвать это «вертолётными деньгами» или координацией налогово-бюжетной и денежно-кредитной политики, в рамках которой доминирующую роль станет играть именно налогово-бюджетная политика.
Вирус способен подтолкнуть к отходу от соперничества за власть, фрагментации, американо-китайского «железного занавеса», от глобальных санкций, построить, как писал профессор международных отношений Принстонского университета Джон Айкенберри, «новый прагматичный и защитный интернационализм». Одним из путей достижения этой цели может стать реализация программы скоординированного налогово-бюджетного стимулирования – идеи, которую в начале этого года Валдайский клуб внёс в повестку дня Т20, группы взаимодействия G20 для аналитических центров. Необходимы новые и творческие подходы, поскольку мы переживаем важнейшее событие XXI века, уже изменившее ход мировой истории.
Комментарий был заказан Международным дискуссионным клубом «Валдай» и впервые опубликован на сайте клуба в разделе «Аналитика».

Что заставляет центробанки всерьез заняться цифровой валютой
В 2021 году многие центробанки мира планируют провести тестирование цифровой валюты, и российский не является исключением. Те, кто уже завершил тестирование, могут приступить к внедрению новых денег. Между тем изначально такие идеи вызывали у регуляторов неприятие. О том, что заставило их изменить мнение, рассказывает сопредседатель Комитета по платежным системам Ассоциации банков России Алексей Маслов.
Алексей Маслов
Виртуальные деньги появились достаточно давно и с развитием компьютерных игр становились все более востребованными и широко применимыми. Виртуальная (или игровая) валюта и стала предвестником цифровых денег. Частные электронные деньги чаще всего используются только в рамках одной или нескольких игр для покупки и продажи виртуальных товаров в играх и социальных сетях. С ростом числа виртуальных сообществ и благодаря развитию технологий стали множиться случаи создания и распространения своих собственных валют, которые обеспечивают среду обмена и единицу счета для каждого конкретного виртуального сообщества.
В октябре 2012 года ЕЦБ опубликовал доклад «Схемы виртуальных валют», в котором такие валюты были определены как один из видов нерегулируемых государством денег: «Виртуальная валюта – это вид нерегулируемых, цифровых денег, которые выпускаются и обычно контролируются их разработчиками, а также используются и принимаются членами определенного виртуального сообщества». Очевидно, что центральные банки уже тогда стали интересоваться виртуальными валютами. В тот момент требовалось дать более четкое определение и характеристику виртуальным валютам. Уже существовало много статей и публикаций на эту тему, однако центральные банки и другие регуляторы или органы государственной власти старались не касаться вопроса виртуальных валют.
Но деньги, как социальный институт, развиваются вместе с обществом и изменяются со временем. Поэтому на них неизбежно влияют технологические достижения, в том числе все более широкое использование интернета.
Финансовый сепаратизм
Виртуальные валюты сразу стали интересны крупнейшим компаниям в сфере социальных сетей, виртуальных сообществ и компьютерных игр. Так, интересную попытку создания масштабной платежной схемы на основе виртуальных валют сделала компания Facebook.
Кредиты Facebook (Facebook Credits) – это виртуальная валюта, которая была предложена в 2011 году. Альфа-стадия была в мае 2009 года, бета-стадия началась в феврале 2010 года и закончилась в январе 2011 года. Затем компания объявила, что все разработчики ее игр будут обязаны обрабатывать платежи только через кредиты Facebook с 1 июля 2011 года. Они были доступны в 15 валютах, включая доллары США, фунт стерлингов, евро и датские кроны. Кредиты были единой валютой для использования в нескольких играх и приложениях. В марте 2011 года была создана отдельная компания для обработки платежей – Facebook Payments Inc. Но в июне 2012 года компания Facebook объявила, что больше не будет использовать свою собственную денежную систему. Пользователи могли конвертировать кредиты обратно в фиатные деньги. Facebook Credits был официально удален из Facebook в сентябре 2013 года.
Китайская компания Tencent – один из ведущих операторов связи в стране. Эта служба мгновенных сообщений запустила виртуальные платежи с помощью Q-монет. Эту валюту можно приобрести с помощью кредитной карты (или используя остаток средств на предоплаченной телефонной карте). Обменный курс зафиксирован относительно юаня. Первоначально эта валюта была реализована только для покупки товаров и услуг, предоставляемых Tencent. Однако пользователи начали использовать его для личных платежей (P2P), а некоторые торговцы также начали принимать Q-монеты в качестве платежного средства.
Кроме того, несколько онлайн-игр вознаграждали пользователей очками, которые можно было обменять на Q-монеты, в конечном счете их начали обменивать на юани на черном рынке. Виртуальная валюта превратилась в незаконную денежную схему. Китайские власти увидели, что количество Q-монет, торгуемых в течение одного года, достигло нескольких миллиардов юаней, после того как они выросли примерно на 20%. В июне 2009 года китайские власти приняли решение запретить эту валюту для торговли реальными товарами, чтобы «ограничить ее возможное влияние на реальную финансовую систему».
Отдельно стоит вспомнить появление Bitcoin, которое привело к созданию множества других цифровых валют. В 2008 году был опубликован файл с описанием протокола и принципа работы платёжной системы в виде одноранговой сети. 3 января 2009 года был сгенерирован первый блок и первые 50 Bitcoin. Первая транзакция по переводу Bitcoin произошла 12 января 2009 года –10 Bitcoin. Первый обмен Bitcoin на фиатные деньги произошел в сентябре 2009 года – Марти Малми (Martti Malmi) отправил пользователю с псевдонимом NewLibertyStandard 5050 Bitcoin, за которые получил на свой счет в PayPal $5,02. Первый обмен Bitcoin на реальный товар произошел в мае 2010 года – Ласло Ханеч за 10 тыс. Bitcoin получил две пиццы с доставкой.
В разных странах отношение к вопросам регулирования этой области до сих пор очень отличается. Некоторые государства официально разрешили операции с Bitcoin. Обычно они рассматриваются как товар или инвестиционный актив и для целей налогообложения подчинены соответствующему законодательству. Иногда Bitcoin признают в качестве расчетной денежной единицы. Например, в Японии они являются законным платежным средством с налогом на их покупку. В Германии с марта 2018 года при оплате товаров криптовалютами не взимается налог на отток капитала – операции с ними по налогообложению стали такими же, как и операции с прочими платежными средствами.
Во многих странах статус до сих пор не определен или изменяется. Первоначально Банк Таиланда заявил, что для операций с Bitcoin требуется лицензия на право проведения валютообменных операций. Позже было опубликовано разъяснение, что из-за отсутствия законных оснований обмен Bitcoin не попадает под тайское валютное законодательство, так как иностранные валюты в операциях не участвуют. Через некоторое время Банк Таиланда дополнительно разъяснил, что Bitcoin можно обменять на иностранную валюту, соответственно, лицензия нужна.
22 октября 2015 года Европейский суд (European Court of Justice) постановил, что операции обмена Bitcoin на фиатные валюты освобождаются от НДС. В его решении уточняется, что соответствующий закон распространяется на поставку товаров и оказание услуг. Транзакции же в Bitcoin были отнесены к платежным операциям с валютами, монетами и банкнотами и потому не подлежат обложению НДС. Суд рекомендовал всем странам – членам Евросоюза исключить криптовалюты из числа активов, подлежащих налогообложению.
Назвать – значит узнать
Конечно, проекты таких масштабов и все более широкое распространение Bitcoin привлекало внимание регуляторов. Вслед за ЕЦБ в 2013 году Американская сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), бюро Казначейства США, в отличие от своего определения «настоящей» валюты, как «монеты и бумажные деньги Соединенных Штатов или любой другой страны, которые обозначены как законное платежное средство и которые циркулируют и обычно используются и принимаются в качестве средства обмена в стране выпуска», также называемой FinCEN «реальной валютой», определила виртуальную валюту как «средство обмена, которое действует как валюта в некоторых средах, но не имеет всех атрибутов реальной валюты».
В 2014 году Европейская служба банковского надзора определила виртуальную валюту как «цифровое представление стоимости, которое не выпускается Центральным банком или государственным органом и необязательно привязано к фиатной валюте, но принимается физическими или юридическими лицами в качестве платежного средства и может быть передано, сохранено или продано в электронном виде».
В 2018 году вступила в силу директива (ЕС) 2018/843 Европейского парламента и Совета, которая определяет термин «виртуальные валюты» как «цифровое представление стоимости, которое не выпускается или не гарантируется Центральным банком или государственным органом, необязательно привязано к законно установленной валюте и не обладает правовым статусом валюты или денег, но принимается физическими или юридическими лицами в качестве средства обмена и может передаваться, храниться и торговаться в электронном виде».
Директива 2018/843/EU вносит поправки в 4-ю директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег. Законодатели Европейского союза рассматривают Bitcoin как архетипический пример виртуальных валют, и он, следовательно, соответствует всем элементам правового определения, может служить опорной точкой для интерпретации. В основном определение виртуальных валют состоит из шести элементов:
• это цифровые представления стоимости. Таким образом, цифровые активы должны иметь определенную ценность в деловых операциях, чтобы считаться виртуальными валютами в соответствии с законодательством ЕС.
• они не выпускаются и не гарантируются Центральным банком или государственным органом. Эмиссия – это первое размещение цифрового актива на рынке. Гарантирование – это принятие на себя обязательств перед третьими лицами или собственных обязательств. Если цифровые активы выпущены или гарантированы Центральным банком либо государственным органом, они не являются виртуальными валютами.
• они могут быть присоединены к легальной валюте. Вложение – это юридический или экономический механизм, который связывает стоимость цифрового актива с законной валютой.
• они не имеют юридического статуса валюты или денег. Это зависит от статуса цифрового актива в ЕС или государстве-члене.
• они принимаются физическими или юридическими лицами в качестве средства обмена. Это основной элемент юридического определения: термин «средство обмена» лучше всего понимать в отрицательных терминах и требует, чтобы цифровой актив не был ни электронными деньгами, как это определено Директивой ЕС об электронных деньгах, ни платежной услугой или платежным инструментом, как это определено Директивой ЕС о платежных услугах, ни любым другим платежным средством, как это определено Директивой ЕС о требованиях к капиталу. Концепция акцепта требует определенного минимума фактического спроса на цифровой актив на рынке, чтобы считаться виртуальной валютой.
• их можно передавать, хранить и торговать в электронном виде. Только цифровые активы, которые могут быть переданы лицу в электронном виде (передача), при этом владелец также имеет возможность предотвратить передачу без его вмешательства (хранение), выполняют эту концепцию.
Авторы юридического определения в соответствии с законодательством ЕС в первую очередь имели в виду технологию Blockchain – и Bitcoin как архетипическую форму. При этом определение не содержит каких-либо отсылок к использованию конкретной технологии. Это юридическое определение поразительно технологически нейтрально.
Угроза замещения
К 2015 году регуляторов стали интересовать не только вопросы юридических терминов и определений и частных случаев борьбы с отмыванием или уклонения от налогов. Вопросов оставалось много, и появлялись новые. Один из них: могут ли виртуальные валюты иметь эффект замещения фиатных денег и влиять на стабильность финансовых систем?
Появились опасения, что увеличение использования виртуальных денег может привести к сокращению использования фиатных денег, что также приведет к сокращению наличных денег, необходимых для проведения операций. Замена фиатных денег на частные виртуальные валюты может уменьшить размер балансов центральных банков и их способность влиять на краткосрочные процентные ставки. Центральные банки должны были бы посмотреть на свои существующие инструменты борьбы с этим риском (например, попытка ввести минимальные резервные требования к схемам виртуальной валюты).
Эффект замещения также затруднил бы измерение денежных агрегатов и, как следствие, повлиял бы на соотношение между измеряемыми денежными агрегатами и инфляцией, которая используется при оценке рисков для стабильности цен в среднесрочной перспективе и долгосрочной. Если виртуальные деньги создаются вне сферы деятельности Центрального банка и виртуальный кредит распространен, это может иметь последствия для того, как решения ЦБ о процентных ставках передаются через экономику, и его контроль над денежно-кредитными процессами может стать менее эффективным.
Также важно взаимодействие между виртуальными валютами и реальной экономикой. Пользователи виртуальной валюты распространены по всему миру, поэтому их влияние также следует интерпретировать глобально. Однако если виртуальная валютная система будет ориентирована на одну конкретную страну, она действительно может оказать влияние на ее денежную массу. Именно это произошло в Китае со схемой Q-coin.
Поскольку реальная денежная масса подвержена такому влиянию, центральные банки должны включать виртуальные валюты в денежную статистику, чтобы контролировать их объем. Регуляторы осознали проблему, которую виртуальные валютные схемы могут в конечном итоге создать для проведения денежно-кредитной политики в том случае, если им удастся существенно сократить использование реальных валют (заменив их роль в обеспечении ликвидности и сохранении стоимости).
Наконец, важно сохранить роль валюты как расчетной единицы, поскольку общество получает выгоду от четко определенной и стабильной денежной единицы для своих экономических операций, независимо от эмитента или формата, в котором выпускаются деньги. Виртуальные валютные схемы могут привести к появлению нескольких расчетных единиц в реальной экономике. Владельцы таких схем могут испытывать искушение выпустить чрезмерные суммы, чтобы получить прибыль от их размещения. Изменение взглядов на кредитоспособность этих эмитентов (и связанная с этим вариативность виртуального обменного курса) будет угрожать роли денег как общего финансового знаменателя для всей экономики.
ЕЦБ определяет финансовую стабильность как состояние, при котором финансовая система (включающая финансовых посредников, рынки и рыночную инфраструктуру) способна противостоять шокам, тем самым снижая вероятность серьезных сбоев в процессе финансового посредничества, способных значительно ухудшить распределение сбережений в пользу выгодных инвестиционных возможностей. Ее обеспечение требует выявления основных источников риска и уязвимости, таких как неэффективность распределения финансовых ресурсов между вкладчиками и инвесторами, а также неверная оценка или неправильное управление рисками.
В контексте виртуальных валютных схем, поскольку они работают вне банковской системы, главным источником потенциальной финансовой нестабильности будет связь между виртуальной валютой и реальной экономикой, то есть обменные курсы и валютные рынки. Так как виртуальные валюты не рассчитываются в деньгах центрального или коммерческих банков и нет никакого кредитора последней инстанции, решающим элементом, влияющим на виртуальный обменный курс, является доверие к эмитенту виртуальной валюты.
Не можешь пресечь – возглавь
Обычно регулирование отстает от технологических разработок на несколько лет. То же самое относится и к схемам виртуальных валют (по крайней мере в их нынешнем виде), которые создавались еще в конце 1990-х, но только в 2006 году ряд правительственных ведомств США начал их рассматривать. В 2007 году некоторым из таких компаний было предъявлено обвинение введении нелицензированных операций по переводу денег. С тех пор был предпринят ряд других юридических действий и многие из схем, действовавших в Соединенных Штатах, были закрыты. Впоследствии Китай также занял позицию против использования схем виртуальной валюты для покупки реальных товаров и услуг. Это неудивительно. Схемы виртуальных валют, в отличие от традиционных платежных систем, не регулируются. Правовая неопределенность, связанная с этим, может представлять собой проблему для государственных органов, поскольку такие схемы могут использоваться для осуществления незаконной деятельности.
Репутация центральных банков является ключевым элементом, определяющим эффективность различных их стратегий, особенно денежно-кредитной политики. Это институты, к которым люди обращаются, чтобы установить, сколько доверия стоит вкладывать в деньги, и они очень озабочены своей репутацией. Для ЕЦБ репутационный риск определяется как риск ухудшения его репутации, авторитета или общественного имиджа в отношении различных внешних заинтересованных сторон (например, широкой общественности, финансового сектора и т. д.). Она оказывает специфическое влияние на операционный риск, который определяется как риск негативных финансовых последствий, деловые или репутационные последствия, возникающие в результате неадекватного или неудачного внутреннего управления и бизнес-процессов, действий людей, систем или внешних событий. Репутационное воздействие может иметь место даже тогда, когда бизнес-цели достигаются, то есть даже если центральные банки не несут ответственности за произошедшее.
Виртуальные валютные схемы способны оказывать репутационное воздействие. Речь идет о деньгах и платежах, поэтому для широкой публики они явно подпадают под ответственность центральных банков, даже если это не так с точки зрения закона. Поэтому следует учитывать такую возможность в случае инцидента с безопасностью. Хотя последствия провалов схем виртуальной валюты будут ограниченными, если они существенно не увеличатся в размерах, вероятность этого велика в результате высокой волатильности и нестабильности схем виртуальной валюты, а также широкого освещения в средствах массовой информации, которое они время от времени получают.
Если их использование значительно расширится, инциденты, которые привлекают внимание прессы, могут иметь негативные последствия для репутации центральных банков, если общественность воспримет их как свидетельство того, что регуляторы не выполняют свою работу должным образом. Этот риск следует учитывать при оценке общей рисковой ситуации центральных банков.
В результате центральные банки разных стран пришли к выводу о необходимости выпустить собственную цифровую валюту – цифровая валюта Центрального банка (Central Bank Digital Currency, CBDC). Европейский центральный банк (ЕЦБ) совместно с ФРС США, Банком Англии, Банком Канады, Банком Японии, а также ЦБ Швеции и Швейцарии при участии Банка международных расчетов (BIS) создали рабочую группу по изучению проблемы CBDC.
Правительство Китая выделило 10 млн юаней (примерно $1,5 млн) на пилотное тестирование цифровой валюты, которое завершилось 18 октября. ЕЦБ подал заявку на регистрацию товарного знака «цифровой евро» 22 сентября. Банк Англии и Федеральный резерв еще не приняли решения о выпуске цифровой валюты, однако активно проводят исследования как самостоятельно, так и в партнерстве с другими ЦБ. Банк России в середине октября объявил о начале работы над созданием цифрового рубля. По плану российского регулятора в 2021 году будет запущен пилот, на котором планируется отработать схему внедрения в экономику цифрового рубля. И он в наступающем году будет не единственным. По данным ЦБ, к началу 2020 года те или иные виды работ над CBDC велись в четырех из каждых пяти центральных банков стран, на долю которых совокупно приходится 75% мирового населения и 90% глобального производства.

КУДА ИДУТ СЛОНЫ
ДМИТРИЙ НОВИКОВ
Заместитель руководителя департамента международных отношений Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики
Встряска, которую Дональд Трамп устроил американской политической системе самим фактом своего избрания, закончилась эффектным и во многом символичным штурмом Капитолия в последние дни его президентства. Теперь главный вопрос – как развести сложившийся между Трампом и частью американских элит симбиоз так, чтобы система не рухнула окончательно.
Слоны идут на водопой
События последних месяцев и в особенности дней заставляют с тревогой взглянуть на развитие политической ситуации в США. Впервые за несколько десятилетий – вероятно, с 1960-х гг. – протестная улица стала центром, если не сказать эпицентром, американской политики. Этот всплеск уличной активности – следствие огромного вакуума легитимности.
Политический кризис, начавшийся с официального отказа Дональда Трампа признать поражение на выборах и достигший пика 6 января, когда сторонники уходящего президента взяли штурмом здание Капитолия, неразрывно связан с будущим республиканцев. Сам кризис ещё не закончился – факт беспорядков и готовность протрамповского электората устроить конституционный переворот говорит о колоссальных структурных проблемах, потере эгалитарного характера политической системы и, как следствие, – её делегитимации в глазах значительной части граждан.
Фундаментальные причины, которые привели к волне популизма и приходу Трампа к власти в 2016 г. – оторванность истеблишмента от электората, идеологическая зашоренность и фактическая несменяемость власти – не устранены за четыре года. В какой-то мере они приняли даже более гротескные формы. Продление полномочий восьмидесятилетней Нэнси Пелоси на должности спикера Палаты представителей отражает традиционную политическую логику американских выборов – плата за поддержку и героическое противостояние Трампу в последние два года. Но на фоне общенационального недовольства закрытостью Вашингтона такой шаг выглядит как подливание масла в огонь. Истеблишмент и центристская часть Демократической партии упивается триумфом и, «свалив» Трампа, кажется, считает цель достигнутой.
Между тем «разгневанные американцы», выбравшие четыре года назад Трампа не из личных симпатий или доверия к нему, а как антитезу вашингтонскому мейнстриму, фактически остались без представительства. На протяжении всего последнего президентского цикла Трамп оставался почти единственным их представителем на национальном уровне. «Трампификации» и радикального поправения Республиканской партии за время правления Трампа так и не произошло. Обычно революция выводит наверх уличных лидеров, предоставляя активистам возможность сделать быструю политическую карьеру и формируя некий организационный костяк новой политической силы. Так было, например, в результате возвышения Эндрю Джексона в 1820-е гг. – результатом его победы стал феномен так называемых «джексонианских демократов», которые превратились в долгосрочных проводников его повестки и представителей интересов южных штатов, откуда Джексон и был родом.
Но условная «революция Трампа» не привела к такому эффекту или – во всяком случае – он оказался ограниченным.
Широкое массовое недовольство мейнстримом вытолкнуло Трампа наверх, в общем-то, в полном одиночестве.
Довольно быстро он, по сути, отказался от попыток создать собственную политическую структуру внутри партии или вне её и отодвинул тех союзников, которые могли или призывали это сделать, как, например, главный стратег его предвыборной кампании Стив Бэннон, лишившийся поста в администрации Трампа уже в августе 2017 года. Вместо этого Трамп предпочёл выстраивать прагматичные отношения с лидерами Конгресса и республиканскими губернаторами, не сотрясая устои Великой старой партии. Те платили ему лояльностью и поддержкой по ключевым вопросам его повестки, подчиняясь партийной дисциплине и памятуя об армии трампистов – своих избирателях. Публично вступив в схватку со старыми политическими структурами, Трамп водрузился во главе одной из них.
Хотя вся партийная машина и истеблишмент оказались в зависимости от президентского твиттера и весьма лояльно (за исключением некоторых ренегатов) поддерживали президента на протяжении всех четырёх лет, структурно значимого пула собственных кадров у Трампа так и не сформировалось. Вследствие этого Республиканская партия во многом сохранила свой облик и ключевые лица, однако серьёзно растеряла потенциал самостоятельно, без Трампа, консолидировать по крайней мере часть радикализировавшегося электората. Но и Трамп попал в зависимость от управляемой им политической машины – по всем характеристикам она не предназначена для езды по крутым ухабам и заставляет водителя двигаться по извилистым, но асфальтированным дорогам.
Феномен специфики отношений Трампа и республиканцев заключается в том, что они так и не стали единой политической силой, скорее образовав союз или даже симбиоз, но, как оказалось, тактический, а не долгосрочный.
Республиканская партия осталась весьма бездушной политической машиной, генерирующей избирательные фонды и заполняющей многочисленные выборные должности на разных ступенях американской властной иерархии. Трамп продолжал быть самостоятельным, в значительной степени внепартийным политическим проектом, имеющим разветвлённую, но почти неуправляемую сеть сторонников, группирующихся на самых разных платформах – от правых конспирологических сайтов и их аудитории до полубоевых организаций районных активистов. И то, что президент и партия действовали сообща, и то, что у них во многом один и тот же электорат, не отменяет того, что единым целым они так и не стали.
Симбиоз Трампа и республиканцев оказался эффективен и весьма крепок, особенно в последние два года его правления, когда промежуточные выборы в Конгресс подтвердили значимость Трампа для мобилизации электората, а грядущие большие выборы 2020 г. способствовали сплочению перед общим врагом – демократами. Но результаты выборов показали уязвимую точку этой конструкции: она работоспособна, когда Трамп сохраняет пост президента и номинального лидера партии. Она рассыпается, если Трамп теряет свою должность.
В этом случае у Трампа оказывается два варианта. Стать очередным экс-президентом, заняв место в одном ряду с Джимми Картером и Джорджем Бушем-старшим, также сохранившими власть только на один срок. Или, потеряв контроль над политическом машиной, попытаться остаться во главе улицы, тех многочисленных своих сторонников, готовых штурмовать Капитолий, откликаясь на революционный призыв. Поиск третьего пути – сохранить активную, но не маргинальную роль в политической жизни – предопределил поведение Трампа после выборов. Во всяком случае это базовое предположение позволяет понять логику действий его и его команды с учётом всех нестыковок и алогизмов.
Вперёд за лидером
Отставные президенты как правило не играют в политической жизни США значимой роли – это политическая традиция. Президентство является апогеем политических амбиций для карьерного политика и одновременно – завершением его карьеры. Последние случаи активного продолжения политической жизни после отставки относятся к началу XX века – Теодор Рузвельт, после четырёхлетнего перерыва попытавшийся избраться на третий срок. Его преемник и одновременно – оппонент Уильям Тафт, ставший после ухода из Белого дома председателем Верховного суда.
Однако случай Трампа особенный, он (опять же – впервые за много лет) – не карьерный политик. Последним таким политиком-непрофессионалом на президентском посту был Дуайт Эйзенхауэр, но и он, будучи представителем высшего военного истеблишмента, был гораздо глубже вмонтирован в политическое тело страны. Трамп в этом смысле уникум – на эту его уникальность многие указывали как на слабость в период формирования администрации. Но она оказалась серьёзной проблемой и сейчас. Само по себе отсутствие у Трампа как у непрофессионального политика устойчивой системы клиентелы и патроната стало одной из причин описанных выше специфических симбиотических отношений между президентом и партией. Но есть и более личное обстоятельство – если для профессионалов президентство является завершением карьеры, для Трампа оно стало её началом. К концу четвёртого года он только вошёл во вкус – что, по-видимому, не учитывали многочисленные эксперты и комментаторы.
Эти два обстоятельства – структурное (что делать с симбиозом, как его корректно развести или сохранить) и личное (нежелание заканчивать триумфально начатую карьеру поражением) – обусловили реакцию Трампа на итоги президентских выборов. Вне всяких сомнений, к поражению готовились: опросы, неблагоприятные обстоятельства (падение экономики, беспорядки) и активность демократов позволяли спрогнозировать высокую возможность неблагоприятного результата. Выработанная стратегия неприятия итогов выборов, начавшаяся с отказа официально поздравить оппонента с победой – чудовищное нарушение традиций – позволяла достигнуть двух целей.
Тактической целью устроенного Трампом и его сторонниками остракизма прошедших выборов было «пощипать» демократов и максимально ослабить администрацию Байдена в преддверии нового политического сезона. В ещё более частном аспекте эта кампания должна была усилить и позиции республиканцев в Джорджии, что обеспечило бы республиканский контроль над сенатом. В рамках таких целей Трамп и его партия, безусловно, сотрудничали, цели были для них общими. Это обеспечило Трампу достаточно чёткую (хотя временами осторожную и с оговорками) поддержку авторитетными лидерами Великой старой партии требований по пересчёту голосов. При этом сам Трамп успокаивал и избирателей, и в ещё большей степени своих сопартийцев, обещая, что, если коллегия выборщиков подтвердит избрание Байдена, конституционный транзит власти будет обеспечен, даже несмотря на несогласие с результатами. Это должно было позволить даже самым умеренным республиканцам трактовать стратегию несогласия с выборами как тактическую уловку, подобно кампании по делегитимации Обамы в связи версией о его рождении за пределами США.
Будь Трамп командным игроком, обычным карьерным политиком, его крестовый поход мог быть ограничен этим набором тактических целей – усилив напоследок позиции родной партии, он мог уйти на покой героем, став моральным лидером. Однако, будучи в значительной части самостоятельным политическим проектом, он, по-видимому, имел и собственную стратегическую цель. Наращивание давления – нет, даже не на демократов, а на всю американскую политическую систему, через подрыв самых основ легитимности её вековых традиций и процедур – преследовало целью дать Трампу потенциал сохранения в политике, даже в статусе экс-президента. Здесь следует оговориться и иметь в виду допущение о том, что поведение Трампа могло иметь и иррациональные, с точки зрения политического процесса, причины – упрямство, гордость и желание «уйти красиво». Но сумма действий позволяет всё же трактовать их как рациональную политическую стратегию. Во всяком случае они открывали окно возможностей и слишком соблазнительно было им воспользоваться.
Консолидация разгневанных избирателей и формирование у них устойчивого чувства несправедливости и нелегитимности происходящего, неприятия «байденовского Вашингтона» создавало для Трампа платформу для того, чтобы остаться если не лидером, то как минимум фронтменом Республиканской партии.
«Власть твиттера», на который ориентированы миллионы экзальтированных избирателей, позволила бы оказывать значительное влияние на ключевые кадровые решения, в том числе – на выбор нового кандидата в президенты через четыре года, будь то сам Трамп, один из членов его семьи или просто понравившийся перспективный политик.
Такой сценарий сохранения Трампа в политике (как минимум в качестве направляющего бренда, как максимум – в виде полноправного лидера) требовал перевода Республиканской партии на осадное положение – лучшего способа объединения избирателей и соратников, чем объединение перед лицом врага, ещё не придумали. Если нет, то мобилизация, радикализация и экзальтация избирателей могла дать Трампу и возможность для создания собственного политического проекта, вплоть до «третьей партии», подобно «партии Лося» Тедди Рузвельта, выступившей третьей силой на выборах 1912 года. Наконец, Трамп мог просто красиво уйти – непобеждённым, легитимным президентом, современным Ганнибалом для миллионов своих избирателей, для которых неприятие результатов выборов и вообще всё происходящее в американской политической действительности за несколько месяцев стало не убеждением, а верой. И в этой ипостаси Трамп сохранял бы себя активным политиком, обладающим моральным авторитетом в крайне правой части американского электората, способным безо всякой политической структуры или проекта влиять на настроения миллионов.
Эта стратегическая цель оказалась для Республиканской партии, по-видимому, неприемлемой. Профессиональные политики слишком хорошо понимали риски, связанные с экзальтацией собственного электората, причём не только для них самих, но для легитимности и устойчивости всей системы вообще. Для основного мейнстрима Республиканской партии психологической точкой стало утверждение итогов выборов коллегией выборщиков 15 декабря, продолжение борьбы в Конгрессе, о которой заявляли многие сенаторы и конгрессмены, было номинальным. Выход из рамок процедурной возни в русло реальной политической борьбы становилось опасным уже для самого конституционного строя и, конечно же, неприемлемым.
По большому счёту деструкция политической системы не входила и в планы Трампа – не соглашаясь с результатами выборов, он не собирался выходить за пределы конституционного процесса. Но желание перейти от тактической цели («пощипать» демократов и сохранить лицо) к стратегической (создать платформу для своего политического будущего), а главное способ её достижения – обращение к улице – стали точкой расхождения с республиканским мейнстримом.
«Путч»: итоги
Подробным разбором событий 5–6 января 2021 г. и вообще осени-зимы 2020–2021 гг., по-видимому, предстоит достаточно подробно заниматься вначале экспертам, а затем историкам. Однако рационализируя произошедшее, картинный штурм Капитолия можно считать некой финальной точкой расхождения между Трампом и республиканским мейнстримом. Демонстративный отказ вице-президента Пенса мешать сертификации принятых коллегией выборщиков решений не мог не быть следствием внутрипартийной дискуссии и, по сути, выражением позиции всего республиканского истеблишмента – хватит, игра окончена. Недаром, выступая на митинге 6 января, Трамп говорил о необходимости помочь «слабым республиканцам», имея в виду не только своего вице-президента, но лидеров и функционеров конгресса в целом. Давление не столько на демократов, но на собственную партию, демонстрация силы и единения с народом были целями заранее спланированной акции. Но, видимо, Трамп и его команда не учли ряд обстоятельств.
События 2020 г. закалили, вооружили и разгневали американскую толпу. Летние беспорядки привели к всплеску спроса на оружие – достаточно посмотреть на взрывной рост акций его производителей – и заставили многих американцев, особенно титульных представителей правого крыла, организоваться для защиты своей собственности. А защита собственности и защита Родины для многих американцев почти одно и то же. Негативные последствия BLM – разгул преступности, наступление на «белых», развал полиции во многих городах лишь усилил это чувство: если источником бед являются самые верхи государства, значит, народ имеет «право на восстание». Эти настроения Трамп последовательно раздувал в течение последних недель – в качестве своего последнего политического ресурса.
Однако как следствие он получил разъярённую, экзальтированную и хорошо вооружённую толпу (во всяком случае в лице некоторых её представителей) – в этих условиях случившиеся в Капитолии жертвы можно считать небольшими. Управлять такой толпой практически невозможно. Трудно сказать, на что рассчитывал Трамп призывая к походу на Капитолий, но, скорее всего, явно не на жертвы и не на кажущуюся теперь довольно весёлой беготню по коридорам парламента своих бородатых сторонников. Об этом говорит его затянутая реакция на эти события, а затем быстрый откат, фактически капитуляция в виде публичного обещания не препятствовать передаче власти.
По итогам Трамп оказался не американским Борисом Ельциным, а незадачливым гэкачепистом, попытавшимся осуществить нелепый путч.
Подобно советскому ГКЧП, введшим в Москву танки не ради конкретной цели, а главным образом для демонстрации силы, Трамп также привёл толпу к Капитолию не имея, судя по всему, конкретного плана, но стремясь показать свой силовой ресурс. А далее свою роль сыграла стихия – враг всех политиков во все времена.
Прогнозировать политическую судьбу Трампа сейчас трудно. Едва ли она предрешена и его карьера заканчивается поражением, как это пытаются представить его оппоненты. Для миллионов американцев он остаётся героем, и если кого-то нелепый и безрезультатный штурм Капитолия от него отвадил, кого-то он наоборот укрепил в своих симпатиях к столь неординарному и готовому на смелые выходки лидеру.
События начала января подорвали возможности Трампа сохранить определяющее влияние в республиканском лагере. Однако о его разрыве и тотальном остракизме со стороны «слонов» говорить пока рано – слишком тесен был их симбиоз, формула его корректного разрыва пока не найдена. Условный «отзыв партбилета», взаимные проклятия и разрыв чреват схизмой в правом спектре американского политического поля. Особенно в условиях, когда область политики в США всё более приобретает религиозные черты, где всё упирается в веру, а важность фактов и юридических институтов снижается. И когда часть республиканцев начала говорить о необходимости дистанцирования от Трампа после событий 6 января, значительная часть конгрессменов продолжает формально его поддерживать.
Вероятно, лучшим сценарием и для Трампа, и для республиканцев, и для всей политической системы в целом был бы его тихий уход – несломленным, борющимся до конца и сохранившим лицо, но политически неактивным. Предпосылки для этого имеются – у Трампа есть бизнес, к управлению которым ему нужно вернуться, а угрожающие ему судебным преследованием демократы не могут не думать о потенциальных политических рисках. При этом мирный уход Трампа обеспечил бы и спокойствие в Республиканской партии.
Но для этого необходима мудрость, выдержка и сдерживание амбицией с обеих сторон, что в нынешних политических условиях кажется невероятным. Для демократов продолжение давления на Трампа, вплоть до уголовного преследования, является слишком соблазнительным – и с точки зрения прагматической (ударяя по Трампу ослабить республиканцев в целом), и с точки зрения эмоциональной (отплатить популисту за все последние четыре года). Для республиканцев продолжение линии Трампа по дискредитации Байдена, пусть и в более мягкой форме, также является инструментом ослабления противника и мобилизации собственных электоральных ресурсов.
Очевиден, однако, уже нанесённый ущерб и американской политической системе, и государственности как таковой. Республиканская партия с её потенциальным внутренним конфликтом может стать слабым местом и без того разваливающейся партийной системы. Вынужденный симбиоз с Трампом позволил ей добиться тактических успехов, но теперь стал проблемой. Дистанцирование от бывшего президента может привести к электоральным потерям среди радикализированного правого крыла, а попытка возместить эти потери чревата опасным и неприемлемым для некоторых поправением (неважно – в сотрудничестве с Трампом или в противостоянии ему). Открытая «схизма» с бывшим президентом и вовсе может привести к партийному расколу. Республиканцам остаётся надеяться, что Трамп как фактор и актор как-то исчезнет сам собой. Но это маловероятно.
Негативные последствия наблюдаются и на более фундаментальном уровне. Лето 2020 г. характеризовалось низвержением духовно-символического фундамента Америки: исторические памятники и герои падали со своих пьедесталов под ударами условных левых. Теперь в ответ правый фланг нанёс удар по фундаменту политическому. Непосредственным последствием дискредитации выборной системы стал отказ огромной части населения признавать действующую власть (а в какой-то мере – и обеспечивший её приход конституционный строй) как легитимную. Истощение легитимности является самым опасным последствием уходящего политического цикла и будет оказывать дальнейшее долгосрочное воздействие на эволюцию американской политической системы. Иными словами – её будет по-прежнему трясти, с Трампом или без него.
Для мира эти события можно трактовать скорее позитивно. Безусловно, продолжение политической сумятицы в США будет способствовать международной дестабилизации. Но к нестабильной, полной «чёрных лебедей» внешней среде, кажется, уже все привыкли и относятся спокойно, закладывая фактор таких рисков в своё внешнеполитическое планирование (или скорее реагирование). Зато окончательное развенчание мифа о совершенстве американской системы будет способствовать дальнейшей трансформации США из «храма на холме» в нормальную великую державу. Впрочем, персоналии администрации Байдена и его первые заявления заставляют только надеяться на это. Но и противостоять потоку истории невозможно, как бы ни хотелось объявить о её «конце».

ПРОТИВОСТОЯНИЕ С КИТАЕМ МОГЛО БЫ БЫТЬ БЫСТРЫМ И ОСТРЫМ
МАЙКЛ БЕКЛИ
Доцент политологии в Университете Тафта, приглашённый исследователь Американского института предпринимательства и автор книги «Непревзойдённая: почему Америка останется единственной сверхдержавой мира».
ХЭЛ БРЭНДС
Почётный профессор международных отношений в Школе передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса, а также постоянный научный сотрудник Американского института предпринимательства.
ГРЯДУЩЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ: УГРОЗА ВОЙНЫ ВЕЛИКА КАК НИКОГДА
Весьма показательная статья с призывом к новому американскому руководству наращивать противостояние с Китаем, потому что осадить его нужно именно в ближайшие пару лет. «Политика обольщения и принуждения ушла в прошлое; сегодня мы имеем дело с линией на целенаправленное истощение сил противника».
Во внешнеполитических кругах США широко распространено мнение, что Соединённые Штаты и Китай решили принять участие в так называемом «марафоне сверхдержав», способном растянуться на целое столетие. Но, похоже, самой острой фазой этой гонки станет спринтерский забег, который нам предстоит наблюдать в течение следующего десятилетия. Китайско-американская борьба за первенство не обещает скорого финала. Однако сама история и траектория развития, которую выбрал для себя Китай, говорят о том, что от пересечения наивысшей точки опасности нас отделяет всего несколько лет.
Китай как растущая держава вступил в особенно опасный период: он обрёл способность подрывать и даже разрушать существующий международный порядок. Это, впрочем, не исключает того, что его коридор возможностей может сужаться. Баланс сил смещается в пользу Пекина в важнейших областях американо-китайского соперничества, таких как вопрос Тайваньского пролива и борьба за глобальные телекоммуникационные сети. Тем не менее КНР продолжает сталкиваться с выраженным замедлением темпов экономического роста, а также растущей негативной международной реакцией.
Хорошая новость для Соединённых Штатов заключается в том, что в долгосрочной перспективе противостояние с Китаем может оказаться более управляемым, чем считают многие скептики.
Возможно, когда-нибудь американцы смогут взглянуть на КНР так, как теперь смотрят на призрак Советского Союза, который хотя и был опасным соперником, но, как выяснилось, скрывал за стальными доспехами своей военной мощи экономическую стагнацию и уязвимость. Но есть и плохая новость для Вашингтона.
Она заключается в том, что Пекин сейчас испытывает огромное искушение броситься за геополитической выгодой, а это означает, что в течение следующих пяти-десяти лет темпы китайско-американского соперничества станут чудовищными, а перспектива войны – пугающе реальной. Да, США по-прежнему нуждаются в долгосрочной стратегии для ведения затяжной конфронтации. Но сейчас не менее важно разработать стратегию по успешному ориентированию в этой опасной зоне, и рассчитана она должна быть на куда менее отдалённое будущее, а на самом деле – на самое близкое.
Красные флажки
Сегодня значительная часть дискуссий о политике Вашингтона в отношении Китая сосредоточена вокруг анализа угроз, которые Пекин будет представлять в качестве равного конкурента к концу этого столетия. Однако на самом деле Соединённые Штаты сталкиваются с более серьёзной и подвижной угрозой уже сейчас: это могущественный, но все ещё ощущающий неуверенность Китай, который страдает от замедления темпов роста и усугубления враждебной реакции извне.
У Китая есть и деньги, и силы, чтобы бросить вызов Соединённым Штатам в ключевых областях их интересов. Благодаря десятилетиям стремительного роста КНР может похвастаться крупнейшей в мире экономикой (если измерять по паритету покупательной способности), профицитом торгового баланса, внушительными финансовыми резервами, крупнейшим по количеству кораблей военно-морским флотом и ракетным потенциалом в области обычных вооружений. Китайские инвестиции охватывают весь земной шар, и Пекин стремится к первенству в таких стратегических технологиях, как телекоммуникации 5G и искусственный интеллект (ИИ). Добавьте к этому четыре года полного раздрая, одолевавшего мировой порядок во время президентства Дональда Трампа, и вот попытки Пекина пересмотреть статус-кво от Южно-Китайского моря до границы с Индией уже перестают вызывать удивление.
Тем не менее окно возможностей, открытых сегодня перед Пекином, может начать стремительно закрываться. С 2007 г. ежегодные темпы экономического роста КНР упали более чем наполовину, а производительность снизилась на 10 процентов. Долг за это время вырос в восемь раз и к концу 2020 г. составит 335 процентов ВВП. Полагаться на то, что эти тенденции Китаю удастся переломить, оснований пока мало. Вдобавок к этому, специалисты предсказывают, что в течение следующих тридцати лет Пекин потеряет около 200 миллионов взрослых граждан трудоспособного возраста, и на 300 миллионов расширит группу пожилого населения. А по мере сокращения темпов экономического роста возрастает опасность социальных и политических волнений. Китайские лидеры, впрочем, это прекрасно осознают: председатель КНР Си Цзиньпин неоднократно выступал с предупреждениями о возможности распада государства по примеру СССР, а китайские элиты переводят свои деньги и детей за границу.
Тем временем глобальные антикитайские настроения взлетели до уровня, невиданного со времен трагических событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Почти десяток стран приостановили или отменили участие в проектах китайской инициативы «Пояс и путь». Еще шестнадцать стран, включая восемь из десяти крупнейших экономик мира, запретили или строго ограничили использование продуктов Huawei в своих сетях 5G. Позиция Индии в отношении Китая резко ужесточилась после того, как в июне в столкновениях на их общей границе погибло двадцать индийских солдат. Япония решила увеличить военные расходы, трансформировав свои десантные корабли в авианосцы, и разместила ракетные установки вдоль островов Рюкю близ Тайваня. Европейский союз назвал Китай «системным соперником», а Великобритания, Франция и Германия направляют военно-морские патрули для противодействия экспансии Пекина в Южно-Китайском море и Индийском океане. Так что Китай сегодня сталкивается с ответным ударом, вызванным его собственным поведением, сразу на нескольких фронтах.
История рифмуется
Сегодня многие видят главную угрозу для международной безопасности в подъёме глобального ревизионизма. Однако история указывает, что самые отчаянные попытки его возродить совершались державами, которые, находясь на подъёме, тем не менее опасались, что времени на качественный долгосрочный рывок может не хватить.
Первая мировая война тому классический пример. Растущая мощь Германии сформировала стратегический фон для этого конфликта, но страх Германии оказаться ослабленной привёл её к решению развязать войну. Растущая военная мощь и мобильность России угрожали восточному флангу Германии; новые французские законы о воинской повинности меняли баланс сил на Западе; и с ужесточением Франко-русско-британского союза Германия оказывалась, по сути, окружённой. Немецкие лидеры пошли на такой катастрофический риск во время июльского кризиса, опасаясь, что перспектива геополитического величия ускользнет от них, если они не будут действовать быстро.
Та же логика объясняет роковую авантюру, на которую в 1941 г. решилась императорская Япония, после того как американское нефтяное эмбарго и перевооружение флота существенно ограничили окно возможностей Токио для доминирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 1970-е гг. советская глобальная экспансия достигла своего пика – Москва тогда стремительно наращивала военную мощь, а замедление темпов роста советской экономики создавало стимул для закрепления геополитических завоеваний.
Учитывая, что Китай в настоящее время сталкивается как с мрачным экономическим прогнозом, так и со всё более плотным стратегическим окружением, следующие несколько лет могут оказаться особенно турбулентными. В этих условиях Соединённые Штаты не смогут обойтись без долгосрочной стратегии для успешного противостояния Китаю. Но им также необходимо пресекать потенциальный всплеск китайской агрессии и экспансии уже сейчас, в текущем десятилетии.
В этом смысле интересно провести параллель с ранним периодом холодной войны. В то время американские лидеры понимали, что для конечной победы над Советским Союзом необходимо выигрывать решающие сражения по ходу развёртывания этой борьбы. План Маршалла, представленный в 1947 г., должен был предотвратить экономический крах Западной Европы. Ведь если бы это произошло, Москва получила бы блестящую возможность распространить политическую гегемонию на весь континент. Создание НАТО и перевооружение во время Корейской войны создали военный щит, который дал Западу возможность долговременного процветания. Стратегический рывок был прелюдией к стратегическому терпению: Соединённые Штаты могли использовать свои долгосрочные экономические и политические преимущества только в том случае, если они закрывали более неотложные потребности, обусловленные факторами собственной уязвимости.
Сегодня США вновь нуждаются в стратегии создания опасных зон, которая должна основываться на трёх принципах. Первый – сосредоточение усилий на недопущении краткосрочных успехов Китая, способных радикально изменить общий баланс сил. Наиболее серьёзными угрозами являются завоевание Китаем Тайваня, а также перспектива китайского доминирования в вопросе телекоммуникационных сетей 5G. Второй – заключается в необходимости полагаться на инструменты и партнёрские отношения, доступные прямо сейчас или в ближайшем будущем, а не на ресурсы, для развития которых требуются годы. Третий принцип состоит в том, чтобы сосредоточиться на стратегии избирательного ослабления китайской мощи, а не на изменении китайского поведения в целом. Политика обольщения и принуждения ушла в прошлое; сегодня мы имеем дело с линией на целенаправленное истощение сил противника. Само собой, такой подход влечёт за собой гораздо больший риск, но Соединённые Штаты должны проявлять решительность сейчас, именно для того, чтобы не дать дестабилизирующей спирали враждебности раскручиваться в дальнейшем.
Тайвань и технологии
Первоочередной задачей Вашингтона должно стать укрепление суверенитета Тайваня. Потому что если Китай поглотит Тайвань, то, помимо доступа к технологиям мирового класса, Пекин получит также «непотопляемый авианосец», с помощью которого сможет расширить границы своей военной мощи в западной части Тихого океана, а значит обретёт возможность блокировать Японию и Филиппины. Китай также сможет подорвать созданные США союзы в Восточной Азии и уничтожить единственную в мире китайскую демократию. Тайвань – это опора власти в Восточной Азии: контролируемый Тайбэем, остров является мощной крепостью на пути китайской агрессии; если бы им управлял Пекин, Тайвань мог бы стать опорной базой для дальнейшего продвижения китайской территориальной экспансии.
Китай потратил десятилетия, пытаясь «купить» воссоединение с Тайванем, налаживал с ним экономические связи. Но за время этих тщетных попыток народ Тайваня обрёл большую решимость в вопросе сохранения своей независимости, чем когда-либо. Неудивительно, что Китай перешёл в таких условиях к силовому рычагу воздействия. За последние месяцы китайские воздушные и морские патрули проводили в Тайваньском проливе операции по демонстрации силы, более провокационные, чем другие за последние 25 лет. И хотя перспектива вторжения или начала кампании по силовому принуждению не кажется пока слишком реалистичной, вероятность её, без сомнения, растёт.
Тайвань – сам по себе своеобразная природная крепость, но тайваньские и американские войска сегодня всё ещё слишком плохо оснащены для её защиты. Они полагаются на ограниченное количество передовых самолётов и кораблей, привязанных к крупным базам, то есть на силы, которые КНР может нейтрализовать одним или несколькими внезапными воздушными и ракетными ударами. Некоторые американские политики и эксперты призывают Вашингтон выступить с официальным заявлением о предоставлении Тайваню гарантий безопасности, но без реального оборонного потенциала такое обещание было бы равносильно пустой болтовне.
Поэтому Вашингтон будет вынужден развернуть десятки ракетных пусковых установок и вооружённых беспилотников вблизи Тайваня, а возможно, и на самой территории острова. Эти силы будут функционировать как высокотехнологичные минные поля, способные нанести серьёзный урон китайским силам вторжения или блокады. Китаю, чтобы достичь своей цели, необходимо получить контроль над морем и небом Тайваня, а значит – задача США предпринять все возможные меры, чтобы лишить Пекин этой перспективы. В случае необходимости Соединённым Штатам следует сократить финансирование дорогостоящих силовых платформ, таких как авианосцы, для финансирования быстрого развертывания барражирующих крылатых ракет и «умных» мин вблизи Тайваня.
США также следует оказать поддержку Тайваню в переоборудовании его вооружённых сил для ведения асимметричной борьбы.
Тайвань планирует приобрести огромные арсеналы ракетных установок и беспилотных летательных аппаратов; подготовить свою армию к развёртыванию десятков тысяч войск в любой момент, а также воссоздать крупные резервные силы, подготовленные для партизанской войны. Пентагон может ускорить этот переход, субсидируя тайваньские инвестиции в асимметричные возможности, безвозмездно передавая Тайваню оружие и расширяя совместную подготовку по воздушной и береговой обороне, противолодочной и противоминной войне.
Наконец, Соединённые Штаты должны привлекать и другие страны к обороне Тайваня. Япония, например, в случае войны сможет блокировать северные подходы Китая к Тайваню; Индия – позволить американскому флоту использовать Андаманские и Никобарские острова, чтобы перекрыть импорт китайских энергоносителей; европейские союзники – ввести серьёзные экономические и финансовые санкции против Китая в случае его нападения на Тайвань. США должны попытаться убедить партнёров публично взять на себя обязательства по принятию таких мер.
Причём даже если эти меры не будут решающими чисто в военном отношении, они могут выполнить чрезвычайно важную функцию сдерживания КНР, повысив вероятность того, что китайской армии для завоевания Тайваня придётся вести войну сразу на нескольких фронтах, чего Пекину вряд ли хотелось бы.
Параллельно с этим Соединённые Штаты должны работать над тем, чтобы не позволить Китаю создать обширную технологическую сферу влияния. Если китайские компании установят телекоммуникационные сети 5G по всему миру, Китай получит огромные разведывательные и экономические выгоды, а значит – и дополнительные стратегические рычаги воздействия.
Не менее опасно и потенциальное распространение технологий слежки китайского производства, которое может укрепить позиции автократов и нанести ущерб глобальным перспективам демократии.
За последние два года ряд развитых демократий отказались от сотрудничества с Huawei, главным технологическим гигантом Поднебесной. Но «Цифровой Шёлковый путь» Пекина остаётся популярным именно там, где демократия развита слабо, а дешёвые китайские товары по-прежнему привлекательны. Чтобы сдержать технологическую экспансию КНР, Вашингтон должен ограничить экспорт технологий, произведённых в США и других демократических странах, от которых всё ещё довольно сильно зависят технологии самого Китая. К ним относятся полупроводники, чипы искусственного интеллекта и станки с числовым программным управлением (ЧПУ). Ограничивая экспорт таких продуктов, Соединённые Штаты и их демократические союзники могут замедлить технологический прогресс Пекина и выиграть время, чтобы предложить развивающимся странам альтернативы китайскому проекту.
Кроме того, Соединённые Штаты должны защитить свои уязвимые зоны посредством выборочного ослабления зависимости от китайской экономики. Когда в марте 2020 г. государственные СМИ Китая пригрозили ввергнуть США в «могучее море коронавируса», отказав им в фармацевтических препаратах, они подчеркнули, что такое влияние Пекина на цепочки поставок является принудительным рычагом. Чтобы сохранить свободу действий в будущих кризисах, Соединённым Штатам необходимо исключить использование китайской продукции и боеприпасов для своих военных платформ и обеспечить альтернативные источники критически важных медицинских материалов и редкоземельных элементов. Со временем США могли бы сотрудничать с дружественными демократиями в разработке надёжных каналов поставок, что также защитило бы союзников и партнёров от китайского принудительного влияния.
Срочно, а не поспешно
Новые администрации США обычно тратят месяцы на пересмотр различных политических стратегий и разработку новых инициатив, которые могут не давать результатов в течение многих лет. Учитывая глубокие раны, нанесённые стране за последние четыре года, у новой американской администрации может возникнуть соблазн пойти на понижение градуса противостояния с Китаем, чтобы Соединённые Штаты могли восстановить свои прежние позиции, – укрепить демократию и экономику, а также стабилизировать систему общественного здравоохранения. Но как бы ни были важны эти задачи, Вашингтон просто не может позволить себе роскошь геополитической отсрочки. По мере того, как американо-китайские отношения вступают в опасную зону, Вашингтон должен укреплять свои средства обороны от назревающих угроз.
Однако для этого Америке следует сочетать одновременно силу и осторожность, чтобы не спровоцировать конфликт, которого они сами же стремятся избежать. Для этого новой администрации не следует предпринимать более радикальных мер, таких, например, как полное технологическое эмбарго Пекина, всеобъемлющие торговые санкции или крупная тайная программа действий по эскалации насилия внутри Китая. США также не должны резко усиливать давление на Китай сразу на всех направлениях. Если Пекин хочет щедро вкладываться в проекты «белого слона» в Пакистане или других регионах вдоль «Пояса и пути» или, скажем, инвестировать в наращивание военных возможностей, которые не будут иметь стратегического влияния в течение десятилетий, тем лучше. И хотя было бы ошибкой позволять Китаю использовать проблему антикризисного реагирования в контексте COVID-19 или изменения климата с целью ограничить американские возможности в геополитическом противостоянии, администрация Джо Байдена могла бы изучить перспективы сотрудничества в этих областях, хотя бы в качестве противовеса обострению соперничества в других.
Даже если эту опасную зону американо-китайской конфронтации удастся пройти успешно, ожидать окончания самого противостояния, разумеется, рано, – выживание в начале холодной войны тоже, как мы помним, не обеспечило её завершения. Сегодня наградой за мудрое государственное управление будет просто несколько менее ослабленное китайско-американское соперничество. Оно может быть глобальным по своему охвату и очень протяжённым по времени. Но перспектива большой войны может исчезнуть, если США продемонстрируют, что у Пекина не получится свергнуть существующий порядок силой, а сам Вашингтон постепенно будет становиться всё более уверенным в своей способности обогнать замедляющийся Китай. Теперь, как и прежде, Соединённые Штаты могут снова выиграть в затяжном поединке, если им удастся выдержать надвигающийся кризис.
Перевод: Елизавета Демченко
Foreign Affairs

КАК СПАСТИ ДЕМОКРАТИЮ ОТ ТЕХНОЛОГИЙ
АШИШ ГОЭЛ
Профессор по управлению наукой и инжинирингом Стэнфордского университета.
БАРАК РИЧМАН
Профессор права и делового администрирования на юридическом факультете Университета Дьюк.
ФРЭНСИС ФУКУЯМА
Директор Центра развития демократии и верховенства закона в Стэнфордском университете, автор книги «Политический порядок и политическая деградация».
ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОНОПОЛИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГИГАНТОВ
Среди многочисленных преобразований, происходящих в экономике США, ни одно так не бросается в глаза, как рост гигантских интернет-платформ. Amazon, Apple, Facebook, Google и Twitter, набравшие мощь до начала пандемии COVID-19, ещё более укрепились во время пандемии, поскольку значительная часть повседневной жизни перешла в онлайн.
Какими бы удобными ни были их технологии, возникновение таких доминирующих корпораций должно встревожить общественность. Не только потому, что они уже накопили такую беспрецедентную экономическую силу, но и потому что осуществляют контроль над политическим общением и коммуникациями. Эти гиганты сегодня доминируют в сфере распространения информации и осуществляют политическую мобилизацию масс, что представляет уникальную угрозу для хорошо функционирующей демократии.
В то время как Евросоюз пытается ввести антимонопольное законодательство против этих платформ, Соединённые Штаты реагируют гораздо более сдержанно. Но положение начинает меняться. За последние два года Федеральная комиссия по торговле и коалиция генеральных прокуроров штатов инициировали расследования того, не злоупотребляют ли эти платформы своим монопольным положением, а в октябре министерство юстиции подало иск о нарушении антимонопольного законодательства против компании Google. В рядах критиков технологических гигантов сегодня есть как демократы, опасающиеся манипуляций со стороны внутренних и внешних экстремистов, так и республиканцы, полагающие, что большие платформы предвзято настроены против консервативного мировоззрения. Между тем набирает силу движение интеллектуалов под руководством тесного круга учёных-правоведов, стремящихся по-новому истолковать антимонопольное законодательство и бросить вызов доминирующему положению платформ.
Хотя по поводу угроз, которые технологические гиганты представляют для демократии, формируется консенсус, нет единого мнения о том, как реагировать на их усиление и как противодействовать их натиску. Некоторые доказывают, что правительству нужно принудительно разделить Facebook и Google на несколько компаний. Другие требуют более основательного регулирования, не позволяющего эксплуатировать находящиеся в распоряжении компаний данные. Не имея чёткого представления о том, как двигаться в будущее, многие критики по умолчанию оказывают давление на платформы, требуя от них ввести жёсткое саморегулирование, побуждая к тому, чтобы они удаляли опасный контент и лучше проверяли материалы, размещаемые на их сайтах. Однако мало кто понимает, что платформы наносят скорее политический, нежели экономический вред. Ещё меньше экспертов думает о практическом наступлении на этом фронте: как отнять у платформ роль «привратников» контента. Такой подход повлечёт за собой приглашение на рынок ещё одной группы компаний, поставляющих межплатформенное ПО. Они смогут дать возможность пользователям выбирать, каким способом получать информацию. Вероятно, это более эффективный метод, нежели донкихотские попытки разделить гигантов.
Мощь платформ
Современное антимонопольное законодательство США уходит корнями в 1970-е гг., когда появились экономисты и правоведы свободного рынка. Роберт Борк, помощник министра юстиции и середине 1970-х гг., выделялся среди прочих учёных, утверждавших, что единственная возможная цель антимонопольного законодательства – максимальное повышение благосостояния потребителя. Он доказывал, что причина, по которой некоторые компании становятся такими большими, заключается в том, что они эффективнее своих конкурентов, поэтому любые попытки разделить или расколоть эти фирмы будут означать наказание их за успешность. Этот лагерь учёных руководствовался принципом невмешательства государства в экономику, который был поднят на щит так называемой Чикагской школой во главе с лауреатами Нобелевской премии Милтоном Фридманом и Джорджем Стиглером, скептически относившимся к идее регулирования. Представители Чикагской школы утверждали: если антимонопольное законодательство должно максимально повышать экономическое благополучие населения, оно также обязано быть крайне сдержанным. По любым меркам эта школа мысли добилась потрясающих успехов, повлияв на несколько поколений судей и юристов и став доминирующей парадигмой в работе Верховного суда. Минюст при администрации Рональда Рейгана взял на вооружение и кодифицировал многие постулаты Чикагской школы, и с тех пор антимонопольная политика во многом опиралась на этот либеральный подход.
После нескольких десятилетий доминирования Чикагской школы у экономистов было достаточно возможностей, чтобы оценить влияние такого подхода. Они обнаружили, что экономика Соединённых Штатов стала более концентрированной в целом ряде отраслей – авиационной, фармацевтической, медицинской, СМИ и, конечно же, в высокотехнологичной отрасли, вследствие чего пострадали потребители. Многие учёные, например, Томас Филиппон, связывают более высокие цены в США по сравнению с ценами в Европе с неадекватным антимонопольным законодательством.
Сегодня набирающая влияние «постчикагская школа» доказывает, что антимонопольное законодательство следует вводить более энергично. Её приверженцы считают, что необходимы более решительные меры по обузданию монополий, потому что нерегулируемые рынки не способны помешать возникновению и укоренению монополий, сопротивляющихся конкуренции. Недостатки подхода Чикагской школы к антимонопольному законодательству также привели к появлению «необрандейзианской школы» мысли в отношении противодействия монополизму. Эта группа правоведов утверждает, что Закон Шермана – один из самых первых федеральных антимонопольных законов – был призван защитить не только экономические, но и политические ценности, такие как свобода слова и экономическое равенство. Поскольку цифровые платформы обладают не только экономической мощью, но и могут ограничить пропускную способность каналов связи, компании становятся естественной мишенью для этого лагеря.
Верно то, что цифровые рынки имеют некоторые особенности, отличающие их от традиционных рынков. С одной стороны, главная монета или валюта в этой сфере деятельности – это данные. Когда такие компании, как Amazon или Google, умножают данные о сотнях или миллионах пользователей, они могут переместиться на совершенно новые рынки и вытеснить оттуда старожилов, не имеющих аналогичных знаний. С другой стороны, такие компании получают большие выгоды от так называемого сетевого эффекта. Чем больше сеть, тем полезнее она становится для пользователей, что создает контур положительной обратной связи, который приводит к доминированию на рынке одной компании. В отличие от традиционных фирм компании в цифровом пространстве не конкурируют за рыночную долю, они конкурируют за сам рынок. Первые пришельцы могут укорениться на этом рынке и сделать дальнейшую конкуренцию невозможной. Они способны поглотить потенциальных конкурентов, как это сделал Facebook, выкупив Instagram и WhatsApp.
Однако эксперты до сих пор не определились с ответом на вопрос, снижают ли гигантские технологические компании благосостояние потребителей. Они предлагают множество цифровых продуктов – поисковики, электронная почта и социальные сети. Похоже, что потребители высоко ценят эти продукты, хотя и платят за них отказом от приватности и тем, что становятся мишенью для рекламодателей. Более того, почти все злоупотребления, в которых обвиняют эти платформы, одновременно оказываются и экономическим благом. Например, Amazon «прикрыл» семейные розничные магазины и разрушил не только большую часть уличной торговли, но и многие торговые сети с их крупными торговыми центрами. В то же время эта компания оказывает услуги, которые многие потребители находят бесценными (представьте себе, каково было бы людям в период пандемии зависеть исключительно от розничной торговли!). Что касается обвинения в скупке стартапов для предупреждения конкуренции, трудно понять, стала бы молодая компания следующим Apple или Google, если бы осталась независимой, или потерпела бы неудачу без вливания капитала и экспертизы в области управления бизнесом от своих новых владельцев. Хотя потребителям, возможно, было бы лучше, чтобы Instagram остался самостоятельной компанией и жизнеспособной альтернативой Facebook, им было бы хуже, если бы Instagram обанкротился.
Экономические доводы в пользу обуздания и сдерживания технологических гигантов неоднозначны. Однако политические аргументы гораздо более убедительны.
Интернет-платформы наносят куда более серьёзный политический, нежели экономический ущерб. Реальная их опасность не в том, что они искажают рынки, а в том, что они угрожают демократии.
Информационные монополисты
В 2016 г. американцы осознали способность технологических корпораций формировать информационную повестку. Эти платформы позволяют мистификаторам распространять ложные слухи и фейковые новости, а экстремистам – проталкивать теории заговора. Они создали «пузыри фильтров» или информационные пузыри – среду, в которой пользователи получают только информацию, подтверждающую их предвзятые мнения и убеждения, благодаря работе выстроенных ими алгоритмов. И они могут усиливать или заглушать конкретные голоса, тем самым оказывая возмутительное влияние на демократические политические дебаты. Главное опасение: платформы накопили такую мощь, что способны влиять на итоги выборов, сознательно или неумышленно.
Критики реагируют на эту озабоченность, настаивая, чтобы платформы брали на себя больше ответственности за транслируемый контент. Они потребовали от Twitter блокировать или проверять на соответствие фактам сбивающие с толку посты президента Дональда Трампа. Они разнесли Facebook за его отказ быть модератором политического контента. Многие хотят, чтобы интернет-платформы вели себя как медийные компании, проверяя политический контент и призывая государственных чиновников к ответу за ложную информацию.
Однако оказывать давление на большие платформы, чтобы заставить их выполнять эту функцию, и при этом надеяться, что они будут это делать, имея в виду общественные интересы, не может стать долгосрочным решением. При таком подходе проблема их мощи и власти отходит на второй план, тогда как любое реальное решение должно ограничить эту власть. Сегодня на политическую предвзятость интернет-платформ жалуются преимущественно республиканцы. Они небезосновательно полагают, что люди, управляющие современными платформами – владелец Amazon Джефф Безос, владелец Facebook Марк Цукерберг, Сундар Пичай из Google и Джек Дорси из Twitter, – исповедуют социально прогрессивные, а не консервативные идеи, хотя и руководствуются преимущественно коммерческими и корыстными интересами.
В более долгосрочной перспективе это предположение может не подтвердиться. Допустим, одного из этих гигантов выкупит миллиардер, придерживающийся консервативных взглядов. Контроль Руперта Мэрдока над Fox News и Wall Street Journal уже даёт ему далеко идущее политическое влияние, но, по крайней мере, последствия такого контроля достаточно понятны: вы это знаете, когда читаете передовицу Wall Street Journal или смотрите новостную программу на канале Fox News. Но если бы Мэрдок получил контроль над сетью Facebook или компанией Google, он мог бы незаметно изменить рейтинговые механизмы или алгоритмы поиска для формирования контента, который пользователи будут видеть и читать. Тем самым он потенциально влиял бы на политические взгляды пользователей без их ведома или согласия. А доминирующее положение платформ означает, что избежать их влияния крайне затруднительно. Если вы придерживаетесь либеральных взглядов, то можете вместо Fox смотреть канал MSNBC; но если Facebook попадёт под контроль Мэрдока, у вас может не быть аналогичного выбора, если вам захочется поделиться новостями или координировать политическую активность со своими друзьями.
Подумайте также о том, что в распоряжении у таких платформ как Amazon, Facebook и Google оказываются сведения о жизни частных лиц, к которым никогда не было доступа у прежних монополистов. Они знают, с кем дружат те или иные лица, знают членов их семей, знают об их доходах и имуществе и в курсе многих сокровенных подробностей их жизни. Что если коррумпированный администратор одной из платформ захочет эксплуатировать какую-то тайную информацию, чтобы выкручивать руки государственному служащему? В качестве альтернативы представьте себе злоупотребление частной информацией вкупе с полномочиями, которыми располагает правительство – допустим, Facebook может войти в сговор с политизированным Минюстом.
Концентрация экономической и политической власти в руках руководства цифровых платформ – это как лежащий на столе заряженный пистолет.
В настоящий момент люди, сидящие по другую сторону стола, скорее всего, не схватят его и не нажмут курок. Однако для демократии в США актуален вопрос: безопасно ли оставлять его там, на этом столе, если в один прекрасный день какой-нибудь злоумышленник может прийти и схватить его. Никакая либеральная демократия не может доверить сконцентрированную политическую власть людям на основании предположений об их добрых намерениях. Вот почему в Соединённых Штатах давно действует система сдержек и противовесов с целью ограничить сосредоточение власти в одних руках.
Принятие крутых мер
Наиболее очевидный способ сдерживания власти монополий – государственное регулирование. Этот метод используется в Европе, например, в Германии, где принят закон об уголовном преследовании распространителей ложных новостей. Хотя регулирование всё ещё возможно в некоторых демократиях с высокой степенью общественного консенсуса, вряд ли это будет действенной мерой в такой поляризованной стране, как США. В годы расцвета общественного телевидения доктрина справедливого и честного изложения новостей, взятая на вооружение Федеральной комиссией по связи, требовала от телевизионных каналов «сбалансированного» освещения политических вопросов. Республиканцы яростно критиковали эту доктрину, утверждая, что телеканалы предвзято настроены по отношению к консерваторам, и Федеральная комиссия отказалась от этой доктрины в 1987 году. А представьте себе государственного регулятора, пытающегося решить, стоит ли блокировать очередной твит президента или нет. Каким бы ни было решение, оно вызовет ожесточённую полемику.
Ещё один подход к ограничению власти интернет-платформ – содействие более жёсткой конкуренции. Если бы платформ было множество, никто бы не доминировал на рынке так, как это сегодня делают Facebook и Google. Однако проблема в том, что Соединённым Штатам или ЕС вряд ли удастся разделить эти компании, как были разделены на несколько компаний Standard Oil и AT&T. Современные технологические компании оказали бы ожесточённое сопротивление таким попыткам, и даже если бы они, в конце концов, проиграли тяжбы в судах, для завершения процесса их разделения потребовались бы годы, если не десятилетия. Еще важнее, наверное, неясность в отношении итогового результата: решит ли основополагающую проблему, например, разделение компании Facebook или нет? Высока вероятность того, что младенческая компания Facebook, которая, возможно, появится в результате такого разделения, быстро вырастет и заменит материнскую компанию. Даже AT&T сохранила своё доминирующее положение после того, как её раскололи на несколько частей в 1980-е годы. Быстрое масштабирование социальных СМИ ещё больше ускорило бы этот процесс.
Ввиду смутных перспектив разделения компаний, многие наблюдатели обратились к принципу «переносимости данных» для стимулирования конкуренции на рынке платформ. Подобно тому, как правительство требует, чтобы телефонные компании позволяли пользователям сохранять за собой телефонные номера при смене сети или оператора, так оно может потребовать, чтобы у пользователей было право переносить передаваемые ими данные с одной платформы на другую. Общий регламент ЕС о защите персональных данных (ОРЗД) – могущественный закон о неприкосновенности личной жизни, вступивший в силу в 2018 г. – взял на вооружение именно такой подход, потребовав принятия стандартизированного машиночитаемого формата для передачи личных данных.
Однако перемещение данных наталкивается на ряд препятствий. Главное – оно затруднительно в отношении многих видов данных. Хотя перенести некоторые базовые данные, такие как имя, адрес, информация о кредитной карте и адрес электронной почты достаточно легко, было бы намного труднее передавать все метаданные пользователя. Метаданные включают лайки, клики, поисковые запросы, приказы и так далее. Но именно эти виды данных ценятся в целевой рекламе; сама информация также разнородна и зависит от платформы. Например, как именно летопись прошлых поисковых запросов на платформе Google могла бы быть перенесена на новую платформу типа Facebook?
Альтернативный метод сокращения власти платформ во многом опирается на закон о неприкосновенности личной жизни. При таком подходе регулирование ограничивало бы степень или меру, в которой технологическая компания могла бы использовать потребительские данные, сгенерированные в одной отрасли, для улучшения своего положения в другой при безусловной защите конкуренции и неприкосновенности личной жизни. Например, ОРЗД требует, чтобы данные потребителя использовались исключительно с той целью, для которой информация была изначально получена, если потребитель не даст явное разрешение на её использование в других целях. Эти правила призваны лишить платформы одного из самых мощных источников власти: чем больше данных имеется у платформы, тем легче ей генерировать больше дохода и даже больше данных.
Но опора на закон о неприкосновенности личной жизни с целью недопущения освоения крупными платформами новых рынков представляет некоторые трудности. Как и в случае с перемещением данных, неясно, должны ли правила, такие как ОРЗД, применяться только к данным, которые потребитель добровольно передал платформе, или также и к метаданным. И даже если инициативы по защите неприкосновенности личной жизни увенчаются успехом, они, скорее всего, уменьшат лишь персонализацию новостей для каждого лица, а не концентрацию редакторских полномочий. В более широком смысле такие законы закрыли бы дверь для лошади, которая уже давно выбежала из своего стойла. Технологические гиганты уже накопили гигантские массивы данных пользователей. Как показывает новый иск Министерства юстиции, бизнес-модель компании Google опирается на сбор данных, генерируемых его различными продуктами: Gmail, Google Chrome, Google Maps и его поисковиком. Все вместе они открывают беспрецедентную информацию о каждом пользователе. Facebook также собрал обширную базу данных о своих пользователях, отчасти получив некоторые данные о пользователях, когда они бороздили просторы интернета и других сайтов, как некоторые намекают. Если новые законы о неприкосновенности личной жизни не будут позволять новым конкурентам накапливать и использовать аналогичные наборы данных, они просто закрепят преимущества гигантов-пионеров этого рынка.
Решение в виде межплатформенного программного обеспечения
Если ужесточение регулирования, разделение компаний, обеспечение переносимости данных и закон о неприкосновенности частной жизни не сработают, какие ещё методы борьбы с концентрацией власти и полномочий остаются у платформ? Мало внимания уделяется одному из наиболее многообещающих решений: межплатформенному программному обеспечению. Межплатформенное ПО в целом определяется как программное обеспечение, регулирующее обработку данных в рамках имеющейся платформы и способное модифицировать представление основополагающих структур данных. При добавлении к нынешним сервисам оно определяло бы важность и достоверность политического контента, и платформы использовали бы эти определения, чтобы курировать то, что видят пользователи. Другими словами, конкурентный слой новых компаний с прозрачными алгоритмами вошёл бы на рынок и взял на себя выполнение функций редакционного шлюза, которые в настоящее время выполняются доминирующими технологическими платформами с непрозрачными алгоритмами.
Межплатформенное программное обеспечение может предлагаться разными методами. Особенно действенным было бы обеспечение доступа пользователей к межплатформенному ПО через такие технологические платформы, как Apple или Twitter. Рассмотрим новостные статьи на базе новостных лент пользователей или популярные твиты политических деятелей. В программной среде Apple или Twitter межплатформенный сервис мог бы добавлять лейблы вроде: «недостоверно», «некорректно», «непроверенно» и «выдернуто из контекста». При регистрации на платформах Apple и Twitter пользователи видели бы эти лейблы, прикреплённые к новостным статьям и твитам. Более интервенционистское межплатформенное ПО могло бы также влиять на ранжирование некоторых новостных лент. Например, перечней продукции на Amazonе, рекламных объявлений в Facebook, результатов поиска в Google или рекомендаций видеоматериалов в YouTube. Пользователи могли бы выбирать провайдеров межплатформенного программного обеспечения, которые корректируют итоги поиска на сервисе Amazon, отдавая приоритет продукции или товарам, сделанным в США, экологически чистой продукции или товарам по более низким ценам. Межплатформенное ПО могло бы даже не допускать просмотр пользователем определённого контента или вообще блокировать конкретные источники информации или производителей.
От каждого провайдера межплатформенного ПО требовалась бы прозрачность в предложениях и технических особенностях, чтобы пользователи могли делать сознательный выбор. Поставщики межплатформенного программного обеспечения включали бы как компании, стремящиеся улучшать качество новостных лент, так и некоммерческие организации, продвигающие ценности гражданского общества. На факультетах журналистики могли бы предлагать межплатформенное программное обеспечение, отдающее предпочтение качественным репортажам и блокирующее непроверенные истории. А школьный совет округа мог бы рекомендовать межплатформенный сервис, отдающий предпочтение местной проблематике. Выступая в роли посредника между пользователями и платформами, межплатформенное ПО могло бы удовлетворять потребности отдельных потребителей, в то же время решительно противодействуя односторонним действиям доминирующих игроков.
Придётся проработать многие детали. Первый вопрос: какой объём кураторских полномочий следует передать новым компаниям. На одном полюсе могли бы быть провайдеры межплатформенного ПО, полностью трансформирующие информацию, представляемую пользователю основополагающей платформой, и, по сути, превращающие платформу просто в нейтральный канал. При такой модели суть и поисковые приоритеты платформ (Amazon или Google) определялись бы исключительное межплатформенным программным обеспечением, тогда как эти платформы просто предлагали бы доступ к своим серверам. На другом полюсе платформа могла бы остаться куратором и ранжировать контент с помощью своих алгоритмов, а межплатформенное ПО выполняло бы роль дополнительного фильтра. При такой модели интерфейсы Facebook или Twitter не претерпели бы больших изменений. Межплатформенный сервис просто осуществлял бы быструю проверку контента или приклеивание ярлыков, не вникая особо в суть контента и не предлагая более точно настроенные рекомендации.
Наилучший подход, как всегда, где-то посередине. Передача поставщикам межплатформенного ПО слишком больших полномочий могла бы означать, что базовые технологические платформы утратят прямую связь с пользователем. Если их бизнес-модели окажутся под угрозой, технологические компании станут всячески этому противиться. С другой стороны, передача межплатформенным сервисам недостаточных полномочий не ослабит возможностей платформ выступать в роли кураторов и распространителей контента. Но где бы ни пролегла эта разделительная линия, государственное вмешательство представляется необходимым. Наверно, Конгрессу придётся принять закон, требующий, чтобы платформы использовали открытые и единообразные интерфейсы прикладного программирования или ИПП, которые позволят поставщикам межплатформенного ПО слаженно взаимодействовать с разными технологическими платформами. Конгрессу также пришлось бы ввести тщательное регулирование самих провайдеров межплатформенного ПО, чтобы они удовлетворяли чётко прописанным минимальным стандартам надёжности, прозрачности и последовательности.
Вторая проблема заключается в поиске бизнес-модели, которая стимулировала бы появление конкурентного слоя новых компаний. Наиболее логичным подходом стало бы заключение соглашений о разделении доходов между доминирующими платформами и сторонними провайдерами межплатформенного ПО. Когда кто-то осуществляет поиск в Google или посещает страницу в Facebook, рекламный доход от такого визита должен разделяться между платформой провайдером межплатформенного ПО. По всей видимости, подобные соглашения потребуется заключать под надзором правительства, потому что, даже если доминирующие платформы будут готовы разделить бремя фильтрации контента, следует ожидать, что они будут сопротивляться разделу доходов от рекламы.
Ещё одна деталь, нуждающаяся в проработке – некий технический механизм, который способствовал бы появлению разнообразных межплатформенных сервисов. Это должен быть достаточно простой механизм для привлечения как можно большего числа участников, но при этом достаточно изощрённый, чтобы идеально вписаться в большие платформы, каждая из которых имеет собственную специальную архитектуру, и слиться с ними. Более того, он должен дать возможность межплатформенным сервисам оценивать три типа контента: общедоступный публичный контент (новостные истории, пресс-релизы и твиты государственных деятелей), пользовательский контент (например, видеоматериалы, выкладываемые в YouTube, и публичные твиты частных лиц) и частный контент (например, сообщения в WhatsApp и посты в Facebook).
Скептики могут доказывать, что метод межплатформенных сервисов расколет интернет и усилит фильтрационные пузыри. Хотя университеты могут желать того, чтобы их студенты использовали межплатформенные сервисы, направляющие их к достоверным источникам информации, приверженцы теорий заговора хотят противоположного. Алгоритмы, разработанные с учётом пожеланий разных заказчиков, могут ещё больше расколоть политическое сообщество в США, побуждая людей находить голоса, созвучные их мнениям; источники, подтверждающие их убеждения; политических лидеров, усиливающих их страхи.
Возможно, некоторые из этих проблем можно было бы разрешить с помощью регламента, требующего, чтобы межплатформенные сервисы удовлетворяли минимальным стандартам. Но важно также отметить, что вышеупомянутый раскол мог уже произойти, и с технологической точки зрения вряд ли возможно предотвратить его в будущем.
Рассмотрим, каким путём идут последователи QAnon – крайне правой теории заговора, постулирующей существование глобального сговора педофилов. После того, как Facebook и Twitter ограничили их контент, сторонники QAnon покинули большие платформы и перешли на 4chan – более терпимую доску объявлений. Когда модераторы 4chan начали смягчать и редактировать подстрекающие комментарии, последователи QAnon переместились на новую платформу 8chan (ныне известную как 8kun). Эти адепты теории заговора могут общаться друг с другом по обычной электронной почте или по зашифрованным каналам, таким как Signal, Telegram и WhatsApp. Подобные сообщения, какими проблемными они ни были бы, защищены Первой поправкой.
Более того, экстремистские группы несут угрозу демократии, если они покидают периферию интернета и проникают в массовые СМИ. Это происходит, когда их голоса либо подхватываются средствами массовой информации, либо усиливаются платформой. В отличие от 8chan, доминирующая платформа может повлиять на широкие слои населения против воли этих людей и без их ведома. В более широком смысле, даже если межплатформенные сервисы несут угрозу раскола в обществе, эта угроза меркнет в сравнении той, которую несёт сосредоточение чрезмерных полномочий у руководства платформ.
Величайшей долгосрочной угрозой для демократии является не разделение общественного мнения, а бесконтрольная власть в руках руководителей технологических гигантов.
Возврат контроля
Общественность должна быть встревожена ростом и мощью доминирующих интернет-платформ, и неслучайно политики ищут спасения от них в антитрестовском законодательстве. Но это лишь одна из нескольких возможных реакций на проблему концентрации экономической и политической власти у частных лиц.
В настоящее время правительства разных стран развёртывают антимонопольные кампании против платформ технологических гигантов и в США, и в Европе. Скорее всего, судебные разбирательства продлятся долгие годы. Однако такой подход необязательно является лучшим способом отвода той серьёзной политической угрозы, которую власть платформ представляет для демократии. В первой поправке был предусмотрен рынок идей, где конкуренция, а не государственное регулирование, должна оберегать общественную дискуссию. Однако в мире, где крупные платформы усиливаются, подавляют свободу выражения и берут на прицел политические послания и высказывания, этот рынок разваливается.
Данную проблему возможно решить с помощью межплатформенного программного обеспечения. Оно в состоянии отнять власть и полномочия у технологических платформ и передать их не единому государственному регулятору, а новой группе конкурентных компаний, которые позволили бы пользователям индивидуально настраивать для себя онлайновый контент. При таком подходе не удастся полностью блокировать распространение теорий заговора или человеконенавистнические выступления в интернете; но можно будет ограничить их масштабы таким образом, чтобы это соответствовало изначальному духу и смыслу первой поправки.
Предлагаемый платформами контент определяется сегодня неясными алгоритмами, которые генерируются программами искусственного интеллекта. Межплатформенные сервисы позволят передать бразды правления в руки пользователей. Именно они, а не какая-то невидимая программа искусственного интеллекта, будут определять тогда содержание предлагаемой им в интернете информации.
Авторы являются членами Рабочей группы по масштабированию платформ для Программы Стэнфордского университета по демократии и интернету.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs №1 за 2021 год. © Council on foreign relations, Inc.

Олег Тиньков — человек года по версии Business FM
В 2020-м предприниматель лечился от лейкемии, после операции у него полная ремиссия. Его банк вырос в полтора раза, и Тиньков чуть не продал его «Яндексу». А еще стало известно о претензиях властей США к бизнесмену, после которых начался суд по экстрадиции
В 2020 году с Олегом Тиньковым произошло столько всего, что кому-то этого хватило бы на целую жизнь. В октябре 2019 года ему поставили диагноз «лейкемия», после чего он вылетел на лечение в Германию, где сразу же начал курс химиотерапии. Публичная жизнь банкира полностью переместилась в Instagram, где он увлеченно рассказывал о своих новых бизнес-проектах, таких как, например, сеть гостевых домов La Datcha.
В марте 2020 года стало известно о болезни Тинькова, после чего акции Тинькофф банка рухнули. После этого Business FM взяла интервью у главы группы «Тинькофф» Оливера Хьюза, менеджера, который управляет бизнесом Олега Тинькова. Вот что тогда сказал Хьюз:
«Дико тяжелая ситуация, в первую очередь для Олега. Но он борец, он борется. Мы очень любим Олега, мы ему желаем скорейшего восстановления. Но он не участвует в бизнесе. Он не знает, какие продукты мы разрабатываем, он не знает про наши IT-проекты, он даже не знает про наши многие достаточно крупные инвестиции. На уровне стратегии Олег есть. Я с ним достаточно часто разговариваю. Ситуация с Олегом, конечно, ужасна, но это никак, ни малейшим образом не влияет на бизнес группы, вообще никак».
Параллельно с этим власти США обвинили банкира в сокрытии доходов. В 2013 году бизнесмен вышел из американского гражданства. А потом Вашингтон обнаружил, что стоимость бизнеса Тинькова на тот момент составляла 1 млрд долларов, о чем предприниматель умолчал. Соответственно, не заплатил налоги. И ему грозит крупный штраф, который юристы оценили в полмиллиарда долларов.
На тот момент Тиньков уже был в Лондоне, где остается и сейчас, ожидая решения суда по экстрадиции (следующее заседание запланировано на март). Даже если до вердикта Тиньков решит все проблемы с властями США, то есть заплатит штраф, не факт, что его не выдадут Штатам. Мнение управляющего партнера адвокатского бюро «Гладышев и партнеры» Владимира Гладышева:
«Формально у суда есть основание для выдачи. Запрос официальных властей США, который передан через посольство, то есть для английского суда это запрос, который исходит от всего американского государства в целом. Если английский суд проигнорирует эту формальную сторону, получается, что он проявит неуважение к США как к государству на основании косвенных признаков, что против господина Тинькова никакого дела и нет, по существу».
Теперь о событии, которое в жизни Олега Тинькова не случилось. По крайней мере, пока. В сентябре информационное пространство взорвала новость о том, что «Яндекс» покупает TCS Group за 5,5 млрд долларов с премией к рынку в 7%. На этом сообщении акции банка взлетели. Причем Тиньков не только должен был выйти в кеш, но и стать акционером «Яндекса». А потом по рынку пошли слухи, что «сделка десятилетия» из-за сложных переговоров может не состояться. СМИ писали, что Тиньков параллельно ведет переговоры о продаже банка с МТС. В октябре Тиньков со свойственной ему эмоциональностью написал в письме сотрудникам следующее:
«Сегодня я принял решение разорвать вероятную сделку с «Яндексом». Почему? Мы начали разговор с объединения, поисков синергий и быстрого роста нашей клиентской базы. И хотели построить самую большую частную компанию России. По факту все вылилось в продажу, они хотели просто купить «Тинькофф» со всеми вытекающими негативными последствиями для нас. «Тинькофф» не продается ни «Яндексу», ни МТС! У меня есть план: а давайте мы, а не они, купим этот *авно-Яндекс! Я не верю в эту забюрокраченную компанию!»
Версии были разные. Сам Тиньков в письменном интервью Forbes сообщил, что он понял, что «Яндекс» хочет именно поглотить банк, а это, по сути, покупка контроля. И тогда надо платить премию не в 7%, а в 25-40%. По словам бизнесмена, он предлагал основателю «Яндекса» Аркадию Воложу увеличить премию, но тот сказал, что это нужно согласовывать с советом директоров. К тому моменту Тиньков уже устал торговаться и решил прекратить переговоры.
В «Яндексе» эту версию опровергли. Ранее там говорили, что в процессе переговоров Тиньков выдвигал все новые требования. Вполне вероятно, что оба взгляда на срыв сделки правдивы. Вот как это прокомментировал президент компании «Московские партнеры» Евгений Коган.
«Олег Тиньков, во-первых, человек эмоциональный, кто его знает, тот знает. Во-вторых, видимо, он действительно столкнулся с какой-то бюрократией. Понимаете, в любых сделках слияния и поглощения всегда есть элемент разницы культур, это очень важно. Бывают достаточно бюрократические, жесткие системы, а бывают системы достаточно менее формальные, основанные на лидерских качествах, на драйве и так далее. Так что, знаете, лучше в таких ситуациях, если характер не сходится, лучше разойтись как можно быстрее. Это как женитьба: не подошли характерами, лучше быстрее разбежаться, пока нет детей».
В конце декабря Олег Тиньков снова прокомментировал срыв сделки с «Яндексом». Как заявил бизнесмен в интервью телеканалу «Дождь», сделка не состоялась из-за расхождения в цене на 200 млн долларов. Тиньков сообщил, что просил 6,2 млрд долларов, а IT-гигант давал 6 млрд долларов.
«Все сделки, запомните, пожалуйста, разваливаются по одной причине, нет двух причин. Мало денег. Разница в разбеге была 200 млн долларов. Если бы они заплатили на 200 млн больше, я бы на их месте заплатил, потому что капитализация выросла на 5 млрд долларов на объявлении. И потом я уже устал и в какой-то момент сказал: все, я не хочу, спасибо, не нужно. Я просил 6,2 млрд долларов. Они давали 6 млрд долларов. Они мне платили половину акциями, и в этом была фишка. Они хотели, чтобы я сделал lock up на 18 месяцев, то есть не мог продавать акции. Я говорю: если вы мне даете акции, которые я 18 месяцев не могу реализовать, то есть в некотором смысле пораженный актив, то я хочу принимать участие в управлении. Потому что как я могу владеть чем-то, что от меня никак не зависит? Конечно, а зачем я им нужен?»
В итоге небольшой пакет акций Тиньков все-таки продал в рынок, выручив за них 325 млн долларов. Бизнесмен написал, что деньги пойдут в благотворительный фонд борьбы с лейкемией и на решение юридических проблем. Видимо, Тиньков имел в виду налоговые претензии США. Когда стало известно о сделке с «Яндексом», то в деловых кругах отмечали, что банкиру нужен кеш. Хотя сам Тиньков писал, что кеша у него полно. Но ведь он все-таки продал часть акций, и, возможно, ему придется продать еще, отмечал в беседе с Business FM главный редактор банковского портала Finnews.ru Владимир Шевченко.
«Насколько я читал ранее о претензиях налоговых органов США, 300 млн долларов может не хватить. То есть Тинькову, скорее всего, позже придется продать еще пакет акций, когда уже будет более или менее понятно, во что претензии налоговых органов США могут вылиться. У Тинькова не состоялась продажа банка «Яндексу», и через некоторое время стало известно, что Тиньков продает свои акции в рынок. Мне кажется, эти две новости связаны между собой, Тинькову действительно нужны деньги».
Несмотря на насыщенный и сложный год в жизни Олега Тинькова, его бизнес себя чувствовал отлично. За год капитализация группы выросла на 50%, превысив 6 млрд долларов. А по количеству активных клиентов банк вошел в первую тройку вместе со «Сбером» и ВТБ, что вполне объяснимо. «Тинькофф» — высокотехнологичный банк, и в пандемию его технологии оказались востребованными. Правда, Тиньков в декабре написал пост о том, как тяжела работа бизнесмена, а все хотят от него только денег и продолжают считать предпринимателя «вором и жуликом», и задался вопросом, стоило ли оно того.
Что касается здоровья Олега Тинькова, недавно на очередном суде по экстрадиции его адвокат говорил, что шансы на выживание бизнесмена — 50%. Но 19 декабря Тиньков сообщил: произошло чудо, полная ремиссия после пересадки костного мозга. Таким образом банкир сам подвел итоги этого сложного для него года.
Этот материал доступен в виде подкаста. Подписывайтесь на «Тренды и бренды от Business FM».
Михаил Сафонов

Россия продолжает активно развивать военно-техническое сотрудничество
Военному и военно-техническому сотрудничеству с зарубежными государствами в Министерстве обороны РФ всегда придавалось и придаётся огромное значение. На что оно было направлено в уходящем году? Какие достигнуты результаты в этой работе? Что будет дальше с системой контроля над вооружениями? На эти и другие вопросы в интервью «Красной звезде» отвечает заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин.
– Александр Васильевич, в ноябре Президент России согласился с предложением Правительства РФ создать в Судане объект ВМФ России и поручил Минобороны подписать соответствующее соглашение с властями этой страны. Какие плюсы вы видите в появлении российского военного объекта в Африке?
– Перед принятием решения о развёртывании российского военного объекта в Судане была проведена продолжительная работа военных ведомств двух стран. Согласовывались место, сроки и условия размещения пункта материально-технического обеспечения на суданской территории. Следует отметить, что этот пункт создаётся, исходя из обоюдного стремления России и Судана к развитию военного сотрудничества, направленного на укрепление обороноспособности наших стран.
При этом считаем, что создание в Судане пункта материально-технического обеспечения отвечает целям поддержания мира и стабильности в регионе. Положения, которые были закреплены в соглашении, станут отправной точкой в развитии сотрудничества между Россией и Суданом в военно-морской области.
Высшее военное руководство этой страны выступает за расширение военных и военно-технических связей с Россией и подчёркивает готовность сохранить преемственность в отношениях с нашей страной и выйти на стратегический уровень двустороннего взаимодействия. Действия по созданию объектов ВМФ за пределами России имеют плановый характер, направлены на обеспечение и реализацию национальных интересов нашей страны в Мировом океане и не предполагают агрессии против какого-либо государства.
– А вообще для чего нам нужна такая структура в Красном море?
– Поясню. Мы заинтересованы в военном присутствии в регионе. В первую очередь для борьбы с терроризмом, пиратством, контрабандой оружия, наркотиков, работорговлей, а также обеспечения безопасного коммерческого судоходства. Открытие пункта материально-технического обеспечения в Судане позволит ВМФ создать условия безопасной морской деятельности не только для России, но и для других государств. Этот пункт даст возможность находиться кораблям в дальней океанской зоне, участвовать в военных, миротворческих и гуманитарных акциях. Также реализация этого проекта позволит создать благоприятные условия для обеспечения кораблей и судов ВМФ, которые несут боевую службу и совершают межфлотские переходы через Красное море.
– Если продолжать тему Африки и Ближнего Востока, то это – ключевой регион, и Россия год от года расширяет там своё присутствие. Помимо уже проверенных партнёров, таких как Египет, Алжир, Ангола, какие ещё страны в регионе проявляют заинтересованность в расширении военного и военно-технического сотрудничества?
– Думаю, не ошибусь, если скажу о том, что Африка и Ближний Восток сегодня являются самыми проблемными регионами в мире с точки зрения обеспечения своей внутренней и внешней безопасности и в то же время самыми перспективными регионами в плане налаживания разнопланового сотрудничества. Безусловно, с уверенностью можно сказать, что число государств в этих регионах, готовых развивать сотрудничество с Россией в военной и военно-технической областях, растёт. Если говорить о побуждающих мотивах к такой положительной динамике взаимодействия, то здесь прежде всего нужно отметить подходы России в целом и Минобороны России в частности к развитию диалога с нашими партнёрами.
– США, ряд европейских стран периодически пытаются выстраивать диалог с африканскими и ближневосточными странами с позиции силы. Для достижения своих целей стараются надавить на слабые точки, использовать или даже создавать проблемы в странах, чтобы потом навязать им свою поддержку. Для нас такие методы приемлемы?
– Взаимодействие с нашими друзьями мы организуем не с позиции силы, мы не угрожаем им санкциями и отказом от финансовых и экономических проектов. Другими словами – сотрудничество посредством шантажа для нас неприемлемо. Россия выстраивает взаимоотношения с партнёрами на равноправных условиях. И такие подходы наиболее популярны сегодня. Говоря о конкретных странах и реализованных проектах, необходимо сразу отметить трудный 2020 год, в котором не только России, но и большинству государств в мире пришлось всеми доступными способами бороться с распространением коронавирусной инфекции. Но даже в таких непростых условиях нам удалось выйти на новый уровень военных связей. С рядом государств мы продолжали работу по подготовке к подписанию соглашений о военном сотрудничестве, а также подписали контракты о приёме на обучение иностранных военнослужащих в военные учебные заведения Минобороны России.
– Можно ли привести пример успешного взаимодействия с африканской страной?
– Если говорить о конкретных примерах сотрудничества со странами-партнёрами, то следует отметить Центральноафриканскую Республику. Для нужд сил безопасности этой страны в ноябре текущего года поставлены бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2, предназначенные для использования в рамках реформы сектора безопасности этой республики. Абсолютно естественно, что в складывающихся условиях соперничества государств – основных мировых лидеров за военные и экономические рынки стран Африки и Ближнего Востока Россия и дальше будет прилагать усилия по расширению военного и военно-технического сотрудничества в этих регионах.
– Насколько сильно ударила пандемия по военному и военно-техническому сотрудничеству, которое вы курируете в Министерстве обороны? Повлиял ли коронавирус на количество военных контрактов, которые были запланированы на 2020 год?
– Несомненно, пандемия коронавирусной инфекции существенно ослабила мировую экономику. По оценкам экспертов, в 2020–2021 годах возможно сокращение мирового валового внутреннего продукта на 4–5 процентов по сравнению с уровнем 2019 года. К сожалению, среди наиболее пострадавших стран оказались и основные партнёры России в сфере военно-технического сотрудничества – Алжир, Египет, Индия, Китай… Падение темпов развития мировой экономики повлекло за собой сокращение мировых военных расходов и объёмов закупок нового вооружения. Ожидается, что в ближайшие два года общемировые военные расходы сократятся на 8 процентов, мировой экспорт продукции военного назначения – на 4 процента. По оценкам экспертов, возвращение мирового рынка вооружений к докризисным темпам роста можно ожидать лишь к 2023 году.
– Я правильно понимаю, в первую очередь из-за пандемии сдвигаются сроки поставок?
– Да, в целом это так. В настоящее время с некоторыми иностранными заказчиками перенесены сроки поставок военной продукции. Это вызвано в том числе невозможностью приёма их специалистов для проведения предотгрузочных инспекций в России, а также командирования российских представителей для сдачи и обслуживания продукции у заказчиков. Также из-за ограничений, связанных с пандемией, обозначились трудности в реализации экспортных контрактов по оказанию услуг по ремонту и обслуживанию вооружения и военной техники. Приостановлены на неопределённое время приём иностранных специалистов на обучение в России и оказание услуг по их обучению за рубежом.
Значительное сокращение числа внутренних и международных авиарейсов порой вызывало увеличение общих сроков доставки мелких партий продукции иностранным заказчикам и ввоза имущества для ремонта в России. Это также привело к невозможности плановой замены российских специалистов, которые обслуживают технику на территориях заказчиков. Кроме того, ограничения в условиях пандемии не всегда позволяют обеспечить своевременную передачу партнёрами оригиналов платёжных документов, что приводит к задержкам с поступлением валютной выручки, несвоевременным расчётам с предприятиями кооперации и образованию у них кассового разрыва. Тем не менее, несмотря на имеющиеся трудности, надеюсь, план экспорта продукции военного назначения на 2020 год будет выполнен.
– Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу неоднократно заявлял, что в Сирии в том числе проверяются новейшие виды российских вооружения и военной техники. Вырос ли интерес зарубежных партнёров к российскому оружию, которое применялось в сирийском конфликте?
– У многих наших партнёров интерес к оружию российского производства неуклонно растёт. В первую очередь, конечно же, проявляется заинтересованность в приобретении российской продукции военного назначения. Она подтвердила свою высокую надёжность и эффективность в реальных боевых действиях против международных террористических группировок в Сирии. Это относится к широкому перечню образцов вооружения, начиная со стрелкового оружия и заканчивая авиационной техникой, средствами ПВО, РЭБ, ударными ракетными комплексами, военно-морской техникой и другими видами вооружения и военной техники. Мощности российских предприятий ОПК, выпускающих такое вооружение, загружены на годы вперёд.
– А к чему, если не секрет, самый пристальный интерес у наших потенциальных покупателей?
– Особо отмечаю интерес многих стран к приобретению современных средств ПВО, которые позволяют чувствовать себя в большей безопасности от «демократии, прилетающей, как правило, на крыльях бомбардировщиков и беспилотных летательных аппаратов». Ведь отразить массированное применение ударной авиации, беспилотников и крылатых ракет, с которого в современных реалиях начинается вооружённый конфликт, в состоянии только вооружённые силы стран, имеющие грамотно построенную и современную систему ПВО. Государства, у которых отсутствует такая система, потенциально обречены на поражение в самом начале сражения. Поэтому многие наши партнёры, понимая жизненную необходимость в выстраивании своей системы ПВО, планируют закупить, а некоторые уже приобрели российские комплексы, успешно проверенные в реальных боевых условиях. Кроме того, мы продолжаем знакомить наших партнёров с опытом боевого применения различных образцов техники и организовываем их демонстрационные показы. Как и ранее, стараемся удовлетворить различные потребности наших потенциальных заказчиков, тем более, когда это обусловлено обеспечением их национальной безопасности.
– Не секрет, что у России и США сейчас, наверное, самый сложный период в отношениях. Американцы вышли из Договора по ПРО, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, под угрозой договор о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Понятно, что реакция России на такие демарши, которые совершаются под надуманными предлогами, не может быть спокойно-философской. Какие ответные шаги планирует Минобороны на действия американцев?
– Соединённые Штаты в течение длительного времени проводят курс, направленный на наращивание своей военной мощи. Под надуманными предлогами американская сторона отказывается от своих договорных обязательств в сфере контроля над вооружениями, мешающих ей достижению глобального доминирования. После выхода в 2002 году из Договора по ПРО следующим шагом американской стороны стала денонсация Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Для минимизации негативных последствий развала Соединёнными Штатами этого договора мы предложили странам НАТО присоединиться к российскому мораторию на развёртывание ракет средней и меньшей дальности.
Важным элементом реализации наших предложений могли бы стать взаимные верификационные меры в отношении вооружений, по которым стороны высказывали свои озабоченности. У России вопросы возникали к универсальным пусковым установкам Мк-41, развёрнутым в Румынии и Польше. У США к нашим ракетам 9М729. В случае, если наш призыв не найдёт поддержки и начнётся развёртывание в Европе американских ракет, мы оставляем за собой право на адекватные ответные меры.
Не лучшим образом складывается ситуация вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях, так как всё меньше времени остаётся до 5 февраля 2021 года, когда заканчивается срок его действия. Россия предложила США продлить договор и одновременно приступить к совместной работе по подготовке нового соглашения, которое бы учитывало все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.
Вместе с тем, как я уже сказал, у американской стороны – другие приоритеты, в связи с чем они не проявляют заинтересованность в продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. В силу складывающейся политической ситуации в США не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу может измениться.
– Свежий пример, как вы сказали, смены приоритетов, выход США из Договора по открытому небу. Есть ли вообще смысл исполнять его без участия США?
– Конечно, мы также обеспокоены выходом Соединённых Штатов из Договора по открытому небу (ДОН). Полагаем, что тем не менее договор сохраняет свой позитивный потенциал. Дальнейшую линию в отношении ДОН будем определять с учётом готовности остальных государств-участников гарантировать непередачу американской стороне информации, полученной в ходе наблюдательных полётов над территорией России. Продолжим следить за развитием ситуации вокруг этого договора и принимать решения, исходя из интересов национальной безопасности.
– Ежегодно увеличивается количество учений, которые НАТО проводит возле российских границ. Зачастую они носят явный провокационный характер. Ряд членов НАТО, в частности Германия, призывает вести диалог с Россией с позиции силы. Расскажите, пожалуйста, о состоянии и перспективах сотрудничества России и НАТО.
– Рост военной активности США и их союзников по НАТО вблизи наших границ сопровождается агрессивной риторикой в отношении России. Инициативы российской стороны о взаимном отводе районов проведения учений от линии соприкосновения Россия–НАТО, как правило, игнорируются.
В 2020 году активность действий авиации и военно-морских сил альянса существенно возросла, всё чаще возникают ситуации, способные привести к серьёзным инцидентам. Накануне празднования 75-летия Победы в акватории Баренцева моря прошли учения отряда боевых кораблей объединённых военно-морских сил НАТО. В августе и сентябре 2020 года в непосредственной близости от российской границы зафиксировано более 15 полётов американских стратегических бомбардировщиков В-52Н и В-1В. 13 октября эсминец ВМС Великобритании Dragon осуществил проход через территориальное море России в районе мыса Херсонес, а 24 ноября эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашёл в залив Петра Великого.
Перечисленные действия имели открытый провокационный характер. Инцидентов удалось избежать только благодаря высокому уровню профессиональной подготовки российских лётчиков и моряков.
Что касается второй части вопроса, то никому не советовал бы пытаться вести диалог с Россией с позиции силы. Наряду с тем, что угроза силой является прямым нарушением Устава ООН, такие действия не останутся без должной ответной реакции с нашей стороны. Мы всегда исходили из того, что самые сложные проблемы нужно решать за столом переговоров. Готовы к профессиональному конструктивному диалогу с соблюдением принципов взаимного уважения и учёта интересов друг друга.
– Россия неоднократно заявляла, что намерена расширять военно-техническое сотрудничество со странами Латинской Америки. В частности, МИД России заявлял, что Москва готова рассмотреть возможные предложения Гаваны по укреплению её оборонного потенциала. С Венесуэлой и Никарагуа нас также связывают проверенные временем отношения. Расскажите, пожалуйста, о перспективах военного и военно-технического сотрудничества с этими странами.
– Военное и военно-техническое сотрудничество с государствами Латинской Америки в текущем году осуществлялось в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции, а также возрастающего давления США на правительства стран региона для вовлечения их в сферу своего влияния. В настоящее время Куба, Венесуэла и Никарагуа являются нашими стратегическими партнёрами и сохраняют нацеленность на укрепление и развитие разноплановых межгосударственных связей с Россией, в том числе и в оборонной сфере.
Хотелось бы отметить, что в текущем году исполнилось 60 лет установления дипломатических отношений между Россией и Кубой. Мы с оптимизмом смотрим в будущее двусторонних отношений и продолжаем работать над тем, чтобы в полной мере защитить суверенитет и независимость наших стран. В феврале 2020 года в Гаване был подписан Меморандум между Минобороны России и министерством Революционных вооружённых сил Республики Куба о сотрудничестве в военно-морской области. На регулярной основе ежегодно проводятся заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. С учётом сложившихся дружественных отношений Россия, как правило, идёт навстречу кубинским партнёрам и учитывает предложения Гаваны по укреплению оборонного потенциала острова Свободы.
Что касается военного и военно-технического сотрудничества России с Никарагуа и Венесуэлой, то оно также традиционно находится на достаточно высоком уровне. Руководство Минобороны России рассматривает сотрудничество с Никарагуа в сфере обороны и безопасности в качестве одного из основных долгосрочных направлений межгосударственных отношений.
Особое внимание уделяем взаимодействию с Боливарианской Республикой Венесуэла. Доверительный тон нашим контактам придал бывший лидер республики Уго Чавес. В настоящее время действующее военно-политическое руководство страны, несмотря на противодействие США, продолжает следовать заданному курсу дружбы и партнёрства.
За долгие годы сотрудничества Каракасу поставлена широкая номенклатура продукции военного назначения, которая включает самолёты и вертолёты различных модификаций, комплексы ПВО, танки, БМП, бронетранспортёры, САУ, реактивные системы залпового огня, стрелковое оружие, различные типы боеприпасов и учебно-тренировочного оборудования. Взаимодействие с оборонными ведомствами Кубы, Никарагуа и Венесуэлы имеет тенденцию к дальнейшему развитию.
– Делегации Минобороны неоднократно вылетали в Азиатско-Тихоокеанский регион для выполнения задач по расширению и углублению взаимовыгодного сотрудничества. Можно ли утверждать, что сейчас развитие отношений с регионом является одним из важнейших направлений международного военного сотрудничества Минобороны России?
– Вы – абсолютно правы. Сегодня мы отмечаем очевидный рост значения Азиатско-Тихоокеанского региона не только для мировой экономики, производства и хозяйственной деятельности, но и для международной и региональной стабильности. Что касается наших ключевых партнёров в регионе в области военного и военно-технического сотрудничества, то такими, несомненно, в этом году оставались Китай, Индия, Вьетнам и Мьянма. В настоящее время эти страны являются основными импортёрами российского оружия в регионе. Кроме того, в области военного сотрудничества активно взаимодействуем с Лаосом, Индонезией, Филиппинами, Таиландом и другими странами АТР.
Мария Томиленко, «Красная звезда»

Татьяна Митрова: Есть способы, позволяющие нефтегазовой отрасли остаться важной частью энергобаланса
Однако это потребует масштабного развития новых технологий и бизнес-моделей
Мы говорили о прохождении пика потребления угля и приближении пика потребления нефти еще несколько лет назад. COVID-19 явно ускоряет этот тренд — конечно, цели «net-zero» слабо стыкуются с ростом потребления углеводородов. Тем не менее, как показывает наше исследование по «Декарбонизации нефтегазового сектора», есть способы, позволяющие нефтегазовой отрасли остаться важной частью энергобаланса — однако это потребует масштабного развития новых технологий и бизнес-моделей.
За ковидный 2020 год глобальные инвестиции в ВИЭ (по данным Bloomberg New Energy Finance) выросли на 5% — это при том, что субсидии на ВИЭ начали отменять во многих странах задолго до кризиса, а инвестиции в угольную отрасль и в нефтегаз упали примерно на 25% (по данным МЭА). Так что инвесторы довольно недвусмысленно, долларом, демонстрируют свой выбор наиболее привлекательных с экономической точки зрения источников энергии. Конечно, здесь отчасти заложены и ожидания дальнейшего роста или введения (там, где их пока нет) углеродных налогов.
Очевидно меняется и отношение США к переходу на возобновляемые источники энергии. Страна еще при администрации Трампа была явно разделена на две части — стремительно озеленяющуюся (Калифорния, Нью-Йорк, Техас, как ни странно, и др.) и штаты, не имевшие климатических целей и задач по ВИЭ. С приходом Байдена, сделавшего Зеленый Курс и возврат к Парижскому соглашению важной частью своей избирательной программы, последней группе штатов также явно придется пересматривать свои приоритеты.
Что касается ситуации с российским экспортом, то мне не хочется в праздничные дни никому портить настроения, но, увы, правда такова: конечно, сокращение потребления нефтеоснованных топлив в Европе повлияет на наш экспорт на этот рынок. Это отнюдь не новость — подобные прогнозы мы делали еще в 2012–2016 гг., но сейчас этот тренд усиливается из-за интенсификации конкуренции с другими производителями, в первую очередь — с Ближнего Востока.
Я бы сделала новогодним пожеланием всей нашей нефтегазовой индустрии: постараться найти в новых обстоятельствах не столько угрозы и «заговоры врагов», сколько новые бизнес-возможности. Разумеется, они есть, но не хочется голословно утверждать, что Россия станет водородной державой № 1 или еще что-то из подобных шапкозакидательских лозунгов. Создание новых продуктов или целых индустрий требует огромной работы и больших инвестиций, которых пока, откровенно говоря, практически не видно. Поэтому, повторюсь, мое пожелание — идентифицировать бизнес-возможности и начать быстро в них инвестировать!
Татьяна Митрова
Директор Центра энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО

Алексей Черняев: Российско-американские отношения при Байдене станут хуже
А это означает и новые санкции, и удешевление рубля
Прогнозировать цены на нефть сейчас занятие крайне неблагодарное. Локдауны в США и Евросоюзе, безусловно, будут толкать цены вниз, тогда как активность «зеленого» лобби будет в краткосрочной перспективе толкать цены вверх. Легко представить, что произойдет, если, например, Байден выполнит свои обещания свернуть использование технологии фрекинга.
Однако можно уверенно предсказать, что российско-американские отношения при Байдене станут еще хуже, чем сейчас. Впрочем, главный вопрос в другом: пойдет ли Байден на их дальнейшее качественное ухудшение — например, за счет запрета американским игрокам покупать российский госдолг или попыток отключить РФ от банковской системы SWIFT? Пока можно предполагать, что Байден все-таки выведет эскалацию отношений России и США на новый уровень по сравнению с настоящим временем. А это означает и новые санкции, и удешевление рубля.
Во внутренней политике США президентство Байдена, похоже, будет отмечено попытками сворачивания американских свобод по всем фронтам и дальнейшего ужесточения государственного контроля за гражданами. Байден не скрывает намерений повысить налоги для среднего класса и для бизнеса: не случайно знаменитый черный рэпер Эминем, прочитав налоговый раздел программы Байдена, заявил перед выборами, что голосовать будет за Трампа. Так что теперь, после поражения Трампа, видимо, будет и повышение налогов, и усиление контроля за доходами и расходами американцев. Кроме того, возможны реформы в сфере политического финансирования, чтобы сократить финансовую базу поддержки Трампа и республиканцев-трампистов.
Алексей Черняев
Политолог-американист

Тёмный горизонт: российские прогнозисты в плену у МВФ
главное в экономических прогнозах – избавиться от доминирования одной научной школы и одного источника
Сергей Ануреев
В обычные годы макроэкономические прогнозы интересны только узкому кругу аналитиков и журналистов, и такие прогнозы разных авторов и по разным сценариям отличаются друг от друга лишь десятыми долями процентов ВВП. В этом году коронакризис показал беспрецедентный в новейшей истории западных стран спад ВВП, и макропрогнозы в этой ситуации стали волновать обычных граждан.
В сентябре был опубликован официальный прогноз Министерства экономического развития России, который идет в одном пакете с документами по федеральному бюджету на 2021 год и трехлетку. Тогда только Счетная палата немного покритиковала этот прогноз, да Банк России отметился дежурными публикациями. А в конце ноября – начале декабря в наших СМИ появились десятки макропрогнозов, сделанных крупнейшими банками (Сбербанк, Альфа-банк, ЕАБР), экономическими вузами (ВШЭ, РАНХиГС), рейтинговыми агентствами (АКРА), научными институтами (ИМЭМО, НИФИ).
Несмотря на кажущееся изобилие мнений и нетипичность 2020 года, подавляющее большинство прогнозов отрабатывало одну и ту же идею быстрого отскока экономики в следующем году после спада этого года, отличаясь друг от друга лишь десятыми долями процента ВВП этого отскока. Редко кто из прогнозистов детализировал свое мнение объемнее десятка страниц и глубже таких укрупненных показателей, как ВВП, суммарные инвестиции и доходы населения, экспорт и импорт, а также цены на нефть, курс доллара и фондовые индексы. Ноябрьская концентрация и схожесть идей наших прогнозов объясняется их интеллектуальной зависимостью от публикаций прогнозов МВФ.
Команда аналитиков МВФ считается одной из самых сильных в мире, с самой мощной статистической базой и самыми частыми визитами в страны, с самыми объемными и насыщенными публикациями. В октябре МВФ публикует серию своих прогнозов, включая «Перспективы мировой экономики» (World Economic Outlook), «Отчет о глобальной финансовой стабильности» (Global Financial Stability Report), «Бюджетный вестник» (Fiscal Monitor). Сначала на сайте МВФ появляются пресс-релизы и краткие версии прогнозов на английском языке, через несколько недель публикуются полнотекстовые версии на английском языке на сотни страниц и краткие версии на русском языке.
В коронакризисном 2020 году МВФ немного отступил от календаря своих публикаций, так что «пристрелочная», краткая версия появилась еще в июле-августе, и в ней прогнозировался быстрый отскок экономики, идея которого была навеяна летними послаблениями карантинных ограничений. Затем она получила объемное обоснование в октябрьских публикациях МВФ. Однако в ноябре страны Западной Европы и отдельные штаты США вновь ужесточили карантинные ограничения, ставшие в декабре почти тотальными. Но прогнозы уже были сделаны и трудно поддавались корректировке, ведь любая объемная публикация, насыщенная данными и выводами, которую готовит десяток человек, требует времени на написание, проверку и согласование.
Истинные причины и исторические корни концепции быстрого отскока экономики за счет вертолётных денег
Идея быстрого отскока экономики была принята политиками от безысходности, поскольку только так можно избежать жесточайшего банковского, бюджетного и социального кризиса по образцу начала 2010-х годов после кризиса 2008 года. Главным проводником политики быстрого отскока должен был стать Дональд Трамп, которому было необходимо переизбраться, и который увеличил бюджетный дефицит на 2,8 трлн. долл. и госдолг на 3,7 трлн. всего за полгода (сопоставимо с тремя 2008-10 годами), в дополнение к и без того огромному дефициту и госдолгу. Многие политики Еврозоны, российские прогнозисты и блогеры призывали следовать за Трампом и столь же массивно наращивать государственный долг.
При этом надо отметить, что в США 90% денег антикризисной поддержки пошло на фондовый рынок и в банки, а до рядовых граждан дошло только 10% (что сопоставимо с кажущейся менее щедрой поддержкой из российского федерального бюджета). Эти стимулы дали лишь краткосрочный эффект, напомнив о поговорке из начала 2010-х, что год бюджетных стимулов потом оборачивается тремя-четырьмя годами бюджетной оптимизации (то есть жесткого урезания социальных расходов). Уже к ноябрьско-декабрьскому закрытию экономик перестали говорить о вертолетных деньгах, Конгресс США из-за выборов отложил голосование по следующему антикризисному пакету (емкостью в разы меньше весеннего), а власти Германии (самой богатой страны Европы) ограничились пакетом помощи лишь в 10 млрд. евро.
В резком наращении госдолга Трамп не был первопроходцем, у него были более удачливые предшественники. Так, к концу 1970-х годов у подавляющего большинства западных стран были умеренные бюджетные дефициты в 1-2% ВВП и государственные долги около 30% ВВП. Однако грянул нефтяной шок 1979 года, который был столь же неожиданным и столь же локально отрепетированным, как и текущий коронакризис. Антикризисные рецепты Рейгана были не менее радикальными, чем рецепты Трампа, но не столь быстрыми: Рейган добавил 20% ВВП долга за 4 года (Трамп – за полгода). Рейганомика закончилась чередой секторальных финансовых кризисов в его второй президентский срок и породила длинную рецессию начала 1990-х, из которой США выбрались благодаря окончанию Холодной войны.
Закончились 1990-е огромным пузырем на фондовом рынке, схлопывание которого «совпало» с беспрецедентной атакой террористов на США 2001 года. Мейнстримом политики Буша-младшего стали резкий рост бюджетных расходов, снижение налогов на богатых и на корпорации. Это породило спорный экономический рост, хронический бюджетный дефицит, большие спекуляции, глобальный финансовый кризис 2008 года. Буш-младший также добавил в государственный долг США несколько десятков процентов ВВП, но за несколько лет, а не за несколько месяцев.
Финансовый кризис 2008 года США вновь заливали бюджетными деньгами, и вновь беспрецедентно большими на тот момент. Кстати, Буш-младший в 2008 году был таким же предметом обструкции со стороны средств массовой информации, как Трамп в 2020-м. Барак Обама нарастил госдолг на 8,6 трлн. долл., значимо превзойдя прежний рекорд Буша-младшего в 5,9 трлн. долл. По сути, Обама обеспечил своей команде третий срок при Байдене за счет того, что в своё президентство затягивал бюджетную оптимизацию в США по европейскому образцу, манипулировал статистикой экономического роста, используя мощь американской финансовой системы.
Когда Рейган проповедовал снижение ставок традиционных налогов, параллельно с этим в США активно развивались платные государственные услуги: платные парковки для автомобилей, высокоприбыльные коммунальные услуги от локальных монополий, платное образование за счет целевого налога на недвижимость или платы родителей. Платные государственные услуги во многом компенсировали американским муниципалитетам выпадающие доходы. Страны–последователи буквально понимали снижение налогов, а платные государственные услуги и налог на недвижимость получили в них небольшое и сильно отложенное развитие, что усилило бюджетные диспропорции.
Снижение подоходного налога и налога на прибыль в США в 2000-е годы после краха акций 2001 года и глобального финансового кризиса 2008 года было временным, с заранее заложенным в решения автоматическим прекращением без дополнительных политических дебатов и голосований. Единственно, в 2013 году некоторые из льгот пришлось продлить отдельным голосованием, а дебаты вокруг необходимости этого получили тогда название фискального обрыва (Fiscal Cliff). Программа Obama care, которая идеологически подавалась как бесплатная медицина для бедных американцев, по факту означала увеличение нескольких десятков налогов, включая введение фактически подушного налога в виде штрафа при отказе от покупки медицинского полиса.
В США с 1980-х годов целые исследовательские институты работают над деталями расчетов фискальных мультипликаторов по каждой финансируемой государственной программе, объекту капитальных вложений, каждой налоговой льготе для каждой социальной группы. Для этих расчетов провели конвергенцию корпоративных и общественных финансов на уровне нормативных документов, массовый наем в государственные структуры финансовых директоров из частных компаний с умением писать и считать как «отработать», а не «освоить» бюджетные расходы.
В США еще в 2008 году подавляющая часть бюджетных стимулов и денежной эмиссии ФРС пошла на выкуп активов. Именно тогда в большом масштабе фактически состоялась национализация крупных кризисных спекуляций, когда главным покупателем подешевевших активов стали Казначейство и ФРС. Тогда было выкуплено ипотечных облигаций на триллион долларов, облигаций и привилегированных акций тысяч корпораций на еще без малого триллион. Почти все эти активы за несколько лет восстановились в цене, были перепроданы и дали впечатляющие доходы государственным органам.
Именно следуя логике удачи 2008 года, из трамповского пакета бюджетных стимулов весны 2020 года 90% пошло фондовому рынку и банкам, и только 10% досталось рядовым американцам. Американцы среднего класса получали коронавирусные выплаты в основном за счет списаний этих денег со счетов пенсионных накоплений (пресловутые 401k), что также очень условно можно назвать просто раздачей денег. Правительство США вновь планирует вернуть подавляющую часть стимулирующих денег, а последователи из других стран просто раздадут деньги и получат жесточайший бюджетный кризис.
Школа макроэкономики – экономической теории – политэкономии не учит практике реагирования на реальные вызовы
Опытный читатель прогнозов, бизнес-планов или научных статей знает, что начинать чтение таких публикаций надо с фамилий и кратких биографий авторов, после чего зачастую чтение можно прекратить. Поэтому МВФ указывает авторов каждого странового обзора, методологической публикации или макропрогноза, представляет на своем сайте биографии ключевых экспертов. Ярким представителем типичного эксперта является нынешний руководитель МВФ Кристалина Георгиева, которая работала вузовским преподавателем и защитила докторскую диссертацию еще в советской Болгарии, затем прошла различные программы обучения в американских университетах, а МВФ стал ее вторым местом работы после Университета национального и мирового хозяйства в Софии.
Наиболее часто экспертом МВФ является выходец из постсоциалистической или развивающейся страны, получивший лучшее образование в своей стране, затем окончивший магистратуру и аспирантуру в приличном американском университете, имеющий минимальный опыт работы в реальном секторе и почти сразу после защиты диссертации поступивший на работу в МВФ. Достаточно редки там люди с опытом работы в финансовых органах своих стран (министерствах финансов, казначействах, министерствах экономики или центральных банках). Отличаются эти эксперты друг от друга в основном возрастом и стажем работы, географической и функциональной горизонтальной ротацией в самом МВФ. Конечно же, они отличаются страной происхождения, где в юности познали все «прелести» финансовых кризисов.
Авторы ежегодного обзора по России 2019 года — типичные эксперты МВФ. Руководителем московского офиса МВФ и соруководителем обзора по России является Аннет Киобе, с образованием в хорошем канадском университете, со степенью PhD в среднем по рейтингам американском университете. После аспирантуры она поступила на работу в МВФ (в 2009 году). Вторым соруководителем обзора значится Марко Арена, окончивший магистратуру и аспирантуру в американском университете, и до МВФ немного поработавший во Всемирном банке. Затем в списке экспертов значится Джеймс Роуф, имеющий опыт работы в британском казначействе. Следующей идет Ю Ши, которая окончила Пекинский университет, магистратуру в Гарварде и получила степень PhD в Массачусетском технологическом институте в 2017 году, после чего приступила к работе в МВФ. Затем идет Слави Славов из Болгарии, окончивший Американо-Болгарский университет, аспирантуру и PhD в Стэнфорде, поработавший преподавателем и исследователем в трех университетах и с 2010 года работающий в МВФ. Также значатся еще четыре соавтора отчета с похожими биографиями.
Большинство экспертов МВФ являются адептами макроэкономической научной школы. При этом надо отметить, что типичный американский учебник по макроэкономике в большей степени является доской почета для преподавателей этой дисциплины в прошлом, нежели набором практических инструментов современности. Это похоже на вузовский учебник по философии, который отражает историю философии, даёт перечень высказываний знаменитых философов прошлого, но не содержит адаптации этих высказываний к современным реалиям.
Отношение к школе макроэкономики в США и Великобритании довольно пренебрежительное. Это выражается в том, что в ведущих университетах этих стран департаменты экономики проигрывают департаментам финансов или менеджмента по популярности, вступительным требованиям и плате за обучение. Лучшие выпускники университетов идут в крупнейшие банки, IT-компании, консалтинговые и аудиторские компании. Выпускники послабее идут в аспирантуру по макроэкономике и делают научно-педагогическую карьеру, вершиной которой будет формула или абзац в будущем учебнике по макроэкономике.
Среди практиков, производственников и инвесторов популярна пословица, что «теоретическую рекомендацию отличает от практической подписанный чек». То есть прогнозист должен сам делать внушительную денежную ставку на прогнозируемое явление, и тем самым подтверждать свою ответственность. Подавляющее большинство авторов макропрогнозов не обладают значительными личными сбережениями и не приумножают их благодаря своим прогнозам. Они просто «сидят на зарплате», размеры которой вполне заурядны, зависят от количества страниц прогнозов, своевременности их публикации и количества просмотров публикаций.
МВФ в своей методологической "Книге бюджетной прозрачности" (Fiscal Transparency Handbook) указывает на необходимость независимых обсуждений прогнозов, сопоставления прежних прогнозов с фактическими результатами, анализа причин различий. Однако, по оценкам МВФ, подавляющее большинство стран следует этим принципам лишь на базовом уровне (а не на хорошем или продвинутом). Да и сам МВФ ссылается на свои прежние прогнозы только в части удачных выводов, умалчивая о неудачных.
Считается, что МВФ предсказывал умеренные проблемы перед глобальным финансовым кризисом 2008 года и просчитался с долгосрочными последствиями антикризисных бюджетных стимулов. После тех ошибок команды экспертов МВФ и сами прогнозы значимо обновились, с некоторым креном в пессимизм (на всякий случай). Прогнозы октября 2019 года уже указывали на «увеличивающееся бремя долга корпораций, возрастающие объемы более рисковых и более неликвидных активов, большую зависимость стран с формирующимся рынком от внешних заимствований».
Матрёшки прогнозов МВФ и «испорченный телефон» от чтения кратких версий
МВФ всё же остается самой мощной аналитической организацией в мире по части представительства по странам, широты сбора данных и объемности макроэкономических прогнозов. МВФ выкладывает на своем сайте тексты разной степени детализации, от нескольких страниц резюме до сотен страниц и таблиц данных в обоснование значимого графика или расчета, хотя опытные специалисты в области «выпекания» статистики могут и посмеяться над чрезмерной обобщенностью международной статистики МВФ и игнорированием специфики каждой крупной страны. Но другие международные организации, такие как Всемирный банк, клуб ОЭСР, даже Европейская комиссия и ЦРУ публикуют менее детальные, менее оперативные и менее качественные данные.
Объёмный труд на несколько сотен страниц с сотнями графиков и таблиц, с одной стороны, повышает доверие к публикации, с другой стороны, объективно требует времени на его создание. В условиях 2020 года эксперты МВФ попали в ловушку: они стремились к детализации и доказательности, а реальная ситуация менялась очень быстро.
В матрёшке отчётов МВФ осени 2020 года получается, что их значимая часть по-прежнему опирается на данные противоречивого 2019 года (с очевидными сигналами приближающейся рецессии и кризиса), к которым добавились апокалиптические данные II квартала с оценкой «на глазок» результатов антикризисных действий правительств, неожиданное прекращение карантинов летом и заклинания быстрого отскока.
Так, аннотация прогноза «Перспективы развития мировой экономики» от октября 2020 года оптимистично указывает, что «последние данные говорят о том, что экономика многих стран начала восстанавливаться более быстрыми темпами, чем ожидалось после снятия ограничений, введенных во время Великой самоизоляции». Затем следует таблица с прогнозом ВВП по крупным странам на 2020 и 2021 годы, где по США даны -4,3 и +3,1% ВВП, России -4,1 и +2,8% (минимальные различия с США, что удивительно), Германии -6,0 и +4,2%, Франции -9,8 и +6,0%, Италии -10,6 и +5,3%, Великобритании -9,8 и +5,9%.
А уже на одной из следующих страниц русскоязычного резюме «предполагается, что локальная передача вируса сократится к концу 2022 года, страны испытают долговременный ущерб, обусловленный глубиной рецессии и накопленного государственного долга» (что противоречит концепции быстрого отскока и последующего роста). «Рост числа банкротств может увеличить потери рабочих мест и доходов. Ухудшение настроений на финансовых рынках может спровоцировать внезапное прекращение кредитов. А трансграничные вторичные эффекты могут усилить шоки для отдельных стран. Многие страны уже стоят между поддержкой роста в краткосрочной перспективе и накоплением долга, который будет тяжело обслуживать».
Процитируем русскоязычное резюме "Прогноза глобальной финансовой стабильности": «К началу кризиса многие страны уже имели повышенную уязвимость в некоторых сферах (управление активами, нефинансовые компании и государственные финансы), и факторы уязвимости усиливаются». Эта формулировка подкрепляется графическим представлением, особенно тревожным в полной англоязычной версии. В 29 крупнейших странах нефинансовые компании (то есть предприятия реального сектора) имеют долги в среднем вдове больше 2008 года, в 21 стране — выше исторических кризисных максимумов. Государственный долг в среднем в 3 раза больше уровня 2008 года, и долг 12 из 29 стран находится выше уровней предыдущих дефолтов (хотя формально дефолтов пока нет). Предприятия и правительства США, Еврозоны и Китая в 4 из 6 секторов графика значатся в насыщенно красной проблемной зоне и в 2 из 6 — в умеренной розовой.
Проблемы реального сектора усугубляются резким ростом кредита. Умеренный, на уровне статистических манипуляций, экономический рост во второй половине 2010-х годов поддерживался опережающим ростом задолженности предприятий. Долг предприятий рос в США на 8% ВВП в среднем за год, в Еврозоне на 2%, в Китае на 12%. В 2020 году рост долга в США и Еврозоне ускорился до 16 и 8% соответственно. Еще в I квартале 2020 года, например, во Франции и Китае долг предприятий превышал 150% ВВП и находился на десятки процентных пунктов выше уровня кризисного 2008 года. В Германии долг корпораций около 60% ВВП (вполне пока безопасно), в США, Великобритании, России, Турции около 80% ВВП.
Резко выросла доля публичных предприятий, у которых прибыль до амортизации, процентов и налогов (EBITDA) меньше процентных расходов: в США и Канаде с 14% до 46%, в Еврозоне с 29% до 70%, и авторы графика даже разделили выросшие проблемы II квартала 2020 года на две колонки, чтобы не пугать читателей столь впечатляющим ростом проблем. На одном из графиков полной англоязычной версии показано, что в каждом из кризисов 1991-92, 2001-02, 2008-09 годов доля дефолтных предприятий взлетала с 2-4% в обычные годы до 12-14% в горизонте год-два после начала кризисов, так что в 2020 году наблюдается только начало резкого роста корпоративных дефолтов.
Рост бюджетных дефицитов и государственных долгов в коронакризисный 2020 год уже превысил аналогичные показатели нескольких лет (суммарно) после глобального финансового кризиса 2008 года. На одном из графиков полной англоязычной версии наглядно показан по крупным странам рост суверенных долгов в несколько раз за последние десятилетия. Например, госдолг Италии вырос примерно со 100% ВВП до 160% ВВП, США с 55 до 140%, Франции и Испании с 40 до 120-125%, Великобритании с 35 до 115%. Китай, Германия и ряд стран Северной и Центральной Европы нарастили долги умеренно с 30-40 до 60-70% ВВП. Россия — единственная из крупных стран — добилась внушительного сокращения государственного долга с 140 до 15-20% ВВП.
По западным странам средний уровень бюджетного дефицита прогнозируется на 2020 год на уровне 14% ВВП, а прирост госдолга на уровне 21% ВВП. После крупных бюджетных дефицитов 2009-10 годов, но всё же меньших, чем в 2020 году, и, главное, на фоне категорически меньших начальных долгов, страны Западной Европы пережили в 2011-14 годах жесткую бюджетную оптимизацию. В нынешних условиях, когда пройдет острая фаза коронакризиса, многие крупные западные страны ждет череда суверенных дефолтов, и об этом эксперты МВФ дают чёткое представление на своих графиках.
Домохозяйства не считаются экспертами МВФ критичным сегментом экономики, но только в резюме. Поверхностное отсутствие пессимизма относительно домохозяйств объясняется умеренностью их долгов на фоне долгов предприятий и государств, умеренным приростом в отдельных странах или даже значимым сокращением. Так, во Франции, Японии, Германии долги домохозяйств находятся на уровне 60% ВВП, в США и Великобритании они сократились за десятилетие с пиковых 90% после кризиса 2008 года до 78-82% к началу 2020 года, и лишь Китай показал рост долгов домохозяйств с 30 до 60% ВВП. У других крупных незападных стран такой долг был около 20% ВВП, включая Россию.
Однако уже следующий график по домохозяйствам дает чётко понять, что все проблемы еще впереди. Этот график показывает пик безработицы и просрочек по ипотечным и карточным кредитам в 2010 году, то есть спустя полтора года после острой фазы кризиса 2008 года. Также акцентируется внимание на уже состоявшемся в 2020 году скачке безработицы в США до рекордных 13%, больше прежнего рекорда 2010 года около 10%. Задержка с ростом просрочки и банкротствами домохозяйств объясняется принятыми весной 2020 года в западных странах мораториями на такие действия. Однако годами держать моратории не получится, и даже в 2009-10 годах массовые социальные выплаты и налоговые льготы пострадавшим не помогли сдержать рост проблем домохозяйств. Длительная просрочка по ипотеке и по карточным кредитам достигала в 2010 году 9-14% от сумм кредитов, многие семьи лишились жилья и прошли через личные банкротства.
В отношении банков эксперты МВФ оптимистичны, точнее, они заклинают в своих прогнозах, что банки должны остаться тихими гаванями во время коронакризиса. Формально в 2020 году в западных странах и в России не приостановил работу ни один крупный или средний банк, в отличие от кризиса 2008 года, пик которого пришелся (точнее, был спровоцирован) на банкротства крупных банков. Свои заклинания эксперты МВФ объясняют ужесточением банковского регулирования во второй половине 2010-х, накоплением банками подушек безопасности в виде собственных капиталов и ликвидных активов. Такое ужесточение во многом было необходимо для избежания повторения событий 2008 года, и многие конкретные решения по этому вопросу продвигались самим МВФ, который теперь хвалит сам себя за отсутствие проблем.
Лишь один график из русскоязычного резюме намекает на то, что проблемы долгов реального сектора и государственных долгов скажутся на банках, но описывает это словами «факторы уязвимости». Однако любому члену правления банка с опытом работы в течение нескольких кризисов очевидно, что буферов капитала в размере 10-12% не хватит. МВФ прогнозирует дефолты 12-14% предприятий реального сектора и домохозяйств, что вроде арифметически покроется статистикой буферов капиталов банков. Вот только официальные банкротства означают только вершину айсберга, к которой необходимо прибавить в разы большие скрытые проблемы. Также хотя бы один государственный дефолт крупной западной страны вызовет цепную реакцию ухудшения суверенных рейтингов, распродаж государственных облигаций, фиксаций огромных дыр в балансах банков. Но пока государственные облигации все еще понимаются экспертами МВФ как запас ликвидности.
Фактически подавляющее большинство российских экспертов ретранслируют отчеты МВФ своему руководству и широкой публике в режиме «испорченного телефона». Похоже, что наши прогнозисты очень редко читают полнотекстовые версии прогнозов МВФ емкостью в сотни страниц, не вдумываются в их содержание, а просто выхватывают основную мысль аннотации, которая написана в угоду заклинаниям политически мотивированного быстрого отскока за счет вертолетных денег. Эксперты же МВФ всё же довольно честны со своими вдумчивыми читателями, и в полнотекстовых версиях представляют совсем другие реалии.
Альтернативы МВФ и мотивация российских прогнозистов
Современные макроэкономические прогнозы проще советских планов в части количества и взаимосвязи показателей, а прогресс компьютерных технологий вроде бы должен облегчать такие прогнозы. Отрицающим советский опыт планирования следует напомнить об американском коллективизме времен выхода из Великой депрессии и Второй мировой войны, когда правительственные органы работали, по сути, в режиме Госплана СССР и когда в США были самые высокие темпы роста реальной экономики. Считающим американский опыт середины прошлого века устаревшим следует напомнить современную практику министерств финансов Германии или Японии, которые координируют государственную политику с бизнес-планами и технологическими заделами крупнейших корпораций этих стран, делая прогнозы на 20-50 лет.
Эксперты МВФ — не единственные англоязычные влиятельные прогнозисты. Есть британский "Офис бюджетной ответственности" (Office for Budget Responsibility) с другими по своей методологии прогнозами. В британском прогнозе, вышедшем в ноябре (всего на месяц позже прогнозов МВФ), представлены сценарии со значимыми различиями в 10% ВВП. В частности, в 2021 году по пессимистичному сценарию ВВП составит 85% от уровня 2019 года и покажет небольшую отрицательную динамику относительно уровня 2020 года; по оптимистичному – 95% и очень умеренный отскок, но меньше базового сценария МВФ. Если прогноз МВФ имеет более ретроспективный характер, анализирует прошлые кризисы, то британский прогноз дает больше деталей в сотне графиков и таблиц вперед на 5-6 лет. К России нельзя прямо применить методологию британского прогноза в силу значимых различий в структуре экономики, но что-то можно было бы переосмыслить и адаптировать.
Для российской экономики и федерального бюджета самым значимым параметром являются цены на нефть. ОПЕК, Международное энергетическое агентство, British Petroleum выпускают свои прогнозы на сотни страниц. Например, ежегодник ОПЕК World Oil Outlook за 2020 выпущен в октябре 2020 года, на неделю раньше прогноза МВФ, и включает в себя более 300 страниц, сотню графиков и таблиц, начиная с демографии и экономики, в горизонте прогноза до 2045 года. Этот ежегодник указывает не только руководителей организации и авторского коллектива, но и по нескольку соавторов по каждой из 8 глав, а также большое количество помощников и редакторов. Эти прогнозы остаются незамеченными российскими макроэкономистами и средствами массовой информации, читаются лишь небольшим количеством сотрудников Министерства энергетики и вряд ли выходят из их служебных кабинетов и компьютеров.
Кроме отчётов официальных организаций, опытный прогнозист отраслевого рынка или инвестор использует неформальные показатели. Это, конечно, не среднесрочные прогнозные индикаторы, но они позволяют понять состояние экономики в реальном времени без внушительного временного лага, связанного с получением статистических данных и их обдумыванием, составлением графиков и публикацией прогнозов.
Например, в карантин весны 2020 года популярными были спутниковые снимки выбросов в атмосферу в Китае в сравнении с предыдущим годом, которые показывали остановку промышленности в феврале-марте и ее неполное восстановление с апреля (к вопросу о том, что ВВП Китая в 2020 году растет на 2%, несмотря на коронавирус). Также использовали данные по полетам гражданских авиалайнеров или перемещения торговых судов, когда частота точек в конкретный день-неделю в сравнении с аналогами годичной давности показывала глубину падения перевозок.
Рынок аренды жилой недвижимости Москвы явно встал в карантинные март-май и затем летом быстро восстановился на уровне минус 10-15% от 2019 года. Пробки на дорогах, с поправкой на небольшое приукрашивание Яндексом ситуации в Москве, показали резкое сокращение поездок весной и затем отскок вверх трафика летом из-за реализации отложенной активности.
Чтобы улучшить наши официальные экономические прогнозы, необходимо чётко отбирать и указывать авторов каждой главы, даже значимой таблицы или графика, именно реальных авторов, а не больших начальников. Инкогнито авторов прогнозов из Министерства экономического развития или из Счетной палаты порождает безответственность и низкое качество этих прогнозов. По каждому из соавторов прогнозов следует публиковать декларации о зарплате, имуществе, вкладах, инвестициях, как это делается по госслужащим. Также следует подробно представлять предыдущий опыт работы, анализировать ранее опубликованные прогнозы и аналитику, как это практикуется в конкурсах на профессорские и академические позиции.
Главное в экономических прогнозах – избавиться от доминирования одной научной школы и одного источника, побороть лень и поверхностность при чтении объёмных текстов и подготовке скороспелых перефразирований. Среди преподавателей ведущих российских университетов, руководителей среднего звена органов власти, банков, аудиторских и консалтинговых компаний, крупных предприятий реального сектора есть неформальные контакты и обмен мнениями. Это может стать основой для создания нескольких сильных, ответственных межотраслевых команд прогнозистов.

Сергей Лавров: надеяться на скорое выправление отношений с США не стоит
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал в интервью РИА Новости по итогам уходящего года, что в 2020-м стало для международной политики главным, сделал ли мир какие-то выводы из пандемии коронавируса, удалось ли странам сплотиться перед лицом общей угрозы. Он также сообщил, будет ли все-таки Россия "разворачиваться на восток", чего в Москве ждут от нового президента США Джо Байдена и его команды, и можно ли рассчитывать на продление действующего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений и спасение Договора об открытом небе.
– Сергей Викторович, какими, на ваш взгляд, были главные внешнеполитические события уходящего года: главный прорыв, успех и главная неудача? И сделало ли, по вашему мнению, какие-то выводы мировое сообщество из пандемии коронавируса – стал ли мир разобщеннее или наоборот страны стали более ориентированы на сотрудничество?
– Для международных отношений уходящий год оказался сложным. Подводя его итоги, очень трудно оперировать такими понятиями, как главный успех или главная неудача. При этом очевидно, что пандемия коронавируса негативно повлияла на мировую политику и дипломатию, спровоцировала глубокий кризис в глобальной экономике: теперь ей предстоит длительный и непростой период восстановления. При этом никуда не делись уже существовавшие вызовы и угрозы. Такие, например, как терроризм, наркотрафик, другие виды транснациональной преступности. Продолжали полыхать застарелые кризисы, возникали новые очаги напряженности.
К сожалению, наличие общих проблем, включая непрекращающуюся эпидемию COVID-19, пока не привело к сплочению международного сообщества в целях их эффективного купирования. Основная причина, и мы об этом неоднократно говорили, заключается в неготовности ряда государств исторического Запада во главе с США наладить конструктивное равноправное сотрудничество с остальными международными игроками. Западные коллеги продолжали активно использовать широкий набор нелегитимных инструментов – от силового давления до информационных войн. Ими были проигнорированы призывы генерального секретаря ООН и верховного комиссара ООН по правам человека приостановить – в свете чрезвычайной гуманитарной ситуации в мире – односторонние санкции в части поставок медикаментов, оборудования и продовольствия, необходимых для борьбы с вирусом, и соответствующих финансовых транзакций. Не была услышана и инициатива президента Владимира Путина о введении в международной торговле "зеленых коридоров", свободных от торговых войн и санкций. Не добавляла оптимизма и линия Вашингтона на дальнейшее обрушение архитектуры глобальной стратегической стабильности и контроля над вооружениями.
В этих условиях мы делали все необходимое для надежной защиты национальных интересов и одновременно продолжали продвигать конструктивную, объединительную международную повестку, работать в пользу обеспечения неделимости безопасности во всех ее измерениях. Напомню, что во многом благодаря личным усилиям Владимира Владимировича Путина удалось остановить боевые действия в Нагорном Карабахе. Активно способствовали политико-дипломатическому урегулированию кризиса в Сирии. Участвовали в международных усилиях по выводу из тупика внутриливийского противостояния.
В целях оздоровления ситуации в мире по максимуму использовали потенциал наших председательств в БРИКС, ШОС, ОДКБ. Содействовали реализации различных интеграционных проектов в ЕАЭС и формированию Большого Евразийского партнерства.
Разумеется, продолжали энергично работать в рамках Всемирной организации – в частности, президентом России была выдвинута инициатива проведения саммита пяти государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Невзирая на эпидемиологические ограничения, продуктивно взаимодействовали с подавляющим большинством зарубежных партнеров в Евразии, Африке, Латинской Америке – как по двусторонней линии, так и на различных многосторонних площадках.
Будучи одним из лидеров в области международного здравоохранения, Россия вносила вклад в общие усилия по борьбе с COVID-19, оказывала существенную помощь пострадавшим государствам.
В 2021 году продолжим проводить прагматичную и ответственную внешнюю политику, способствовать формированию более справедливого и демократичного многополярного мироустройства. Будем, как и прежде, открыты к взаимовыгодному взаимодействию – в той мере, в какой к этому готовы наши партнеры и, разумеется, при безусловном уважении российских национальных интересов.
– Вы говорили, что России пора перестать оглядываться на Запад. Значит ли это, что все-таки будет давно обсуждаемый разворот на Восток?
– Прежде всего, хотел бы подчеркнуть: мы ни на кого не оглядываемся. Хотя большая часть населения страны живет в ее европейской части, Россия – крупнейшая евразийская и евро-тихоокеанская держава, один из ключевых гарантов сформированного по итогам Второй мировой войны ооноцетричного миропорядка. Наша внешняя политика носит многовекторный, независимый характер. Заинтересованы в поддержании добрых отношений с зарубежными партнерами на всех без исключения географических направлениях – на основе принципов международного права, равноправия, взаимного уважения и учета интересов.
При этом мы, разумеется, принимаем в расчет происходящие в глобальном геополитическом ландшафте тектонические сдвиги. Фокус мировой политики и экономики смещается из Евро-Атлантики в Евразию, где динамично развиваются восходящие мировые центры. Опираясь на собственные многовековые традиции, они обрели и укрепляют экономический и технологический суверенитет. Проводят самостоятельный внешнеполитический курс. И на этой основе добиваются впечатляющих успехов в различных областях. В этом контексте представляется закономерным, что наша линия на наращивание взаимообогащающего сотрудничества с государствами Востока, включая страны Азиатско-Тихоокеанского региона, имеет долгосрочный стратегический характер и не зависит от колебаний международной конъюнктуры.
Евразия сегодня – это не просто географическое пространство с колоссальным ресурсным потенциалом, который можно и нужно использовать на благо проживающих там народов. Это еще и наиболее динамично развивающийся регион в плане создания новых транспортно-логистических коридоров, совершенствования инфраструктурной связанности и других видов многостороннего сотрудничества. Россия выступает за гармонизацию набирающих здесь обороты интеграционных процессов. На решение этой задачи нацелена инициатива президента Путина по формированию Большого Евразийского партнерства. Работа на этом направлении ведется весьма энергично, в том числе через сопряжение планов развития Евразийского экономического союза и китайской инициативы "Один пояс, один путь".
– Какими вы видите перспективы отношений России и США при Байдене? Изменится ли что-то? К лучшему или к худшему?
– К сожалению, рассчитывать на скорое выправление или даже стабилизацию деградирующих отношений с США не приходится. Захлестнувшая Америку антироссийская истерия не оставляет особых шансов на то, что мы скоро увидим возвращение к нормальности. Наш диалог оказался заложником у внутриамериканских политических распрей, что, конечно, не способствует выстраиванию конструктивного сотрудничества.
Тем не менее убеждены, что у российско-американских связей имеется нереализованный потенциал. Разобрать образовавшиеся за последние годы не по нашей вине завалы будет непросто, но стремиться к этому нужно. Однако для этого необходима политическая воля с американской стороны.
В двусторонней повестке накопилась целая серия вопросов, некоторые неотложного характера, которыми предстоит заниматься новой администрации в Вашингтоне. Начиная с задачи нормализации функционирования загранучреждений, решения гуманитарных случаев, заканчивая вопросами международной безопасности и стратегической стабильности. Не обязательно пытаться решить все проблемы одним махом, можно взаимодействовать, исходя из логики "малых шагов". Мы к такой работе готовы. Но при том понимании, что она будет выстраиваться на принципах честности и взаимного учета интересов, а не на основе насаждаемого Вашингтоном американоцентричного миропорядка в русле поговорки "кто сильнее, тот и прав". Рассчитываем, что новая команда в Белом доме сделает выбор, отвечающий интересам американского народа, и продемонстрирует встречное стремление налаживать диалог с Москвой.
Только в этом случае российско-американские связи удастся со временем вернуть на устойчивый путь развития. Конечно, это позитивно сказалось бы и на общем климате в международных делах, учитывая особую ответственность России и США как двух крупнейших ядерных держав и постоянных членов СБ ООН за поддержание глобальной стабильности и безопасности, особенно в нынешнее непростое время.
– Есть ли надежда, что при новой администрации США Москва и Вашингтон успеют продлить договор о СНВ? Готова ли российская сторона на какие-то дальнейшие уступки, например, на приостановку разработки перспективных вооружений? И почему для России неприемлемо предложение США о режиме верификации? Разве взаимные проверки договоренностей – это плохо?
– Хотелось бы рассчитывать, что новая администрация США будет так же, как и мы, исходить из очевидности того факта, что продление договора о СНВ без каких-либо дополнительных условий и, желательно, на максимально предусмотренный в нем пятилетний срок отвечало бы интересам безопасности обеих наших стран и всего международного сообщества.
Судя по заявлениям для СМИ, команда избранного президента Байдена, в отличие от наших нынешних партнеров по диалогу, не заинтересована в том, чтобы превращать ДСНВ в заложника своих амбиций и пытаться "продавливать" заведомо нереалистичные запросные позиции. Если это действительно так, в чем еще предстоит убедиться, то шансы на достижение договоренности о продлении договора до истечения срока его действия в феврале 2021 года по-прежнему сохраняются.
Что касается возможного дальнейшего взаимодействия с США в сфере контроля над вооружениями, к чему мы, собственно, их и призываем, то любые переговоры, если и когда они начнутся, приведут к осязаемым результатам только в случае готовности американской стороны реально учитывать российские интересы и озабоченности. Это должно быть то, что наши американские коллеги образно называют "улицей с двусторонним движением". Россия, разумеется, открыта к тому, чтобы пройти свою часть пути для выхода на взаимоприемлемые договоренности, выработанные на строго равноправной основе. При этом говорить об их конкретных параметрах было бы пока преждевременно. На данном этапе важно, что свое видение рамок потенциальных соглашений, предполагающее выработку нового "уравнения безопасности" и включающее в качестве переменных все значимые факторы стратегической стабильности, мы американцам передали. Это видение сохраняет свою актуальность.
Хотел бы также подчеркнуть, что в российской позиции ничто не подразумевает отказа от контроля за соблюдением будущих возможных договоренностей. Ровно наоборот: мы выступали и продолжаем выступать за обязательное наличие контрольного компонента в любых соглашениях по контролю над вооружениями.
Другое дело, что верификационный режим должен полностью соответствовать их предмету и охвату. Именно об этом нам так и не удалось договориться с уходящей администрацией США. Ее требования по верификации выходили далеко за рамки того, что предполагал характер возможной политической договоренности, которую американская сторона продвигала в увязке с краткосрочным продлением ДСНВ. Идеи США предусматривали неприемлемые для нас контрольные процедуры в отношении крайне чувствительных технологических аспектов работы ядерного оружейного комплекса. Расчет был, в том числе, и на "просвечивание" нашего потенциала нестратегического ядерного оружия без продвижения в урегулировании российских озабоченностей в данной и смежных областях. Надеемся, что новая администрация США будет выступать с более рациональных и реалистичных позиций.
– Получила ли Россия подтверждение от оставшихся участников Договора об открытом небе, что они обязуются не передавать данные США и предоставлять всю свою территорию для инспекций? Каких юридических подтверждений ждет Россия? Разве сам договор не является таким подтверждением? Или по факту речь идет о его переподписании?
– В Договоре об открытом небе (ДОН) нет прямых ссылок на закрытый характер информации, получаемой аппаратурой наблюдения в ходе полетов, а также на ограничения доступа к такой информации.
Около 20 лет назад государства-участники ДОН в связи с ростом террористической угрозы обратили внимание на этот пробел и в 2002 году приняли соответствующее решение Консультативной комиссии по открытому небу. Но и оно сформулировано в заобщенном виде.
Сегодня, в связи с выходом США из ДОН, этого, очевидно, уже недостаточно. Тем более с учетом того, что нам стало известно о требованиях США к своим союзникам передавать американской стороне результаты наблюдательных полетов над Россией.
Принимая во внимание эту новую ситуацию, мы и потребовали от государств-участников договора четких юридических гарантий добросовестного выполнения их обязательств.
Разумеется, речь не идет о каком-то "переподписании" ДОН. Вполне достаточно уточнить юридически обязывающее решение 2002 года. Мы соответствующее предложение внесли и ждем от партнеров ответа.
Честно говоря, первая реакция была невразумительной – страны Запада вроде бы и не возражали в принципе против тезиса, что информация, о которой я говорил, не должна попадать в "чужие руки". Но при этом прятались за юридической казуистикой и пытались убедить нас в том, что имеющихся положений вполне достаточно.
Столь же невнятным был и ответ на второе наше требование – гарантировать возможность выполнения наблюдательных полетов над всей территорией государств-участников, включая размещенные на ней объекты стран, участницами ДОН не являющихся. А у нас есть данные о том, что США очень этого не хотели бы и добиваются от своих союзников, чтобы они нам препятствовали.
Поэтому мы предупредили партнеров по ДОН, что полутона здесь неприемлемы. Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, то наши жесткие ответные меры не заставят себя долго ждать. Мы готовы к продолжению сотрудничества в рамках ДОН лишь при том понимании, что в самое ближайшее время все остающиеся в договоре государства дадут нам прямые и твердые юридические гарантии своей готовности соблюдать его требования. Пока мы таких гарантий не получили, так что дальнейшая судьба ДОН под большим вопросом.
– В этом году истекло действие оружейного эмбарго СБ ООН в отношении Ирана. Прорабатывают ли Москва и Тегеран конкретные планы наращивания военно-технического сотрудничества? Идет ли речь о возможной покупке Ираном самолетов "Су-30" или танков "Т-90"? И не может ли это привести к ухудшению отношений России с какими-то странами, например, с Израилем или с США?
– В настоящее время никаких ограничений по линии СБ ООН на военно-техническое сотрудничество с Ираном нет. Наши государства имеют полное право взаимодействовать на этом направлении. Политика России в области ВТС полностью отвечает нормам международного права и осуществляется в полном соответствии с российским экспортно-контрольным законодательством, которое является одним из наиболее строгих в мире.
Повторюсь: при ведении военно-технического сотрудничества с Исламской Республикой Иран, безусловно, имеющей право на обеспечение собственной обороноспособности, Россия строго придерживается своих международных обязательств и руководствуется приоритетом поддержания стабильности и безопасности в регионе.

Секрет мученической смерти Сулеймани
генерал превратил кризис в возможности
Казем Джалали
Выдающейся особенностью мученика Сулеймани была его способность «создавать возможности», и то, что мы видели во время церемонии проведения беспрецедентных похорон его пречистого тела, было проявлением этой его способности. Путь Касема Сулеймани от командования батальоном до момента его мученической смерти красноречиво говорит о такой способности мученика, которая является проявлением Исламской революции, а также свидетельствует о его мудром руководстве. Исламская революция одержала победу, не сформировав различные необходимые организации, но, находясь в шаге от победы, она создала необходимые институты и множество возможностей из их числа. И сегодня мы можем видеть результаты и благословения этих институтов и организаций. Комитеты Исламской революции, Корпус Стражей революции, Созидательный джихад, Движение за грамотность, Университетский джихад, Жилищный фонд исламской революции, Комитет помощи имама Хомейни и т. д. - каждый из них стал источником огромного скачка для компенсации серьезной отсталости длительного периода Тагута. Его Светлость Имам Хомейни и верховный лидер Исламской революции также обладали способностью «создавать возможности». Обзор жизни этих двух великодушных неоднократно показывает проявление этой характерной черты. Если мы рассмотрим события последних двух десятилетий, обнаружим, что во многих случаях руководство, создавая возможности, сталкивается с чувствительными проблемами. Одним из таких примеров был план «Экономика сопротивления» перед лицом ужесточения западных санкций против Ирана, в случае реализации которого Иран превзойдет эти санкции, и проблемы последних 80-70 лет Ирана будут решены.
Генерал Сулеймани создавал возможности в любой ситуации. Сегодня нет Сулеймани, но, безусловно, результаты его стратегической работы останутся на десятилетия, а может быть, и на сто лет, и действительно «Сулеймани» существуют, но не в том смысле, что каждый человек с точки зрения возможностей обязательно является «Касемом Сулеймани». Однажды Ирак полностью был оккупирован американскими военными. Триста тысяч военнослужащих и сил безопасности с разнообразной военной техникой вошли в Ирак, и поскольку они были полны решимости ликвидировать военные силы, силы безопасности и политические структуры страны, на их пути не было препятствий. А некоторые видные американские политики, такие как Генри Киссинджер, заявляли, что американцы непосредственно будут править Ираком не менее 100 лет, что в каком-то смысле означало бы больше, чем «подшефная территория». Джей Гарнер и Пол Бремер также соответствующим образом сформулировали военную программу армии США в Ираке, и, конечно же, они имели в виду нечто большее, чем просто господство над Ираком, господство в регионе, как будто эта политика - доминирование над регионом через Ирак - всё еще не сошла с повестки дня официальных лиц США. Дональд Трамп, в свою очередь, заявил во время своего последнего визита в Ирак, около двух лет назад, что Соединённые Штаты контролируют поведение Исламской Республики в Сирии через Ирак. В то же время тогдашний премьер-министр Великобритании Тони Блэр объявил в Басре, что это посыл Ирану внести фундаментальные изменения в свою политику. В этих обстоятельствах Генерал Сулеймани должен был сначала остановить угрозу, а затем полностью устранить её, что означало вывод американских войск из Ирака. Это была очень сложная задача. Потому что, с одной стороны, Иран не имел власти в Ираке, а с другой стороны, политика Ирана заключалась не в проведении прямых операций против Соединенных Штатов. В связи с этим, управление выводом вооруженных сил США из Ирака, хотя и было очень трудным и находилось на грани невозможного, требовало особого и незаурядного интеллекта.
Генерал Сулеймани справился с этой миссией мудро и в относительно короткие сроки. Ирак был оккупирован Соединенными Штатами в 2003 году, а в 2005 году план США зашёл полностью в тупик, и два года спустя они были вынуждены подписать соглашение о безопасности, основанное на полном выходе из Ирака. Этот выход начался в 2008, а завершился в 2011 году. На этой арене, имам Хаменеи (да благословит Его Аллах) хотя и был инициатором изгнания США из Ирака, но за эту операцию отвечал генерал Сулеймани, которая была проведена и завершена с его исключительной проницательностью. Вывод американских войск из Ирака после поражения во Вьетнаме в 1975 году стал самым горьким воспоминанием Соединенных Штатов за последние сорок пять лет. Американцы ещё не смогли должным образом оправдать свой уход и в течение последних восьми лет серьёзно добивались военного возвращения в Ирак, что раскрывает секрет запуска и формирования ИГИЛ* США. Формирование ИГИЛ было основано на сложной повестке дня и началось сразу после завершения вывода войск США из Ирака.
Генерал Сулеймани фактически сформировал «исламскую армию» в разгар дискуссии американцев о военной коалиции в регионе, которую политические аналитики назвали «серьезной угрозой» и которая имела различные проявления, включая военную коалицию стран-членов НАТО, коалицию друзей Сирии, коалицию против ИГИЛ, формирование арабского НАТО. Если мы пройдемся по проблемам последнего десятилетия в регионе, мы обнаружим, что коалиционные и коллективные планы, а также западные военные инициативы и инициативы в области безопасности Запада в регионе потерпели фиаско, и провал каждой из них вызвал большое разочарование у членов этого фронта и сделал их бездейственными. Генерал Сулеймани в течение этого десятилетия, проявляя разумность и отслеживая военные события на западно-израильском фронте, незаметно создавал группы бойцов, и сегодня эти подразделения превратились в целую сеть. Фактически, генерал Сулеймани использовал угрозы врагов и превратил кризис в возможности. Между тем, деятельность Сулеймани была и остается угрозой для Запада и его региональных агентов, а его сильная логика предопределила серьезные проблемы в реализации их планов. Например, он работал с большим количеством молодых афганских моджахедов, чтобы защитить Сирию и ёе народ. Они собрались под священным названием «защитники храма», обучились и основали свою собственную организацию, которую мы знаем сегодня как «Фатимиды». Они сыграли очень важную роль в отражении смуты ИГИЛ и в то же время стали потенциальной силой безопасности для своей страны. Соответственно, между генералом Сулеймани и афганским правительством было много переговоров о принятии их в качестве сил обороны Афганистана. И это несмотря на то, что правительство Кабула изначально раскритиковало этот шаг, а принятие его было для него весьма затруднительным. То же самое и с Ираком. Мученик Сулеймани, после начала течения ИГИЛ в Ираке, используя фетву аятоллы Систани, собрал большое количество иракской молодежи под тем же названием «защитники храма», а после их обучения, организовал и превратил их в крупную армию. Сегодня около 120 000 человек выступают под названием «народное ополчение» и выполняют различные функции по защите независимости, территориальной целостности и политической системы Ирака, так чтобы кризисы, подобные тому, который ИГИЛ создало в Ираке в период с 2013 по 2017 год, когда тысячи людей погибли мученической смертью, во многом исчезли. Тем самым, с учетом наличия подобной армии сопротивления, возможность возникновения переворота против власти со стороны Иракской армии тоже во многом исчезла.
Генерал Сулеймани никогда не говорил об «Исламской армии» и не претендовал на неё, но сегодня она, «Исламская армия», по сути существует, и если любой уголок исламского мира столкнётся с кризисом безопасности со стороны Запада и его агентов, она сможет действовать быстро и с очень низкими затратами решить проблему. Похоже, что нечто, что сделало генерала Сулеймани большой угрозой для Запада, так, что он пошёл (решился) на "весьма высокую цену" его террористического убийства, была как раз его способность создавать возможности. Сплочённость людей, усердствующих на пути Аллаха в Йемене, Палестине, Ливане, Сирии, Ираке, Иране, Афганистане и Пакистане стала тревожным сигналом для Запада и его агентов, но мученичество генерала Сулеймани, в принципе, не исключает реализации этой темы.
*террористическая организация, запрещенная в России

Владимир Ермаков: мы пока не знаем, что на уме у команды Байдена
Гонка гиперзвуковых вооружений в мире, по сути, уже началась, а США явно пытаются всеми способами добиться односторонних военных преимуществ. Но для России необходимость в таком типе вооружений продиктована в первую очередь соображениями поддержать стратегическую стабильность в условиях ничем не ограниченного наращивания Вашингтоном своего противоракетного потенциала. О том, чего ждет Россия от новой администрации США во главе с избранным президентом Джо Байденом в сфере стратегической стабильности, в том числе о будущем Договора по открытому небу и перспективах договориться о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе в интервью РИА Новости рассказал директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
– Какие для России есть "красные линии" во взаимодействии с ОЗХО? В случае если организация их пересечет, Москва всерьез поставит вопрос о целесообразности своего членства в ОЗХО?
– ОЗХО близка к реализации своей основополагающей цели – избавлению мира от химического оружия и угрозы его применения. Единственным обладателем химического оружия из числа государств-участников Конвенции по запрещению химического оружия остаются США, под разными предлогами затягивающие завершение своей программы химразоружения. При этом именно Вашингтон и его евроатлантические союзники, руководствуясь своими геополитическими интересами, делают все, чтобы разрушить и ОЗХО, и КЗХО.
Российская Федерация является добросовестным государством-участником КЗХО. Еще в сентябре 2017 года мы успешно и с опережением графика на 3 года завершили национальную программу по уничтожению всех остававшихся со времен СССР запасов химоружия. В соответствии с положениями Конвенции на российских объектах химпромышленности продолжаются плановые инспекции Технического секретариата ОЗХО, никаких нарушений конвенционных норм у нас нет. Российская Федерация совместно с единомышленниками продолжает противодействовать продвижению в ОЗХО деструктивной повестки дня стран Запада. Мы делаем все, что в наших силах, для сохранения этой организации и Конвенции в целом.
– Видят ли в Москве готовность новой администрации США вернуться в Договор по открытому небу после инаугурации избранного президента Джо Байдена в январе следующего года? Есть ли техническая возможность для США вернуться в Договор "по упрощенной схеме", поддержит ли РФ такое возможное решение, чтобы уже после возвращения США в Консультативной комиссии продолжать диалог по всем проблемным вопросам? В случае если США не вернутся к Договору, готова ли и РФ его покинуть с учетом нежелания западных стран в письменном виде подтвердить свои обязательства и гарантировать конфиденциальность данных и непередачу их третьим лицам, а также обеспечить полеты миссиям РФ над всеми без исключения территориями европейских стран-участниц?
– Чтобы говорить что-либо о позиции "новой администрации США", надо, как минимум, дождаться инаугурации Джо Байдена. Ранее он критиковал Дональда Трампа за решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), однако после выборов эту тему еще не затрагивал. Поэтому пока делать прогнозы преждевременно.
США 22 ноября завершили выход из ДОН, поэтому теперь они могут вновь вступить в него только на общих основаниях; возможности для какой-либо "упрощенной схемы" мы не видим.
Что касается шагов России в случае, если США не вернутся в Договор, а остальные его участники не будут готовы работать над снятием российских озабоченностей, то мы еще в мае предупредили партнеров, что рассматриваем все возможные варианты наших ответных действий. К сожалению, никакой убедительной позитивной реакции со стороны западных участников ДОН на наши озабоченности мы до сих пор не получили. Если так будет продолжаться и далее, то очень скоро судьба ДОН может оказаться под вопросом.
– Есть ли у России основания полагать, что с приходом новой администрации Вашингтону и Москве будет проще договориться о шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения Договора о РСМД и договориться о взаимном моратории на размещение таких типов ракет в регионе?
– Мы пока не знаем, что в реальности по данной теме может быть на уме у формируемой команды избранного президента США Джо Байдена. Судя по общей тенденции в американских подходах последних лет, мы вынуждены учитывать вероятность даже самых негативных сценариев. Для этого у нас есть все основания. После целенаправленно и весьма жестко осуществленного Вашингтоном слома Договора о ракетах средней и меньшей дальности представители действующей администрации бесцеремонно заявили нам, что верстают планы по развертыванию ранее запрещенных по Договору ракетных вооружений. Причем как в АТР, так и в Европе. Программы по созданию и испытанию таких систем продвигаются полным ходом и исправно финансируются. Эти действия фактически идут вразрез с нашими усилиями по снижению ракетно-ядерных рисков, и времени на политико-дипломатические решения по обеспечению предсказуемости и сдержанности в данной сфере остается все меньше.
Убеждены, тем не менее, что "окно возможностей" для сохранения, как минимум, европейского пространства свободным от наземных РСМД окончательно еще не захлопнулось. Однако воспользоваться им возможно только в случае проявления американской стороной достаточной политической воли для поиска взаимоприемлемых решений на равноправной основе.
Россия явно прошла свою часть пути в подготовке фундамента для такого диалога. На высшем уровне нами было заявлено о неразвертывании первыми РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся аналогичные системы американского производства. Президент Российской Федерации выдвинул инициативу о встречных со странами НАТО и поддающихся проверке мораториях на размещение в Европе указанных вооружений. Более того, несмотря на полное соответствие требованиям ДРСМД так беспокоящей натовцев ракеты 9М729, мы в духе доброй воли объявили о готовности пойти на беспрецедентное самоограничение в отношении географической зоны ее развертывания. При этом Россия открыта к обсуждению процедур, позволяющих подтвердить отсутствие комплексов с данной ракетой в европейской части страны – прежде всего, на объектах в Калининградской области.
– Есть ли у России основания полагать, что с приходом новой администрации Вашингтону и Москве будет проще договориться о шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения Договора о РСМД и договориться о взаимном моратории на размещение таких типов ракет в регионе?
– Мы пока не знаем, что в реальности по данной теме может быть на уме у формируемой команды избранного президента США Джо Байдена. Судя по общей тенденции в американских подходах последних лет, мы вынуждены учитывать вероятность даже самых негативных сценариев. Для этого у нас есть все основания. После целенаправленно и весьма жестко осуществленного Вашингтоном слома Договора о ракетах средней и меньшей дальности представители действующей администрации бесцеремонно заявили нам, что верстают планы по развертыванию ранее запрещенных по Договору ракетных вооружений. Причем как в АТР, так и в Европе. Программы по созданию и испытанию таких систем продвигаются полным ходом и исправно финансируются. Эти действия фактически идут вразрез с нашими усилиями по снижению ракетно-ядерных рисков, и времени на политико-дипломатические решения по обеспечению предсказуемости и сдержанности в данной сфере остается все меньше.
Убеждены, тем не менее, что "окно возможностей" для сохранения, как минимум, европейского пространства свободным от наземных РСМД окончательно еще не захлопнулось. Однако воспользоваться им возможно только в случае проявления американской стороной достаточной политической воли для поиска взаимоприемлемых решений на равноправной основе.
Россия явно прошла свою часть пути в подготовке фундамента для такого диалога. На высшем уровне нами было заявлено о неразвертывании первыми РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся аналогичные системы американского производства. Президент Российской Федерации выдвинул инициативу о встречных со странами НАТО и поддающихся проверке мораториях на размещение в Европе указанных вооружений. Более того, несмотря на полное соответствие требованиям ДРСМД так беспокоящей натовцев ракеты 9М729, мы в духе доброй воли объявили о готовности пойти на беспрецедентное самоограничение в отношении географической зоны ее развертывания. При этом Россия открыта к обсуждению процедур, позволяющих подтвердить отсутствие комплексов с данной ракетой в европейской части страны – прежде всего, на объектах в Калининградской области.
Отмечу, что для России необходимость обладать такими системами была продиктована соображениями поддержания стратегической стабильности в условиях выхода США из Договора по ПРО и ничем не ограниченного наращивания американцами своего стратегического противоракетного потенциала. При этом в тех же США бурная кампания по развитию гиперзвука вызвана, судя по всему, уязвленным самолюбием, поскольку с опережающим появлением у России продвинутых гиперзвуковых комплексов глянцевая картинка американского технологического лидерства изрядно поблекла.
Что касается контроля над такими вооружениями, то прецедент имеется, и он создан Россией. Первая в мире система стратегического гиперзвукового оружия "Авангард" введена нами в сферу действия Договора о СНВ. Причем сделано это было в духе доброй воли, несмотря на ряд вопросов правового характера, возникающих, в том числе в отношении неконструктивных подходов США к контролю над подобными системами. Эти вопросы еще предстоит урегулировать. В целом мы открыты к обсуждению данной проблематики и в многосторонних форматах.

Если завтра война
"Майкрософт" против России
Игорь Шнуренко
В преддверии нового 2021 года из ящика Пандоры, который продолжают распаковывать как корпорации, так и правительства, вылетели ещё несколько подарков человечеству.
Первый подарок – новый штамм ковида. Люди, весь год следившие за руками глобальных наперсточников и трепыханием графиков уже не очень понятно чего, учат теперь новые аббревиатуры. Одна из них – Вуй-2020, VUI 202012/01, тот самый британский вирус, который теперь перещеголял по вызываемому страху старый добрый китайский Ковид-19. За время ковида британцы насчитали уже 23 новых штамма, и одна из мутаций, которую нарекли N501Y, обнаружена именно в той части вируса, который цепляется к человеческой клетке.
Теперь взять клетку на абордаж стало гораздо легче, вирус придумал для этого – или ему придумали - новые крючки и зацепки. Европа и другие страны стали поспешно закрывать границы с Британией, но если в этом и был какой-то смысл, то они опоздали примерно на полгода, ибо мутация N501Y появилась еще летом и обнаружена не только в Англии, но и в Бразилии, в Австралии, в США, в Нидерландах и, вероятно, бродит уже повсюду. Первый случай нового штамма был зарегистрирован в городе Милтон Кейнс 20 сентября, а к 13 декабря таких случаев было уже за тысячу. Существует ли Вуй-2020 на самом деле, не имеет большого значения, ибо информационная пандемия вполне реальна, информационный Вуй тоже реален, он вызвал панику и в старой доброй Англии, и далеко от ее зеленых дубрав.
Второй подарок из черного ящика – та самая вакцина, которую сегодня рекламируют больше, чем последнюю модель айфона. Реклама идет с участием президентов и звезд первой величины, и, например, президент Франции Макрон для придания пущего правдоподобия своей игре даже лёг в больницу и слабым голосом поведал оттуда о своей надежде на это змеиное масло XXI века. Впрочем, власти повсюду уже сказали, что и с чудо-снадобьем от лучших шаманов человечество будет ещё многие годы жить масочно-перчаточным лагерем, с правом выхода из дома за хорошее поведение по особому пропуску.
Чем ещё, кроме рекламы вакцины, занимаются сегодня президенты и правительства? Практически ничем, сегодня всё более очевидна их главная роль – обеспечивать фасад для передачи власти в мировом масштабе от национальных правительств транснациональным корпорациям, а точнее, государственно-корпоративному монстру, коим управляют негласно и тайно, тому самому Цифровому Левиафану, о котором я писал в предыдущих статьях.
Третий подарок из коробки под новогодней елкой – подготовка сокрушительной глобальной кибервойны. Речь идет не о войнушке где-то на периферии из-за какого-нибудь гористого клочка земли, а а о войне тотальной. Речь не идет о кибератаке где-то в сети, когда пользователи сталкиваются с некоторыми неудобствами. На кону жизнь и смерть инфраструктуры и всех систем жизнедеятельности целых стран и народов. Война, первые киберзалпы которой звучали и раньше, в декабре вышла на поверхность и стала мощным и долгоиграющим фактором информационного поля, а в будущем году может стать ощутимой в жизни каждого. Война эта, надо понимать, ведётся на полное подчинение не только нашей России, но и всего мира воле того самого Цифрового Левиафана.
В декабре случилась разведка боем, подлинное происхождение которой вызывает много вопросов, но вполне вероятно, именно так и проявляет себя Левиафан. Один из эпизодов этого боя, похожего на психическую атаку из фильма "Чапаев", - это объявление компанией "Майкрософт" войны Российской Федерации. "Майкрософт" является важной составляющей Левиафана, входя в пятерку ведущих технологических компаний западной части мира.
«Малой кровью и на чужой территории»
Что такое кибератака? Это, если грубо, захват контроля над удалённой вычислительной системой, захват, который может выражаться в отказе обслуживании либо в такой дестабилизации работы, которая делает невозможной полноценное исполнение системой ее функций
Кибератака - это нападение нового типа, для него не нужны танки и самолеты, наоборот, оно может отключить ваши танки или самолеты или направить их против вас же. Когда вырубятся системы жизнеобеспечения, управляемые сегодня компьютерами, соединенными в сети, то в городах погаснет свет, отключится газ и вода, остановятся автомобили и поезда, самолеты не смогут взлететь или сесть, люди не получат доступа к своим банковским счетам и карточкам, что в отсутствии наличных приведет к полному параличу финансовой системы.
Кстати, волею Центробанка РФ мы переходим от пластиковых денег к полностью цифровым – и вся эта система открыта для кибератаки и полностью окажется парализованной. Это как если бы мы полностью отдали всю свою память внешним устройствам, а те бы внезапно отключились – и мы бы забыли, как нас зовут, где живём, кто мы и откуда. Мировые центробанки, ведомые ФРС, торопят всех в дивный новый мир бесконтактных платежей, рассматривая ковид как возможности пришпорить, в их понимании, технологическую революцию - но вместо предполагаемых неудобств, связанных с пользованием наличностью, нам готовят киберболезнь Альцгеймера. И возможно, только те, кто её устроил, будут знать, как её лечить. В грядущей кибервойне банки более всего открыты для атаки, информация на их серверах может быть безнадежно утрачена, и в условиях тотального финансового дефолта мир может вернуться к наличности и бартерным отношениям.
Готова ли Россия к такому сценарию, не говоря уже о предотвращении такого исхода? А ведь для предотвращения ресурсов и умения нужно больше, чем для организации жизни в условиях отказа систем жизнеобеспечения. Располагает ли страна сегодня такими ресурсами и умениями? В 1938 году на экраны СССР вышел фильм «Если завтра война», в котором описывалось, как Красная армия малой кровью и на чужой территории побеждает войска третьего европейского рейха. Реальность, как мы знаем, оказалась совсем другой. В первый же день войны фашисты нанесли по СССР настолько сильный удар, что Гитлер был уверен: победа в кармане. Напав внезапно и мощно, по всем фронтам, немцы помешали стратегическому развёртыванию советских войск. Германское командование создало мощные оперативные группировки от Баренцева до Черного моря, а на направлениях главного удара сосредоточили элитные части. Застав нас по сути врасплох, в первые недели войны они полностью овладели стратегической инициативой и добились больших успехов. СССР оказался на волоске от полного разгрома.
Не находится ли Россия сегодня в худшем положении как в том, что касается подготовки к будущей войне, так и в самом осознании ее, по сути, неотвратимости? При том что многие представители верхушки государства и бизнеса говорят в терминах технологического детерминизма, эта предопределенность почему-то не распространяется на древнейшее человеческое занятие, для которого, по сути, и создаются в первую очередь новые технологии – на войну. Насколько Россия готова сегодня к масштабной кибератаке, которая может быть молниеносной в исполнении, хотя и длительной в подготовке и информационном сопровождении? Кибервзлом ведь сначала незаметен, здесь его можно сравнить с взломом сознания, и киберпандемию вначале можно принять за информационный шум – но его результаты будут разрушительнейшие.
Психическая атака или?
Но давайте сначала оценим вероятность такой мощной глобальной кибератаки. Прежде всего, обратимся к первоисточнику – к Клаусу Швабу, главе и основателю Всемирного экономического форума, этого штаба глобалистов, куда так любят ездить наши министры и олигархи. Клаус Шваб подарил свою книжку о четвеётой промышленной революции Владимиру Путину, и тот с благодарностью ее принял. Интересно, что ещё год назад эксперты поговаривали об открытии в Москве офиса ВЭФ. Это планировалось сделать в Сколково при участии Сбера, тогда еще Сбербанка.
Вот что публично заявил Шваб 8 июля 2020 года: «Мы уделяем недостаточное влияние устрашающему сценарию полномасштабной кибератаки, которая приведёт к полной остановке энергообеспечения, транспорта, работы больниц, всего общества в целом. Кризис ковид-19 в сравнении покажется небольшим недоразумением».
Имеем ли мы здесь дело с предупреждением – или скорее с планом действий, планом, обнародованным и в целях психологического давления, и для открытой координации? Ведь в 2020 году практически все события происходят удивительно открыто. Если посмотреть на временную линию событий, создается впечатление, что сразу после этого выступления началась информационная подготовка к кибератаке, о которой говорил Шваб. А 18 ноября 2020 года первая проверка того, как это будет работать, прошла на примере компании Americold, которая первой сообщила о кибератаке.
Americold – это крупнейшие кондиционируемые склады по всем США и своя логистика. За этой американской компанией стоит более ста лет истории. Её склады используются, например, для доставки вакцины от ковида, то есть компания эта имеет стратегическое значение. В случае кибератаки, например, все её холодильники с вакциной от ковида могут быть разморожены, и кампания вакцинации сорвана. Защита этой компании была взломана неведомыми хакерами, хотя власти США в таких случаях привыкли показывать пальцем на Россию. Выяснилось, что Americold является клиентом компаний SolarWinds и FireEye, через софт которых, по утверждениям властей США, и произошла атака.
FireEye – компания кибербезопасности, которая занимается мониторингом киберугроз через программу "Орион". Хакеры компании, так называемая "Красная команда", занимались инсценировкой кибератак на инфраструктуру клиентов. Утверждается, что наработки «красной команды» были украдены, и через компанию кибербезопасности SolarWinds сотни тысяч клиентов по всему миру, но в основном, на 80 процентов, в США, были взломаны, то есть им были разосланы трояны – коды, которые посылают своему хозяину информацию о системах взломанной структуры и выполняют его команды. Фактически сервер клиента переходит под контроль хозяина трояна, который может активизировать нужную программу в любой момент, и например, вызвать отключение города от электричества. Список тех, кто является клиентами FireEye и SolarWinds, опубикованный американскими СМИ, впечатляет сам по себе.
Это Пентагон, Федеральная резервная система, Госдеп, Агентство Национальной Беезопасности США, НАСА, Минфин, Почтовая служба, Минюст, администрация президента США, ведущие американские консалтинговые компании, практически все компании верхнего списка Форбс, крупнейшие города страны, инвестиционные компании и банки, оборонные предпринятия – например, Локхид Мартин, - Космический центр Кеннеди, Университет Джона Хопкинса, на котором стоило бы остановиться отдельно. Этот частный американский университет, расположенный в Балтиморе, между Нью-Йорком и Вашингтоном, сегодня управляет ковидом, определяя политику чуть ли не всех стран мира, за весомым исключением Китая. Формально Университет Джона Хопкинса является ведущим мировым центром по статистике, прогнозам и анализу, но этот тот самый анализ, исходя из которого власти принимают решения по закрытию стран и городов, ограничению конституционных прав и свобод, уничтожению «аналоговой» экономики в пользу цифровой. Не стоит строить иллюзий: этим командам подчиняется в том числе и глава Роспотребнадзора Анна Юрьевна Попова.
Кроме того, в списке потенциально «хакнутых» пользователей – американская сеть управления умными городами, ведущие СМИ страны типа газеты "Нью-Йорк Таймс", телевизионные кабельные сети, фонд Билла и Мелинды Гейтс, Мастеркард и Виза, ВВС США, системы управления атомными станциями, сотни университетов и колледжей. Даже сеть Макдональдс в этом списке, и ее могут отключить по команде неведомого врага!
Получается, что хакеры внедрились в системы управления и через обновления разослали трояны по сотням тысяч адресов, что позволяет им держать под полным своим контролем системы компьютерной безопасности этих организаций и структур. В случае кибератаки все они безоружны – ведь по сути все их системы безопасности обходятся.
Осознав масштаб происшедшего – так об этом пишет большая американская пресса - и после обнаружения троянов на серверах прежде всего Пентагона Агентство кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) впервые за свою историю опубликовала чрезвычайную директиву, обращенную ко всем организациям и компаниям, в том числе гражданским. Там говорилось – дословно – что «все агентства оперирующие продуктами SolarWinds, должны предоставить об этом отчёт CISA».
Директива была выпущена 13 декабря, в воскресенье, а отчёт требовалось доставить к полудню понедельника 14 декабря по времени восточного побережья.
При этом замечу, что ничего внешне не произошло. Программма не запущена, самолеты летают, поезда ходят. Но при этом кибератака, о которой летом говорил Шваб, стала потенциальной реальностью. Она может случиться через месяц, через неделю, через год - или уже завтра. При этом она может придти откуда не ждали – то есть через те самые компании и структуры, которые занимаются кибербезопасностью и у которых есть доступ, по сути, к оружию кибернетического массового поражения.
Кому же выгодна такая кибератака? В ней тут же обвинили удобного врага - Россию, удобного, потому что по сути безответного. Но это обвинение – это далеко не только предлог для каких-то новых санкций. Это надо понимать прежде всего в контексте так называемого ответного удара. А ответный удар американцев планируется полномасштабный: по сути, из контекста того, как характеризовалась атака на США, понятно, что за цели собираются атаковать сами американцы. Они собираются отключить у своего вероятного противника спецслужбы, армию, ВВС, космические силы, Центробанк и финансовую систему, госрезервы, крупнейшие инфраструктурные компании, системы обеспечения городов, транспортную систему. Этим противником – и это очень четко заявлено – является Россия.
Госсекретарь Майк Помпео заявил в интервью на консервативном ток-шоу, что «Мы совершенно чётко можем сказать, что это были русские». И хотя Трамп вначале отшутился в Твиттере, написав, что вероятно, целью атаки была одна из этих смешных машин для голосования, глубинное государство четко дало понять всем серьезным игрокам в поле, что шуткам не место. Байден высказал уверенность, что за кибернападением стоят русские, и он убежден, что нужен ответный удар. «Хорошая защита недостаточна», сказал Байден. Он пообещал сделать так, что виновные в атаке серьезно за это заплатят.
Орган ЦК Демократической партии США, американская газета "Правда", пишет о происшедшем следующее: «Русская атака была тщательно откалибрована так, чтобы избежать киберобороны. Они получили доступ к софту SolarWinds – это всё равно как если получить доступ к обновлениям Apple и других производителей телефонов – и при этом они рассчитывали, что небольшие изменения кодов не будут заметны».
На базе Форт Мид под Вашингтоном, где расположен новый совместный командный центр АНБ и Киберкомандования, эту кибератаку никто не заметил, пишет "Нью-Йорк Таймс". Датчики не сработали, и командир кибернетических сил опытный генерал Пол Накасоне не сказал об этом пока ни слова. Но вот что по горячим следам заявил генеральный директор той самой компании FireEye Кевин Мандиа: «Мы являемся свидетелями атаки нации, обладающей высочайшими наступательными возможностями».
Можно не сомневаться, что американцы готовят то, что они воспринимают как ответный удар, по этой самой нации. И нужно отметить, что эта нация - не Китай, ибо на карте атаки, оперативно опубликованной компанием "Майкрософт", Китай также обозначен как жертва атаки, в отличие от России, которая одна из немногих стран, этой атакой не затронутых.
"Майкрософт" против России
В связи с происходящим огромный интерес представляет официальное заявление компании "Майкрософт", которое ее президент Брэд Смит выпустил 17 декабря. Этот программный документ доступен на сайте компании – лучшего друга Сбербанка и правительства Российской Федерации. В нем Брэд Смит объявляет Россию ответственной за кибератаку и не только призывает к ее наказанию, но и предлагает, как это сделать эффективнее – так, чтобы противник уже не встал.
В этом заявлении "Майкрософт" не только объявляет войну России, не только фактически признает связь с американскими секретными службами, не только косвенно намекает на свой собственный опыт создания оружия массового киберпоражения, но и чётко говорит о планах постановки под контроль американцев глобальной системы кибербезопасности целиком. Судя по фактам, раскрытым на ноябрьских слушаниях в сенате США, компании Фейсбук, Твиттер и Гугл на оперативном уровне координируют свои действия, по сути представляя собой единую, хотя и трехголовую структуру. Есть основания полагать, что и в стратегии эти корпорации выступают единым фронтом, во всяком случае в отношениях с Белым Домом и Конгрессом, не говоря уже о внешних рынках. Интересно, что на сенатские слушания последних лет, где между государственными мужами и культовыми фигурами бизнеса устраивается борьба нанайских мальчиков, не приглашают руководителей "Майкрософта" – видимо, эта компания считается уже «старыми деньгами» и не освобождена от ритуальных отчётов. Тем не менее можно не сомневаться, что и эта компания, и Амазон участвуют в цифровом картеле.
"Майкрософт", получивший в 2019 году 20-миллиардный контракт от Пентагона на разработку программного обеспечения театра боевых действий, просто стоит ближе всех к правительству, и по сути занимается сейчас весьма успешным лоббированием интересов всего картеля. Вот и сейчас, именно представитель "Майкрософт" доносит до политиков единое мнение цифровых олигархов. В-первых, подчеркивается, что жертвами кибератаки русских стали США и их ближайшие союзники:
«Хотя примерно 80% [жертв атак – И.Ш.] находятся в Соединенных Штатах, выявлены жертвы еще в семи странах. Сюда входят Канада и Мексика в Северной Америке; Бельгия, Испания и Великобритания в Европе; и Израиль и ОАЭ на Ближнем Востоке. Несомненно, число и местонахождение жертв будут расти. Мы все должны быть готовы к рассказам о дополнительных жертвах в государственном секторе и на других предприятиях и организациях. К сожалению, атака представляет собой широкое и успешное нападение как на конфиденциальную информацию правительства США, так и на технические инструменты, используемые компаниями для их защиты. Атака продолжается, активно расследуется и решается группами кибербезопасности в государственном и частном секторах, включая Microsoft. … Атака отличается своим масштабом, изощренностью и воздействием. Есть и широкие ее разветвления, которые еще больше сбивают с толку».
"Майкрософт" оперативно опубликовал карту кибератаки, которая основана на телеметрии Microsoft Defender, антивирусного программного обеспечения для последней версии Windows. На этой карте Россия и другие страны СНГ представлены белыми пятнами, что подводит к выводу, что они в атаке не пострадали, зато остальные страны, включая не только США, но и Японию, Китай, страны Европы, оказались жертвами кибернападения.
«Карта позволяет идентифицировать клиентов, которые используют Defender и установили версии программного обеспечения SolarWinds Orion, содержащие вредоносное программное обеспечение злоумышленников, - пишет Смит. - Этот аспект атаки создал уязвимость цепочки поставок почти глобального значения, достигнув многих национальных столиц за пределами России. Это также свидетельствует о повышенном уровне уязвимости в Соединенных Штатах».
Президент "Майкрософта" практически открытым текстом говорит об экзистенциальной вине русских инженеров, которые виноваты уже в том, что не уступают американским:
«Это не «обычный шпионаж» даже в эпоху цифровых технологий. Напротив, он представляет собой акт безрассудства, который показал серьезную технологическую уязвимость для Соединённых Штатов и всего мира. По сути, это не просто атака на конкретные цели, но и на доверие и надежность критически важной мировой инфраструктуры с целью продвижения разведывательной службы некоей одной страны (это, очевидно, та самая страна, где так любят водку и балалайку – И.Ш.) . Как мы уже неоднократно видели, Кремниевая долина - не единственный дом для гениальных разработчиков программного обеспечения. В 2016 году российские инженеры выявили слабые места в защите социальных сетей, проникли в американские политические кампании и использовали дезинформацию, чтобы посеять разногласия среди электората. Они повторили это упражнение во время президентской кампании во Франции 2017 года. По данным Центра анализа угроз и отдела цифровых преступлений Microsoft, эти методы затронули жертв более чем в 70 странах, включая большинство демократических стран мира».
Если аналитики "Майкрософта" делают такие выводы, очевидно, они мониторят политическую активность по всему миру.
Особую обеспокоенность Смита вызывает возможность использования русскими хакерами искусственного интеллекта: «Одним из наиболее пугающих событий этого года стали новые шаги по использованию ИИ для вооружения больших украденных наборов данных о людях и распространения целевой дезинформации с помощью текстовых сообщений и приложений для обмена зашифрованными сообщениями. Мы все должны исходить из того, что, как и изощренные атаки из России, это тоже станет постоянной частью ландшафта угроз».
Но погодите – не тот ли это искусственный интеллект, который "Майкрософт" помогает разрабатывать Сберу – а Сбер расплачивается за услугу тем, что продвигает базирующиеся на ИИ продукты "Майкрософта" в России? Как можно продвигать ИИ в России и одновременно выражать обеспокоенность именно по этому пункту? Не в том ли дело, что "Майкрософт" продвигает в России «правильную версию» ИИ?
Далее в тексте обращения появляются тревожные нотки: под угрозой главный план глобалистов использовать ковид для резкого продвижения своей повестки:
«Кибератаки нацелились на больницы и органы здравоохранения, от местных органов власти до Всемирной организации здравоохранения, - бьет в колокола Смит и делает вброс о том, что винить в этом нужно все тех же русских. - Пока человечество стремилось разработать вакцины, группы безопасности Microsoft обнаружили трех субъектов в некоем национальном государстве, нацеленных на семь известных компаний, непосредственно участвующих в исследованиях вакцин и методов лечения Covid-19. В мире, где авторитарные страны совершают кибератаки против мировых демократий, для демократических правительств как никогда важно работать вместе».
Смит видит выход в сращивании государства с технологическими монополиями: «В отличие от прошлых атак, угрозы кибербезопасности также требуют уникального уровня сотрудничества между государственным и частным секторами. Современная технологическая инфраструктура, от центров обработки данных до волоконно-оптических кабелей, чаще всего принадлежит и управляется частными компаниями. …Для эффективной киберзащиты требуется не просто коалиция мировых демократий, но коалиция с ведущими технологическими компаниями».
При этом партия «большого тека» начинает диктовать правительству свои условия, что для США достаточно необычно. Начинается все с обвинений в адрес администрации Трампа: «Слишком часто кажется, что федеральные агентства в настоящее время не действуют скоординированно или в соответствии с четко определенной национальной стратегией кибербезопасности».
Смит призывает к объединению разведданных корпораций и государства, «объединению стратегической разведки» и «переходу от «необходимости знать» к «необходимости делиться».
Чем делиться? Правительство может делиться в первую очередь данными, а компании – продуктами, произведенными из этих данных: «Даже в такой крупной компании, как Microsoft, мы узнали, что для нашего центра анализа угроз критически важно агрегировать и анализировать данные из наших центров обработки данных и служб. А когда возникает серьезная угроза, нам нужно делиться информацией и коллективными оценками с другими технологическими компаниями».
Таким образом, исподволь компании в отношениях с государством резервируют для себя место более высокого уровня – государство поставляет сырье – человеческие данные, а компании находят им применение.
Интересно, что то же самое – и гораздо успешнее, чем в США - пролоббировали в российском правительстве наши «цифровики». Я не думаю, что российским цифровикам под силу поставить российских чиновников под контроль – но соответствующие законы-то приняты и продолжают приниматься. Именно эти законы в момент, обозначенный в названии моей статьи, могут послужить тараном для своего рода «международных кибервойск быстрого реагирования.
По сути речь идет о более активной, чем прежде, форме глобальном контроле США над миром. Смит пишет, что нападение русских хакеров «требует коллективного ответа, который показывает, что серьезные нарушения имеют последствия»: «Защита демократии требует, чтобы правительства и технологические компании работали вместе в новых и важных направлениях - для обмена информацией, усиления защиты и реагирования на атаки. Поскольку мы оставляем 2020 год позади, новый год дает новую возможность продвинуться вперед по всем этим направлениям».
Отмечая, что «международное сообщество движется в этом направлении», Смит выделяет такой орган, как Глобальная комиссия по стабильности киберпространства (GCSC).
Как американцы хотели бы управлять глобальным рынком кибербезопасности? Прежде всего через знакомый прием – санкции. Вот что пишет Смит:
«Это необходимо для обеспечения того, чтобы внутреннее законодательство четко и строго запрещало компаниям помогать правительствам участвовать в незаконных и наступательных кибератаках, а инвесторам - сознательно финансировать их...Нам нужны шаги, чтобы гарантировать, что американские и другие инвесторы сознательно не подпитывают рост этого вида незаконной деятельности. И Соединенным Штатам следует активно проводить обсуждения с другими странами, которые создают эти компании, в том числе с Израилем, который имеет сильную экосистему кибербезопасности, которая может быть использована для опасной поддержки авторитарных режимов».
Может получиться, что правила игры по глобальным системам кибербезопасности будут писать в Вашингтоне, и России придётся сдать то, что еще осталось от нашего национального суверентета, поставив свои системы под контроль Цифрового Левиафана.
Атакуя, зарабатывай
Итак, "Майкрософт" может атаковать Россию и напрямую, и одновременно косвенно, через санкции. Через контроль над инвестициями им довольно легко будет поставить под контроль российские частные экосистемы IT и искусственного интеллекта – в том числе экосистему Сбера и Яндекса.
Но как это возможно, если "Майкрософт" – один из главных партнеров Сбера, активно работает с правительством РФ, имеет здесь свое представительство и извлекает из России десятки миллиардов рублей прибыли? По официальным данным, "Майкрософт Рус" зарабатывает в России порядка 6-7 миллиардов рублей в год, но большая часть российских предприятий и организаций платят "Майкрософту" непосредственно через европейское подразделение компании в Ирландии, Microsoft Ireland Operations Limited, MIOL, которое российским налоговикам неподконтрольно и данных о своих денежных потоках из России не раскрывает.
Чем занимается "Майкрософт" в России? Это отнюдь не только обновления MS Windows, которые стоят во всех компьютерах и через которые компания может постоянно собирать информацию на пользователей.
На официальном сайте "Майкрософт Рус" первой главной целью компании значится помощь российским компаниям в решении вопросов цифровой трансформации. А это сегодня, как мы знаем и как постоянно подчеркивает господин Мишустин – дело государственное. Второе направление — участие в развитии российской ИТ-экосистемы через стратегические коалиции, с фокусом «на индустриальные решения и помощь российским партнерам в глобальном продвижении». Третье — «поддержка российских стартапов», и четвертое — «содействие росту числа высококвалифицированных ИТ кадров». То есть "Майкрософт" обращает особое внимание на талантливую молодежь.
Очень важным направлением работы Майкрософт в России как раз является развитие стратегических партнёрств. Особенное внимание американцы уделяют телеком-операторам, ведь именно туда стекаются основные объемы данных. Именно эти объемы, согласно принятым в 2020 году законам и концепциям правительства РФ, предполагается широко продавать и покупать, в том числе и иностранным компаниям. Понятно, что и тут Россия выступает поставщиком сырья, новой нефти человеческого поведения, из которой будут изготовлены продукты человеческого управления.
«Трансформация партнерской экосистемы — один из приоритетов новой стратегии, - говорится на сайте Майкрософт Рус. - Одни из самых ярких примеров — разворачивание стэка Microsoft Azure в Центрах Обработки данных МТС и программа совместных со Сбербанком исследований в сфере искусственного интеллекта и робототехники». Именно облачные технологии являются ключеными в развитии ИИ-сектора, и Сбер делает всё, чтобы это развитие в России происходило именно в облаках Microsoft Azure.
Также в качестве примеров применения технологий Майкрософт в России называется разработка ChemTech (программное обеспечение для нефтегазовых и химических компаний), «Робот Вера» (чат-бот для собеседований при подборе персонала), Bright Box (решение для «подключенных автомобилей»).
Тем временем Шваб
Не хочется даже думать о том что случится, если миллионы людей в северном полушарии уже в 2021 году на месяцы останутся без энергии, а заодно и без пищи, воды, отопления, наконец, без Интернета. И всё же кто стоит за той самой кибератакой на США, которая может стать прологом вполне реальной войны? Может ли это быть операцией ложного флага, когда русских просто подставили? Может ли такая атака быть организована частными игроками и что о таких возможностях может знать Шваб? Американцы отрицают такую возможность – но не является ли такое торопливое отрицание подозрительным? И, возможно, главный вопрос: может ли Цифровой Левиафан атаковать интернет, не рискуя таким образом потерять контроль над человечеством? Какие ещё стратегии и технологии контроля мы увидим в ближайшее время?
Вернемся на Всемирный экономический форум. С его активным участием недавно была создана организация Cyber Polygon. Как написано на сайте организации, в ней состоят 120 организаций из 29 стран. Список этих организаций, вывешенный у них на сайте, впечатляет, хотя многие из них, как там написано, пожелали остаться анонимными. Среди них очень важное место занимают российские структуры, такие как – Сбер, часть его экосистемы Работа.ру, МТС, Мейл.ру, Почта-банк, Центр Данных Ростелеком, тюменский фонд Цитто и так далее.
Cyber Polygon продвигает «Цифровую идентификацию ООН» – то есть перед тем как зайти в интернет в любой точке земного шара, вы должны будете идентифицировать себя. Доступ будет привязан с идентификации, а она, в свою очередь – например, к вакцинации, а потом и к чипизации.
Ведущую роль в Cyber Polygon играет компания IBM, о которой написано больше книг, чем о Майкрософт. IBM на сегодняшний день – также один из лидеров разработок ИИ на собственных платформах корпорации.
Возможно, Cyber Polygon – объединение компаний, созданное ВЭФ для аккуратного продвижения продуктов американской компании IBM. Каковы же эти продукты? IBM объявила, что разрабатывает сервис по сопряжению Интернета вещей, вышек 5G, транспортных систем, всяческой логистики с системами искусственного интеллекта. Этот сервис будет представлять из себя блокчейн, сообщает компания, хотя это весьма сомнительно – ведь блокчейн по определению децентрализован, а тут контроль за трансакцими сохранит за собой центральная структура. В этом так называемом «блокчейне» любая трансакция, любое действие записывается навечно, может быть отслежено и восстановлено. Этот продукт, утверждает IBM, способен решить проблему с кибербезопасностью.
Не получится ли так, что в предполагаемом пессимистическом сценарии человечество или значительная его часть подвергнется кибератаке и будет вынуждена провести дни, недели или даже месяцы без элементарных удобств, в результате чего в народе созреет запрос на решение вопроса кбиербезопасности любой ценой?
И тогда IBM сможет предложить миру свое решение проблемы – свой блокчейн. Те, кто создали проблему, лучше всех смогут ее решить - и получить власть над миром.

Не только ответные меры: Россия пересмотрит отношения с США
Лавров: Москва не оставит без ответа новые санкции США
Ангелина Мильченко
Москва не оставит без ответа введение новых санкций со стороны США против более 40 российских компаний, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Более того, подчеркнул он, Россия сделает выводы по всему комплексу отношений с Вашингтоном, так как США давно ведут «враждебную политику» по отношению к нашей стране.
«Что касается вопроса о новых американских санкциях, которые были введены против российских и китайских физических лиц и компаний, то нас это не удивляет: США давно проводят враждебную политику по отношению к нашей стране.
И, конечно же, ответ последует — и не только в том, что касается зеркальности или симметричности, но мы будем делать дополнительные выводы, которые будут касаться всего комплекса российско-американских отношений»,— заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом аль-Тани.
Так глава российского дипломатического ведомства прокомментировал решение американских властей ввести ограничения против более чем 40 российских компаний.
Лавров также считает, что Вашингтон вводит санкции, пытаясь ослабить конкурентов. «Эти действия <…> отражают стратегическую, можно сказать, линию Соединенных Штатов на то, чтобы внедрять методы нечистоплотной конкуренции в грубейшее нарушение норм Всемирной торговой организации», — добавил российский министр.
Он также отметил, что нынешнее введение санкций в очередной раз «подчеркивает, что США будут продвигать свои правила, которые навязываются всем остальным».
«И, конечно же, когда наши европейские партнеры постоянно твердят о необходимости установить миропорядок, основанный на правилах, они должны понимать, в какую игру они играют. Они должны понимать, что в конечном счете это может аукнуться против любой страны на планете», — предупредил Лавров.
Он обратил внимание, что Вашингтон уже показал свою ненадежность как бизнес-партнер. Это, в частности, будет учитываться, по словам Лаврова, в ситуациях, когда будет необходимо выстраивать бизнес-отношения с Соединенными Штатами.
В то же время, глава российского МИДа обратил внимание, что американские бизнесмены хотят выйти на нормальные отношения с Москвой.
«Интересно, что предпринимаемые США меры бьют и по интересам американских предпринимателей, которые, в общем-то, несут убытки от такой активности политических лидеров этой страны. Недавние контакты, которые проходили в рамках американо-российского делового совета, показывают, что подавляющее большинство бизнесменов испытывает неудовлетворение таким положением дел», — заверил Лавров.
Он отметил, что представители американского бизнеса заинтересованы в том, чтобы власти страны приостановили свою санкционную политику.
Что касается санкций США, последние из них были объявлены в понедельник, 21 декабря. Американские власти подготовили перечень из 103 организаций и компаний России и Китая. Часть из них дублируется: всего в документе встречается 45 названий российских компаний, однако если исключить из списка повторяющиеся, их останется 41. Среди предприятий КНР — 58 компаний. Им запрещено покупать определенные виды американских товаров и технологий.
Санкции были введены именно против этих компаний, потому что власти Соединенных Штатов уверены, что речь идет о юридических лицах, которые являются «конечными военными пользователями».
Среди российских корпораций и предприятий также значатся и государственные ведомства — Служба внешней разведки, Минобороны РФ, а также медико-санитарная часть ГУ МВД России по Нижегородской области.
Днем ранее в МИД России отмечали, что без ответа не останутся санкции и европейских стран, которые были введены из-за инцидента с Алексеем Навальным, который, как предполагают в ЕС, был отравлен.
В дипведомстве заявили, что считают «категорически неприемлемым принятие Евросоюзом <…> незаконных ограничительных мер в отношении ряда соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином Навальным». В связи с этим ответное решение Москвы будет принято на принципах взаимности.

Рецепт землекопа
Как прожить 130 лет и стать моложе
Текст: Юрий Медведев
Когда начинается старение? Как природа научилась его замедлять? Какой предпочтительней способ омоложения? Об этом корреспондент "РГ" беседует с одним из ведущих в мире специалистов в области геронтологии, профессором Гарвардской медицинской школы Вадимом Гладышевым. Его лекция вызвала множество откликов на онлайн-форуме "Наука будущего - наука молодых", где ведущие ученые, в том числе нобелевские лауреаты, представили самые последние достижения в различных областях науки.
С первых слов своей лекции вы сразу заинтриговали слушателей, сказав, что наука до сих пор не знает, что же такое старение. А ведь над его причинами человек задумался, наверное, с тех пор, как начал себя осознавать.
Вадим Гладышев: Недавно на одной конференции 35 известных специалистов на вопрос что такое старение, дали разные ответы. На сегодня нет теории старения, к которой склонялось бы большинство. Кто-то считает, что это запрограммированный процесс, цель которого - дать ресурсы следующим поколениям. Есть также теория, что причиной старения является накопление мутаций. Суть в том, что какие-то варианты генов в молодые годы организма ведут себя нейтрально, а к старости из-за них накапливаются повреждения. Есть сторонники теории свободных радикалов, из-за которых повреждаются молекулы. Но ни одна не описываeт полностью весь процесс старения.
Не получается ли так, что наука ищет способы обезвредить врага, не понимая, что он из себя представляет? Можно вспомнить знаменитую притчу про мудрецов, которые пытались понять, что такое слон. Каждый изучал какой-то отдельный орган животного и дал свой ответ. Но каждый был далек от правильного. Но тогда каждый окучивает свою грядку?
Вадим Гладышев: В каких-то вопросах единство, конечно, есть. Например, что, воздействуя на организм, можно изменить срок жизни. Скажем, если убрать определенный ген, организм будет стареть медленней. Но старение многолико, оно проявляет себя в разных вариантах, поэтому для него пока нет какого-то одного определения. Что не мешает его изучать. По мере исследований его суть будет уточняться и, в конце концов, сформируется общепризнанное мнение. Так происходило со многими теориями, которые сегодня считаются классикой.
Какую теорию поддерживаете вы?
Вадим Гладышев: Я считаю, что это накопление повреждений и других вредных изменений с возрастом. Важно подчеркнуть, что, когда организм стареет, нет какого-то одного главного повреждения. Или главного гена, который в этом участвует. Наоборот, задействован весь организм. А раз нет главного виновного, поэтому со старением так сложно бороться.
Но в природе известны феномены, которые фактически не стареют, например, уже ставший знаменитым голый землекоп. Может, нам воспользоваться его секретом?
Вадим Гладышев: Наука уже нашла несколько таких удивительных существ. Это и землекоп, который живет в 10 раз дольше, чем родственные ему грызуны такого же размера, практически ничем не болеет, в том числе и раком. Или, например, гидра, которая, возможно, вообще не стареет, поскольку вероятность ее смерти не растет с возрастом. Казалось бы, почему? Ведь у землекопа, как у всех остальных млекопитающих, с возрастом растет число повреждений. Конечно, какие-то из них организм может удалить, но другие остаются. Поэтому землекоп все же стареет, но намного медленнее, чем другие грызуны.
Но если накопление повреждений неизбежно, даже землекопа они достали, то как гидре удалось не стареть?
Вадим Гладышев: В гидре, по-видимому, происходит разбавление повреждений. Как? Поясню на простом примере. Скажем, в какой-то клетке возникло два повреждения, а после ее деления в каждой новой стало по одному повреждению. Клетки продолжают жить, и в каждой вновь накапливается по два повреждения. Затем клетки снова делятся, и в каждой новой оказывается по одному. Это и есть разбавление. Если весь организм может так существовать, то он может и не стареть.
И если скорость накопления повреждений не больше скорости разбавления, клетка продолжает жить? И старость не наступит? Или как минимум будет намного отодвинута?
Вадим Гладышев: Совершенно верно. Возможно, эта стратегия была ключевой, чтобы жизнь на Земле вообще возникла и поддерживалась. С самых первых протоклеток повреждения должны были разбавляться делением клеток. Но в некоторых организмах есть клетки, которые после окончания развития не делятся, например, нейроны, некоторые клетки глаза, сердца и другие. С ними механизм разбавления не работает. Это относится ко всем млекопитающим, в том числе людям. Для них старение неизбежно. Но его можно замедлить, увеличить продолжительность жизни.
И землекоп продемонстрировал, что это реально. Значит, у природы есть такие инструменты. Почему бы нам ими не воспользоваться?
Вадим Гладышев: Именно этим сегодня и занимается наука. Конечно, природа поражает во всем, в том числе разнообразием в продолжительности жизни. К примеру, землеройка живет всего один год, гренландский кит 200 лет, а набор генов у них приблизительно одинаковый. Природа для продолжительности жизни использует самые разныe стратегии. Мы изучали 30 видов животных со сроком жизни от 3 до 50 лет и на трех органах - печени, почках и мозге, посмотрели, как меняется их метаболизм, как действовала природа, чтобы увеличить срок жизни. Оказалось, что, скажем, в печени активность генов, которые отвечают за метаболизм, сильно подавлена. А в почках их активность хотя и ослаблена, но не так сильно. В мозге этот же эффект практически отсутствует. И в то же время в этих трех органах активированы другие процессы, например, разные защитные функции и т.д. Вывод? Чтобы увеличить срок жизни, природа работает очень ювелирно, одни и те же процессы она изменила по-разному в разных органах. Но если знаем, как работает природа, можно попробовать, хотя бы в некоторой степени, это повторить.
Есть и другой подход. Для этого мы на мышах применили 17 уже известных способов увеличения срока жи зни - ограничение калорий, нокаут рецептора гормона роста и т.д. Анализируя эти способы, мы поняли общие закономерности и проверили 3000 соединений - разные лекарства, а также природные химические соединения. Выделили те, которые наиболее эффективны. Их можно комбинировать, искать оптимальные сочетания. Надеемся, что, в конце концов, эти знания помогут человеку отодвинуть старость, продлить жизнь.
Обнадеживает. А если пофантазировать? Насколько реально не просто жить до 120-130 лет, а помолодеть?
Вадим Гладышев: Это новая область науки, которая пока очень мало изучена. В принципе известно, что можно омолодить определенные клетки организма. За эти работы Синъи Яманаки получил Нобелевскую премию. Он сумел обычные взрослые клетки перевести в более молодое, эмбриональное состояние. Как это происходит, до конца непонятно. Например, при этой процедуре омолаживаются не все клетки, а какая-то их часть вообще умираeт. Исследования в этой области находятся в зачаточном состоянии, многое мы пока до конца не понимаем, но точно знаем, что омолодить клетки можно. Вряд ли такой фокус получится со всем организмом, потому что некоторые клетки взрослого организма уже не делятся и их не удастся вернуть в молодое состояние. Но отдельные органы можно омолодить. Правда, сразу же возникнут другие вопросы. Например, какой возраст у организма, у которого половина клеток более молодые, чем остальные?
В своей лекции вы сказали, что обнаружена неожиданная связь между старением и ковидом. Объясните, пожалуйста, подробней.
Вадим Гладышев: Сейчас известно, что вероятность смертности с возрастом растет, причем удваивается каждые восемь лет. Аналогичная картина и со смертностью от ковида. То есть он ведет себя как болезнь старения. Кроме того, те же генетические варианты, которые увеличивают срок жизни, защищают от смертности в случае ковида. Значит, на ковид можно воздействовать не только противовирусными препаратами и вакцинами, но и теми, которые замедляют старение.
Ключевой вопрос
Когда мы вообще начинаем стареть? Есть у науки единое мнение? Или как и с определением старения здесь "общее" разногласие?
Вадим Гладышев: Ситуация примерно такая же. Есть несколько версий: старение начинается в период оплодотворения; после рождения; после девяти лет; по достижению половой зрелости; после 20 лет, когда заканчивается окончание развития организма, или даже дальше, когда видны очевидные признаки старения, такие как лысина или морщины.
Казалось бы, чем ближе к рождению, тем ниже вероятность смерти.
Вадим Гладышев: По простой логике, действительно, картина должна быть такой. И тогда в самые первые месяцы и годы жизни смертность была бы близка к нулевой. Но все гораздо сложней. Как известно, в начале жизни, особенно у новорожденных, она высокая. Постепенно падает к 9 годам, затем вновь начинает расти.
Почему именно в девять лет смертность самая низкая? По-видимому, провал в 9 лет получается при пересечении двух кривых. Одна - это смертность из-за естественного старения, которая у детей маленькая, но с годами постепенно растет. Но есть и другая, ранняя смертность, она связана не со старением, а с ошибками при развитии. Кроме того, каждый из нас уже рождается с некоторыми вредными мутациями, которые получает от родителей. К ним еще добавляются мутации, которые мы получаем по жизни. Они накапливаются и дают свой вклад в смертность. Как я говорил, в точке пересечения этих двух кривых находится провал смертности в девять лет.
Самый благополучный для человека возраст. А почему в раннем возрасте высокая смертность? Ведь вредные мутации еще не накоплены, а цифра такая же, как в 20 лет.
Вадим Гладышев: Это из-за ошибок развития. Кроме того, ребенок получает некоторые вредные мутации от родителей. А еще в каждом поколении в среднем добавляется 50-100 новых мутаций. Вроде бы из-за этого с каждым поколением генофонд популяции должен становиться все хуже, но этого не происходит, так как работает естественный отбор. Хотя сейчас он довольно слабый, так как медицина и общество помогают больным и слабым. А вот в начале жизни механизм отбора работает сильней, что позволяет удалить такие мутации из популяции. Всем этим и объясняется высокая смертность в очень молодые годы.
Кстати
Биологически продлить жизнь можно. Но как человек собирается провести эти дополнительные 40 лет? Чем он будет заниматься, когда дети, внуки, правнуки выросли? Дело не в том, чтобы существовал некий биологический субстрат, а в том, чтобы эта жизнь была активной и осмысленной, чтобы в ней была какая-то цель. Об этом шла речь на круглом столе "Жить до 150. А зачем?" (23.01.2019 года).
Справка "РГ"
Долгожители из Книги рекордов Гиннесса
Женщина Жанна Луиза Кальман (Франция) - 122 года 164 дня;
Мужчина Сигетийно Изуми (Япония) - 120 лет 237 дней;
Гренландский кит - 200 лет
Галапагосская черепаха - 175 лет;
Слон Линг-Вонг - 86 лет;
Кошка Крим Пуф (США) - 38 лет;
Кролик Флопси (Австралия) - 18 лет 10 месяцев 3 дня.

Валдис Вулдорфс: Следующий год на рынке нефти с вероятностью 90% будет слабоволатильным
В 2021 году динамика потребления нефти так или иначе будет иметь тот же вид, что и во второй половине 2020 года
Следующий год на рынке нефти с вероятностью 90% будет слабоволатильным. Соглашусь с недавним прогнозом Goldman Sachs: в 2021 году мы увидим увеличение средней годовой стоимости этого актива на 5-10%. В денежном выражении цена будет колебаться в диапазоне $45-55 за баррель сорта WTI при условии, что мы не увидим жесткий общемировой локдаун в течение квартала. Хотя это самый очевидный прогноз, за ним стоит глубокая аналитика.
Во-первых, история с коронавирусом, как бы к ней ни относиться, скорее всего, продолжится, и очень маловероятно, что ситуация в корне изменится даже при условии стопроцентной результативности вакцин. Динамика потребления нефти так или иначе будет иметь тот же вид, что и во второй половине 2020 года: суммарно минус 5-10% от средних значений потребления 2019 года, которые сами по себе были пиковыми.
Во-вторых, слабая волатильность будет обусловлена тем, что на текущий момент цена нефти в значительной степени устраивает основных производителей. Страны Персидского залива и Венесуэла, конечно, хотели бы видеть нефть по $100 за баррель, чтобы иметь профицит в своем бюджете, однако они также понимают, что уже после цены $60 за баррель объем сланцевой нефти будет лавинообразно расти.
Сланцевым добытчикам уже удалось уменьшить себестоимость производства с $60 до $40 за «бочку», а на некоторых месторождениях и еще ниже. Поэтому дальнейший рост цены будет ограничен.
Чтобы расконсервировать добычу сланцевой нефти, достаточно в среднем две-три недели, а чтобы перезапустить «классическое» месторождение, требуется около шести месяцев. Таким образом, первыми, кто отреагирует на увеличение цены, будут это сланцевые компании Канады и США. Нижним же диапазоном цены будет как раз уровень $40, при котором максимальное количество участников рынка будет чувствовать себя не слишком хорошо.
В-третьих, альянс ОПЕК+ продолжит свою политику, хотя и при частичных нарушениях договора о снижении добычи его участниками, в том числе Россией. Дело в как раз в технологических особенностях добычи нефти: участники ОПЕК+ не имеют возможности на день, два или неделю закрыть производство, равно как и уменьшить на 10-20% общий объем «с трубы». Всё это может повлечь за собой полную остановку добычи с конкретных месторождений, дальнейшее восстановление будет очень сильно растянуто во времени, что, в свою очередь, может сильно ударить по бюджету, не говоря уже о срыве контрактов. Именно поэтому некоторые страны ОПЕК+ и позволяли себе нарушение квот.
Существенное подорожание нефти возможно при двух сценариях: либо при банальном обесценении доллара на 20-30-40%, либо при условии сохранения спроса как минимум на текущем, пусть и не пиковом, уровне потребления на годы вперед. В таком случае мы лишь через 5-10 лет впервые столкнёмся с такой ситуацией, при которой возможна нехватка нефти. Это случится за счет того, что в последние годы практически была полностью заморожена геологоразведка, чтобы по максимуму снизить текущую себестоимость нефти. Текущие месторождения будут практически выкачаны, а новые не будут вводиться в эксплуатацию.
Что касается рынка газа, то России нужно просто смириться с тем фактом, что определенная часть газа в Европу будет поступать из Америки, пусть и по завышенным в два раза ценам, а если учитывать всю инфраструктуру, то и в три раза.
Всё просто: между Европой и США заключено негласное соглашение, в рамках которого для выравнивания дефицита торгового баланса между этими странами Европа будет вынуждена покупать газ у Америки, пусть и по завышенным ценам.
В противном случае США введут сумасшедшие заградительные пошлины на продукцию из Европы, от чего пострадает в первую очередь немецкий автопром. Иными словами, это практически честная сделка, но именно по этой причине мы наблюдаем конфликт между США и Китаем, которому Америка точно так же пытается навязать покупку своей сельскохозяйственной продукции. Но, в отличие от Европы, Китай способен принимать самостоятельные решения и так быстро на эту сделку не соглашается. Катарский же газовый проект практически свернут за счет того, что устояла Сирия, так что дополнительных конкурентов у «Газпрома» с НОВАТЭКом в Европе не предвидится.
Валдис Вулдорфс
Руководитель отдела трейдинга инвестиционной компании Aravana Capital Management

КОСМИЧЕСКОЕ ЗАВЕЩАНИЕ ТРАМПА
ВАЛЕНТИН УВАРОВ
Член Международного института космического права (IISL), директор Департамента пилотируемых космических комплексов (2014–2016 гг.), директор Департамента коммерческих проектов в области пилотируемой космонавтики и исследования космического пространства (2016–2017 гг.) Объединённой ракетно-космической корпорации.
Трамп слишком явно противопоставил США всему миру. А в новой администрации США считают, что прочная сила страны исходит от упорной дипломатии, поддерживаемой угрозой силы, а не силы, поддерживаемой надеждой на дипломатию. В контексте космической политики это предполагает возможное «второе пришествие МКС» в виде нового международного проекта на базе «политики привязки».
На фоне выборных страстей в США почти незамеченным прошёл Меморандум о космической политике (Memorandum on The National Space Policy), подписанный президентом Трампом 9 декабря 2020 года. Во всяком случае российские комментаторы не обратили на него большого внимания.
Если сопоставлять этот документ с российскими аналогами, его можно назвать «Основами госполитики США в области космической деятельности – 2020». Такое сравнение тем более применимо, поскольку в самой директиве говорится, что новый указ заменяет президентскую директиву Барака Обамы от 29 июня 2010 г. «Национальная космическая политика». Кроме того, директива обобщает положения всех принятых на этот момент администрацией Трампа одиннадцати документов по космосу, включая пять директив по космической политике (Space policy directives – SPD), а также ссылается на директиву Обамы от 21 ноября 2013 г. о национальной транспортной политике. Последняя в своё время легла в основу Закона США о конкурентоспособности коммерческих запусков в космос от 2015 года, с которым иногда не совсем справедливо связывают начало коммерческого космоса в Соединённых Штатах.
В американских «космических основах» перечислены принятые на тот момент директивы по космической политике: SPD-1 – «Президентский меморандум об активизация американской программы исследования космического пространства человеком»; SPD-2 о радикальном обновлении и упрощении правовых механизмов, регулирующих деятельность частных компаний в космос; SPD-3 о национальной политике по управлению космическим движением; SPD-4 о создании космических сил США и SPD-5 – о принципах кибербезопасности космических систем. Что интересно, не прошло и недели с момента подписания новой национальной космической политики, как 16 декабря появилась шестая директива Трампа по космической политике «О национальной стратегии в области космической ядерной энергетики и двигателей», – Memorandum on the National Strategy for Space Nuclear Power and Propulsion (SPD-6). В этом документе почему-то вспоминается Space Policy Обамы от 2010 года, но ничего не говорится о новой «космической политике» Трампа, где есть подпункт с) космическая ядерная энергетика и двигательная установка в пункте 3 раздела 4 «Межотраслевые руководящие принципы космической политики». Можно предположить, что по какой-то причине SPD-6 «заблудилась» в согласованиях, а Меморандум о космической политике, который должен был венчать «космическое наследие Трампа» вырвался вперёд. Возможно даже, что это лишь отражение неладных дел «в датском королевстве» на финишной прямой президентского срока, но нормотворческий космический задел Трампа будет иметь далеко идущие последствия и заслуживает отдельного исследования.
Не стоит умалять значение данного документа, ссылаясь на то что он принят уходящим республиканским президентом. Во-первых, исходя из правовой природы данный указ может быть отменен только другим указом президента. Во-вторых, он никак не противоречит указу Обамы, а значительно углубляет, расширяет и конкретизирует общие направления, зафиксированные в «основах госполитики» от 2010 г., что видно хотя бы из того, что директива Трампа в два раза больше по объёму. В-третьих, несмотря на острейшие предвыборные баталии обе партии объединяет стремление содействовать своему бизнесу в завоевании новых рынков, а учитывая рост «космической экономики» в США, есть все шансы получения выгод и средним классом, об интересах которого пекутся идеологи от демократической партии.
Преемственность в космической политике сохраняется несмотря на сменяемость правящей партии. Можно только отметить, что с приходом республиканцев каждый раз даётся новый законотворческий импульс развитию частного космоса и созданию новой космической экономики. Так, ещё в 1984 г. при Рональде Рейгане был принят Закон о содействии коммерческим запускам. Администрация Джорджа Буша-младшего в 2004 г. стала инициатором пакета законов о коммерческом космосе: закона о содействии развитию вновь появившейся индустрии пилотируемой космонавтики (авторы – конгрессмены Д.Рорабахер, Ш.Боилерт, Б.Гордон), закона о содействии развитию индустрии коммерческого космического транспорта и об учреждении должности младшего руководителя (НАСА) по коммерческому космическому транспорту (автор – сенатор Д.Маккейн), закон о коммерческих космических запусках (авторы – Д.Рорабахер и Ш.Боилерт). Вслед за этими законами в январе 2005 г. последовала президентская директива – «Политика США в сфере космического транспорта», призванная направлять государственные и частные усилия по созданию новых космических ракет и кораблей, исключая здесь взаимное дублирование и обязывая правительство для своих нужд использовать американские коммерческие системы в случае их соответствия требованиям полётного задания.
Мы можем сравнивать директиву от 9 декабря 2020 г. только с опубликованными положениями Основ госполитики РФ в области космической деятельности от 2013 г. Принятая в январе 2020 г. новая редакция Основ не публиковалась даже в выдержках. Если в директиве Обамы упоминаются поручения отдельным ведомствам, то в наших основах от 2013 г. такой конкретизации нет. В данном контексте директива Трампа выгодна отличается тем, что она не только адресуется тринадцати «офисам» исполнительной власти, но и раздаёт достаточно конкретные поручения в «части, касающейся». Особенно интересно, что в рамках организации «межведомственного взаимодействия» даётся поручение всем руководителям учреждений, представленных в Национальном космическом совете, «назначить старшее должностное лицо, ответственное за надзор за осуществлением их соответствующими учреждениями национальной космической политики», а это должностное лицо должно периодически отчитываться перед Национальным космическим советом о ходе осуществления SPD-6 в соответствующих ведомствах.
При всех видимых различиях есть одно, что их объединяет, – это вера в американскую исключительность. И посему стабильность, безопасность и долгосрочная устойчивость в космосе возможна лишь при сохранении лидерства США. Слово “Leadership” в обоих Директивах упоминается практически одинаковое количество раз, а разница в том, что Трамп значительно увеличил упоминание об угрозах (threats) и ввёл новое понятие «единомышлeнников» (likeminded) в отношении международных организаций, государств, организаций и компаний. Таким образом он провёл черту между теми, кто относится и кто не относится к «ответственным космическим субъектам, действующим с открытостью, прозрачностью и предсказуемостью».
Определив американские космические принципы общим числом шесть, Трамп согласился, что все государства заинтересованы, чтобы ответственно действовать в космосе для обеспечения безопасности, стабильности, безопасности и долгосрочной устойчивости космической деятельности. Однако, подводя черту под принципами Space Americana, шестым пунктом он фиксирует за Соединёнными Штатами приоритет определять, какое вмешательство в космические системы можно рассматривать как нарушение прав других наций. Также США оставляют за собой право «сдерживать и противодействовать угрозам в космической сфере, которые враждебны национальным интересам Соединённых Штатов и их союзников».
Переходя к целям космической политики можно отметить, что Трамп с учётом задела, который был достигнут за прошедшее десятилетие в направлении развития новой космической экономики в США, идёт дальше. От «активизации» в версии-2010 участия своей промышленности в глобальных рынках он предлагает перейти к стимулированию частной промышленности в направлении создания новых глобальных и внутренних рынков для американских космических товаров и услуг, а также укреплять и сохранять позиции Соединённых Штатов как глобального партнёра в международной космической торговле.
«Глобальное партнёрство» понимается как руководство и расширение международного сотрудничества в космической деятельности – прежде всего в интересах США, их союзников и партнёров при условии продвижения интересов и ценностей Соединённых Штатов. Всё подается как стремление содействовать исследованию и использованию космоса в мирных целях и расширение доступа к космической информации и услугам. Однако в перечисляемых далее целях указывается, с кем и ради чего должно строиться глобальное международное партнёрство и какие инструменты должны быть задействованы. Ставится задача поощрять и поддерживать права других государств на ответственное и мирное использование космического пространства. Это должно осуществляться путём разработки и осуществления дипломатических, экономических мер и стратегий в области безопасности для выявления и реагирования на поведение, угрожающее этим правам.
Кроме этого, рекомендуется сохранять и расширить лидерство США в развитии инновационных космических технологий, услуг и операций. Рекомендуется работать с единомышленниками – международными и частными партнёрами, чтобы не допустить передачи чувствительного космического потенциала тем, кто угрожает интересам Соединённых Штатов, их союзников и поддерживающей их промышленной базы.
Не углубляясь в дальнейший анализ «конкретных поручений», хотелось бы лишь обратить внимание на то, что в пункте «Основополагающая деятельность и возможности» подчёркивается необходимость расширять потенциал США для гарантированного доступа в космос. Здесь же даётся определение «импортозамещения» по-американски, под которым понимается «укрепление безопасности, целостности и надёжности цепочек поставок космической науки, техники и промышленных баз Соединённых Штатов путём выявления и устранения зависимости от поставщиков, принадлежащих иностранным противникам, контролируемых ими или находящихся под их юрисдикцией или руководством, а также взаимодействия с Соединёнными Штатами и международными промышленными партнёрами в целях совершенствования процессов и эффективного управления цепочками поставок и обеспечения их безопасности».
Чтобы оценить прикладной характер Меморандума о космической политике (Memorandum on The National Space Policy) от 9 декабря 2020 г. его стоит рассмотреть в части конкретных рекомендаций ведомствам исполнительной власти, которые содержатся дальше в разделах «Межотраслевые руководящие принципы космической политики» и «Отраслевые руководящие принципы» и во взаимосвязи в шестью Директивами от космической политике (SPD).
Возможно, стоит провести и некоторый сравнительный анализ с имеющейся российской нормативной базой. Это тем более актуально, если мы исходим из предпосылки, что демократы возьмут курс на «налаживание» международного сотрудничества с целью обеспечения глобального лидерства. Нам уже пора разобраться в этом вопросе, ведь у демократов на уме то, что у республиканцев на языке.
В этой связи полезно обратиться к статье советника по национальной безопасности в новой администрации США Джейка Салливана «В чём Дональд Трамп и Дик Чейни были не правы в отношении Америки» (What Donald Trump and Dick Cheney Got Wrong About America) в первом номере за 2019 год в одном из старейших и наиболее респектабельных журналов The Atlantic. В ближайшие четыре года Салливан будет задавать векторы внешней политики США, а значит – и международного сотрудничества в космосе. По его мнению, и демократов, и республиканцев объединяет стремление обеспечить лидерство в мире, которое объясняется верой в американскую исключительность.
Разница лишь в том, что Трамп слишком явно противопоставил Соединённые Штаты всему миру, а Салливан считает, что «новая американская исключительность» должна основываться на предпосылке, что «прочная сила страны исходит от творческой, заслуживающей доверия и упорной дипломатии, поддерживаемой угрозой силы, а не силы, поддерживаемой надеждой на дипломатию». В контексте космической политики это предполагает возможное «второе пришествие МКС» в виде нового международного проекта на базе «политики привязки» – более благожелательно и творчески настроенной «Артемиды» (соглашения «Артемиды» – документы по мирному освоению Луны, подписанные НАСА с семью странами – Австралией, Японией, Канадой, Италией, Люксембургом, ОАЭ и Великобританией).

Браконьерские сети
«Экстерриториальность» интернет-пространства нарушает государственный суверенитет и права человека
Дмитрий Аграновский
В последнее время власти России начали принимать меры по упорядочению интернет-пространства страны. Меры эти, на мой взгляд, пока ещё слабые и непоследовательные, но лучше такие, чем никаких. Хотя Владимир Владимирович Путин ещё в 2014 году высказался совершенно определённо: «Интернет возник как спецпроект ЦРУ США, так и развивается». Тем не менее, складывалось впечатление, что проблему подконтрольности нашего интернет-пространства западным «партнёрам» старались не замечать, повторяя, что соцсети — это замечательный инструмент общения и поиска друзей по всему миру. Как будто не было многочисленных примеров, когда американские соцести становились основным средством организации и управления массовыми беспорядками и «оранжевыми» переворотами во всем мире, или, например, у нас в ходе событий 2011-2012 года вокруг Болотной площади.
Предложенный недавно в Госдуме законопроект об ограничении цензуры в интернете уже вызвал бурю негодования у наших иностранных партнёров и подконтрольной им части российской оппозиции. Хотя законопроект не направлен на запрет чего-либо, а напротив, призван ограничить существующую в интернете жёсткую цензуру. Совершенно очевидно, что большинство соцсетей в современном мире — это американская разработка. Они находятся под американским контролем, и их цель — продвижение американских интересов, а ни в коем случае не абстрактное развитие человечества и укрепление дружбы между народами. Поэтому контент и пользователи, не соответствующие американским интересам, безжалостно блокируются на чисто американских сетях, прежде всего — в Facebook, Twitter и YouTube.
Американские соцсети являются не менее опасным и не менее важным оружием, чем ракеты и авианосцы, особенно в наш век. При этом эти сети не имеют в России ни представительства, ни счетов, ни каких-либо иных органов, которым можно было бы направить претензию. Американские соцсети в нашей стране проникли практически в каждую квартиру, в каждый офис, в том числе — и государственных учреждений. При этом они не просто абсолютно неподконтрольны нам, нашим властям и нашим законам. Всё ещё хуже — они подконтрольны правительству и специальным службам США. В этих соцсетях действует жёсткая цензура. И абсолютное большинство наших патриотических пользователей, культурных, выдержанных и интеллигентных людей, в той или иной форме этой цензуре подвергались. Не секрет, что русскоязычные сегменты американских соцсетей модерируются из Украины и Польши, отсюда такая жёсткая избирательность в фильтрации контента, якобы «нарушающего нормы сообщества». Впрочем, возможно, они по-своему правы — если деятельность такого «сообщества» направлена на продвижение в России американских интересов, и вообще информационную войну против нас, то и нормы у него соответствующие.
Справедливости ради, фильтрации подвергается не только наш патриотический контент. Например, совершенно комически выглядит, как почти к каждому посту твиттер-аккаунта Дональда Трампа @realdonaldtrump администрация твиттера прикручивает надпись, что сведения в твите «не соответствуют действительности», а при попытке ретвитнуть, то есть, перетащить в свой аккаунт этот твит, ты сначала попадаешь на пространный текст, где объясняется, что всё изложенное в трамповском твите — «неправда». Или не так давно твиттер ввел маркировку твиттер-аккаунтов — например, аккаунты тех средств массовой информации, которые им не нравятся, они маркируют как «государственное российское СМИ»
Увы, пока мы проигрываем эту войну вчистую. Просто представьте, что было бы с аналогичной попыткой распространить в США российские социальные сети. Хотя есть примеры, когда в США даже в их «фейсбуке» были заблокированы тысячи аккаунтов, потому что, по мнению хозяев «фейсбука», они способствуют «российской пропаганде». Наши соседи, в том числе Грузия и Украина, — блокируют не только наши соцсети, но и телеканалы. Наши партнёры не стесняются применять цензуру самым решительным образом, но от нас при этом требуют полной открытости. И наши ответные действия в этом направлении можно только приветствовать, и хотелось бы, чтобы это было только начало.
Тоталитарную политику американских соцсетей лучше показывать на наглядных примерах. Я, чтобы не ходить далеко, буду исходить из моего личного опыта. Интересно было не только то, за что меня блокировали, но и то, что формально совершенно разные ресурсы действовали синхронно, как управляемые из единого центра.
Небольшая предыстория. В общем-то меня блокировали или удаляли отдельные посты и раньше. Так, например, в 2015 году, как раз в период нашей активной поддержки ДНР и ЛНР, уничтожили твиттер-аккаунт с 50.000 читателей. Причем, тогда синхронно был уничтожен целый ряд патриотических аккаунтов. Но в последнее время процесс перешёл в новое качество. В декабре 2018 года вашего покорного слугу либеральные оппозиционеры внесли в так называемый «санкционный список Путина» — это такой проект радикальных либеральной оппозиции, в котором они формируют список политических и общественных деятелей, сотрудников органов власти, журналистов, наиболее, на их взгляд, угрожающих продвижению «демократических ценностей» или, по-простому, работе «пятой колонны» США в России. Там на сегодня чуть более 300 фамилий, и этот список с обновлениями они каждый год передают в американскую администрацию. Разумеется, никаких официальных действий в связи с этим США не предпринимают, но, очевидно, на заметку людей из этого списка берут. Я делился впечатлениями о работе соцсетей со многими людьми из «санкционного списка» и все в той или иной мере сталкивались с проблемами и преследованием в американских соцсетях.
Только за 2020 год меня блокировали в фейсбуке 5 раз каждый раз сроком на месяц. Причем, поводы были, как возмутительные, так и анекдотические. Например, в январе я написал, что «Ракетный удар по Ирану — это возмутительный акт американской агрессии». Почти сразу же администрация фейсбука удалила этот пост, как «разжигающий ненависть». Ну удалила и удалила. А в апреле за этот уже удаленный пост меня забанили на 30 суток. Чуть ранее, в феврале меня забанили на 30 суток по жалобам представителей бандеровской общественности и в тот же день уничтожили мою страницу в «Википедии», которую какие-то добрые люди создали ещё в 2007 году. Мне советовали заводить параллельные, дублирующие аккаунты, что я и делал — но в этом году, в отличие от прошлого, администрация фейсбука блокировала их сразу все, что доказывает: репрессии не привязаны к какому-то определенному нику или аккаунту, а имеют более сложный алгоритм.
В начале сентября меня заблокировали в фейсбуке на 30 суток — и в этот же день уничтожили два моих аккаунта в твиттере, которые были зарегистрированы на разную почту и разные номера телефонов. Причём администрация твиттера написала мне, что оба аккаунта забанены навсегда, и любые мои попытки зарегистрировать их вновь будут блокироваться. Поэтому сейчас в твиттере я зарегистрирован не под своим именем и фамилией, что делаю всегда, а под псевдонимом. Такая вот свобода слова! А какова была моя провинность? Похоже, она была очень серьёзной — весь август я решительно выступал во всех соцсетях против попытки «оранжевого» переворота в Белоруссии, и к концу августа стало окончательно ясно, что переворот провалился. Думаю, это вызвало у западных кураторов особенную ярость. И на этот раз в твиттере и фейсбуке меня забанили за поздравления в адрес Александра Григорьевича Лукашенко, которые я проиллюстрировал его замечательным фото с автоматом. По мнению администраций соцсетей, эти посты «разжигали ненависть» и «не соответствовали нормам сообщества». Опять же, как я говорил выше, какое сообщество — такие и нормы.
И так далее в том же духе. Я показал на своем примере, но многие из наших патриотических общественных деятелей или средств массовой информации сталкиваются с американской цензурой в ещё более жёсткой форме. При этом я вообще ни разу не подвергался с блокировкам и даже малейшим ограничениям в соцсетях, которые так или иначе можно назвать нашими: «ВКонтакте», «Одноклассники» или «Телеграм».
И не нужно нас, фактически — жертв американской цензуры, выставлять какими-то мракобесами или душителями свободы слова. Я даже не призываю (по крайней мере, пока) к запрету фейсбука, твиттера или ютуба на территории России, как это сделано в Китае. Там все соцсети «свои». И, кстати, китайский бизнес нисколько от этого не страдает, чем нас любят пугать. Но должны быть простые и понятные правила работы американских соцсетей и других ресурсов на территории России. Никто ведь не выпускает в оборот импортные несертифицированные и непроверенные лекарства или технические устройства. Наоборот, это строго преследуется и никем не воспринимается, как попытка ограничить «свободу торговли».
Американские соцсети в России должны иметь свои представительства в виде юридического лица, со счетами и имуществом, на которые можно будет наложить арест по соответствующим судебным решениям, поскольку уже сейчас целый ряд принятых судебных решений соцсетями демонстративно не выполняется, а заставить их нет никакой возможности. У этих сетей должна быть понятная, расположенная в России сеть модераторов, и эти люди должны быть нам известны, и любому пользователю должно быть ясно, как подать на них жалобу.
И уж тем более, и это совершенно очевидно, на территории нашей страны иностранные соцсети и другие ресурсы не должны распространять русофобский и иной враждебный контент. А если все эти требования будут выполнены, так, на мой взгляд, милости просим, будем общаться и искать друзей!

СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ
ФЁДОР ЛУКЬЯНОВ
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай». Профессор-исследователь НИУ ВШЭ. Выпускник филологического факультета МГУ, с 1990 года – журналист-международник.
КАК СЕГОДНЯ ВИДЯТ РОССИЮ В США
Россия в глазах США агрессивна и злонамеренна. Сложившееся восприятие сейчас не изменить, что-то доказывать и вообще как-то реагировать бессмысленно. Что же делать? Рецепт один: постараться минимизировать американский фактор в нашей политике и проводить курс, исходя из текущих задач.
Президентство Джозефа Байдена начинает обрастать «мясом» – активно комплектуется администрация, объявлены кандидаты почти на все значимые посты. Общая логика назначений, а, следовательно, и будущей политики вполне понятна. Опора на коллег из периода Барака Обамы. Максимальное присутствие женщин и небелых. Но в то же время тщательное избежание представителей левого крыла. Либерально-глобалистская риторика, стремление даже не перечеркнуть время Трампа, а демонстративно стереть его, как дурной сон. На деле трампистское наследие, скорее всего, сохранится в целом ряде сфер, но публичная задача – продемонстрировать, что это не так.
Нас, естественно, интересует российское направление. Перемен в Москве никто особенного не предвидел, но так уж устроен цикл наших отношений с США, что каждая смена в Белом доме инстинктивно вызывает некоторое шевеление ожиданий.
Дабы вдруг не возникло иллюзий, поделюсь собирательным описанием того, как видят Россию те, кто, вероятно, будет оказывать влияние на формирование политики. Это обобщение – результат участия в нескольких обсуждениях с американскими коллегами за последнее время.
Итак: Россия – противник, нацеленный на противодействие Соединённым Штатам и подрыв их позиций везде и настолько, где и насколько это возможно. Она пребывает в упадке, вероятнее всего, необратимом, так что едва ли опасна в долгосрочном плане, но сохраняет немалый потенциал для нанесения ущерба Западу сейчас и в краткосрочной перспективе.
Россия – агрессивна и злонамеренна, это проявляется во всех её действиях.
Во внутренней политике нарастают репрессии, которыми сопровождаются старение режима и рост недовольства населения. В отношении соседних стран – непрекращающееся вмешательство и давление с целью принудить их вернуться в сферу российского влияния. На европейской сцене – попытки расшатывания демократических обществ путём коррупции и поощрения самых отвратительных там сил. Что же касается США, то Россия не перестаёт атаковать через киберпространство её ведомства и инфраструктуру, а также продолжать расшатывать общественные устои, хотя на выборах в этот раз враждебным усилиям удалось поставить заслон.
Более умеренные комментаторы и аналитики нюансируют, что, мол, и мы отчасти виноваты, что она (Россия) стала такой, бывали ошибки. И надо всё-таки иметь что-то вроде позитивной программы, например, обозначить возможность отмены каких-нибудь санкций, если Москва изменит своё поведение в том или ином вопросе (само такое допущение считается уступкой). Но в целом этот крайне отталкивающий портрет является консенсусным и общепринятым в рядах внешнеполитического и стратегического сообщества.
Любопытно, что значительная часть этого сообщества полагает, что Вашингтон, на самом деле, настроен к Москве конструктивно.
В том смысле, что, несмотря на всё вышеизложенное, должен и готов иметь с ней дело. Конечно, на своих условиях, не прекращая и даже наращивая давление, но тем не менее. Потому что есть темы, по которым сотрудничество с Россией неизбежно. Например, ядерные вооружения и стратегическая стабильность. Приходящая администрация считает необходимым продлить СНВ и продолжать разговор дальше. Но только никаких условий со стороны Кремля, потому что ему это надо больше Белого дома. Где ещё не избежать взаимодействия с Россией? Без особого энтузиазма упоминается климат, совсем уже вяло Арктика.
Ну а что же делать вообще? Не стесняться давать отпор агрессивным устремлениям Москвы. Хватит миндальничать и вести себя по-джентльменски. Прежде всего, естественно, в самых опасных проявлениях русской агрессии – кибератаках на США и их союзников. Ни в коем случае не признавать, что Россия имеет какие-то особые права касательно стран-соседей и постсоветского пространства. Вообще перестать смотреть на них сквозь призму того, как отношения США с ними воспримет Россия, – в этом была, как многие говорят, ошибка Обамы. Максимально вернуть распуганных Трампом союзников, чтобы сдерживать Кремль совместно. Работать напрямую с российским обществом в обход государства всеми способами, какими возможно, поддерживать и поощрять его к самореализации. Раз общество проснулось в Белоруссии, вероятно, проснётся и в России, как когда-то в Советском Союзе. Ну и очень важно – беспощадное разоблачение коррупции, повышение стандартов финансовой прозрачности, создание повсеместно невыносимых условий для олигархов и клептократов.
Описанная картина не является преувеличением, скорее – квинтэссенцией. Справедливости ради, надо сделать оговорку. Это идеальное изображение. В практической деятельности администрации придётся, безусловно, проявлять некую гибкость и идти на ситуативные компромиссы, когда ей это понадобится. Но легко вообразить вероятную степень и пределы той самой гибкости при подобных предпосылках.
Что делать России? Ничего. Сложившееся восприятие сейчас не изменить, что-то доказывать и вообще как-то реагировать бессмысленно. Рецепт один, который уже приходилось выписывать: постараться минимизировать американский фактор в нашей политике и проводить курс, исходя из текущих задач. Настанет время, когда отношения вновь потребуются обеим сторонам. Но не сейчас.
Сокращённая версия этой статьи была впервые опубликована в Российской газете.

Олег Сыромолотов: легализация наркотиков – это прямая дорога в ад
Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью РИА Новости о том, когда могут состоятся первые после прихода новой администрации контакты с США по антитеррористической тематике, как развивается сотрудничество России с ЕС на фоне прогремевших в этом году терактов и всплеска экстремизма, и о том, от каких стран в первую очередь исходит киберугроза.
– Как вы оцениваете перспективы сотрудничества по тематике антитеррора с США после прихода новой администрации? Есть ли понимание, с кем предстоит вести диалог по антитеррористической проблематике? Когда могут состояться первые контакты с новыми американскими партнерами?
– Чтобы оценить перспективы сотрудничества с США по тематике антитеррора, сначала следует определиться, о каком формате идет речь. Соответствующие контакты между российскими и американскими правоохранительными органами и спецслужбами не прерывались. Они по-прежнему осуществляются на регулярной основе. Исходим из того, что проводимая по этой линии работа не должна прекращаться и не может ставиться в зависимость от политической конъюнктуры.
В политическом же плане, как вы помните, Вашингтон в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США. Мы уже говорили о готовности продолжить работу в этом формате, но, и мы это также неоднократно подчеркивали, только при условии взаимной заинтересованности, основанной на прагматичном и, главное, разумном подходе обоих государств.
Наши встречи с первым замгоссекретаря США Джоном Салливаном в 2018-2019 годах в Вене (сейчас он является послом США в Москве) были полезны для обеих сторон. И у этого диалога были все возможности стать "всепогодным", не зависящим от внешних раздражителей. Но американцы выбрали вместо этого путь каких-то нелепых обид. Можно лишь выразить сожаление в связи с подобного рода поведением.
Вынужден в очередной раз акцентировать, что нам этот диалог не может быть нужен больше, чем заокеанским партнерам. Поэтому о сроках эвентуального возобновления этих контактов следовало бы спросить у них. Однако ответ, по всей видимости, будет возможен лишь после формирования новой руководящей команды госдепартамента.
– Повлияла ли пандемия коронавируса и соответствующие локдауны на риски, связанные с терроризмом? Возросли ли они? Нет ли опасности, что экстремисты воспользовались ситуацией, чтобы перегруппироваться и усилиться?
– Пандемия коронавируса безусловно повлияла на многие сферы нашей жизнедеятельности. Введение локдаунов и других ограничений, включая меры по охране госграниц и общественного порядка, в какой-то степени затруднило возможность проведения терактов. Однако это, например, породило и определенное количество лиц, разочаровавшихся в действиях своих властей. В условиях самоизоляции люди больше времени проводят в интернете. Этим и пытаются пользоваться террористы: вербуют недовольных, распространяют панику и различные экстремистские идеи. В целом, террористические организации, как и любые другие преступники, всегда пытаются изыскать выгоду от существующей в данный момент конъюнктуры, критикуют законные правительства за якобы неспособность противостоять эпидемии и пытаются представить дело так, как будто коронавирус – какой-то бич Божий. В этой связи опрометчиво было бы предполагать, что теругрозы в период пандемии ослабли.
– Стали ли европейские партнеры более конструктивно относиться к сотрудничеству по антитеррору с Россией на фоне ряда терактов и всплеска экстремизма в странах ЕС? Есть ли у Москвы данные об опасности новых терактов в Европе?
– Наше сотрудничество с европейскими партнерами продолжает набирать обороты. Причем это происходит не столько из-за всплеска тердеятельности в Европе, сколько из-за общего понимания необходимости борьбы с терроризмом. Позитивно рассматриваем взаимодействие с Испанией, Францией, Италией и некоторыми другими странами. Надеемся, что такой настрой сохранится, и сотрудничество как по линии внешнеполитических ведомств, так и спецслужб продолжится.
Что касается новых терактов, то вне зависимости от наличия или отсутствия конкретной информации по той или иной стране нужно не терять бдительность, не давая террористам ни малейшего шанса осуществить свои человеконенавистнические планы.
– Сотрудничает ли Россия с Китаем в сфере борьбы с кибертерроризмом? Есть ли примеры практических результатов этого сотрудничества? От каких стран в первую очередь исходит киберугроза?
– По мере развития цифровых технологий масштабы применения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и сети интернет в противоправных целях неуклонно растут. Возможности интернета используются в том числе террористическими организациями для сбора финансовых средств, вербовки сторонников, осуществления террористических атак путем создания каналов связи и оперативного управления действиями ячеек или отдельных боевиков.
Россия имеет большой исторический опыт взаимодействия с КНР по всему спектру вопросов обеспечения международной информационной безопасности (МИБ) в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних форумов. В Соглашении между правительствами государств-членов ШОС о сотрудничестве в области обеспечения МИБ от 16 июня 2009 года противодействие угрозам использования ИКТ в террористических целях обозначено в числе основных направлений взаимодействия.
Правовой основой двустороннего сотрудничества стран является подписанное 8 мая 2015 году российско-китайское межправительственное соглашение по МИБ. В числе приоритетов этого документа также указана совместная борьба с использованием ИКТ в террористических целях.
Практическое взаимодействие России и Китая в сфере противодействия противоправному применению ИКТ по линии соответствующих служб носит постоянный характер. В качестве примера успешного сотрудничества с зарубежными партнерами, в том числе с коллегами из КНР, можно назвать подготовку и проведение крупных международных спортивных мероприятий.
Что касается киберугроз в информационном пространстве в целом, то, по оценкам ведущих зарубежных и российских компаний в области информационной безопасности, большая часть вредоносной активности исходит с территории США.
Можно также вспомнить доклад Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации от 15 июля 2020 года, в котором приводилась статистика воздействия на информационные ресурсы России во время голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации летом 2020 года. Массированные DDOS-атаки фиксировались с территории США, ФРГ, Великобритании, Сингапура, Тайваня (КНР), Украины и ряда стран СНГ.
– Есть ли у России данные по поводу боевиков, которые воевали в Нагорном Карабахе? Они выведены из региона? Кем и куда?
– Наличие боевиков с Ближнего Востока в боевых действиях в районе Нагорного Карабаха – зафиксированный факт, который был подтвержден не только нами. Счет наемникам шел на около двух тысяч.
Мы с самого начала выражали обеспокоенность появлением там радикально настроенных наемников, исповедующих идеологию джихадизма. Наша позиция в отношении них не претерпела изменений – быть их там не должно.
– Как развивается в последнее время работа России на международных площадках по антинаркотической проблематике? Какова позиция российской стороны по наметившейся в последнее время нарколиберальной тенденции, включая легализацию каннабиса, нарушающую несколько профильных конвенций ООН?
– В Комиссии ООН по наркотическим средствам (КНС), являющейся политикоформирующим органом системы ООН в сфере международного контроля над наркотиками, Российская Федерация неизменно проводит инициативную, наступательную линию. Мы уверены в правоте нашей позиции, поскольку она зиждется на неоспоримых положениях международного права, которое ставит рекреационное (немедицинское) применение наркотиков вне закона. Подобный принципиальный курс способствует консолидации вокруг России многочисленных государств-единомышленников, не приемлющих нарколиберальные эксперименты. Это наглядно проявилось 2 декабря этого года, когда Комиссия отвергла пять из шести рекомендаций экспертов ВОЗ, направленных на ослабление ныне действующего режима контроля над каннабисом и его производными. Много медийной шумихи поднялось вокруг одобрения с перевесом всего в два голоса рекомендации об исключении каннабиса из списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года. Хотелось бы разочаровать любителей сенсаций, поскольку в данном случае ее не произошло. Этот наркотик остается под жестким конвенционным контролем, будучи включенным как в список I упомянутой Конвенции, так и непосредственно в ее текст наравне с кокаином и опиоидами. Кроме того, статья 39 данного международного договора позволяет государствам устанавливать еще более строгие меры национального контроля для охраны общественного здоровья и благополучия.
Хотелось бы процитировать выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на 62-й сессии КНС в марте 2019 года, в котором он заявил, что легализация наркотиков – это прямая дорога в ад. Мы за то, чтобы эта дорога была надежно перекрыта. Одновременно российский министр справедливо указал на то, что членство в многосторонних антинаркотических органах должно быть возможно только для тех государств, которые четко следуют предписаниям трех конвенций ООН о контроле над наркотиками.
Намерены совместно с нашими единомышленниками и впредь выступать за незыблемость положений международного режима контроля над наркотиками, основанного на трех универсальных антинаркотических конвенциях. Это напрямую вытекает из утвержденной Указом президента Российской Федерации от 23 ноября. Стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, которая четко ставит задачу по недопущению нарколегализации. Аналогичным курсом мы следуем и в отношениях с нашими ближайшими союзниками. В ходе недавно завершенного председательства России в ШОС и ОДКБ по нашей инициативе приняты сильные документы, направленные на наращивание потенциала этих организаций в деле противодействия трансграничной наркоэкспансии на пространстве Евразии. Убеждены, что совместными усилиями мы с этой задачей справимся.

Владимир Цыбенко: «Классический принцип – отбор дивидендных аристократов»
Руководитель отдела инвестиционного консультирования ГК «Финам» Владимир Цыбенко считает, что главный среднесрочный тренд на рынке – переток средств инвесторов из IT в бумаги реального сектора и дивидендные истории.
Петр Рушайло
СПРАВКА
Владимир Цыбенко родился в Новом Уренгое. В 2008 г. окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. Работает в ГК «Финам» с 2006 г., в настоящее время занимает должность руководителя отдела инвестиционного консультирования. Ориентировочный объем активов под управлением – более 10 млрд рублей.
Группа компаний «Финам» – один из ведущих брокеров на российском рынке, а также инвестиционный холдинг, специализирующийся на оказании инвестиционных банковских услуг. Обслуживает более чем 300 тыс. клиентов в России, США, Европе, и странах Юго-Восточной Азии (представлена более чем в 40 странах мира). Объем клиентских операций на фондовом рынке Московской биржи по итогам 2019 г. превысил 6 трлн рублей.
«Негатив в экономике не исчезнет мгновенно»
– Как бы вы описали сейчас общую ситуацию на финансовых рынках?
– С одной стороны – как неопределенную, с другой – как подающую достаточно много надежд. Надежды связаны с появлением вакцины от коронавируса, причем сразу от нескольких производителей, а также с итогами американских выборов, которые делают вероятным смягчение риторики США в отношении Китая. Неопределенность же связана с тем, что, по мнению многих экспертов, не все риски, связанные с пандемией, уже реализовались в полной мере, новые последствия будут проявляться еще достаточно долго. Так, например, не исключено достаточно большое количество дефолтов по корпоративным облигациям.
– Это в пострадавших отраслях?
– Да, разумеется, но не только. Пострадавшие отрасли будут за собой тянуть еще и банковскую систему, и смежников. Все это может привести к замедлению мировой экономики, что, безусловно, скажется на ценах на нефть, а далее – на российском фондовом рынке. Пока ситуацию спасают вливания ликвидности со стороны ЕЦБ и ФРС. Но опять-таки летом были заявления о том, что на горизонте двух-трех лет эти вливания будут прекращены, поэтому ситуация неоднозначна.
– Прекращения вливаний будут связаны с запуском вакцинации и прекращением пандемии?
– Когда пройдет массовая вакцинация, действительно уйдет основной риск, но негатив в экономике не исчезнет мгновенно, спад будет продолжаться. Для того чтобы перейти к росту, эти вливания нужно будет продолжать, причем есть подозрение, что двух лет стимулирования, которые сейчас декларируются, может не хватить.
– Что это означает с точки зрения фондового рынка?
– Безусловно, для фондового рынка дешевая ликвидность в большом объеме – это хорошо. С этой точки зрения мы видим прежде всего потенциал восстановления в тех отраслях, которые сильно просели. Это, например, «нефтянка», авиаперевозки, авиапроизводители. Они уже начали показывать восстановительный рост. Также возможен переток средств в пострадавшие отрасли из высокотехнологичного сектора, который был локомотивом рынка во время пандемии, здесь инвесторы могут начать фиксировать прибыль.
– Насколько быстрым может быть такой переток?
– Мне кажется, он будет плавным – постепенное закрытие позиций и переход в другие сектора.
– Да, но о таком сценарии сейчас многие говорят. Означает ли это, что уже пора закрывать позиции? Или стоит дождаться более четких сигналов?
– Я бы все-таки придерживался принципов диверсификации, то есть полностью не выходил из IТ-сектора, там много интересных имен и историй остается. Но уже сейчас начал бы потихоньку переходить в сектора реальной экономики. Помимо пострадавших отраслей, присмотрелся бы к дивидендным компаниям, потому что те инвесторы, которые будут фиксировать прибыль в компаниях роста, при выборе компаний стоимости будут обращать внимание на дивидендные истории. И сейчас, мне кажется, достаточно неплохой момент, для того чтобы начать формировать себе такой портфель.
– А как вы выбираете эти дивидендные истории? Особенно интересна процедура на американском рынке, где много бумаг.
– Классический принцип – отбор дивидендных аристократов. То есть компаний, которые в течение последних 25 лет выплачивали дивиденды и не снижали их планомерно. Это лонг-лист, дальше идет более тонкий отбор. Здесь многое зависит от личных вкусов. Мы, в частности, смотрим на капитализацию – чтобы была достаточно большой, а также отслеживаем текущий тренд, в котором развивается компания, – чтобы он был как минимум не нисходящим. А дальше выбираем объем позиции. Здесь подходы могут быть разные: можно взять несколько эмитентов в равных долях, можно взвесить по дивидендной доходности, можно еще какие-то параметры учитывать.
– Можете привести примеры дивидендных аристократов?
– Coca-Cola, Johnson & Johnson, AT&T. На самом деле список этих компаний каждый год публикуется. Мы выбираем из него порядка 10 имен, тем или иным способом определяем их доли и формируем портфель.
– Вы упоминали как важный фактор избрание на пост президента США представителя демократической партии. Помимо возможного улучшения отношений с Китаем, как это меняет ваши инвестиционные предпочтения в конкретных отраслях в среднесрочной перспективе?
– В этом плане достаточно много интересных идей. Прежде всего это все, что касается инвестиций в инфраструктуру и зеленую энергетику – здесь мы ожидаем роста рынка. Даже несмотря на то что зеленая энергетика в этом году уже выросла процентов на 20, следующий год может быть для нее еще лучше.
– Зеленая энергетика и американская коммуналка – довольно экзотические сектора для российского инвестора, они не на слуху. Как выбирать бумаги?
– Пути традиционны: воспользоваться услугами финансового консультанта или купить ETF. С небольшими суммами вложений, думаю, ETF однозначно лучше. Пороги входа там небольшие, порядка 150 долларов. Единственное, нужно иметь статус квалифицированного инвестора, поскольку на российских биржах подобные ETF не обращаются. С инвестициями в Utilities аналогичная картина.
«Инвестирование – это, по сути, исследование некой гипотезы»
– Что будет происходить на российском рынке в связи с формированием восстановительного спроса в экономике?
– Мы уже видим рост в акциях нефтегазового сектора. Сейчас это в первую очередь нефтяные компании, но в средней и долгосрочной перспективе я бы больше ставил, наверное, на газовые. В частности, мне очень нравится компания «НОВАТЭК». В том числе потому, что газ – более экологичное топливо, там больше вариантов поставок, дешевле добыча и транспортировка, нет картелей и ограничений на наращивание производственных мощностей. При этом у компании есть перспективные долгосрочные контракты, она вводит новые терминалы. Словом, история выглядит перспективной.
– Вас не смущает, что у нас акции нефтегазовых компаний в последние 10–15 лет перманентно снижаются в цене?
– Да, это верно. Но мы говорим не о перспективе 10 лет, а о годовом горизонте. Российский рынок – он в принципе такой, что за ним нужно следить регулярно. Вне зависимости от того, на какой срок вы изначально ориентировались при формировании портфеля. Второй момент – ситуация в «нефтегазе» может кардинально измениться в связи с увеличением доли СПГ в потреблении газа. Поэтому, в частности, я и выделяю «НОВАТЭК». Здесь есть понятная идея роста.
– А дивидендные истории? Здесь есть российские аристократы?
– Конечно, у нас нет рынка с 25-летней устойчивой историей, в данном плане мы смотрим на выплаты за последние пять-шесть лет. И случаи, когда российская компания в течение этих пяти лет только повышает дивиденды, можно пересчитать по пальцам. Но даже на эту короткую историю можно ориентироваться. Кроме того, мы примерно понимаем, в каких случаях какие компании будут выплачивать высокие дивиденды. И большее внимание обращаем не на историю, а на капитализации компаний, на прогнозы менеджмента по дивидендам, на дивидендную политику, которая закреплена в уставе, на прогнозы экспертов по отчетности компаний. И на то, насколько интересно смотрится компания в моменте. С этой точки зрения сейчас интересны МосБиржа, которая тестирует исторические максимумы, «Сургутнефтегаз» в связи с большими объемами валюты на балансе и ростом курса доллара, «Норникель» – на фоне роста цен на промышленные металлы. И тому подобное. Если же отвлечься от дивидендов и вернуться к компаниям роста – «Яндекс», Mail.ru, Ozon.
– Какие шаги и в какой последовательности вы делаете при формировании портфеля?
– Инвестирование – это, по сути, исследование некой гипотезы. Например, у нас может быть гипотеза, что нефтяные компании будут продолжать восстановительный рост. Или что металлурги будут платить хорошие дивиденды. Или что зеленая энергетика вырастет в несколько раз. Иными словами, поиск начинается с идеи. При этом надо понимать, какие цели у этого портфеля. Если мы формируем долгосрочный портфель, то будет интересна одна гипотеза. Если мы говорим про работу с текущими тенденциями – другая. Дальше мы начинаем эту гипотезу исследовать. То есть выбираем ценные бумаги, которые подходят под данную гипотезу, и начинаем уже конкретно по данной идее работать: выбирать те компании, которые выглядят наиболее перспективно. Возможно, это будут наиболее привлекательные по цене бумаги, возможно – компании, у которых есть дополнительные идеи роста вроде ввода новых мощностей или разработки новых технологий. Ну а дальше – это уже техника, подбор весов каждой конкретной бумаги в зависимости от выбранной модели.
– Как бы вы описали портфель, который частный инвестор может собрать сам, и портфель, формирование которого лучше доверить профессионалам?
– В принципе, если есть статус квалинвестора, вы можете собрать вполне качественный портфель и самостоятельно, обеспечив диверсификацию за счет покупки ETF. В этом плане качество портфеля будет зависеть от ваших личных компетенций, умения анализировать и реальной квалификации, а не формальной. Другое дело, что одной аналитикой дело не ограничивается. Вопрос встанет не только о весах той или иной бумаги или отрасли в портфеле, но и о тех уровнях, на которых следует закрывать и открывать позиции, о риск-менеджменте. Например, классическая ошибка начинающих инвесторов – они боятся закрывать позиции с убытком. Это одна из тех ошибок, которые имеют едва ли не самые катастрофические последствия.
Кроме того, важна правильная диверсификация. Например, не просто навскидку сказать, что одна отрасль не коррелирует с другой, а подкрепить это конкретными цифрами. В том числе построив матрицу корреляции, математически подойти к этому вопросу. Поэтому, если сумма вложений большая, я бы все-таки советовал обращаться к помощи профессиональных управляющих.

США VS КИТАЙ: ВЫБОР ТРЕТЬИХ СТРАН
АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ
Кандидат экономических наук., научный сотрудник, заместитель заведующего сектора международно-экономических исследований Центра комплексных европейских и международных исследований Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики».
В ближайшие годы мир будет свидетелем постепенного экономического разъединения двух крупнейших мировых экономик – США и Китая. Это станет одним из ключевых факторов, определяющих экономические и политические отношения на мировой арене. Можно ждать нарастания регионализации, ускорится формирование американо- и китаецентричного экономических полюсов. Для третьих стран этот разрыв означает появление новых торговых и инвестиционных ниш из-за распадающихся американо-китайских отношений, но и риски вторичных санкций.
В случае усиления санкционной войны странам, которые активно сотрудничают одновременно с Соединёнными Штатами и КНР (в том числе Австралии, Сингапуру, Японии, Южной Корее, Гонконгу и другим) придётся делать непростой выбор в пользу наращивания или, наоборот, сокращения связей с одной из сторон конфликта.
В результате разрыва США не удастся сгладить дисбаланс торговли с Китаем и решить наболевшую проблему дефицита торгового баланса и внешнего долга. Разворачивающийся конфликт имеет долгосрочные последствия только для высокотехнологичных отраслей, принципиальных технологий и научно-технического сотрудничества. Вряд ли он когда-либо коснётся потребительских товаров и машиностроительной продукции, которые столь важны для американского потребления и на которые приходится подавляющая часть торгового оборота между странами.
Пандемия ускоряет разъединение, но сам процесс остаётся долгосрочным, его невозможно осуществить за три-пять лет из-за высоких издержек одномоментного разрыва связей.
Китай как относительно выигравшая в текущий кризис экономика получает дополнительную фору для адаптации и выстраивания экономических мер, направленных на смягчение последствий разрыва.
Феномен разрыва и его проявления
Во время своего президентства Дональд Трамп обозначил двусторонний торговый дефицит США и Китая в качестве одной из основных экономических проблем. После расследования 2017 г. о нарушении прав интеллектуальной собственности вводятся санкции в отношении ряда китайских технологических компаний, создающие ограничения доступа к продукции американских хайтек-отраслей. Также активизируются попытки осуществить возврат производственных мощностей в ряде секторов. С января 2018 г. после введения двусторонних торговых ограничений разгорается торговая война[1]. В результате в мире заговорили о процессе разъединения двух крупнейших экономик. Помимо торговли и важнейшей для обеих стран технологической сферы эта война охватывает и валютно-финансовые отношения, и сотрудничество в области образования, научных исследований и разработок.
Глубокая взаимозависимость между США и Китаем лежала в основе глобализации 2000-х годов. Связанность особенно тесна в торговой сфере. Соединённые Штаты – ключевое направление китайского экспорта: порядка 20 процентов, а если учитывать реэкспорт через Гонконг, то доля близка к 30 процентам[2]. Аналогичную долю Китай составляет в структуре импорта США и, таким образом, вносит важнейший вклад в удовлетворение американского спроса на потребительские и промышленные товары. При этом торговля между странами разбалансирована: значительный дефицит торгового счёта США (около 0,6 трлн долларов в год) наполовину объясняется именно китайским фактором.
Для Китая технологическая сторона сотрудничества является одной из наиболее важных. Соединённые Штаты – ключевой источник передовых технологий и высокотехнологического импорта, особенно в области микроэлектроники. Высока связанность в научно-исследовательской (в особенности в CORE science) и образовательной сферах. При этом для США Китай важен как ключевой кредитор, а также крупнейший в мире держатель доллара в золотовалютных резервах.
Считалось, что такая тесная экономическая связанность должна ослабить политическое противостояние двух стран[3], однако стратегический конфликт она не предотвратила.
Долгосрочные сдвиги в мировой экономике, США и Китае как глубинные причины разрыва
Происходящий разрыв имеет более глубинные причины, чем события 2017–2018 гг., после которых тематика разъединения получила широкую огласку. Мировая экономика изменилась после финансового кризиса 2008–2009 г.: роль внешней торговли как фактора роста снижается[4], нарастает регионализация, кризис институтов ВТО, распространяются санкции и инструменты нового протекционизма. Для Китая эти изменения ещё до 2017–2018 гг. свидетельствовали о необходимости перестройки своей экономики и выработки стратегии с опорой на внутренний спрос и большую независимость[5]. Причины заложены также и во внутренних изменениях в США и Китае. За счёт быстрого экономического роста 1990–2000-х гг. в Китае растёт благосостояние населения, поднимается уровень зарплат (почти двукратно за 2008–2017 гг.), что постепенно ослабляет привлекательность Китая для иностранных компаний как источника дешёвой рабочей силы.
Китай становится не только крупнейшей по ВВП экономикой, но и увеличивает влияние за счёт активной инвестиционной и кредитной экспансии по всему миру. Это делает его претендентом на экономическое и политическое лидерство. Для американцев такой быстрый подъём Китая и превращение его в реального конкурента не только оказался неожиданным (не было продуманной долгосрочной стратегии взаимодействия с КНР), но и создало долгосрочные вызовы (особенно в высокотехнологической сфере) и, по мнению администрации США, риски национальной безопасности.
Внутренней проблемой США остаётся дефицит текущего счёта операций (2–3 процента ВВП в 2019 г.[6]) и растущий государственный долг (107 процентов ВВП в 2019 г.[7], по итогам 2020 г. ожидается рост до 125 процентов ВВП). Поскольку одним из важнейших источников внешних доходов США являются патентные и лицензионные платежи и высокотехнологический экспорт (порядка 376 млрд долларов или 19 процентов всего экспорта в 2017 г.[8]), то риски потери технологического лидерства в долгосрочном периоде создают угрозы ещё большего ухудшения дефицита и, следовательно, риски для макроэкономической стабильности.
Пандемия COVID-19 стала катализатором процессов разрыва не только из-за всплеска политической напряжённости между странами. Она также продемонстрировала необходимость диверсификации и повышения стабильности глобальных цепочек добавленной стоимости, способствовала росту общих деглобализационных настроений и трендов на локализацию и регионализацию.
Совокупность фундаментальных факторов в любом случае рано или поздно способствовала бы запуску процесса расхождения стран.
Ввиду прочной взаимозависимости процесс будет долгосрочным, одномоментный разрыв был бы связан с существенными издержками для обеих сторон – потерями для корпоративного сектора, научно-исследовательских и образовательных институтов.
Последствия для мира
Стоит ожидать изменения географии цепочек добавленной стоимости, трендов развития и размещения высокотехнологичных отраслей, которые будут диктоваться необходимостью замещения Китаем ранее доступных американских технологий и высокотехнологической продукции. Для третьих стран эти процессы, с одной стороны, предоставляют возможности получения выгод за счёт встраивания в формирующиеся новые производственные цепочки. Так, например, в результате торговой войны третьи страны получают общий дополнительный прирост ВВП в 21,8 млрд долларов (+0,05 процента ВВП, в частности для России + 0,7 млрд долларов[9]) – в относительных величинах пока небольшие объёмы, но для отдельных отраслей это может быть существенным стимулом роста, особенно, если учитывать долгосрочность процесса расхождения и высокую вероятность введения новых ограничений.
С другой стороны, для стран создаются риски попадания в санкционные списки по принципу вторичности. В случае обострения санкционной войны странам, активно сотрудничающим одновременно с США и Китаем, придётся делать непростой выбор в пользу наращивания или, наоборот, сокращения связей с одной из сторон конфликта. С точки зрения инвестиционного сотрудничества перед таким выбором могут оказаться Австралия, Сингапур, Нидерланды, Великобритания и в особенности Гонконг – там существенно присутствие как американских, так и китайских ПИИ[10]. С точки зрения торгового сотрудничества число подобных стран гораздо выше – это в том числе Япония, Южная Корея, Австралия, Бразилия, Сингапур, Мексика, Канада, ряд европейских государств[11] – из-за разветвлённой географической структуры экспорта Соединённых Штатов и Китая.
Пазворачивающийся конфликт имеет долгосрочные последствия в первую очередь для высокотехнологичных отраслей и принципиальных технологий. Он начался с торговых ограничений на металлы и сельскохозяйственную продукцию и вряд ли когда-либо коснётся и остановит потоки потребительских товаров и машиностроительной продукции, на которую приходится подавляющая часть торгового оборота между странами. Торговля с КНР крайне важна для удовлетворения американского потребительского спроса, и заместить Китай как мировую фабрику пока не сможет ни одна другая страна. Поэтому в ближайшие годы США не удастся сгладить дисбаланс торговли с Китаем и решить наболевшую проблему дефицита текущего счёта и внешнего долга.
--
СНОСКИ
[1] В январе 2018 г. США вводят пошлины на ввоз стали, алюминия и солнечных батарей из Китая. В ответ Китай вводит пошлины на сельскохозяйственную продукцию и ряд продукции машиностроения из США.
[2] Observatory of Economic Complexity (OEC). URL: https://oec.world/en/profile/country/chn?yearSelector1=exportGrowthYear17
[3] Luckhurst J. China–US Economic Cooperation as Antidote to Strategic Conflict // G20 since the Global Crisis // Palgrave Macmillan, New York, 2016. С. 215-247.
[4] По темпам роста мировая торговля отстаёт от ВВП: за 2012–2019 гг. средние темпы роста торговли товарами и услугами не превышали темпов роста ВВП (по данным IMF, WEO oct. 2020), а если учесть 2020 г., то будут в 1,5 раза ниже (1,7 процента – динамика торговли и 2,6 процента – динамика мирового ВВП).
[5] Эти принципы находили отражение в основных приоритетах в планах экономического развития последних лет и получили особенный акцент в последнем пятилетнем плане, принятом в октябре 2020 г.
[6] По данным Всемирного Банка.
[7] Там же.
[8] Выплаты по роялти, лицензиям, франшизам и интеллектуальной собственности и предоставление бизнес-услуг составляло в совокупности около 40 процентов от всего экспорта услуг. Высокотехнологичный экспорт товаров составляет около 19 процентов всего машиностроительного экспорта США (3–5 место в мире по объёмам в зависимости года). Всего зайтек-экспорт + роялти и прочие лицензионные платежи с бизнес услугами – 376 млрд долларов в 2017 г. По данным: https://oec.world/en/profile/country/usa#trade-services
и https://www.theglobaleconomy.com/rankings/High_tech_exports/
[9] По оценкам Института международной экономики и финансов (ИМЭФ) ВАВТ.
[10] Оценки на основе данных
https://hkmb.hktdc.com/en/1X0A804W/hktdc-research/China-Takes-Global-Number-Two-Outward-FDI-Slot-Hong-Kong-Remains-the-Preferred-Service-Platform и
https://www.statista.com/statistics/188806/top-15-countries-for-united-states-direct-investments/
[11] Оценки на основе данных Observatory of Economic Complexity (OEC). URL:
https://oec.world/en/profile/country/usa#trade-products

Елена Довгань: односторонние санкции усложнили борьбу с COVID-19
Можно ли ужесточать санкции в условиях пандемии COVID-19, нарушают ли права человека санкции против России за Навального, стоит ли составлять список легитимных санкций и нужна ли реформа санкционному институту, рассказала в интервью РИА Новости спецдокладчик СПЧ ООН по вопросу о негативном влиянии односторонних ограничительные мер на права человека Елена Довгань.
- Как вы оцениваете ситуацию с ужесточением санкций во время пандемии COVID-19?
- Ужесточение санкций в разгар глобальной чрезвычайной ситуации, такой как пандемия COVID-19, это противоположность тому, что должно происходить. Я присоединилась к призыву Генерального секретаря ООН и Верховного комиссара по правам человека к правительствам отменить или, по крайней мере, приостановить или свести к минимуму все односторонние санкции, которые могут повлиять на способность стран, находящихся под санкциями, эффективно реагировать на пандемию. К сожалению, этого не произошло. Исследование, проведенное мною с участием стран, подпадающих под действие санкций, гуманитарных НПО и других организаций, показало, что санкции действительно усложнили для них задачу борьбы с COVID-19. Исключения по гуманитарным соображениям, предусмотренные санкциями, просто неэффективны. Страны, на которые наложены санкции, не могут получить необходимое медицинское оборудование и медикаменты, а НПО иногда не могут перечислить денежные средства для оказания помощи в борьбе с пандемией в государства, на которые наложены санкции. Даже в тех случаях, когда необходимое оборудование все же пропускается, санкции в отношении других товаров, таких как топливо, не позволяют перевозить их туда, где они могут принести наибольшую пользу. Серьезные наказания за нарушение санкций, усилия по их экстерриториальному применению и введение вторичных санкций, привели к их повсеместному чрезмерному соблюдению, вызванному страхом перед непреднамеренными нарушениями.
- Как вы оцениваете ситуацию в Сирии, которая уже давно находится под санкциями? Насколько сегодня санкции оказывают влияние на восстановление страны?
- Гуманитарная ситуация для сирийского населения является неудовлетворительной. Люди страдают по-разному после того, как многолетний конфликт разрушил большую часть инфраструктуры страны, начиная с жилья и заканчивая больницами, а следовательно, и социальную инфраструктуру. Сирийская экономика опустошена, и санкции, введенные против Сирии, усугубляют ситуацию, осложняя процесс восстановления. Новые санкции, введенные Соединенными Штатами под названием "Цезаревы санкции", направлены против иностранных компаний и частных лиц, которые помогают сирийскому правительству восстановить разрушенное - от больниц до нефтяной и газовой промышленности. Устанавливая преграды на пути восстановления страны и ее экономики, санкции лишают сирийский народ широкого круга прав человека, таких как право на жилье, здравоохранение и достойный уровень жизни. А создание препятствий на пути восстановления больниц и другой медицинской инфраструктуры даже лишает сирийский народ права на жизнь. Многочисленные гуманитарные НПО сообщают о сложности, недостаточности и многоуровневом характере гуманитарных исключений, которые обостряют расходы и проблемы, связанные с закупкой и доставкой продовольствия и медикаментов для Сирии.
- Что вы ожидаете от новой администрации США в вопросе санкций в отношении Ирана? Полагаете ли вы, что что-то может измениться для Тегерана в этом направлении?
- Я не хочу спекулировать о том, что может сделать новое правительство США в отношении санкций, потому что тут слишком много переменных. Конечно, известно, что Джо Байден выступает благосклонно в отношении ядерной сделки, Совместного всеобъемлющего плана действий, по которому велись переговоры, когда он был вице-президентом. Поскольку выход администрации Трампа из этой сделки послужил толчком для сегодняшних еще более жестких санкций США против Ирана, любое изменение американской политики в отношении этой сделки может оказать влияние на санкции. Но пока еще слишком рано говорить о том, что может произойти.
- Как вы оцениваете санкции, которые вводятся на основе предположений и догадок? Полагаете ли вы, что санкции в целом должны быть использованы только если существует надежная доказательная база в отношении совершенных преступлений и нарушений?
- Страны, применяющие целевые санкции, как правило, делают это без какой-либо судебной процедуры для установления того, что лица или организации, подвергшиеся санкциям, фактически совершили преступления, за которые они были наказаны. Помимо нарушения их прав человека в результате применения санкций, само решение о наложении санкций нарушает их права на "надлежащую правовую процедуру", такие как право на справедливое судебное разбирательство, право на защиту и право на презумпцию невиновности до тех пор, пока вина не будет доказана. В соответствии с международным правом государства, на которые налагаются санкции, обязаны защищать эти права, закрепленные в международных конвенциях, а также во Всеобщей декларации прав человека и обычном праве.
- Президент США Джо Байден заявил о том, что намерен ввести санкции против России из-за предположительного отравления Алексея Навального. Однако Москва до сих пор не получила никаких доказательств от Германии о том, что Навальный был отравлен, как предполагается, "Новичком", а также о том, кто может быть виновным в этом. Полагаете ли вы, что санкции в таком случае являются наказанием страны, а не орудием справедливости?
- Я могу только повторить то, что сказала в ответ на предыдущий вопрос. Санкции, налагаемые на основании исполнительного решения правительства без соблюдения надлежащей правовой процедуры, по своей сути нарушают права человека, лиц, против которых направлены эти санкции.
- Ваш предшественник на посту спецдокладчика в свое время предлагал создать международный список санкций, которые бы не нарушали права человека. Вы разделяете подобные идеи? Готовы ли вы начать переговоры с государствами о создании такого списка?
- Специальный перечень санкций, не нарушающих права человека, может быть частью решения, но это не такой простой вопрос. С точки зрения международного права, сама законность санкций, которые страны вводят без разрешения Совета Безопасности ООН или вне его, сомнительна. Это необходимо прояснить, и одна из моих задач состоит в том, чтобы внести больше ясности в этот вопрос в ходе обсуждений с правительствами, а также с другими сторонами. Если будет установлено, что односторонние санкции являются законными в общем смысле, то конкретные односторонние меры могут быть законными только в том случае, если они не нарушают каких-либо международных обязательств государств, в том числе, в области прав человека, или не подпадают под критерии контрмер, которые принимаются в ответ на нарушение международно-правовой нормы в соответствии с принципом законности, легитимности, соразмерности, запрета репрессий, соблюдения основных прав человека.
В любом случае перечня "приемлемых" санкций будет недостаточно. Права человека также нарушаются процедурами, которые используют правительства, когда они принимают решение о введении санкций без соблюдения надлежащей правовой процедуры, а также самим способом применения санкций. Таким образом, любое реальное решение должно также касаться того, как санкции вводятся и как они применяются.
Сегодня число санкций настолько велико, что довольно часто отдельные лица и компании, против которых они направлены, не могут даже определить правовые основания, сферу применения и последствия санкций. Поэтому очень важно гарантировать прозрачность и в этой области. Поэтому я бы, наверное, говорила не о перечне "приемлемых" санкций, а об "инструменте обращения к санкциям" без оценки их легитимности.
- Полагаете ли вы, что институт санкций в целом должен быть реформирован? В каком ключе?
- Санкции действительно становятся институтом в том смысле, что они становятся все более распространенной практикой среди государств. Мы так часто слышим этот термин, что перестали задумываться о том, являются ли принимаемые меры законными или незаконными, каковы их реальные и возможные гуманитарные последствия. Мы не можем говорить о формировании или реформировании чего-либо, законность которого является довольно сомнительной.
Поэтому я считаю, что сейчас речь идет не о реформе института санкций, а о начале диалога на основе верховенства права, соблюдения стандартов в области прав человека и необходимости оценки возможных гуманитарных последствий до принятия каких-либо односторонних мер.

Свет мой зеркальце
Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")
Президентство Джозефа Байдена начинает обрастать "мясом" - активно комплектуется администрация, объявлены кандидаты почти на все значимые посты. Общая логика назначений, а, следовательно, и будущей политики вполне понятны. Опора на коллег из числа сподвижников Барака Обамы. Максимальное присутствие женщин и небелых. Но в то же время тщательное избегание представителей левого крыла. Либерально-глобалистская риторика, стремление даже не перечеркнуть время Трампа, а демонстративно стереть его, как дурной сон. На деле трампистское наследие, скорее всего, сохранится в целом ряде сфер, но публичная задача - продемонстрировать, что это не так.
Нас, естественно, интересует российское направление. Перемен в Москве никто особенного не предвидел, но так уж устроен цикл наших отношений с США, что каждая смена в Белом доме инстинктивно вызывает некоторое шевеление ожиданий. Дабы вдруг не возникло иллюзий, поделюсь собирательным описанием того, как видят Россию те, кто, вероятно, будет оказывать влияние на формирование политики. Это обобщение - результат участия в нескольких обсуждениях с американскими коллегами за последнее время.
Итак: Россия - противник, нацеленный на противодействие Соединенным Штатам и подрыв их позиций везде, насколько это возможно. Она пребывает в упадке, вероятнее всего, необратимом, так что едва ли опасна в долгосрочном плане, но сохраняет немалый потенциал для нанесения ущерба Западу сейчас и в краткосрочной перспективе. Россия - агрессивна и злонамеренна, это проявляется во всех ее действиях. В отношении соседних стран - непрекращающееся вмешательство и давление с целью принудить их вернуться в сферу российского влияния. На европейской сцене - попытки расшатывания демократических обществ путем коррупции и поощрения самых отвратительных там сил. Что же касается США, то Россия не перестает атаковать через киберпространство ее ведомства и инфраструктуру, а также продолжает расшатывать общественные устои, хотя на выборах в этот раз враждебным усилиям удалось поставить заслон.
Более умеренные комментаторы и аналитики нюансируют, что, мол, и американцы отчасти виноваты, что она (Россия) стала такой. И надо все-таки иметь что-то вроде позитивной программы, например, обозначить возможность отмены каких-нибудь санкций, если Москва изменит свое поведение в том или ином вопросе (само такое допущение считается уступкой). Но в целом этот крайне отталкивающий портрет является консенсусным и общепринятым в рядах внешнеполитического и стратегического сообщества США.
Любопытно, что значительная часть этого сообщества полагает, что Вашингтон на самом деле настроен в отношении Москвы конструктивно. В том смысле, что, несмотря на все вышеизложенное, должен и готов иметь с ней дело. Конечно, на своих условиях, не прекращая и даже наращивая давление, но тем не менее. Потому что есть темы, по которым сотрудничество с Россией неизбежно. Например, ядерные вооружения и стратегическая стабильность. Приходящая администрация считает необходимым продлить СНВ и продолжать разговор дальше. Но только никаких условий со стороны Кремля, потому что ему якобы это надо больше Белого дома. Где еще не избежать взаимодействия с Россией? Без особого энтузиазма упоминается климат, совсем уже вяло Арктика.
Ну а что же в этой ситуации собираются предпринять американцы? Не стесняться давать отпор устремлениям Москвы. Прежде всего, естественно, в самых опасных, по их мнению, проявлениях русской агрессии - кибератаках на США и их союзников. Ни в коем случае Белый дом не должен признавать, что Россия имеет какие-то особые права касательно стран-соседей и постсоветского пространства. Он должен вообще перестать смотреть на них сквозь призму того, как отношения США с ними воспримет Россия, в этом была, как многие говорят, ошибка Обамы. Максимально вернуть распуганных Трампом союзников, чтобы сдерживать Кремль совместно. Работать напрямую с российским обществом в обход государства всеми способами, какими возможно, поддерживать и поощрять его к самореализации.
Описанная картина американского видения мира не является преувеличением, скорей квинтэссенцией. Справедливости ради надо сделать оговорку: в практической деятельности американской администрации придется, безусловно, проявлять некую гибкость и идти на ситуативные компромиссы с Москвой, когда ей это понадобится. Но легко вообразить вероятную степень и пределы той самой гибкости при подобных предпосылках.
Что делать в ответ России? Ничего. Сложившееся восприятие со стороны США ей сейчас не изменить, что-то доказывать и вообще как-то реагировать на подобные нападки и обвинения бессмысленно. Рецепт один, который уже приходилось выписывать: постараться минимизировать американский фактор в российской политике и проводить курс исходя из текущих задач. Настанет время, когда отношения потребуются вновь обеим сторонам. Но не сейчас.

Тайная армия Обамы за спиной Байдена
Сначала — война против Трампа, а потом — против России?
Владимир Овчинский
14 декабря Джо Байден получил необходимые голоса выборщиков для избрания президентом США. Но кто реально собирается управлять Америкой?
На протяжении всего президентства Трампа, особенно в период всей чехарды с его импичментом, а также во время протестов и погромов лета 2020 года, многих аналитиков не покидало ощущение жёсткой скоординированности и управляемости деструктивных процессов в Америке. Это чувство особенно усилилось в период разоблачения массовых фальсификаций на президентских выборах.
Сейчас американские эксперты в сфере политтехнологий приходят к выводу о том, в центре заговора против Трампа находится OFA (Organizing for Action — Организация для действия), созданная Бараком Обамой ещё в период его президентства.
Формирование теневого правительства и теневой армии
После окончания своего президентского срока Обама не просто остался в Вашингтоне. Он, ещё будучи президентом, со своими соратниками закулисно работал над созданием того, что, по сути, станет теневым правительством, чтобы не только защитить свое наследие (в смысле принятых решений), которому угрожала опасность от Трампа, но и саботировать администрацию Трампа и его популярную программу «Америка прежде всего».
Обама с первых дней победы Трампа на выборах посвятил себя свержению своего преемника. На это указывает гора растущих доказательств. «Цель Обамы, — по словам близкого друга его семьи, — сместить Трампа с поста президента либо путём его отставки, либо путём импичмента. Источник ещё в 2016 году также сообщил газете, что Обама ненавидит президента Трампа и считает его президентство нелегитимным. «Обама встревожен тем, как Трамп разрушил его наследие — Obamacare, сеть социальной защиты и приветственный коврик для беженцев, которые он установил», — сказал источник газете.
Обама не хотел возглавлять оппозицию Трампу, потому что был «утомлен и выгорел». Но главный советник Валери Джарретт убедила его, что это единственный способ спасти его наследие. Источник сказал: «Обама не принимает решения без неё», и теперь он принял свою новую роль, возглавляя кампанию по саботажу администрации.
Мишель Обама и Джарретт вместе вырабатывали стратегию свержения Трампа. У бывшей первой леди и у Фонда Обамы выделены офисы в особняке, у Джарретт тоже.
Обама выполняет их планы через сеть левых некоммерческих организаций во главе с организацией «Организация действий» или OFA, которая выросла из его предвыборной группы «Организация для Америки».
Это дало Обаме в распоряжении виртуальную армия агитаторов и организаторов. Федеральные налоговые отчёты показывают, что в OFA работает 32 525 добровольцев по всей стране. Еще 25 тысяч прошли активную подготовку.
OFA имеет больше более 250 офисов по всей стране. ОFA соединена с базой данных выборной кампании Обамы 2012 года, которую она использует, чтобы сплотить сопротивление Трампу и добиться голосования за кандидатов от Демократической партии.
OFA зарегистрировано как некоммерческая организация социального обеспечения, которая не обязана раскрывать своих доноров. OFA собрало сотни миллионов долларов в виде пожертвований и грантов.
Волонтёры OFA профессионально подготовленные организаторы, которые прошли шестинедельную программу обучения в том числе и в сфере агитационной тактики. OFA управляется бывшими должностными лицами и штатными сотрудниками Обамы.
OFA планировала организовать 400 митингов в 42 штатах ещё в 2017 году против попытки Трампа отменить Obamacare. Обама встал за протестами против Трампа. Он похвалил демонстрации против Трампа в период выборов 2016 года.
А после выборов он лично собрал «войска» OFA, чтобы защитить своё наследие во время телефонной конференции. «Сейчас время для организации, — сказал он. — Так что не хандрите по результатам выборов».
После победы Трампа Обама также пообещал активистам OFA, что скоро присоединится к ним в битве. «Поймите, что я буду ограничен в том, что я буду делать со всеми вами, пока я снова не стану частным лицом, но это не так уж и далеко», — сказал он. — Вы собираетесь увидеться со мной в начале 2017 года, и мы будем в таком положении, когда сможем начать готовить всевозможные замечательные вещи».
OFA связана с радикальными группами, финансируемыми миллиардером Джорджем Соросом.
OFA организовала онлайн-тренинги для протестующих. Для этого OFA распространило учебное пособие для активистов, выступающих против Трампа. Пособие, в частности, советует протестующим рассредоточиться парами, чтобы создать впечатление, будто вся комната выступает против позиций республиканцев. В нём говорится: «Это поможет усилить впечатление широкого консенсуса». Оно также побуждает задавать «враждебные» вопросы, при этом «крепко держась за микрофон», громко освистывать любого политика Республиканской партии. В пособии протестующим рекомендовано отправлять видеоматериалы в местные и федеральные СМИ: «Нежелательные разговоры, снятые на видео, могут иметь разрушительные последствия для депутатов-республиканцев, — говорится в руководстве, — если будут распространяться через социальные сети и использоваться местными и национальными СМИ».
Протестующие уже тогда, в 2016–2017 гг., также штурмовали районные отделения республиканцев. Член палаты представителей Дана Рорабахер из штата Калифорния обвинила толпу активистов, выступающих против Трампа, в том, что они сбили с ног 71-летнюю сотрудницу республиканского офиса в Южной Калифорнии, которая потеряла от этого сознание.
Ведущий ток-шоу Раш Лимбо выразил уверенность, что за протестами стояли бывший президент и члены Демократической партии, потому что они выглядели слишком организованными и профессиональными, чтобы быть случайными вспышками недовольства широких масс. «Обама. Я уверен, что здесь речь идёт о деньгах Джорджа Сороса, — сказал он. — Они также обсуждают, как подыгрывать средствам массовой информации, и демонстрируют, что средства массовой информации не так уж сложно убедить. СМИ на их стороне».
Трамп ещё в 2016–2017 гг. согласился с тем, что Обама вероятно, стоял за протестами. «Ну, никогда не знаешь, что именно происходит за кулисами», — сказал он. «Вы знаете, вы, вероятно, правы или, возможно, правы, но вы никогда не знаете. Нет, я думаю, что за этим стоит президент Обама, потому что за этим, безусловно, стоят его люди. Хедж-фонды и Голливуд помогают ему (Обаме), поэтому на его стороне есть деньги и пропаганда».
Мартин Армстронг, чья компания Armstrong Economics комментирует широкий круг вопросов, выходящих за рамки экономики, включая историю, глобальное потепление, недвижимость и мировые события, объяснил что Обама «сознательно пытается вызвать восстание и сам уводит в сторону Демократическую партию, потому что они не согласны с его повесткой дня».
OFA работает с Фондом Обамы, которым управляет бывший политический директор Обамы, и Национальным демократическим комитетом по перераспределению избирательных округов, или NDRC, созданным бывшим генеральным прокурором при Обаме Эриком Холдером, чтобы перекроить округа в сторону, более благоприятную для демократов, чтобы увеличить число их членов в Конгрессе.
Администрация Обамы явно шпионила за президентской кампанией Трампа и переходной команды. Сенатор Оррин Хэтч, штат Юта, сказал, что обеспокоен масштабами наблюдения, но не сильно удивлён, поскольку «подозревал, что они всё равно собираются это сделать».
В последние дни президентства Обамы некоторые официальные лица его команды в Белом доме пытались распространить по всему правительству информацию об усилиях России по подрыву президентских выборов и о возможных контактах между соратниками президента Дональда Трампа и россиянами.
Одна из гранат, заложенных Обамой, взорвала Майкла Флинна, но настоящей целью был Трамп.
И Сорос, и Обама несут ответственность за подстрекательство к беспорядкам на почве расы. Сорос финансирует, Обама организует и исполняет инциденты, необходимые для создания платформ, необходимых для гражданских беспорядков и беспорядков. Обширная сеть организаций Обамы из организации «Организация ради действий» (OFA) — это главный административный офис, направляющий протесты не только в США, но и во всем мире для BLM и ANTIFA, которые являются организациями, обеспечивающими пеших солдат на улице.
ОСОБО ВАЖНО:
Фонд Обамы написал в Твиттере о Джордже Флойде 17 мая 2020 года, примерно за 8 дней до его смерти. Это доказывает факт, что Барак Обама планировал инцидент с Флойдом, чтобы разжечь расовую напряженность через протесты и беспорядки.
Визитная карточка, которая связывает ANTIFA и BLM с Обамой, — это их желание уничтожить все памятники и статуи, представляющие американскую историю и наследие, тем самым стирая все следы прошлого Америки. Эти действия обеих террористических организаций красноречиво указывают на то, что Барак Обама является их основателем, менеджером и лидером.
План использования расовой розни был разработан Обамой с помощью Валери Джарретт на встречах с Black Lives Matter в Белом доме ещё в 2015 году.
А в 2008 году, Барак Обама, тогдашний кандидат в президенты, заявил: «Мы не можем и дальше полагаться на наши вооруженные силы для достижения поставленных нами целей национальной безопасности. У нас должны быть гражданские силы национальной безопасности — такие же мощные, такие же сильные и хорошо финансируемые».
Вашингтонская сеть действий сообщества OFA и другие левые организации помогли создать ложное представление о том, что эти протесты являются спонтанными действиями разгневанных, напуганных молодых избирателей, выступающих против системы, которую они считают нацеленной против них. На самом деле, это очень левые организации, стоящие за этими «протестами», которые нацелены на участников.
Особенно тревожным в отношении радикальной левой принадлежности OFA является её партнерство с группой под названием Knights for Socialism, которая начала учить детей скандировать «Убей Трампа!», избивая бейсбольными битами изображения 45-го президента США.
Посвящение Люциферу
Саул Алинский, его методы и философия "организации сообщества" оказали глубокое влияние на Барака Обаму и Хиллари Клинтон, на формирование их личностей и мировоззрения. Это влияние стало для Америки катастрофичным.
Малоизвестная в СССР и России книга Алинского «Правила для радикалов», опубликованная в 1971 году, до сих пор имеет огромное влияние на многих людей в США.
Хиллари Клинтон, которая так же, как Алинский, родом из Чикаго написала по ней даже диссертацию в колледже Уэллсли. Она взяла интервью у него лично для своего исследования. После завершения диссертации Алинский предложил ей работу в своей организации, но она отказалась.
Что касается другого чикагца, Барака Обамы, то он непосредственно работал в организациях Алинского уже после его смерти и вёл семинары о тактике и методологии Алинского в самом Чикаго.
Саул Алинский и его книга
В чём суть «учения» Алинского? В своей главной книге «Правила для радикалов» он приводит «веские» доводы в пользу отказа от морали и этики, как от препятствий на пути к политическому успеху.
Для Алинского, как и для Барака Обамы и Хиллари Клинтон, мораль и этика не позволяют миру быть таким, каким «он должен быть».
Кому посвятил Алинский «Правила для радикалов»? Люциферу!!!
Как поборник аморальности и отказа от этики Люцифер является идеальной моделью разрушителя для активиста Алинского.
Тот факт, что высшее политическое руководство Америки в президентство Обамы приняло этот аморальный набор тактик для политической выгоды, объясняет многое из того, что произошло и продолжает происходить в Америке.
Неудивительно, что на президентских выборах в США 2020 года десятки тысяч активистов обамовской организации были глубоко вовлечены в мошенничество с избирателями и другие гнусные практики.
Многие американцы читали книги Алинского и понимают его методы. Это основополагающие тексты экзистенциальной оппозиции существованию Соединённых Штатов в их нынешней форме.
Проблема с методом Алинского заключается в том, что финал аморфен. Конечная цель игры — это обретение силы, но мало что говорится о том, что делать с этой силой, однажды полученной. Суть метода Алинского — разрушение «системы», допускающей неравенство богатства. Не обсуждается, чем заменить эту систему, когда она будет выведена из строя. По сути, борьба за власть — это суть теории Алинского, а что делать с однажды полученной властью — совсем другое дело.
Всего за две недели до своей смерти в 1972 году Алинский дал примечательное интервью журналу Playboy. Хотя это интервью не является широко известным, оно даёт глубокое понимание Алинского, его целей и, что наиболее важно, его глубокого отчуждения от концепций приличия, этики и морали.
Дэвид Горовиц опубликовал небольшую, но содержательную брошюру об Алинском и «Правилах для радикалов». Горовиц понимает то, чего не понимают многие: Алинский был нигилистом.
Он — проповедник аморальной политической агитации, которая кажется чем-то положительным, но на деле направлена на деструкцию.
Любая организация, которая позволяет одной группе людей продвигаться за счёт другой, по Алинскому, должна быть свергнута — даже если те, кто продвигается в ней, делают это в результате честного, тяжёлого труда и таланта. Стоит привести некоторые цитаты из этого интервью.
«Отчаяние присутствует; теперь мы должны вмешаться и натереть раны недовольства, побудить их к радикальным социальным изменениям. Мы дадим им возможность участвовать в демократическом процессе, дадим им способ реализовать свои права как граждан и нанести ответный удар по истеблишменту, который их угнетает, вместо того, чтобы поддаваться апатии. Мы начнём с конкретных вопросов: налогов, рабочих мест, проблем потребителей, загрязнения окружающей среды, — а затем перейдём к более важным вопросам: «загрязнению» в Пентагоне, а также в Конгрессе и залах заседаний мегакорпораций. Как только вы организуете людей, они будут продвигаться от проблемы к проблеме к конечной цели: власти людей».
«Вся жизнь — это война, и именно постоянная борьба против статус-кво оживляет общество, стимулирует новые ценности и дает человеку новую надежду на конечный прогресс. Сама борьба — это победа».
По сути, это антиреволюционная концепция. Идея борьбы ради самой борьбы морально испорчена. Но термин «развратный» не смутил бы Алинского, потому что он сторонник отказа от морали. Аморальность фундаментальна для Алинского и его последователей; идеология, оправдывающая отказ от морали и этики, привлекательна для многих. «Честность? Какое дерьмо!»
«История подобна эстафете революций; факел идеализма несёт одна группа революционеров, пока она тоже не становится истеблишментом, а затем факел подхватывается и переносится на следующем этапе гонки новым поколением революционеров. Цикл продолжается и продолжается, и по мере того, как ценности гуманизма и социальной справедливости, которые отстаивают повстанцы, обретают форму, изменяются и медленно внедряются в умы всех людей, даже когда их защитники колеблются и поддаются материалистическому упадку преобладающих статус-кво».
Опыт мафии — в основу протестов
Алинский вырос в Чикаго в очень бедной еврейской семье в начале ХХ века. Он писал, что «бросил привычку» к иудаизму в раннем возрасте, но всегда говорил, что он «еврей». Видя коррупцию в Чикаго в то время и статус героев, который примеряли на себя Аль Капоне и его агенты, Алинский поставил себе задачу связать себя с ними. В то время он не видел разницы между преступниками Капоне и коррумпированными городскими властями Чикаго. Он преуспел в том, чтобы стать надёжным попутчиком мафии на «два года». На самом деле влияние банды Капоне на Алинского велико и длилось более двух лет.
«Он познакомил меня с Фрэнком Нитти, человеком номер два у Капоне, и фактически контролирующим мафию. Я назвал его профессором, а я стал его учеником. Мальчики Нитти водили меня повсюду, показывали мне все операции мафии: от джинных заводов, публичных домов и букмекерских контор до законных предприятий, которые они начинали захватывать. Через несколько месяцев я узнал, как работает Капоне». Самостоятельная идентификация Алинским Фрэнка Нитти, убийцы-мафиози, как своего «профессора», очень важна. Оглядываясь назад, можно предположить, что Алинский многое узнал о давлении и запугивании от своих друзей из чикагской мафии.
Сброс американских памятников и теория Алинского
Отрицание истории — важный компонент отрицания этики и морали. Алинский пишет в посвящении Люциферу, что историю нельзя познать: «Кто должен знать, где заканчивается мифология и начинается история — или что есть что…»
Без достоверных исторических записей невозможно извлечь уроки из прошлых событий и нельзя доверять предыдущим знаниям. Результатом отрицания истории является отказ в обучении, потому что никаким существующим знаниям, по мнению Алинского, нельзя доверять. Отрицание способности людей получать знания и понимание из существующих источников информации является компонентом нигилизма.
Это оставляет будущее открытым для радикалов и деструкторов — таких, как Алинский, — которые окончательно порвали с прошлым.
Таким образом, институты общества, старые институты, на которых строятся общество и мораль, незаконны и подлежат разрушению.
Без знания концепций Алинского трудно понять массовое разрушение памятников, ту ненависть к собственной истории, которая проявилась в Америке (и не только) в 2020 году.
Отказ от морали и этики с принятием тотального прагматизма для достижения власти характерны для «радикального» Люцифера, столь уважаемого Алинским. Для Алинского не важно, что Люцифер — воплощение идеи зла и противостояния добру; важно то, что Алинский считает Люцифера эффективным. «Поезда всегда ходят вовремя, когда сатана руководит представлением». Эффективность и успех отделены от вопросов морали и этики. Успех — это собственная мораль для Алинского и его последователей.
Мораль и этика не имеют ценности для «радикалов», которые хотят опрокинуть институты общества и спасти мир. Алинский был мечтателем-утопистом, который обратил свой грозный интеллект к разрушению конструкции и удалил мораль из уравнения для оперативных целей. Не может быть места морали и этике, когда мир должен быть преобразован в Утопию — для Алинского и его последователей эта цель превосходит даже любое «высшее существо», а также мораль и этику, которые могли исходить от такого существа.
Фактически такой отказ от принятой морали означает, что всё подходит: любое «действие» приемлемо, если оно разрушает или подрывает «статус-кво» и приводит к «изменениям». Это радикальная антистабильность ради утопизма.
«Философия» Алинского невероятно опасна, потому что она возвышает «борьбу» и «изменения» над человечеством, отдельными людьми и институтами, которые, хотя они могут быть ошибочными (но могут быть улучшены), должны быть уничтожены просто потому, что они являются институтами. Это антиинтеллектуализм и отрицание контекста и истории, что приводит к тому, что может быть только бесконечной агитацией, конфликтом и разрушением. Это философия великого космического вакуума, в котором стабильность и качество втягиваются навсегда, пока не останется только «борьба».
Утописты считают себя выше морали и этики, потому что не может быть большей цели, чем их цель — создания Утопии.
Легко понять жестокость утопистов по отношению к своим врагам.
«Снова и снова ярый революционный борец за свободу первым разрушает права и даже жизни следующего поколения повстанцев.
Но признание этого — не повод для отчаяния. Вся жизнь - это война, и именно постоянная борьба против статус-кво оживляет общество, стимулирует новые ценности и дает человеку новую надежду на конечный прогресс».
Что впереди?
Мы живём во время беспрецедентных внутренних потрясений, и не во время каких-либо потрясений, вызванных обстоятельствами или международными конфликтами, а потому, что постмодернистское руководство США, находящееся под влиянием Алинского, считает, что конфликт и борьба – это путь к эволюции человечества.
Полагать в этой ситуации, что замена Трампа на Байдена ничего не меняет в мировой ситуации, — значит заниматься самообманом. Если марионеточным Байденом будет руководить группа сатанистов во главе с Обамой, то и России, и миру предстоят времена, может быть, самых тяжёлых испытаний после Второй мировой войны.

Невидимая революция: как пандемия стала «новым Чернобылем» для развития робототехники
Как COVID-19 придал импульс развитию инновационных идей в индустрии робототехники, почему в Японии особенно любят роботов, а роботизация не приводит напрямую к безработице (а даже наоборот) — в интервью Forbes Life рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская.
Алиса Конюховская, исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники, вице-президент Global Robot Cluster, представитель от России в International Federation of Robotics, соорганизатор международного форума «Роботы против COVID-19», ведущая проекта «Среда роботов», в интервью Forbes Life рассказала об индустрии робототехники в России, Японии и мире, о том, как пандемия поменяла рынок, какие предрассудки мешают его развитию и почему роботы незаметно, но уверенно проникнут во все сферы нашей жизни.
— 2020 год, когда произошли колоссальные изменения из-за пандемии, повлиявшей на все сферы жизни, подходит к концу. Какие изменения произошли на рынке робототехники (в первую очередь, в области робототехники сервисной)?
— Робототехника стала одним из заметных технологических трендов, стала ясна ее актуальность, потребность в ней. И когда начиналась эпидемия, появилось ощущение, что она послужит драйвером, толчком для развития робототехники, аналогичным тому, какой вызвала авария в Припяти. В тот момент у нас в стране как раз после катастрофы случился бум развития робототехники, проводились исследования, направленные на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Говоря о работе для роботов, обращаются к формуле 4D: Dull, Dirty, Dangerous, Dear — рутинная, грязная, опасная и дорогая. Например, в медицинской сфере уже давно роботов внедряют из-за потребности в сокращении расходов, связанных с кадрами, — в западных странах рутинные операции выполняются роботами из-за высокой стоимости человеческого труда. Но сейчас на первый план вышел еще один фактор — опасность заражения. При подготовке совместного с Минкомсвязью отчета о возможностях применения робототехники для борьбы с COVID-19 мы узнали минимум о 30 решениях различных отечественных разработчиков: задачи дезинфекции на улице, в помещениях, роботы, направленные для того, чтобы помогать выполнять рутинные задачи медицинских работников, автоматические системы, выполняющие производственные задачи — такие как изготовление масок. Подробнее об этом мы поговорим 18 и 19 декабря на международном форуме «Роботы против COVID-19», который соберет ведущих робототехников и медиков со всего мира.
— Пандемия дала большой толчок к возникновению инновационных идей. Вопрос в том, кто возьмется за их выведение на рынок в момент экономического кризиса.
— Вопрос в том, насколько бизнес готов использовать новые технологии, тестировать и внедрять — в режиме сохранения денежных средств, оттока инвестиций, сейчас все хотят просто пережить этот этап. Когда происходят кризисы, происходит увеличение роста безработицы и параллельно происходит спад продаж роботов.
— Какие практики появились в мире — как в разных странах боролись с коронавирусом с помощью роботов?
— Решения для дезинфекции широко использовались в Китае — как с дронов, так и с помощью мобильных платформ. Датская робототехническая компания UVD Robots отправила сотни роботов для дезинфекции ультрафиолетом в Китай для борьбы с эпидемией коронавируса. Появились мобильные роботы, информирующие том, что нужно соблюдать социальную дистанцию. В Китае и Европе сейчас тестируется и реализуется много решений, которые связаны с доставкой роботами-курьерами. Получило развитие автоматизированное тестирование людей на COVID: датская Lifeline Robotics создала установку, которая умеет аккуратно брать мазок изо рта пациента для анализа на коронавирус: робот выглядит как укрепленный на специальной раме манипулятор, оснащенный системой компьютерного зрения и напечатанной на 3D-принтере «рукой» для взятия проб.
— Люди постоянно взаимодействуют с роботами: роботы пишут компьютерные алгоритмы, выполняют функции на производстве, они повсюду, и мы пользуемся искусственным интеллектом, нейросетями, но это все софт, автоматизированное производство, программное обеспечение, а многие представляют будущее таким образом, что люди будут окружены армией роботов в металлической оболочке. По какому пути пойдет развитие робототехники?
— Представление, которое у нас есть о робототехнике, сформировано кинематографом, СМИ и писателями-фантастами. Этот культурный бэкграунд очень сильно влияет на то, как люди воспринимают роботов, к чему они готовы, а к чему — нет. Само слово «робот» искусственное, его придумал чешский писатель Карел Чапек 100 лет назад, в 1920 году. Он описал в пьесе, как люди создали искусственных существ, которые работали на заводе и выполняли рутинные операции, а потом уничтожили своих создателей. Потом этот образ начали тиражировать в Голливуде и такой негативный контекст сохранился до сих пор. Робот стал антагонистом, который всегда нужен для литературы, кинематографа — для создания драматургии.
В 50-е годы два джентльмена, ныне отцы робототехники Джордж Девол и Джозеф Энглбергер начали создавать роботов и столкнулись с проблемой недоверия и неготовностью общества, потому что многие откровенно косо смотрели на эти идеи, многие были не готовы к внедрению роботов в повседневную жизнь. General Motors были одними из первых их клиентов. Однако разработки Джорджа Девола и Джозефа Энглбергера не нашли большого спроса в США, они продали патент на производство робота Unimate японцам в Kawasaki, которая в 1969 году начала его массовый выпуск. Япония стала лидером по использованию и по производству робототехники. Почему в Японии это взлетело? Там активно развивался автопром, японцы столкнулись с потребностью в снижении издержек на рутинных операциях. С другой стороны, в японской культуре присутствует положительное отношение к роботам — синтоизм предполагает, что все вокруг живое, и роботы в том числе. Такие, казалось бы, довольно абстрактные культурологические предпосылки определяют развитие индустрии робототехники. И сейчас Япония занимает первое место в мире по объему производства промышленных роботов — более 50%.
— Роботы-гуманоиды по-прежнему останутся в андерграунде и узкой сфере индустрии развлечений или все-таки выйдут на передовую?
— Разработка роботов — это очень дорогая история, она должна окупаться, в ней должен быть экономический смысл. Такая экономическая целесообразность есть в производстве, именно поэтому уже 50 лет развивается промышленная робототехника. Роботы создают мир, который нас окружает. Все наши смартфоны, компьютеры и автомобили произведены с помощью роботов. Мы просто про это не знаем и не задумываемся. А что касается сервисных роботов — тут нужно нащупать ниши, связанные с бизнес-кейсами и практическим применением. Например, российская компания «Промобот» предлагает решения для кафе, для госучреждений, аэропортов, разработаны роботы-администраторы, консьержи, экскурсоводы, промоутеры. Для клиентов использование таких роботов имиджевая история. Антропоморфные роботы привлекают внимание. В то же время разработки в это области могут быть нацелены на технологии будущего. Например, компания «Андроидная техника» разработала робота Федора. Или робот Атлас от Boston Dynamics.
Кроме того, мы живем в среде, которая чисто функционально создана для человека. Это для нас лестница — сущая мелочь, а для роботов становится настоящим препятствием, у них должно быть особенное шасси, которое позволяет преодолевать пороги, лестницы. Или, например, двери и ручки — это сложная задача: определить, схватить и открыть. Как шутил один наш коллега, не бойтесь роботоапокалипсиса, можно просто не открывать роботу дверь. Много аспектов, которые технологически пока сложны.
Мы смотрим все эти фантастические фильмы, нам кажется, что таким должно быть наше будущее. Но роботы к нам будут подкрадываться незаметно, мы будем с ними все больше сосуществовать и не замечать, как никого не удивляет робот-пылесос или стиральная машина. Интерфейс взаимодействия с роботами становится проще — человеку не надо выполнять сложные задачи, связанные с программированием. Достаточно нажать кнопку, и оно поехало.
— Еще в 1980-е японский робототехник Масахиро Мори обнаружил закономерность: люди симпатизируют роботам, похожим на них, но только до определенной степени сходства. Как только сходство достигает критического уровня — людям такие механизмы сразу перестают нравиться — они начинают чувствовать страх или отвращение. С чем связан подобный парадокс?
— Когда робот становится слишком похож на человека, им не являясь, возникает ощущение того, что это не настоящее. Но в то же время неживое, которые начинает оживать, — как зомби, ходячие мертвецы. На уровне ощущения, культурного кода происходит считывание — что-то не так. Это так называемый «эффект Зловещей долины», когда другой объект, выглядящий или действующий примерно как человек, вызывает отвращение у наблюдателей. Поэтому производители специально стараются делать таких утрированно милых, няшных роботов — для того, чтобы они легче воспринимались. Но сейчас есть компании, которые пробуют преодолеть эту «Зловещую долину» с помощью новых технологий, создавая человекоподобных роботов такими, чтобы они располагали к себе. Так, например, пермский разработчик Promobot создал антропоморфного робота Алекса, внешне очень похожего на сооснователя компании Алексея Южакова.
Одна из самых важных тем развития робототехники — каким должно быть человеко-машинное взаимодействие. Здесь очень много различных социально-психологических аспектов, нуждающихся в исследованиях. Есть, например, исследование о том, как люди реагируют, когда кто-то обижает робота. В целях проверки общественной реакции экспериментатор оскорблял и грубил роботу. Люди проходили, и никто не заступался, не реагировал. А если, например, в этот момент там присутствовали еще и другие роботы, которые выражали эмоции грусти, потому что другого робота обижают, то случайные люди чаще вступались и останавливали обидчика, чувствуя эмоции со стороны роботов.
— Когда же произойдет системный сдвиг?
— На вопрос системного сдвига нужно смотреть и с точки зрения предложения, и с точки зрения спроса. Сейчас в самых разных областях происходит изучение возможностей применения робототехники и есть драйверы, которые будут этому способствовать.
В регионах нарастает большая потребность в кадрах — люди уезжают из деревень, немногие хотят работать на сельскохозяйственных или промышленных предприятиях. Этим предприятиям надо будет справляться с вызовами, делать эту работу более интересной, престижной, автоматизировать ее, справляться с меньшим количеством людей — с учетом огромных малонаселенных территорий с тяжелыми климатическими условиями. Для повышения уровня роботизации производств нужно также готовить кадры, которые смогут создавать и контролировать роботов.
Сейчас в российской промышленности эксплуатируется только 5000 роботов. Если мы хотим приблизиться к общемировым показателям, то роботов должно быть в 20 раз больше — 100 000 единиц. Мы подсчитали, что для обслуживания такого числа установок требуется 20 000 специалистов, а пока что их число немногим превышает 1000 человек на всю страну. К 2025 году эту потребность возрастет до 40 000 специалистов, а к 2030 году — до 66 000 специалистов. А например, согласно исследованию «Газпромнефти» для нефтегазового сектора до 2030 года нужно порядка миллиона роботов. Не менее актуальная тема — сортировка мусора. Таких интересных областей применения роботов довольно много, и необходимо проводить серьезные исследования потребностей и экономических эффектов от внедрения роботов.
В России очень много Кулибиных, талантливых разработчиков и инженеров. Но для робототехники нужно три компонента: технология, инвестиции и спрос. У нас есть технологии, но зачастую не хватает спроса или инвестиций.
Понимание экономики внедрения роботов позволит создавать и тиражировать востребованные технологические решения. В России очень много Кулибиных, талантливых разработчиков и инженеров. Но для робототехники нужно три компонента: технология, инвестиции и спрос. У нас есть технологии, но зачастую не хватает спроса или инвестиций. В то же время сильный разработчик технологий не всегда может быть успешным предпринимателем. И именно предпринимателей в робототехнике не так много, которые бы могли коммерциализировать разработки, создавали бизнес-процессы, продавали и продвигали продукты на глобальном рынке.
Не стоит забывать и о том, что сами люди могут быть сдерживающим фактором для внедрения технологий. Например, сейчас у нас довольно низкий уровень роботизации промышленности. Причем технологии существуют, им уже 50 лет — это велосипед, который уже не нужно изобретать заново. Но сами промышленные предприятия не ориентируются, не стремятся разобраться, что это за технологии, какие внедрять, как готовить кадры, откуда брать деньги. А в сельском хозяйстве еще более консервативные сообщества.
Бизнес-культура у нас в стране еще в процессе становления, ей, по сути, 30 лет. Если посмотреть на возраст руководителей в мировом робототехническом сообществе, в Японии им 70+, иногда даже 80+. В Южной Корее и Китае — 50–60. В Европе и США тоже в районе 50 лет. Это люди, которые на протяжении минимум 20–30 лет создавали робототехническую отрасль в их стране. А у наших руководителей роботокомпаний средний возраст составляет примерно 35 лет. В России за последние 5 лет рынок стал значительно развиваться, выходит из подполья, о нем начинают больше говорить, создается более качественный контент. Наши робототехники молодые, юркие, могут быстрее адаптироваться, создавать новые решения и продукты, менее зажаты в корпоративные структуры, но уступают в части упаковки и продвижения своего продукта на мировой рынок.
— В октябре Россия заняла второе место в мировом рейтинге производителей сервисных роботов — в России 73 компании занимаются производством сервисных роботов. Для сравнения — в Японии 50 компаний, а в США — более 200. Что значат эти цифры и какие проекты особенно выделяются на российском ландшафте?
— У японцев наблюдается сильный перекос в промышленную робототехнику и развлекательные проекты, связанные с антропоморфными роботами, — собачками, игрушками. А когда произошла серьезная авария на Фукусиме, они столкнулись с тем, что у них не оказалось роботов, которые могут справиться с этой ситуацией, туда направляли российских — у нас после чернобыльской катастрофы довольно высокая компетенция в этой области, например, роботов для ликвидации последствий аварии на Фукусиме разрабатывал Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики. Что касается цифр по количеству компаний — тут надо делать скидку на то, что многие могут не знать про рейтинг и само исследование. Мы, например, со своей стороны, продвигали создание списка наших компаний, чтобы в этот рейтинг вошло как можно больше российских представителей. В Китае тоже множество компаний — но они не принимают участия, не предоставляют данные о себе, ориентированы на локальный рынок в том же Китае — он гигантский, компании иногда даже не думают об экспорте, потому что у себя еще внедрять и внедрять, продавать и продавать.
— Всемирный экономический форум (WEF) прогнозирует потерю 75 млн рабочих мест к 2022 году. По прогнозам, только в одном ретейле роботы заменят в течение 10 лет более 7 млн работников. С роботами традиционно связаны и большие ожидания, и страхи человечества — причем чаще всего этот страх довольно иррациональный (и подогреваемый фильмами, мрачными прогнозами и предупреждениями от ученых и представителей ИТ-корпораций). Угрозу замены людей роботами расценивают как нечто совершенно новое — что радикально изменит образ жизни. Но в действительности ничего нового не происходит или это не так?
— Я бы смотрела на те области, где уже происходят революции и мы этого не замечаем. Например — банкоматы. 20 лет назад на предприятиях были кассы, где выдавали зарплату наличкой. Сейчас мы все получаем деньги на карту, нам уже не нужны кассиры на предприятиях, мы уже и в банк почти не ходим — потому что есть устройства и система, которые все это обеспечивают. Банки нанимают не кассиров, а IT-специалистов для того, чтобы эта система работала и обслуживалась. Или другая система, где уже такая революция произошла, — вендинговые автоматы, вместо которых были бабушки, торговавшие у метро или в ларьках. Все эти изменения происходят незаметно, без бунтов кассиров, потерявших рабочие места. Это даже не революция, а эволюция, которую мы не замечаем, технологии происходят медленно и неравномерно. А помимо того, что технологии не так уж и быстро развиваются и внедряются, меняются целые поколения людей. Молодые не захотят работать у станка, передавать детали, работать кассирами. Они хотят других профессий для себя и своих детей. Например, москвичи не хотят работать дворниками, что компенсируется рабочей силой из стран ближнего зарубежья. А в Японии нет мигрантов и дешевой рабочей силы, есть стареющее население, что приводит к активному развитию робототехники.
В самых роботизированных отраслях, например автопроме, внедрение роботов сопровождалось приростом занятых. И это важно. Внедряя роботов, предприятия становятся более экономически эффективными. Благодаря этому они могут сокращать издержки, продавать дешевле. Если они продают дешевле — значит, они могут продавать больше, их доля на рынке увеличивается, и им нужно наращивать производство. Они наращивают производство — соответственно, нужно нанимать новых людей и приобретать новых роботов.
Получается, что сейчас внедрение роботов не приводит напрямую к безработице. Хуже, когда предприятия не роботизируются и теряют конкурентоспособность, свою долю на рынке. В России очень много предприятий так обанкротилось — потому что люди не были готовы к инновациям, видели в них угрозы, а не возможности, которые нужно осваивать. Есть такой показатель, как плотность роботизации — количество роботов на 10 000 рабочих. У нас в стране это 6 роботов на 10 000 рабочих. А в среднем по миру — больше 100, в Южной Корее — более 700 или 800 роботов на 10 000 рабочих. В Китае — порядка 130 на 10 000 рабочих, а например, лет 5 назад этот показатель был равен 40. В Китае проводилась госполитика, направленная на поднятие уровня роботизации производства. С одной стороны, грустно, что в России такой низкий уровень роботизации, с другой стороны, все туда идут, мы тоже пойдем, и сейчас начнется бурное развитие этого рынка, уже сейчас мы видим прирост — это 40% ежегодно.
Автор: Варвара Перцова
Источник: Forbes

Трубопроводная сагаМнение
Проект «Северный поток-2» отражает весь комплекс текущих противоречий между Россией и Западным сообществом
На днях оператор проекта «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщил о возобновлении строительства газопровода. В заявлении уточняется, что российский трубоукладчик «Фортуна» должен до конца декабря текущего года уложить трубы на небольшом участке (менее 3 км) в исключительной экономической зоне Германии. Кроме того, глава австрийской нефтегазовой компании OMV (одного из основных акционеров Nord Stream 2 AG) Райнер Зеле в тот же день, 11 декабря, подтвердил со своей стороны, что работы по укладке труб газопровода «Северный поток — 2» в водах Германии должны быть завершены в декабре 2020 г.
Двумя днями ранее, 9 декабря, Конгресс США одобрил новые санкции против российского газопровода в рамках оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Согласно этому документу, вводятся новые ограничения для компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства газопровода, а также против компаний, предоставляющих услуги по установке сварочного оборудования на судах. Но и это еще не окончательно: действующий президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на решение Конгресса по военному бюджету в связи с тем, что что сенаторы не включили в документ инициированные Трампом изменения в законодательстве по деятельности социальных сетей.
Почему российско-европейский международный экономический проект по поставкам природного газа становится субъектом оборонного бюджета США уже второй год подряд, ярко и образно объяснил сенатор от республиканской партии Стив Вомак: «Путин хочет использовать газопровод „Северный поток-2“ в качестве инструмента принуждения. Он хочет подорвать наших союзников в Украине и Польше и увеличить зависимость от российского газа. Я горжусь быть соавтором санкций, направленных на то, чтобы остановить его строительство, и аплодирую Сенату за включение этого приоритета в проект бюджета национальной обороны».
Позиция властей Польши и Украины регулярно озвучивается на различных уровнях в не менее экстравагантной форме. Глава МИД Польши Збигнев Рау совсем недавно открыто заявлял, что строительство газопровода «Северный поток-2» ещё можно остановить: «Это вполне возможно, потому что этот проект не завершён[…] Россия в вопросах таких фундаментальных европейских ценностей, как права человека, гражданское общество, не является надёжным партнером, она также не может быть надёжным партнёром в экономическом плане».
Кроме этого, напомним, что еще совсем недавно санкции по отношению к проекту «Северный поток-2» рассматривали власти ключевого партнера России и основного европейского бенефициара строительства газопровода — Германии. И поводом тому послужили публичные обвинения в адрес России в попытке отравить боевым отравляющим веществом российского блогера Алексея Навального.
Наблюдая за этой нескончаемой трубопроводной сагой, из которой уже давно исчезла здравая экономическая логика, да и сам здравый смысл, отчетливо понимаешь, что проект «Северный поток-2» отражает весь комплекс текущих противоречий между Россией и Западным сообществом и, по сути, превратился в своеобразный барометр, который показывает состояние дел лучше, чем любой другой аналитический инструмент. Остается только внимательно следить за ходом укладки труб, чтобы понять стратегический расклад в международной политике.
Вячеслав Мищенко
Независимый эксперт

Алексей Короленко: «Я бы не назвал бумаги дешевыми»
Директор департамента управления активами QBF Алексей Короленко предполагает, что в среднесрочной перспективе залив экономики деньгами поднимет все лодки. Даже акции авиаперевозчиков.
Петр Рушайло
СПРАВКА
Алексей Короленко родился в Москве. В 1994 г. окончил Московский автомобилестроительный институт, в 1997-м – Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Работает на фондовом рынке с 1994 г. С 2017 г. – в QBF, с 2020-го – директор департамента по управлению активами.
Активы под управлением – около 2 млрд рублей.
Финансовая группа QBF предоставляет услуги в области доверительного управления, брокерского обслуживания, хеджирования и консультационного управления. По итогам августа 2020 года флагманский участник группы ООО ИК «КьюБиЭФ» занимает 13-е место по количеству активных клиентов в рейтинге операторов, подготовленном Московской биржей.
«Наш финансовый рынок очень сильно зависит от средств нерезидентов»
– Каково ваше видение ситуации на рынке? Какие можно выделить основные тенденции, на которые стоит обратить внимание частным инвесторам?
– Ситуация достаточно позитивная, даже с учетом всех тех рисков, которые связаны с пандемией коронавируса. В целом мы видим, что ситуация с развитием эпидемии не улучшается, скорее ухудшается. Или по меньшей мере усложняется. Но системно для рынков все позитивно, потому что те объемы глобальной ликвидности, которые вливают мировые центробанки, с лихвой компенсируют риски, связанные с падением объемов экономики. А сейчас появились еще и хорошие ожидания на следующий год по восстановлению экономической активности по всему миру, что дает рынкам достаточно позитивный взгляд на будущее.
– Долго ли, по-вашему, продлится это буйство ликвидности?
– Наверное, да. С трудом себе представляю ситуацию, в которой ФРС (или ЕЦБ) резко ужесточит денежную политику. Если только в случае какого-то совсем бурного экономического роста, что в нынешней ситуации представляется маловероятным. Тогда да, возможно снижение ликвидности. С другой стороны, бурный рост – это очень неплохо для рынка акций. Хотя долгосрочные облигации при таком сценарии, безусловно, пострадают сильно.
– Хорошие ожидания по восстановлению экономики с чем связаны? Есть какие-то данные, на которые вы ориентируетесь?
– Из позитивных данных – это прежде всего данные по китайской экономике. Китайцы, по сути, уже вышли на докризисную траекторию роста. Экономика США, к счастью, тоже дает позитивные сигналы, хотя восстанавливается потяжелее. Но в любом случае с учетом низкой базы этого года мировая экономика обречена показать рост в 2021 году.
– Разве этот эффект низкой базы и ожидания отскока экономики не заложены в ценах на активы, которые уже вышли на уровни выше докризисных?
– Частично заложены. Но в целом нынешний уровень цен на фондовом рынке – все же в основном следствие сверхмягкой денежной политики центральных банков. В том числе, кстати, российского, который, нужно отметить, во время предыдущих кризисов ставку поднимал, а не опускал, как сейчас. А вот экономический рост, обусловленный этой денежной накачкой, вполне может стать дополнительным стимулом для роста на рынке акций, особенно если окажется выше ожиданий, как в Китае. Плюс сохранение мягкой денежной политики центробанков, что мы, видимо, будем наблюдать весь следующий год.
– Вы сказали о восстановлении экономики Китая. Акции компаний каких секторов и каких стран будут от этого выигрывать?
– Думаю, что в первую очередь это бумаги проциклических компаний – нефтяники, металлурги, то есть реальный сектор. Наверное, это касается и мирового фондового рынка, и нашего. Мне кажется, эти бумаги будут восстанавливаться в любом случае, другое дело, что пока довольно сложно оценивать темпы этого восстановления.
– Если говорить про циклические компании. Вы бы сейчас что посоветовали инвесторам – смотреть на западный рынок или на российский?
– Это, конечно, все-таки разные рынки, разные подходы. С одной стороны, на западных рынках можно ожидать более быстрого и более масштабного перетока капитала в эти бумаги. Наши же компании недооценены по своим мультипликаторам, даже относительно западных аналогов, выглядят достаточно дешево, поэтому имеют больший потенциал роста. Но у их бумаг есть определенные специфические риски. В идеале, конечно, нужна диверсификация и по странам, и по секторам.
– Специфические риски акций российских компаний – это риски девальвации рубля?
– Курсовые риски в том числе присутствуют. Но я бы сказал скорее, что это риски страновые. Мы же видим, что периодически у нас возникают какие-то геополитические риски, санкции и так далее и тому подобное. И бумаги российских компаний, несмотря на всю свою дешевизну, сильно проседают на таких новостях. Помимо геополитики, часто появляется и иной негатив. Скажем, из недавнего: история с Навальным, ситуация в Беларуси, война в Нагорном Карабахе. То есть периодически какие-то проблемы нефинансового плана возникают. Поэтому риски достаточно большие.
– Эти риски технически как реализуются? Ослабление рубля, отток средств нерезидентов с фондового рынка?
– Это, по сути, связанные вещи. Наш финансовый рынок действительно очень сильно зависит от средств нерезидентов, поэтому даже незначительные по их меркам оттоки в сотни миллионов долларов на него очень сильно влияют. И влияют одновременно на все. И на курс валюты, и на котировки акций и облигаций.
«Второй эшелон слишком сложен для частного инвестора»
– Если говорить о рублевой зоне. Вы бы что сейчас советовали инвесторам? Быть более осторожными, формировать облигационный портфель или все-таки делать ставку на какие-то движения на рынке акций?
– Я в целом сторонник сбалансированного портфеля. Особенно в нынешней ситуации. Рынки акций восстановились после весеннего провала и в целом находятся сейчас на достаточно высоких уровнях. Я бы не назвал бумаги дешевыми. С другой стороны, и на долговом рынке ситуация не самая привлекательная, доходность ОФЗ – 4–6% годовых. Поэтому – сбалансированный портфель, акции плюс облигации.
– В какой пропорции? Понятно, что это сильно зависит от риск-профиля инвестора. Но все же в среднем по больнице?
– Действительно, это очень индивидуально. Но допустим, что речь об инвесторе среднего возраста – 40–50 лет, горизонт инвестирования у него – 10–15 лет, склонность к риску – умеренная. Тогда в нынешней ситуации на рынках я бы рекомендовал 50 на 50. Половину вложить в акции, половину – в облигации. Это средний уровень, а дальше все зависит от стадии рынка. Понятно, что в период, когда рынки на максимумах, держать больше половины портфеля в акциях нецелесообразно. Вне зависимости от каких-либо ожиданий притока ликвидности.
– Из каких облигаций вы бы рекомендовали формировать консервативную часть портфеля?
– Я бы делал упор на корпоративный долг. Там можно получить осязаемую доходность. Во втором эшелоне, например, – 7–8% годовых при вполне приемлемом кредитном качестве. Ну и конечно, обращал бы внимание на первичные размещения. Там всегда можно получить дополнительную премию.
– Насколько большую?
– Первый эшелон большую премию не дает, там порядка 10 базисных пунктов по доходности. Если бумага пятилетняя, выгода получается примерно 0,5%. Для второго эшелона могут быть более ощутимые премии – 30–50 пунктов. Получается 2%-ный потенциал роста курсовой стоимости. При регулярной торговле это позволяет на 2–3% годовых увеличить доходность консервативной части портфеля.
– Чтобы этим заниматься, какая минимальная сумма нужна?
– Наш долговой рынок достаточно лояльный, теоретически от 1000 рублей, то есть от номинала одной бумаги. Тут скорее все зависит от требований брокера к минимальным суммам на счете.
– Если вернуться к российскому рынку акций. Какие бумаги на нем интересны, кроме отмеченных вами акций проциклических компаний?
– Я думаю, что в каждом секторе можно выбирать какие-то компании, акции которых отстают от рынка. Это не значит, что сами компании депрессивные или что-то у них не так. Просто в каждом секторе так бывает, что по тем или иным причинам бумаги какой-то компании могут отставать от конкурентов. Приведу пример. Недавно мы видели рост цен на нефть до 50 долларов за баррель, который сопровождался очень хорошим ростом акций «Лукойла», «Татнефти», «Роснефти». А вот акции «Газпромнефти» от них отставали. Притом что с точки зрения производственной эффективности, переработки, добычи и так далее рост показателей всех этих компаний примерно одинаковый. Есть простое объяснение: у «Газпромнефти» гораздо более низкая ликвидность. Но это как раз и создает потенциал роста. Например, в случае продажи «Газпромом» части своего пакета сразу появятся ликвидность, возможность включения бумаг в различного рода индексы типа MSCI. И таких историй на самом деле достаточно много.
– Чтобы искать такие истории, на что лучше ориентироваться частному инвестору? На ведущие компании или на второй эшелон?
– Я думаю, что второй эшелон слишком сложен для частного инвестора. Даже у институционального инвестора с гораздо большими аналитическими ресурсами не всегда получается адекватно оценивать ситуацию. Поэтому в целом, конечно, лучше ориентироваться на лидеров. И искать какие-то недооценки, рыночные перекосы среди таких бумаг.
– На западном рынке вы что сейчас выделяете? Какие сектора, бумаги?
– Здесь значительный рост в акциях технологических компаний в этом году. Конечно, может продолжиться и в следующем. Но я бы значительную долю портфеля перекладывал бы в сектор нефтедобычи, металлургию, горную промышленность. Возможно, в банковский сектор. Он тоже может показать неплохой рост в следующем году. Первые движения в этом направлении мы увидели за последний месяц.
– А сильно подешевевшие сектора? Такие, как перевозчики, туризм.
– Отчасти, да, возможно. История с вакцинами, которые целой чередой регистрировались в последнее время, я думаю, может в значительной степени выправить эту ситуацию. Другое дело, что сложно сказать, насколько быстро появится реальный эффект, сколько времени займет вакцинация всего населения, насколько будет эффективной сама вакцина. Но какую-то часть портфеля имеет смысл держать в акциях авиакомпаний. Или, возможно, еще лучше – в акциях авиапроизводителей.
– Какие основные ошибки совершают частные инвесторы?
– Главная ошибка однозначно – избыточная эмоциональность. Если вы тщательно подошли к формированию портфеля, подобрали, которые имеют определенный потенциал роста, видите, что у эмитента хороший работающий бизнес, то не надо реагировать на какие-то временные сбои или негативные новости, которые всегда бывают. И в целом основные убытки обычно возникают, когда слишком эмоциональная торговля идет. То есть при сильных просадках портфели ликвидируются, при бурном росте – расширяются. Нужно спокойно следовать своей стратегии. И конечно, про риск-менеджмент забывать нельзя.

НОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ США: ЧЕГО ЖДАТЬ В ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
КОНСТАНТИН БОГДАНОВ, Кандидат технических наук, научный сотрудник сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН.
ДАВИД ГЕНДЕЛЬМАН, Израильский военный эксперт.
ПАВЕЛ КАРАСЕВ, Старший научный сотрудник Сектора военно-политического анализа и исследовательских проектов ИМЭМО им. Е.М.Примакова РАН, эксперт РСМД.
ИЛЬЯ КРАМНИК, Эксперт Российского совета по международным делам.
АЛЕКСЕЙ КУПРИЯНОВ, Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования отдела международно-политических проблем ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН
ФЁДОР ЛУКЬЯНОВ, Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай». Профессор-исследователь НИУ ВШЭ. Выпускник филологического факультета МГУ, с 1990 года – журналист-международник.
--
Каковы приоритеты новой администрации США в области военного строительства? Как изменится внешняя политика и к чему готовиться в плане кибербезопасности при Байдене? Об этом поговорили участники круглого стола «Новая администрация США: чего ждать в военно-стратегической сфере», который был организован онлайн журналом «Россия в глобальной политике». С Константином Богдановым, Давидом Гендельманом, Павлом Карасевым, Ильёй Крамником, Алексеем Куприяновым побеседовал Фёдор Лукьянов.
Лукьянов: Давайте начнём с СНВ. Его всё-таки продлят или можно уже расслабиться?
Богданов: Шансы на продление договора очень хорошие, но они потребуют солидарной работы обеих администраций – российской и американской. У американцев достаточно простая процедура продления на пять лет. У нас она чуть сложнее. Но несмотря на то, что формально эта процедура длительная, она допускает некоторое такое рекурсивное вложение. То есть если запустить её надлежащим образом, то она уже сама по себе является основанием для продления сроков. И если Россия до того, как договор истёк, запустит её, то отдельным пунктом она может оговорить автоматическое продление на период процедурных мероприятий. Поэтому с Россией проблем особых тоже не должно быть. Если считать от инаугурации, получается 15 дней, – в принципе можно уложиться. Или продлить.
Но дело не в этом. Дело в том, что продлить СНВ – это единственное нормальное логичное решение, которое следовало бы использовать с самого начала. То, что под это продление началась торговля, мне кажется, просто подрывало основы под любыми переговорами в дальнейшем.
В результате мы сейчас находимся в ситуации, когда обе стороны испытывают тягостную неловкость. Не все понимают, что это было, но есть общее ощущение того, что, наверное, надо как-то что-то выправлять.
И мне кажется, это касается в большей степени американской стороны, чем нас, потому что Россия, несмотря на то, что она тоже выписала несколько хитрых фигур высшего пилотажа за последние полтора-два года, особенно за последний год, была более-менее последовательна, – мы говорили о том, что договор надо продлевать.
Здесь правильнее говорить не столько о том, что даёт договор СНВ-III в случае продления, – кроме транспарентности он ничего особо не даёт. Эта предсказуемость программы развития стратегических вооружений, некая прозрачность сил, инспекции и подключение к ним части новых вооружений, в частности, «Авангарда» и «Сармата». «Авангард» уже подключён де-юре, год назад его показывали американцам, «Сармат» ещё не прошёл испытания, но как только пройдёт, так и покажут. Остальные новые стратегические вооружения в текущее определение СНВ не входят, это предмет совсем других договорённостей, если по ним когда-нибудь начнутся переговоры.
Так вот, это пятилетнее продление (а почему я говорю о пятилетнем, потому что продления на год и два не решают проблемы, а лишь создают лишнюю нервозность, – договориться за этот период не получится) – это большое стратегическое предполье, в ходе которого имеет смысл вырабатывать следующие соглашения. Потому что если свести воедино пожелания всех сторон, как они формулировались за последние, так, на секундочку, лет десять-двенадцать, ещё на входе переговоров по Пражскому договору, и особенно сейчас, то, получается, нужно принципиально новое соглашение, которое уже выходит за пределы сложившегося понимания стратегических наступательных вооружений и стратегической стабильности. Это должно быть некое обобщенное соглашение по ядерным силам, а точнее – по ядерной стабильности, учитывающее новые факторы, которые на неё влияют.
И вот тут уже может начинаться какая-то торговля. Мы говорим про противоракетную оборону, космос и неядерные высокоточные вооружения, американцы говорят про тактическое ядерное оружие. Предлагаются вариации на тему сведения всего этого в единый потолок по боезарядам, и сразу возникает проблема российского тактического ядерного оружия, которая тянет за собой полупокойный договор ДОВСЕ. Понятно, что тактическое ядерное оружие предназначалось не для применения в стратегических целях. Оно предназначалось для компенсации континентальных балансов. Если континентальный баланс нарушен, значит, его нужно выправлять. И просто так взять и ограничить тактическое ядерное оружие не получится. Ввести его в уравнение можно только с другими переменными. Это как в бирюльки играть. Мы из клубка тянем одну нитку, она вытаскивает за собой ещё четыре.
Если подобного рода соглашение будет выстраиваться, то даже и не важно, какие там будут потолки, цифры, даже какие типы вооружения туда будут включаться, – это второстепенный вопрос, о котором договорятся прекрасно. Что на самом деле намного важнее – область контрольно-верификационного механизма.
Реально это соглашение будет представлять собой квантовый скачок в методологии контроля над вооружениями. Таким же, каким был СНВ-I в 1991 году.
Тогда мы не имели более-менее выработанных правил для интрузивного контроля. Были только национальные средства технического контроля, прочие наблюдения со спутников и обмен данными.
Договор СНВ-I вырабатывали, если брать в качестве старта Женевские переговоры по ядерным и космическим вооружениям (ЯКВ), шесть лет, с 1985 года. Углубленно – два, два с половиной года в конце 1980-х, потому что ждали, пока договор по ракетам средней дальности заключат, но в общей сложности – шесть лет. Мы не выработаем подобного наследника, который совершит сходный качественный рывок, за один-два года. А на этом наследии мы жили тридцать лет. Тридцать лет мы обретались в философии стратегической стабильности 1990 г. и формировали договоры в этой логике. Иной раз и договор не надо было формировать, нужно было просто переписать потолки, подписать и поехать дальше. Как это было с СНВ-II и Московским договором 2002 года.
В Праге контрольные режимы немножко изменили – их упростили. Потому что за пятнадцать лет некоторые вещи стали избыточными. Сейчас многие полагают, что понятие о стратегической стабильности устарело. Я считаю, что оно не устарело. На мой взгляд, стратегическая стабильность как состояние на центральном сдерживании Россия – США, стабильность в первом ударе и так далее – все эти вещи остались. Но на текущий момент обобщённая глобальная ядерная стабильность объемлет ещё несколько вопросов, которые не описываются классической двухсторонней стратегической стабильностью. И это как раз следующая проблема, к которой я хотел перейти.
Придётся кардинальным образом менять не только контрольно-верификационный механизм, но ещё и само понимание ядерной стабильности в региональных сценариях сдерживания. Потому что асимметричные сценарии, региональные сценарии не подчиняются классической логике стабильности в первом ударе, они никак не релевантны старым расчётам про гигантские обмены многотысячными залпами в разоружающем ударе, в ответном ударе, выживаемость сил и так далее. Это всё не очень актуально для ситуации, когда, допустим, мы берём асимметричный сценарий Америки против Ирана или против Северной Кореи и понимаем, что в какой-то момент на театре Соединённые Штаты должны применить тактическое ядерное оружие. Я просто цитирую соответствующие документы или работы начала 2010-х годов по этой части, когда пытались переосмыслить стратегическую стабильность и говорили о том, что нам нужны маломощные высокоточные боеприпасы для того, чтобы иметь больше гибких возможностей.
И вот тут мы понимаем, что эта модель больше не работает. Использовать ядерное оружие вроде как необходимо, чтобы у нас было гарантировано ядерное сдерживание. А как обеспечить стабильность и отсутствие (в идеале) этого применения, – непонятно. Все эти великолепные идеи про зачёт всех боеголовок приведут нас к верификационной катастрофе, потому что контролировать придётся не ракетные базы с развёрнутыми боезарядами, как сейчас (что, опять же, сорок лет назад считалось вообще невозможным, а вот уже тридцать лет назад оказалось возможным), – контролировать придётся склады. Причём склады, при инспекциях которых можно получить весьма чувствительную информацию. Там может лежать всё что угодно: вплоть до боеголовок, которые разобраны или предназначены к ликвидации (их тоже нужно как-то учитывать), рядом могут лежать резервные боеголовки. Это дико чувствительная проблема для инспекций, потому что пускать людей на хранилища объектов «С» – это пускать их в святая святых своего ядерного сдерживания. С другой стороны, и на ракетные базы когда-то никого не пускали.
Поэтому очень много времени будет потрачено на то, чтобы выработать общий язык понимания того, как мы рисуем рамки ядерной стабильности в целом, как мы в них вписываем предыдущие наши понимания этого двустороннего центрального сдерживания. А его придётся вписывать, потому что как ни крути, 90 процентов ядерного оружия по-прежнему сохраняется за двумя сверхдержавами, и они по-прежнему имеют наиболее совершенные средства доставки.
То есть нужно выстрогать некую матрёшку. У нас есть базовая стратегическая стабильность, она продолжает существовать в рамках юридически обязывающих соглашений, дающих мандат на интрузивный контроль. И есть некий набор других проблем, которые возникли за это время и к которым как-то надо адресоваться. Возможно, не этим же самым соглашением, возможно, это приведёт к возникновению многосторонних гибких форм ядерного контроля – трёхсторонних, пятисторонних, – я не знаю, как конкретно это может выглядеть. В гораздо более мягких формах это могут быть политические обязательства или добровольные обмены данными на первых порах.
Понятно, что все страны живут с некоторым сдвигом по графику. То, что мы с американцами делали в 1970-е, Китай может начать делать, например, в 2020-е – обмен исходными данными и политические обязательства по поддержанию определённых потолков – чисто теоретически. Но это означает, что необходимы уже другие многосторонние соглашения или политические декларации, под общим сводом которых будут дополнительно существовать двухсторонний договор СНВ-III и потенциальный его наследник СНВ-IV.
Я ещё не коснулся такого важного момента, как системы средней дальности, которые повисают в вакууме между тактическим ядерным оружием и стратегическим. А на них придётся обратить внимание. Гибель договора РСМД – если говорить начистоту, обе стороны приложили не так много усилий к тому, чтобы его сохранить. Мы помним многолетнюю вереницу критических высказываний российских официальных лиц, как относились в Америке к РСМД – тоже известный факт.
Получается, что нужна замена, отсылающая и к ядерным средствам средней дальности, которые по-прежнему остаются угрозой, особенно для континентальных территорий, для Китая и для России в первую очередь, и к неядерным средствам. Почему договор РСМД не делал различий в типах оснащения? Не потому, что в 1980-е уже были эффективные обычные высокоточные вооружения, а потому, что можно было быстро заменить боезаряд теоретически, в модульном исполнении.
А сейчас мы получили ещё и достаточно эффективные конвенциональные средства, в том числе гиперзвуковые, с малым подлётным временем, и их тоже надо как-то учесть. Например, через контроль носителей, пусковых установок, из которых могут применяться как ядерные, так и неядерные ракеты. Это гигантская методологическая проблема – всё это вместе собрать и отбалансировать. Поэтому пятилетний срок представляется почти спасением, если только начнётся разговор обо всех этих проблемах и их взаимном влиянии.
Моим самым неприятным ощущением от того, что происходило в последний год, было даже не то, что США, администрация Трампа не хотят продлевать договор СНВ. Проблема была в том, что его можно было продлить, даже на пять лет, – но совершенно непонятно, как с этой администрацией дальше договариваться. Это было бы очень тяжело. Это было бы время сплошных мучений.
То, что сейчас пришёл Байден, который проблемами контроля над вооружениями занимается 45 лет, со времен ОСВ-II, и который курировал, в том числе, ядерную политику в администрации Обамы, это, я бы сказал, почти стерильные условия, при которых администрация США может выработать свою позицию.
И, пожалуй, лучшего предложения для России не будет.
Ситуация с новой администрацией гораздо прозрачнее, чем с трамповской. С администрацией Трампа договариваться, если честно, смысла не имело. Туда можно было только сдавать какие-то уступки и в ответ получать то, что мы получали весь прошедший год. Кстати, уступок мы сделали немало, мягко говоря. Там тоже, конечно, исходно был жирный запас запросных позиций для торговли, но результат был совершенно не гарантирован, как он и не был бы гарантирован, если бы Трамп выиграл выборы. Поэтому жить пришлось бы в условиях полностью разваленного договора, выполняя его де-факто. Мы в таких условиях жили с 1979 по 1986 гг. – по договору ОСВ-II. Договор не действовал, но потолки более-менее сохранялись. Лучше от этого мир бы не стал.
Если касаться всех остальных вопросов, то, мне кажется, ещё одним важным моментом был бы правильный сигнал в отношении Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (2021 г.), который бы подали две стороны. Потому что Договор о нераспространении ядерного оружия находится в жутком кризисе, реально он трещит по швам. И то, что мы наблюдаем в виде появления так называемого Договора о запрещении ядерного оружия – бунт малых неядерных стран, которые устали ждать от ядерных держав исполнения ими шестой статьи, а именно – ведения переговоров о сокращении ядерных вооружений вплоть до полной их ликвидации, и решили просто запретить ядерное оружие.
Гондурас стал 50-й страной, которая ратифицировала этот договор. И с января 2021 г. на площадке ООН мы имеем договор, который запрещает ядерное оружие и существует в параллельной реальности по отношению к ядерному оружию. Можно сколько угодно играться в это стратегическое зазеркалье, но лучше от этого не будет никому. Лучше всё это вернуть обратно на площадку ДНЯО. Продемонстрировать, что мы действительно привержены контролю над вооружениями. А переговоров по контролю над вооружениями не было девять лет, с 2011 года никто ни о чём не разговаривал. Были какие-то эпизодические стратегические консультации по углам, но субстантивных переговоров не было вообще, ни с одной администрацией – ни с медведевской, ни с путинской, ни с обамовской, ни с трамповской. С трамповской какой-то разговор начался только в 2020 году.
В этих условиях, когда мы сами себя так ведём, трудно требовать что-то от стран третьего мира. Продление этого договора стало бы нормальным сигналом в систему ДНЯО, что мы по-прежнему – плюс-минус – привержены своим базовым обязательствам и согласны дальше всё это делать совместно и эволюционно, без перекосов.
И вот два основных вывода, которые можно сделать из текущей ситуации. Во-первых, у нас есть время для того, чтобы поговорить о том, как жить дальше в условиях новой ядерной стабильности. Во-вторых, пора привести в чувство всех остальных, которые начали беспокоиться за время последнего десятилетия.
Лукьянов: Ну, хорошо. Происходит бунт каких-то стран, которые хотят запретить ядерное оружие. Но это же нереально. Вам не кажется, что это не имеет отношения к теме ДНЯО? Те, кто нарушают и хотят это оружие, не потому его хотят, что не ведутся переговоры между Россией и США. У них всегда есть свои конкретные цели – у Ирана, Северной Кореи и так далее. Мы не становимся заложниками этих мантр, которые уже не работают?
Богданов: Нет, здесь дело в другом. Здесь получается такое зазеркалье зазеркалья. Договор о нераспространении ядерного оружия – это размен отказа от ядерного оружия на подразумеваемую (там это не записано) безопасность неядерных стран. И тут всё становится на свои места. Откуда этот бунт возник? Он возник из-за того, что в мире дефицит безопасности, и он нарастает очевидно, потому что миропорядок плавится.
Дефицит безопасности, и при этом ведущие страны, вместо того, чтобы разоружаться и каким-то образом структурировать миропорядок (а контроль над вооружениями и разоружение – это признак структурированного миропорядка), начинают делать вид, что вот-вот начнётся новая гонка вооружений. Естественно, возникают две крайние реакции. Одна из них – это истерическая попытка запретить ядерное оружие теми, кто вообще не может к нему никак отнестись, и вторая – со стороны тех, кто может к нему как-то физически отнестись – заполучить ядерное оружие. И эти две крайние реакции нужно купировать.
Нужно успокоить политический фон с этими мантрами про стигматизацию ядерного оружия и устранить реальные основания для распространения ядерного оружия в мире.
Иран, Северная Корея, Саудовская Аравия, Египет, Турция, вероятно, могут пытаться заполучить бомбу просто потому, что так они воспринимают ситуацию со своей безопасностью. И это тоже элемент сигнализации. Мы игнорируем не только мнение Гондураса, но и мнение Ирана, а они взаимосвязаны, это как две стороны монеты. А какое может быть мнение у Ирана после того, что происходило вокруг ядерной сделки 2015 г. с ним?
Лукьянов: Это да. Но мне кажется, что Иран и некоторые другие страны хотят заполучить оружие ещё и потому, что боятся, что «прилетит вдруг волшебник» и начнёт менять у них режим. В общем, на мой взгляд, это не очень связано с глобальной безопасностью, – это конкретная политика конкретной страны, идеологическая политика.
Богданов: Да, но это событие происходит не в вакууме, оно происходит в некоторой системе коллективной безопасности, если такое ругательное выражение мне здесь позволят. В той системе коллективной безопасности, в которой этот вертолёт может прилететь, видимо, что-то происходит не так. И из-за этого одни пытаются запретить ядерное оружие, другие – им обзавестись.
Эту ситуацию надо как-то нормализовать. С одной стороны, дать понять пороговым странам, что им, может быть, не нужна ядерная бомба, хотя я понимаю, что мы их окончательно не уговорим никогда. Но если десять лет не заниматься этой проблемой, всё так и будет.
Лукьянов: Мы потом выйдем на региональные вопросы, а сейчас меня ещё очень интересует вот что: Владимир Путин обратился недавно с предложением по поводу кибербезопасности. Очень красивое предложение, которое, как я понимаю, не вызвало вообще никакой реакции – улетело в стратосферу и там где-то и осталось. Мы можем чего-нибудь ожидать в этом направлении, тем более все вроде говорят, что это самая опасная сейчас область, где всё что угодно может произойти. А каких-то значимых попыток урегулировать её не видно.
Карасев: Для Трампа отреагировать как-то на это предложение – на фоне постоянных обвинений в его адрес о сговоре с Россией – значило бы поставить крест на своей предвыборной кампании. Все годы нахождения Трампа у власти отношения с Россией в сфере кибербезопасности не только последовательно разрушались, но были совершенно заблокированы американским Конгрессом. Все, как демократы, так и республиканцы, сошлись во мнении, что Россия – очень опасный игрок в киберсфере, и с ней никаких отношений иметь нельзя. Например, у них есть такой документ – Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act), где, начиная с 2017 г., можно найти положение об ограничении военного сотрудничества между США и Российской Федерацией. В бюджете на 2020 фискальный год на основе этого положения было введено ограничение на создание с Россией какой-либо совместной группы или подразделения в сфере кибербезопасности.
Если попытаться спрогнозировать, что может быть дальше, если президентом будет Джо Байден, то, конечно, есть вероятность, что он вернётся к тому, что было при Обаме. При Обаме создали пост «киберцаря» – межведомственного координатора, а Трамп его упразднил. Уже сейчас на слушаниях в Палате представителей рассматривается законопроект о восстановлении подобной должности, которая немного изменится по функциям и будет называться National Cyber Director. Скорее всего, при Байдене вновь появится фигура, которая будет координировать кибербезопасность среди всех американских департаментов, агентств и так далее. Также при Обаме был назначен координатор по кибервопросам в Госдепе, который от имени США занимался всеми аспектами кибербезопасности на международной арене. При Трампе эта должность была практически ликвидирована, и есть мнение, что Байден вновь повысит её приоритет.
Если проследить линию международного взаимодействия, то при Джордже Буше – младшем был сделан упор на национальные усилия по обеспечению кибербезопасности, а с отдельными государствами существовали двусторонние соглашения. При Обаме обеспечение кибербезопасности стало международным делом, и надо сказать, что это в некоторой степени было полезно для России, потому что США включились в работу Группы правительственных экспертов ООН (ГПЭ). Тогда при участии США и России получены самые значимые достижения ГПЭ – выработаны нормы, правила и принципы ответственного поведения государств. При Трампе никаких достижений не было – напротив, сначала не был согласован доклад ГПЭ в 2016–2017 гг., а потом произошло раздвоение процесса на ГПЭ и Рабочую группу открытого состава (РГОС), которые опираются на одни и те же достижения, но ставят перед собой различные цели.
При Байдене возможен какой-то ренессанс, возврат к некоторому формату совместной работы. Но, так как настрой в отношении России сейчас в основном недружественный, я сомневаюсь, что в текущих условиях будет возможно двустороннее соглашение. Напомню, при Обаме было принято Совместное заявление президентов Российской Федерации и Соединённых Штатов в области сотрудничества и мер укрепления доверия. Там, в частности, говорилось об использовании линии прямой связи между Центрами по уменьшению ядерной опасности – специально для того, чтобы информировать друг друга, уведомлять о наличии каких-то опасений по поводу значительных кибератак. Не стоит ждать при Байдене возрождения такого двустороннего соглашения, потому что пока политической воли с американской стороны к этому не наблюдается. Сейчас действуют две площадки на уровне ООН, в каждой есть представители и США, и России.
На этих площадках можно отстаивать конкретные национальные интересы в данной области и вести диалог – пока для изменения ситуации к лучшему двустороннее соглашение не так важно.
Несколько лет назад в США была создана Комиссия по киберпространству (The Cyberspace Solarium Commission), которая объединила экспертов со всего политического спектра – и демократов, и республиканцев, и независимых. Поставленная перед ними задача состояла в том, чтобы достичь консенсуса в вопросах кибербезопасности. Я не сомневаюсь, что Байден обратит внимание на многие рекомендации, приведённые в докладах этой Комиссии. Что касается позитивных моментов, то одна из рекомендаций направлена на повышение взаимного доверия в киберпространстве. А что касается негативных аспектов – их много больше, и среди них, во-первых, продолжение политики сдерживания злонамеренных акторов «за передовой линией» (defend forward), то есть на их территории и превентивно; во-вторых, продолжение политики «присвоения» выработанных международным сообществом норм, правил и принципов ответственного поведения, когда они начинают использоваться в одностороннем порядке как обоснование для наказания «плохого» поведения злонамеренных киберакторов.
В ближайшие годы сотрудничество России и США по вопросам кибербезопасности может состояться, но в качестве дополнения к другим темам. Есть мнение, что на смену СНВ-III должен прийти какой-то новый договор. В экспертном сообществе сейчас с большим интересом относятся к вопросам кибербезопасности систем, поддерживающих стратегическую стабильность, и к тому, как развиваются новые технологии – например, искусственный интеллект (ИИ). Очень много исследований посвящено тому, как искусственный интеллект может повлиять на стратегическую стабильность. Например, если ИИ будет использован в системе предупреждения о ракетном нападении и внезапно даст сбой, то в условиях дефицита времени на принятие решения это может иметь самые серьёзные последствия. По этому вопросу в возможном новом документе обязательно надо договариваться, несмотря на противоречия. Это может быть единственный способ предотвратить катастрофу. Известно, что такого же мнения придерживаются многие американские эксперты.
Что касается мер доверия, они нужны и могут быть полезны, но при одном условии – если есть хотя бы минимальный уровень доверия между договаривающимися. В его отсутствие меры доверия остаются на бумаге и не реализовываются.
Лукьянов: По поводу мер доверия у меня короткий вопрос, касающийся этого трёклятого российского вмешательства. Представить себе, что российская сторона что-то признает и за что-то извинится, я не могу ни при каких обстоятельствах. Российская сторона может дать понять, что, мол, ребята, давайте мы перевернём страницу и закроем вопрос. Насколько демократы, которые взяли реванш у ненавистного им Трампа, готовы начать эту тему отодвигать? Чтобы она уже не играла такую роль.
Карасев: Думаю, что эта тема будет отравлять отношения ещё не один год – в американских документах стратегического планирования Россия названа одним из главных противников в киберпространстве. Эта позиция стала значимой частью политики США. Байден в своей предвыборной риторике чётко обозначил, что Россия должна заплатить за совершённое вмешательство. Якобы совершённое. Многие ожидают, что он реализует это намерение. Другое дело, что подобный выпад может последовать как возмездие в ответ на какие-то действия в Европе, якобы совершённые Россией. Самое негативное, что в подобном сценарии может быть, – публичная атрибуция.
Если США, как они часто делали в последние годы, просто назначат виновного и начнут в наказание совершать какие-то действия, то вопрос существования международного права отпадёт сам собой.
Лукьянов: Иначе и не будет.
Карасев: Мы находимся в очень опасной ситуации. Когда Обама «взорвал» Stuxnet на предприятиях иранской ядерной программы, то политический эффект – демонстрация возможностей – был сравним с бомбардировкой Хиросимы и Нагасаки. По имеющимся данным, проведению этой операции предшествовали годы подготовки и согласований. Трамп поднял уровень Киберкомандования, и теперь для проведения отдельных кибератак, даже в рамках «обороны за передовой», необязательно согласование с президентом. Если благодаря таким действиям начнёт раскручиваться маховик эскалации, то это может закончиться очень плохо. Джо Байден, как представляется, это понимает и вряд ли станет отдавать приказ о кибератаке против России.
Крамник: Я бы тоже добавил кое-что, если можно. Я в последние несколько месяцев читаю об американских разработках в области системы управления войсками нового поколения и систем передачи данных. Так вот мы стоим на пороге – в диапазоне трёх-пяти лет – практического применения, когда у нас появятся цифровые системы управления боем, где в ряде случаев из цепочки передачи информации человек будет исключён. Естественно, такие системы более уязвимы для кибератак по своей природе. Здесь возникает вопрос: как только подобная система будет применена в локальной войне, как только против неё будет применено соответствующее противодействие, мы окажемся в ситуации, когда удар по Ирану или ещё по кому-нибудь столкнётся с противодействием в киберпространстве. И кого в этом немедленно обвинят?
Карасев: Конечно. Киберпространство безгранично, анонимно, сложно, взаимосвязано. Все сейчас говорят о великих достижениях в сфере атрибуции, и в последнее время достигнуто множество успехов. Но моментально понять, откуда идёт атака, пока невозможно. Есть сообщения, что американские специалисты разрабатывают новые системы киберзащиты и анализа, в том числе использующие ИИ. Но насколько хорошо они будут работать на практике? Будут ли они сами уязвимы к кибератакам?
Информационное пространство неосязаемо. Если снаряд летит по баллистической траектории, мы можем за доли секунды точно просчитать, откуда он летит, куда, сколько по времени. Откуда прилетела кибератака, мы быстро посчитать не можем.
Для передачи вредоносного файла необязательно требуется подключение к глобальной информационной сети. Как заложили вирус Stuxnet в иранскую ядерную программу? Проанализировав код, эксперты пришли к выводу, что вирус распространялся посредством USB-накопителей. Работник предприятия мог поднять подброшенную флешку, вставить в свой рабочий компьютер и заразить систему.
Богданов: Что касается атрибуции, то именно она в данном случае является ключевым вопросом выстраивания контроля. Пока не будет независимой от национальных систем процедуры атрибуции, мы не получим никакого контроля над кибером, за исключением мер доверия – я на вас не нападаю, как это было всегда. Скажем, известное соглашение о ненацеливании ракет 1995 года. Кто его проверял? Какой в нём смысл? Оно просто есть. Вот на уровне таких договорённостей и можно вести речь.
Если будет создана международная структура – извините меня за такие идеалистические фантазии из 1980-х гг., – которой будет делегировано право атрибуции, мониторинга, установления ответственности (я сейчас провокационную вещь скажу: то, что хотят сейчас сделать из ОЗХО по химическому оружию, и из-за чего начался такой скандал), тогда у нас появится точка опоры. Сейчас же в кибербезопасности нет точки опоры по атрибуции вообще никакой. Максимум, что мы можем делать, – меры доверия. Как в том анекдоте: джентльменам в нашем клубе верят на слово.
И одно маленькое замечание по поводу России. Я не про вмешательство буду говорить, а про то, что Россия за всё заплатит и во всём виновата. Дело в том, что следы этого применения уже наблюдаются в американской ядерной политике. Пресловутый маломощный Trident с блоком W76-2, тактическая головка на стратегической ракете, была придумана не Трампом и не для сдерживания России в отношении какой-то страшной стратегии эскалации для деэскалации. Когда о ней говорили, эскалация/деэскалация не обсуждалась вообще. Я прекрасно помню эти работы начала 2010-х годов, в которых длинно и нудно обосновывалась необходимость этих боеголовок для нужд стабильности регионального сдерживания, – о России там речь не заходила даже. Но как только случился Крым, стало понятно, как эту боеголовку можно продать Конгрессу. Я думаю, что Россия «продаст» ещё немало интересных вещей американским налогоплательщикам.
Лукьянов: Поскольку мы затронули несколько раз Ближний Восток через Иран и Израиль, давайте сдвинемся в этом направлении. По логике вещей, раз Байден декларирует себя как антитрамп, соответственно, всё то, что Трамп наворотил ужасного, как считают демократы, на Ближнем Востоке, в частности – отдал Сирию на съедение Асаду и Путину, можно предположить, что будут какие-то попытки сделать контршаги, как минимум – символические, может быть, и не только. Но это моё обывательское мнение, а что говорят на Ближнем Востоке на эту тему? Как может меняться политика?
Гендельман: Чего Израиль ожидает от новой администрации США, так это прежде всего решения иранского вопроса, а не сирийского.
Можно даже сказать: первый пункт – Иран, второй пункт – Иран, третий пункт – Иран, и уже потом все остальные пункты – и Сирия, и палестинцы, и поставки вооружения Эмиратам.
Прежде всего и главным образом – это Иран. Соглашение по ядерной проблеме с Ираном было заключено, когда Байден был вице-президентом, и сам он приложил к нему руку, и большинство экспертов сходится на том, что он захочет вернуться в той или иной форме к этой сделке. Вопрос в санкциях, которые на данный момент существуют: будет ли он их использовать как рычаг или откажется от них. Эксперты также сходятся на том, что поскольку в Иране в июне следующего года должны быть выборы президента, до этого серьёзных подвижек вряд ли можно ожидать. Опять же, мы сейчас не рассматриваем случаи появления «чёрных лебедей», пока считается, что в ближайшие полгода, до выборов президента, каких-либо значительных перемен в программе не будет.
Решение сирийского вопроса будет также во многом зависеть от результатов по Ирану, потому что мы знаем про позиции Ирана в Сирии – всё взаимосвязано. Остальные вопросы – палестинцы и прочее – на этом фоне меркнут.
Лукьянов: А не появится ли естественное желание «подвинуть» русских в Сирии, безотносительно к Ирану, а просто потому, что «они совсем обнаглели»?
Гендельман: В принципе, Израиль полагает, что Сирия на данный момент не является первостепенным театром военных действий для Америки. Это взгляд со стороны, но считается, что для американской администрации Иран – более первостепенная задача. С другой стороны, из-за того, что там на полгода серьёзные подвижки вряд ли вероятны, возможно, внимание как раз будет переключено на Сирию. Пока никаких значимых рассуждений у Израиля на эту тему нет.
Лукьянов: Почему всё-таки подвижки невозможны? Ведь логика может быть и такая: у них выборы, надо нажать на них как следует, чтобы население окончательно осознало, как всё плохо, и выбрало правильных людей, а потом мы с ними будем говорить.
Гендельман: Есть такой вариант тоже, но он может привести к обратному – к сплочению вокруг руководства против иностранного давления. Никто не исключает, что вмешательство в выборы можно производить и в Иране. Но считается, что это менее вероятно, чем ожидание, кого выберут. Тогда уже будет видно, с кем разговаривать. Понятно, что выборы президента – это не выборы рахбара, но это тоже политическая индикация.
Куприянов: У меня вопрос к Давиду Гендельману. Что говорят по поводу Турции?
Богданов: И ещё вопросы. Первый. Продолжится ли при Байдене процесс хотя бы видимой нормализации отношений Израиля с монархиями Залива, начавшийся при Трампе, или он как-то трансформируется? И второй. Мы видим, что суннитский лагерь разбит на части: одна – политический ислам (это Турция, Катар, который «Братьев-мусульман» поддерживает), с другой стороны – режимы, с которыми Израиль налаживает отношения, с третьей стороны – Иран, который в плане политизации ислама ближе к Турции с Катаром, чем к остальным, несмотря на то, что они шииты, а не сунниты. В этой системе что-то поменяется при Байдене или она так и будет развиваться?
Гендельман: Это один из главных вопросов. Считается, что в ближайшее время по чисто объективным причинам процесс продолжится. Сейчас уже официально подписано соглашение Израиля с Эмиратами и с Бахрейном. Причём не только на уровне общих деклараций – подписаны торговые соглашения, скоро начинаются регулярные авиарейсы, а с Эмиратами даже подписано соглашение о безвизовом режиме. Начался процесс нормализации с Суданом, там пока соглашение не подписано, но официально главы государств уже заявляли, что думают о нормализации.
Что касается Саудовской Аравии – там широкие контакты в области безопасности, разведки и прочего пока остаются «подковёрными», потому что Мохаммад бен Салман всё ещё не может пробить свою линию официально, есть много внутренних факторов, которые он должен учитывать. Считается, что от Байдена сложно ожидать, что он полностью сломает эту линию, поскольку непонятно, каким образом это противоречит интересам США. То есть в целом не видно, чем это плохо для США, поэтому в ближайшее время всё должно остаться как есть.
Предполагается, что США не будут продавливать эту нормализацию с арабскими странами всем своим политическим весом, как при Трампе, но не будут и активно противодействовать. Опять же, причина всему – объективные интересы. Всем понятно, что Бахрейн и Эмираты не то чтобы вдруг стали сионистами, просто они видят, как развивается ситуация с Ираном, понимают, что они союзники и ведут реальную политику. Если на иранском направлении произойдут какие-то резкие изменения, то это повлияет и на данный аспект, но пока – так.
Что касается Турции, то там позиция США амбивалентна, и вопрос в том, на что сделает упор Байден. Если при Трампе было ухудшение отношений на фоне закупки С-400 и исключения Турции из программы F-35, то Байден уже делал антитурецкие заявления и по восточному средиземноморью, и по Карабаху, и по правам человека в самой Турции, и о том, что Эрдогана надо сменить путём выборов. Но пока Турция – часть НАТО, неясно, насколько Байден захочет и сможет давить на неё реально.
Фёдор Лукьянов: Байден или кто-то другой из демократов там выступали с заявлениями, что нельзя забывать палестинцев. Пока что это просто слова.
Давид Гендельман: В этом плане – да. Что касается палестинцев, уже были заявления: Камала Харрис говорила, что будет усилена работа на палестинском направлении и возобновлено сотрудничество американской администрации с палестинцами, практически прекращённое при Трампе. Сложно ожидать, что они откатят такие вещи, как перенос американского посольства в Иерусалим. Теоретически это несложно сделать, но политически будет выглядеть очень неоднозначно.
Скорее всего, новая администрация действительно усилит сотрудничество с палестинцами. Но опять же, сложно представить, к каким практическим результатам это может привести. Всеобъемлющее соглашение с палестинцами не было подписано по объективным причинам. Не потому, что американцы не смогли его продавить.
Считается, что Байден будет вести более традиционный курс – как это было при администрации Обамы. Так или иначе, линия продолжится, но, скорее всего, ни к чему не приведёт, поскольку вряд ли можно ожидать, что США окажет такое массированное давление на Израиль, что он пойдёт на реальные уступки.
Лукьянов: Давайте теперь выйдем на более широкие просторы: флоты, армады.
Куприянов: Ситуация у Байдена сложная: на президентский пост он заступит, судя по всему, ещё во время пандемии. Ему придётся разбираться с последствиями вызванных коронакризисом экономических пертурбаций, и эти последствия наверняка отразятся на планах по развитию флота.
Что касается вопроса о сдерживании Китая – тут вряд ли что-то кардинально изменится. Я понимаю, что это звучит парадоксально, так как байденовская кампания строилась во многом на отрицании действий Трампа, но на самом деле Байден, как и Трамп, настроен это сдерживание продолжать. Скорее всего, содержание останется прежним, но изменится форма: если риторика Трампа отличалась известным прагматизмом и вертелась вокруг понятия «сделка» (хорошая сделка, плохая сделка, нужно заключить сделку с союзниками и переложить на них часть расходов на оборону), то теперь, скорее всего, вернётся привычная по временам Обамы риторика об общих демократических ценностях, необходимости сотрудничества перед лицом авторитарных режимов, пытающихся изменить статус-кво и так далее.
В остальном вряд ли стоит ожидать кардинальных перемен. Байден наверняка не откажется от поддержки тайваньского проекта, от привычных FONOP’ов в Южно-Китайском море. Причём я бы не исключил, что если американцы будут вести ударными темпами свою программу по строительству ледоколов, то к концу байденовского срока мы увидим эти FONOP’ы уже в Арктике.
По сути, перед Байденом стоит та же проблема, что и перед Трампом: найти, кто будет сдерживать Китай. Трамп подошёл к этой проблеме без особых изысков: в его стратегии с Китаем противоборствовали непосредственно США при помощи верных союзников. Байден, мне кажется, скорее будет проводить курс Обамы, активнее привлекая союзников и партнёров и выстраивая разветвлённую сеть, где у каждого участника своя причина сдерживать Китай, а Штаты станут подпирать этот неформальный альянс с тыла, поддерживая его в случае необходимости.
Задача нелёгкая, потому что влезать в открытую конфронтацию и портить отношения с Китаем никто не хочет: вроде бы все согласны, что КНР нужно сдерживать, но пусть этим займутся Штаты – у них денег много.
В первую очередь это касается АСЕАН: почти наверняка администрация Байдена попробует вовлечь их в формирование антикитайской оси, апеллируя к ценностям демократии и свободного рынка, но я не уверен, что этот номер пройдёт.
В том числе потому, что у Байдена за спиной довольно сомнительное наследие времён Обамы: многие азиатские партнёры в своё время были буквально очарованы перспективами, которые перед ними развернул Обама, потом оказалось, что Соединённые Штаты много обещают и мало делают, а после того, как Обама ушёл из Белого дома, и внешнеполитический курс изменился. Для азиатских стран, привыкших к стабильной внешней политике, это стало неприятным сюрпризом. На Байдене как на вице-президента Обамы висит немалая доля ответственности за несбывшиеся надежды.
Определённо Байден будет пытаться укрепить отношения со всеми более-менее антикитайскими акторами в Индо-Пацифике, включая Японию, Южную Корею, Австралию, Индию, Вьетнам, Новую Зеландию, Тайвань. Скорее всего, будет активизироваться Quad. Линия на активизацию Quad вполне соответствует обамовско-байденовскому пониманию того, как нужно сдерживать Китай – не случайно эта структура появилась при Обаме.
Таким образом, резюмирую, Штаты оказываются в ситуации, когда им придётся, с одной стороны, укреплять свою тихоокеанскую систему безопасности в условиях проблем с оборонным бюджетом и при этом активнее работать с партнёрами, делая это более мягко и искусно – притом, что эти партнёры совершенно не горят желанием включаться в конструкцию сдерживания.
В качестве примера можно привести Индию. Индийско-китайские отношения вроде бы уже полгода в глубоком кризисе из-за пограничных проблем, но на самом деле индийская внешняя политика похожа на маятник, который может откачнуться в другое положение буквально за несколько месяцев. Это хорошо продемонстрировала уханьская встреча, которую Нарендра Моди и Си Цзиньпин провели менее чем через год после жёсткого противостояния на Докламе. Азиатская политика – очень сложное, динамичное явление, глубоко завязанное на историю региона, и Байдену придётся нелегко. Теперь хочу передать слово Илье Крамнику, который подробно расскажет про то, почему именно мы не завидуем американцам в нынешней ситуации.
Крамник: Американцам придётся как минимум демонстрировать оказание помощи союзникам. А может ли эта помощь перерасти во что-то реальное, в финансовые вложения американцев в эту историю – это большой вопрос, в силу имеющихся у меня сомнений относительно возможностей США сильно расширить свой военный бюджет и бюджет на оказание помощи. Есть несколько направлений, где я жду каких-то серьёзных увеличений физических поставок, все они связаны либо со странами, уже располагающими финансовыми ресурсами, либо со странами, которые слишком важны в стратегическом и политическом плане.
Если говорить о военно-морских делах и связанных с ними воздушных, я жду, что США увеличит объём военной поддержки на Тихом океане, прежде всего – в Австралии и в Японии. Не готов в данном случае прогнозировать по Тайваню, но что касается Австралии и Японии, думаю, мы увидим там дополнительные контракты с участием США – и по флоту, и по ВВС, поскольку, с одной стороны, обе эти страны могут в данном случае свои расходы оплатить, а с другой стороны – это позволит повысить эффективность сдерживания и в отношении Китая, и в отношении России (в случае с Японией), переложив часть расходов на военный бюджет союзников.
Что касается НАТО, тут мы можем столкнуться с очень интересной картиной. При Трампе начался перенос центра тяжести во взаимоотношениях с НАТО на страны Восточной Европы, которые стали и политически больше значить, чем раньше, и наращивать свои военные расходы в процентном соотношении от ВВП, по крайней мере, более значительно, чем их соседи на Западе. Я думаю, что тенденция продолжится, поскольку в данном случае есть совпадение и политических, и экономических интересов. Германия, Франция, Италия и другие лидеры НАТО из числа стран Западной Европы – никто из них, скорее всего, не сможет позволить себе значимого роста военных расходов в ближайшие годы. В Восточной Европе рост происходит. В ближайшие несколько лет он превратится в зримые, значимые поставки большого количества современных вооружений. Отчасти мы уже имеем эти поставки, мы видим процесс перевооружения польских, румынских вооружённых сил. Скоро будут затронуты и другие страны.
Причём здесь будет и увеличение, с одной стороны, расходов их собственных, так и увеличение помощи со стороны Штатов, поскольку в отношении Восточной Европы это не требует значительного роста в абсолютных цифрах. Там и относительно небольшие деньги могут серьёзно повысить оснащённость, уровень подготовки европейских армий.
И, конечно же, надо сказать про Арктику. Я жду, что мы увидим рост и американского собственного участия, и помощи со стороны Штатов в адрес, прежде всего, Норвегии и Дании. Тут та же самая причина: относительно небольшие в американских масштабах средства могут дать значительный прирост в датских и норвежских потребностях по арктическому направлению, где в условиях театра, на большом пространстве силы в абсолютных числах достаточно ограничены. Если у Норвегии вдруг возникнет вместо четырёх фрегатов, например, восемь, что вполне возможно, или вместо полусотни F-35 их будет 80, то для американцев это не будет стоить почти ничего, но даст существенный прирост возможностей в регионе для альянса в целом.
Что касается дальнейших планов развития вооружённых сил США, прежде всего – флота. Эксперты уже прямо начинают говорить, что американский флот перенапряжён, нагрузка на него слишком велика, корабли не успевают ремонтировать, они выходят в море не в самом удовлетворительном состоянии, есть риск просесть по числу кораблей первой линии. Здесь, очевидно, мы упрёмся в решение, которое видели в прошлые десятилетия и века от других великих морских держав – увеличение дешёвого проекта. Отчасти это уже наблюдается с проектом фрегатов типа «Констеллейшн», это полноценные, очень хорошие корабли, но они рангом ниже, чем эсминцы типа «Арли Берк», и они заметно дешевле.
Увидим ли мы это в других классах кораблей, увидим ли попытку упростить подводные силы за счёт дизельных подводных лодок? Это не раз обсуждалось и может снова оказаться на повестке, хотя, конечно, американские адмиралы не любят дизельные лодки. Увидим ли мы удешевление авианосцев за счёт заказов кораблей нового класса на основе универсальных десантных кораблей – вопросы, на которые лично у меня пока ответов нет, но предпосылки к этому есть. Есть определённый предел расходов, сомнения в том, что эти расходы могут вырасти, потребность в присутствии. Как в этом балансе будет происходить поиск ответа – хотелось бы понять.
Куприянов: Если посмотреть, какое время американские авианосные ударные группы (АУГ) проводят в том или ином регионе, видно, насколько серьёзным в 2019-м и в 2020 г. было американское присутствие на Среднем Востоке. Каждый день, который потрачен на дежурство на Среднем Востоке, – это день, который отнят у дежурства в Пацифике, а меж тем именно Пацифика рассматривается как ключевой театр военных действий. Фактически мы видим, что американские АУГи растаскиваются по разным театрам.
Богданов: Мы эту картину уже видели перед Второй мировой войной в Британии и в процессе Второй Мировой войны тоже.
Крамник: Я только что хотел сказать – мы уже британские линкоры считали в своё время.
Куприянов: У британцев была, пускай и плохая, сингапурская стратегия, которая теоретически заменяла необходимость растаскивать силы империи по разным частям – наличием базы в ключевой точке. У американцев я этой базы не вижу, Диего-Гарсия на эту роль явно не годится: она просто в силу своего местоположения и особенностей базирования и снабжения не может заменить АУГи, дежурящие в Персидском заливе.
Крамник: С этой точки зрения – хороший вопрос про нормализацию отношений между Израилем и Эмиратами. Не увидим ли мы расширение присутствия в Эмиратах, создание там крупной стратегической базы? С другой стороны, такая база становится реверсивной, если Иран подумает, что по его душу пришли, то могут быть неожиданности.
Тут мы опять упираемся в лёгкий авианосец. Что о нём пишут? Что это корабль, который будет втрое-вчетверо дешевле, при этом он втрое-вчетверо ниже по боевым возможностям. Однако ни Россия, ни даже Китай с точки зрения потенциала своих тяжёлых корабельных групп сейчас не представляют проблемы, которая требовала бы большого количества тяжёлых авианосцев. Присутствие двух-трёх кораблей типа “America” с группами F-35 при поддержке ВМС с земли – будет более чем весомо и для российского, и для китайского флотов. Мне кажется, что в этих условиях проект имеет шансы взлететь.
Лукьянов: Попробую собрать воедино все основные соображения. Мы можем ожидать в значительной степени восстановление риторики, которая была при Обаме, притом, что частично она будет носить характер, заменяющий действие. То есть, чтобы разговоры шли, а делать при этом ничего не надо было, – просто вселить уверенность во всех, кто ещё способен во что-то верить.
Существенные финансовые ограничения по всем направлениям. То есть, считать деньги придётся довольно интенсивно, и как бы ни бились военные, им придётся это учитывать.
Для меня несколько неожиданный вывод, что Ближний Восток не восстановит своей прежней актуальности. То есть Трампа ругали-ругали, но на самом деле все сами хотят оттуда уйти.
Доля Азии в интересах США, понятно, будет продолжать увеличиваться.
По стратегической стабильности – широчайшее поле, которое либо может очень медленно осваиваться, либо на нём вообще ничего не будет происходить. СНВ продлят, все похлопают, скажут: «Видите, можем же, когда хотим», и на этом всё закончится, потому что никто не знает, что делать дальше и как. А прилагать большие усилия нет ни желания, ни возможностей. К тому же, я думаю, ситуация наложится на тот факт, что всем придётся повернуться к своим внутренним проблемам, потому что они большие у всех. И Россия не исключение.
Картина получается неустойчивая. Администрация Байдена никакой существенной стратегией поразить не может, но то, что принято раньше, может развиваться, да?
Крамник: На мой взгляд, в паре Россия – США значительная часть проблем ближайшей пятилетки будет определяться ходом внутренних преобразований, их отсутствием или, наоборот, напряжённостью в обеих странах. Очень многое будет от этого зависеть. И у нас, и у них.
Текст подготовила Елизавета Демченко

«Продали душу за Сахару»: как Трамп помирил Марокко и Израиль
CША признали суверенитет Марокко над Западной Сахарой
Анна Юранец
Израиль и Марокко договорились об установлении дипломатических отношений. Таким образом, королевство стало шестым арабским государством, нормализовавшим отношения с Тель-Авивом. Четыре из них — Марокко, ОАЭ, Бахрейн и Судан — сделали это при посредничестве администрации Дональда Трампа. На этот раз президент США для достижения дипломатической победы признал суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Движение за независимость территории уже призвало ООН оказать давление на королевство.
Марокко стало четвертым арабским государством, нормализовавшим отношения с Израилем за последний год. США снова выступили в процессе дипломатическим посредником и, судя по всему, предметом торга стало признание права Марокко на спорную территорию Западной Сахары.
«Очередной ИСТОРИЧЕСКИЙ прорыв сегодня! Двое наших БОЛЬШИХ друзей — Израиль и Королевство Марокко — договорились установить дипломатические отношения — масштабный прорыв к миру на Ближнему Востоке», — написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
Стороны договорились об открытии представительств в Тель-Авиве и Рабате, которые отсутствовали вот уже 20 лет из-за территориального конфликта Израиля и Палестины. Помимо этого Марокко и Израиль планируют начать работу посольств. Также стороны установят прямое авиасообщение.
«Свет мира в первый день Хануки никогда не светил ярче на Ближнем Востоке. Это база, на которой мы теперь можем строить мир, возобновить работу бюро по связям в Израиле и в Марокко, работать как можно скорее для установления полноценных дипломатических отношений. Я всегда верил, что этот прекрасный день придет, и постоянно работал ради этого»,— сказал премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе церемонии, которую транслировали основные каналы израильского ТВ.
Дипломатические отношения с Тель-Авивом уже установили ОАЭ, Бахрейн и Судан — и все при посредничестве администрации Дональда Трампа. Эти страны уже приветствовали нормализацию отношений Израиля с Марокко.
Беспокойство Палестины о том, что первое соглашение между ОАЭ и Израилем создаст угрозу арабской солидарности против Тель-Авива в его конфликте с Рамаллой, начинает становиться все более оправданным. О нормализации отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами объявил Дональд Трамп 13 августа, с того момента примеру ОАЭ последовали уже три страны. Таким образом, всего Израиль имеет дипломатические отношения уже с шестью арабскими странами. Договор с Египтом был подписан в 1979 году, а с Иорданией — в 1994-м.
Палестина же ссылается на Арабскую мирную инициативу, принятую в 2002 году. Согласно ней, установление отношений между арабскими странами и Израилем возможно «после прекращения оккупации захваченных в 1967 году палестинских земель, создания палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и справедливого решения проблемы беженцев».
Однако, как отмечал ранее в разговоре с «Газетой.Ru» эксперт центра Карнеги в Москве Алексей Малашенко, в арабском мире уже достаточно давно существует запрос на урегулирование внутренних конфликтов, которому и следуют некоторые страны. А арабская солидарность, к которой призывает Палестина в ее конфликте с Израилем, — далеко не такой существенный фактор.
«Всегда были национальные интересы, в том числе, по отношению к ближневосточному конфликту, в том числе, по отношению к Израилю. Эта тенденция началась не сегодня. Я думаю, что на сегодняшний день Израиль — это не тот фактор, который мог бы сплотить вокруг себя арабов на уровне государств, — отмечает эксперт.
— Этот конфликт всем надоел, есть совсем другие проблемы — те же исламские экстремисты. Поэтому, если мы посмотрим в будущее, отношения между арабами и Израилем, в основном, будут улучшаться».
Этим запросом достаточно успешно удалось воспользоваться администрации Дональда Трампа и в последние месяцы своей работы Белый дом закрепил свой успех на этом направлении. Нетаньяху в своем выступлении поблагодарил президента США за «огромные усилия по установлению мира между Израилем и народами Ближнего Востока» и короля Марокко Мухаммеда VI за «историческое решение о нормализации отношений с Израилем». Этому решению, однако, предшествовал достаточно широкий жест со стороны Белого дома в адрес Марокко.
«Режим готов продать душу»
Речь идет о признании суверенитета королевства над Западной Сахарой.
«Я подписал сегодня декларацию о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой. Серьезное, вызывающее доверие и реалистичное предложение Марокко об автономии является единственной основой для справедливого и прочного решения для мира и процветания», — написал Трамп в своем Twitter.
Глава МИД Марокко Насер Бурита назвал решение президента США «историческим шагом» для королевства.
Рабат контролирует эту территорию с 1975 года и предлагает Западной Сахаре широкую автономию в составе королевства. Однако населяющий эту территорию коренной народ сахарави во главе с Фронтом Полисарио борется за ее суверенитет.
В 1991 году при посредничестве ООН стороны заключили перемирие и договорились о проведении референдума о независимости Западной Сахары. Однако им так и не удалось прийти к компромиссу в вопросе, кто именно будет участвовать в референдуме.
В распространенной пресс-службой Белого дома декларации отмечается, что США «признают суверенитет Марокко над всей территорией Западной Сахары».
«США считают, что независимость территории является нереалистичным вариантом для урегулирования конфликта. Только подлинная автономия в рамках суверенитета Марокко будет единственно возможным решением. Мы призываем стороны начать диалог без промедлений, используя план Марокко по предоставлению автономии как единственную основу переговоров о взаимоприемлемом решении. Для достижения прогресса в этой цели США будут поощрять социально-экономическое развитие с Марокко, включая территорию Западной Сахары, и откроют для этого консульство в Западной Сахаре, в Дахле, чтобы способствовать экономическим и деловым возможностям в регионе», — говорится в документе.
Фронт Полисарио уже осудил заявление президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Марокко над Западной Сахарой.
«Решение Трампа ничего не меняет с юридической точки зрения по вопросу сахарави, потому что международное сообщество не признает суверенитет Марокко над Западной Сахарой. Это является вопиющим нарушением Устава ООН, основополагающих принципов Африканского союза, и препятствует усилиям международного сообщества по поиску мирного решения конфликта между Сахарской Республикой и Королевством Марокко», — говорится в заявлении Фронта.
В своем заявлении движение также призвало ООН «оказать давление на Королевство Марокко, чтобы оно положило конец оккупации Западной Сахары».
Представитель движения в ООН Сиди Омар в своем Twitter отметил, что статус территории определяется международным правом и резолюциями ООН. «Этот шаг показывает, что марокканский режим готов продать душу ради нелегальной оккупации частей Западной Сахары», — написал он.
В четверг официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриш заявил, что «решение вопроса все еще может быть найдено на основе резолюций Совета Безопасности».
Политологи сходятся во мнении, что этот шаг при посредничестве США был продиктован, во многом, опасениями сторон в связи с нарастающем влиянием в регионе Ирана. С Тегераном у Израиля и США откровенно враждебные отношения.
«Трамп пытается создать имидж миротворца. Он президент, который не начал ни одной войны, президент, который наладил отношения с Северной Кореей, который способствует налаживанию контактов Израиля с арабскими соседями. Здесь много может быть целей, одна из них — создать общую коалицию из Израиля и арабских стран против Ирана», — отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев.

Фактор возмездия
к чему приведёт убийство иранского ядерщика
Шамиль Султанов
27 ноября в городе Абсард округа Демавенд, недалеко от Тегерана, был убит профессор Мохсен Фахризаде Махабади — один из выдающихся учёных-ядерщиков Исламской Республики Иран, профессор Тегеранского университета, глава группы научных исследований и инноваций при Министерстве обороны и поддержки Вооружённых сил ИРИ.
В исламском мире его называли вторым Абдулом Кадыр Ханом (пакистанский учёный, физик-ядерщик, основатель и руководитель пакистанской ядерной программы). Американцы сравнивали его с Робертом Оппенгеймером и Лесли Гровсом — руководителями "Манхэттенского проекта". В Советском Союзе функции Фахризаде приблизительно соответствовали полномочиям Лаврентия Берии и Игоря Курчатова, хотя иранский проект по созданию ядерной бомбы был закрыт в ИРИ ещё в 2003 году. В 2013 году авторитетный американский журнал Foreign Policy включил Мохсена Фахризаде в список 500 самых влиятельных людей в мире. Он уже давно был в списках врагов Израиля, на него неоднократно покушались. И последняя попытка оказалась фатальной для Фахризаде Махабади: он погиб в результате тщательно спланированной израильской террористической атаки.
Есть несколько причин, почему был убит выдающийся иранский учёный-физик. О некоторых из них на Западе с охотой говорят, о других тщательно умалчивают.
Например, говорят, что одна из наиболее вероятных целей заключалась в том, чтобы максимально затруднить возобновление переговорного процесса по ядерной сделке между США и ИРИ после прихода в Белый дом администрации Байдена. "Трамп и Нетаньяху не скрывают своего стремления усложнить Байдену возобновление переговоров с Ираном и повторное присоединение к ядерной сделке 2015 года".
Однако помимо явных, лежащих на поверхности причин этого зверского убийства сионистским террористическим государством есть и скрытые причины, гораздо более весомые, грязные и циничные, чем те варианты, которые обсуждают так называемые эксперты и аналитики.
Но, прежде чем говорить о них, надо вспомнить о неординарном политико-театральном представлении, которое было разыграно за пять дней до теракта — 22 ноября.
В этот день, в воскресенье, в Неоме — столице инновационного региона Саудовской Аравии — должна была состояться заранее запланированная встреча Мухаммада бин Салмана (МБС) — наследного принца Саудии и Майкла Помпео — государственного секретаря США. А в Иерусалиме должно было пройти заседание "узкого" кабинета израильского правительства. Однако Биби (прозвище Нетаньяху) без объяснения причин отменил это заседание. Далее последовали события, заранее подготовленную шаблонную версию которых стали озвучивать как по команде все СМИ израильского (и не только) истеблишмента.
Якобы Биби вместе с Йосси Коэном (руководителем "Моссада") сел в самолёт и через час приземлился в аэропорту Неома. Там он присоединился к переговорам с Мухаммадом бин Салманом и Помпео. Встреча "на троих" продолжалась целых два часа (учитывая перевод, что можно реально обсудить за это время!). Главная тема — Иран и возможные акции троицы против ИРИ, включая и возможное убийство Фахризаде.
Затем ещё через час Биби вернулся в Израиль. Далее последовал хор хорошо отрепетированных оценок израильских СМИ, политиков и аналитиков: это-де небывалый исторический визит, окончательное формирование израильско-саудовской оси, и даже шире — израильско-суннитской оси, направленной против Тегерана.
Однако заранее прописанный сценарий начал быстро рушиться. 24 ноября Министерство иностранных дел Саудовской Аравии жёстко опровергло факт присутствия Биби на встрече МБС с Помпео в Неоме. И понятно почему: в нынешней ситуации любая встреча трамповского любимчика Нетаньяху и такого же дискредитированного МБС означало бы для последнего приближение к своей политической смерти. Даже если бы Трамп лично позвонил Мухаммаду бин Салману и попросил об этой встрече, тот бы резко отказался. А Трамп даже не позвонил.
В официальном заявлении Госдепартамента о встрече МБС и Помпео от 23 ноября Нетаньяху также не упоминается. Да и сам Помпео за всё прошедшее после 22 ноября время так ничего об этой якобы трёхсторонней встрече не сказал.
27 ноября последовал террористический акт против Фахризаде, в убийстве которого лично были заинтересованы прежде всего Нетаньяху и Коэн. Почему?
Судьба нынешнего израильского коалиционного правительства Нетаньяху-Ганса уже предрешена, в ближайшие несколько недель оно уйдёт в отставку, новые выборы в кнессет состоятся в марте или апреле, когда в Вашингтоне будет уже администрация Байдена. Биби прекрасно понимает, что после новых выборов он уже не станет премьером, а следовательно, начнётся судебное разбирательство его уголовных дел, которые с очень большой вероятностью закончатся тюремным заключением.
Нетаньяху нужна такая война, которая бы отложила выборы в кнессет и оставила Биби во главе "военного правительства", где он смог бы сохранить личную неподсудность. Но это должна быть война между США и ИРИ, которая объективно надолго испортит отношения между Тегераном и администрацией Байдена и сделает невозможным какое-либо улучшение американо-иранских отношений.
Йосси Коэн, которого Биби почти открыто готовит себе в наследники, в случае создания "военного правительства", покидает свой пост в "Моссаде" и пересаживается в другое кресло в новом кабинете — например, министра обороны, откуда уже прямая дорога в премьеры.
Таким образом, убийство Фахризаде должно было стать спусковым крючком для нужной Биби военно-политической эскалации в регионе. Иранская атака на американские базы в Ираке, удары иранских ракет по нефтяным объектам в Саудии и американским военным кораблям в Персидском заливе, ответная бомбардировка иранских военных объектов и так далее.
Большая региональная война могла стать жестокой реальностью, а может, даже перерасти в глобальную. Конечно, Израиль тоже пострадал бы, но сам Биби остался бы в целостности и сохранности.
Но после 27 ноября явно что-то пошло не так. Буквально на следующий день, 28 ноября, последовал необычайный и экстраординарный шаг, которого никогда раньше не было. "Нью-Йорк таймс", основной рупор высшего американского истеблишмента, открыто заявил со ссылкой на несколько спецслужб США, что убийство Фахризаде совершил именно Израиль и Соединённые Штаты к действиям своего пока ещё союзника непричастны, хотя некоторые деятели администрации Трампа были о теракте всё же заранее проинформированы. Причём этот месседж был адресован не столько Тегерану, сколько, прежде всего, Нетаньяху.
С резким осуждением террористического убийства Фахризаде неожиданно выступили и якобы арабские союзники Израиля, в том числе Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты.
Комбинация Нетаньяху-Коэна, судя по всему, проваливается. Но до завершения ещё далеко. Как известно, во взаимодействиях спецслужб такие операции, как, например, убийство Фахризаде, никогда не прощаются. Когда ответные действия отсутствуют или предпринимаются с опозданием, государство ставит под сомнение свою репутацию и на внешнеполитической арене, и внутри страны. Кроме того, такое бездействие снижает эффективность дальнейшего сдерживания и способствует изменению баланса сил в пользу врагов, которые неизбежно будут продолжать свои провокации. В военных теориях, особенно израильских и американских, приоритетное внимание всегда уделяется разнице в масштабах потерь — в рядах своих и союзных вооружённых сил, а также вражеских.
Ответные меры ИРИ против Израиля (которые обязательно будут!) наверняка не ограничатся только территорией Израиля. Правда, они могут быть предприняты и достаточно быстро, и через месяцы или даже годы.
В настоящее время радикалы из иранского руководства выбирают цели для ответного удара, который будет нанесён либо внутри, либо за пределами оккупированной Палестины. Например, публично раздаётся призыв нанести массированный ракетный удар по Тель-Авиву. Это также объясняет, почему израильское правительство объявило состояние повышенной готовности в своих посольствах по всему миру, поскольку они также могут стать объектами ответных ударов.
Возмездие Ирана за серию убийств 2010-2012 годов, по-видимому, происходило в форме нападений на израильских дипломатов в Грузии, Индии и Таиланде в 2012-м. Более того, в рамках большой глобальной игры Тегеран фактически ещё реально не отомстил за убийство генерала Касема Сулеймани. Масштабы "ответки" будут зависеть от хода ожидаемого улучшения отношений между США и ИРИ при администрации Байдена. Но в любом случае можно говорить о скором завершении карьеры и Биби, и Коэна.
С другой стороны, как отмечают сами эксперты ИРИ, террористическое убийство Фахризаде вновь поставило в повестку дня серьёзные недостатки в работе иранской контрразведки.
Террористический акт со стороны террористического государства в отношении Мохсена Фахризаде привёл к неожиданным результатам. Эта операция не только не остановит развитие иранской атомной программы, но и может парадоксальным образом ускорить этот процесс. В сложных функционирующих системах каждого специалиста и каждый ядерный объект можно заменить. И США, и сионистское государство это прекрасно понимают. Именно поэтому убийство шахида Фахризаде может привести к совершенно не тем результатам, которых ожидали Нетаньяху, Коэн и Ко.

Новый подход: при Байдене США пересмотрят санкционную политику
Bloomberg: администрация Байдена проведет ревизию санкций минфина США
Петр Николаев
Команда Джо Байдена пересмотрит политику минфина США в сфере санкций. Односторонние санкции, введенные без участия союзников при Дональде Трампе, демократы считают неэффективными.
Команда Джо Байдена, которого американские СМИ называют избранным президентом США, намерена провести фундаментальный анализ санкционной деятельности министерства финансов. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.
Будет проверена деятельность отдела минфина, занятого проблемами терроризма и финансовой разведкой. В годы президентства Дональда Трампа многие сотрудники этого направления уволились, поэтому новой администрации предстоит решать вопросы с финансированием и набором нового персонала.
Пересмотрены будут санкции. Многие из односторонних ограничительных мер, наложенных в трамповские годы на Иран, КНДР, Китай, Венесуэлу и Российскую Федерацию, демократы считают неоднозначными и недостаточно эффективными.
Новая американская администрация намерена привлекать к персональным пакетам санкций международное сообщество.
Сейчас же санкции американского минфина влекут за собой заморозку активов на территории США и запрет для граждан или предприятий вести бизнес с фигурантами «черных списков».
8 декабря экс-посол Соединенных Штатов в Москве Томас Пикеринг (в должности с 1993 по 1996 годы) заявил, что следующая администрация попробует добиться повышения эффективности санкций в отношении России. Однако, по мнению дипломата, Байдену и его команде будет сложно преуспеть в этом деле.
В начале декабря Джо Байден сообщил телеканалу CNN, что после инаугурации хочет изменить подход к внешней политике — сделать его многосторонним, привлекая союзников. Они нужны Штатам для решения вопросов с Россией, КНР и рядом других государств.
Байден также обвинял действующего президента США Трампа в некомпетентном подходе к внешней политике. «Посмотрите, что он делает — сближается со всеми диктаторами и тычет пальцами в глаза всем нашим друзьям», — заявлял демократ.
24 ноября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не может рассчитывать на динамичное улучшение двусторонних отношений с Соединенными Штатами после инаугурации нового президента США. По словам чиновника, кто бы ни оказался в Белом доме, оснований для быстрого налаживания отношений не будет. Причина этому — инерционность подходов к России, заложенная в доктринах США, а также в серии законодательных актов и инициатив, которые выдвигались и прошли через американский конгресс.
«А главное — практически тотальное совпадение взглядов на современную Россию в американском мейнстриме не оставляет шансов на движение по восходящей траектории, по крайней мере в среднесрочной перспективе», — подчеркнул Рябков.
Российские депутаты и сенаторы, в основном, сходятся в мнениях по поводу отношений с США после январского инаугурации нового президента. В целом, считают они, ничего хорошего приход к власти Джо Байдена Москве не сулит — санкционная «война» продолжится, может даже ужесточиться. Впрочем, возможны подвижки в сфере сокращения стратегических вооружений, однако демократы постараются выставить заключение нового СНВ как свою заслугу и «обуздание» российской агрессии.
Минфин США вводит персональные санкции в отношении российских чиновников и предпринимателей, обвиняемых американским руководством в нарушении прав человека и иных прегрешениях. Кроме того, санкции также касаются различных предприятий и компаний в РФ. При этом вводить персональные санкции против РФ Штаты начали еще при президенте-демократе Бараке Обаме — в соответствии с «актом Магнитского». Список лиц, попадающих под санкции, неоднократно расширялся.

Языком террора
О причинах и последствиях убийства Мохсена Фахризаде
Сергей Переслегин
"ЗАВТРА". Сергей Борисович, в конце ноября в результате вооружённого нападения был убит физик-ядерщик, руководитель иранской ядерной программы Мохсен Фахризаде, возглавлявший Центр исследований и инноваций при оборонном ведомстве Ирана. Какие последствия это может иметь для Ирана и мира в целом?
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Убит очень известный человек, "отец" иранской атомной бомбы, занимавший важную позицию в стране. Можно сказать, что совершён террористический акт против государства. В подобной ситуации Иран, конечно, имеет право отреагировать на это убийство как на объявление ему войны.
Даже если бы сразу после убийства были принесены и приняты извинения, что говорило бы о нежелании сторон воевать, в любом случае отношения между странами уже непоправимо испорчены на много лет. Время для убийства выбрано достаточно опасное…
"ЗАВТРА". Торпедируется хрупкая стабильность, которая ещё теплится на Ближнем Востоке…
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Иран уже объявил Израиль виновным в убийстве Мохсена Фахризаде. Причём речь идёт не об отдельных израильских гражданах, за которых формально государство не отвечает, — в любой стране есть преступные организации, выполняющие политические убийства, заказчиком которых могут быть и государственные структуры, но официально это недоказуемо. А в данном случае всё совсем плохо. Израиль никак не отреагировал на обвинения Ирана. При этом Соединённые Штаты официально заявили, что за терактом стоит израильский "Моссад", много лет охотившийся за иранским учёным. Но осуждения убийства не последовало.
Как здесь не вспомнить о санкциях, введённых против России за недоказанное отравление изменника Скрипаля и за якобы "террористический" акт против мелкой политической фигуры — Навального. И в том и в другом случае персонажи остались живы. В Иране же убит практически министр суверенного государства, известный в мире учёный. Америка признаёт этот факт, но относится к нему совершенно спокойно, не считая совершённое поводом для введения санкций.
Не удивлюсь, если наказанию будет подвержен сам Иран, скажем, за то, что там плохо защищают своих учёных, из-за чего тех убивают.
"ЗАВТРА". Это ведь не первое подобное преступление "Моссада"?
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. И не второе, и не десятое… Например, как только Египет начал создавать ракетное оружие — не ядерное! — Израиль принял программу уничтожения немецких, канадских, чешских и других специалистов, которые могли бы в этом деле оказать помощь Египту. Причём уничтожение велось теми же методами, как и в убийстве Фахризаде, — очень грубо и жестоко. Так, одного учёного просто забили насмерть в парижской гостинице. И здесь фактор страха гораздо важнее, чем само убийство. Стояла задача запугать людей, заставить их отказаться работать против Израиля. Ни моральная сторона дела, ни то, что такого типа вещи запрещены международными законами, израильские спецслужбы не интересуют. При чётком понимании причастности к преступлению "Моссада" формально доказать это невозможно.
"ЗАВТРА". У Израиля наверняка есть теория для обоснования таких действий?
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Во второй половине XIX века и до середины XX века в политике существовала такая концепция, как "священный эгоизм". Её любили использовать итальянцы, которые решили, что поскольку Италию постоянно кто-нибудь притеснял, то она имеет право на любые действия, лишь бы те соответствовали её интересам: можно заключать соглашения, а потом их отменять, нападать на бывшего союзника, не считаться с международной практикой и прочее. Закончилось это для Италии плачевно. В результате итальянцы от "священного эгоизма" отучились, а их политика стала одной из самых взвешенных и разумных в мире. Так вот у меня сложилось ощущение, что после Второй мировой войны "священный эгоизм" от Италии перешёл к Израилю.
Свою позицию вседозволенности Израиль оправдывает колоссальными жертвами холокоста, и чтобы подобное не повторилось, Тель-Авив якобы имеет право на все возможные способы защиты, на нарушение любых международных законов. Соответственно израильская разведка "Моссад" с конца 50-х годов действовала и продолжает действовать именно в логике обычного терроризма: убивать, ввергать в панику и изменять политику за счёт этой паники. Чтобы, например, той же Германии было страшно посылать своих специалистов в окружающие Израиль исламские государства для участия в их техническом перевооружении. Эти страны должны остаться по отношению к Тель-Авиву неготовыми к войне. То есть Израилю для победы нужна фазовая доминация — наличие более развитых технологий, и он собирается это делать, нарушая любые общепринятые законы. Даже вводимые против этой страны санкции не останавливали её от подобных действий.
"ЗАВТРА". Можно ли сказать, что международное право неэффективно в данной ситуации?
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Сегодня совсем уж наглых действий на международной арене стараются не предпринимать. Или тут же извиняются за сделанное: мы у вас убили несколько человек, но — ничего личного. В ситуации же с убийством Мохсена Фахризаде никакого извинения нет. Здесь совершенно чётко прослеживается понимание Израилем возникшего вакуума международного права и даже международной силы. Это означает, что в данной пустоте возможно действовать любыми способами. С этого момента Иран становится "серой" зоной: в нём можно убивать министров, и за это никакого наказания не последует.
"ЗАВТРА". Но Иран в ответ обещает сделать территорию Израиля "серой" зоной.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. В результате этого на Ближнем Востоке, где ситуация и так постоянно находится на грани войны, может начаться череда террористических актов.
"ЗАВТРА". Израиль организовал убийство иранского физика в тот момент, когда в США, ключевом его союзнике, идут выборные процессы. И не факт, что кто-то вступится за Израиль в случае начала активных действий со стороны Ирана.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Сейчас Америка не сможет ни вступиться за Израиль, ни резко сказать: так же нельзя, правила соблюдать надо! Израиль прекрасно понимает, что этой осенью в мире нет порядка. А значит, разрешено всё. И они России, Америке, Китаю великолепно это демонстрируют: мы — маленькая страна, но у нас есть "Моссад" и союзники по всему миру, поэтому ни один человек, ни один политический деятель не может себя чувствовать в безопасности, даже имея очень приличную охрану, Тель-Авив найдёт способ достичь своей цели. Это очень сильное заявление и очень опасное. Позиция Израиля совершенно чёткая: никто из тех, кто занимается высокотехнологичным развитием окружающих Израиль стран, не должен жить!
Можно вспомнить строительство Бушерской АЭС, которое началось в 1975 году, первый энергоблок был подключён только в 2011-м, а введён в промышленную эксплуатацию в 2013 году. Но проблема в том, что среди участников её строительства и запуска отмечена очень высокая смертность — в основном от несчастных случаев. Вплоть до авиакатастрофы Ту-134 под Петрозаводском 2011 года. Я читал данные её расследования. Понятно, что виноват экипаж, виноваты службы Петрозаводского аэропорта, но при этом всё равно о трагедии, где погибли люди, участвующие в бушерском проекте, остаются странное впечатление и много вопросов.
В то время Израиль стремился в своих операциях использовать так называемый мягкий криминал, когда совершаются не убийства, а лишь создаются условия, при которых более вероятна статистически случайная гибель людей. Здесь не важно, что из сорока человек будет убит кто-то конкретно. Важно, чтобы все работающие в зоне повышенного риска поняли опасность нахождения в ней. С ними может произойти всё, что угодно: "случайное" пищевое отравление, ДТП, авиакатастрофа, нападение непонятных террористов. Важно посеять ужас.
"ЗАВТРА". Но сегодня "Моссад" действует грубо, без оглядки на международное мнение. Что из этого может получиться?
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Да, теракт против иранского учёного показывает, что Израиль вернулся от паттернов поведения "Моссада" времён глобализации, где была важна определённая скрытность, к системе времён самой жёсткой холодной войны.
Сейчас наступает момент истины для Ирана, который довольно чётко себя демонстрирует как великое исламское, шиитское государство. На израильскую агрессию Тегеран, скорее всего, отреагирует очень и очень резко. Если такое произойдёт, возникнет жёсткий конфликт на Ближнем Востоке.
При этом Израиль исходит из того, что ни Сирии, ни Ливану, ни даже Египту сейчас не до участия в ирано-израильском столкновении. Война же с Ираном один на один для Тель-Авива, в общем, допустима — на данный момент времени он рассчитывает (при хотя бы неофициальной помощи США) справиться с используемыми Ираном силами. Америка после завершения своего внутреннего кризиса очень быстро перейдёт на произраильские и антииранские позиции, европейские страны тоже в основном будут поддерживать Израиль.
"ЗАВТРА". Есть ли шансы у Ирана сохранить лицо в этом конфликте?
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Шансы, конечно, есть у обеих сторон. Но по крайней мере у Ирана будет возможность хотя бы формально продемонстрировать, что он действительно великая исламская держава, что страна соразмерна своим амбициям. То есть нельзя делать ядерную программу, создавать реакторы и бомбы, если вы не можете защитить своих ведущих ядерщиков, и именно это Израиль хочет сейчас заявить Ирану.
Всё происходящее — довольно сильный удар по России. В 90-е годы постсоветская политика нашей страны была во многом произраильской. Но расчёты экспертных групп показывают, что Иран — единственный относительно сильный и вменяемый возможный наш союзник по оси Москва — Тегеран — Средний Восток.
"ЗАВТРА". Плюс позиция такого же мирового изгоя, как и Иран…
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Сейчас мы находимся в ситуации, когда придётся определиться с собственной позицией, на чью сторону встать.
Произошедший теракт с полной силой ударит по Израилю, но косвенно затронет и нас, и США. События в мире сгущаются: октябрь — Нагорный Карабах, ноябрь — убийство Мохсена Фахризаде, да ещё и колоссальный кризис в США. Понятно, что ни одно из них не является само по себе фатальным, но в ситуации, когда "серые" зоны начали потихоньку заполнять карту, честно говоря, становится страшновато.
"ЗАВТРА". Ощущается грядущее "убийство эрцгерцога Фердинанда"?
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. Нет, это несопоставимые вещи: Фердинанд всё-таки был престолонаследник в монархической стране, а здесь — учёный.
Кстати, в прошлом государства не занимались организацией покушений на учёных противника. Были покушения на политиков, например попытка уничтожить самолёт с Черчиллем, был сбит самолёт с Ямамото. Но существовало негласное правило: не трогать представителей интеллектуальной элиты противоборствующей стороны. В этом смысле можно сказать, что сегодня уровень международного права и вообще некий уровень культуры в отношениях между людьми заметно упал.
"ЗАВТРА". Спасибо за беседу, Сергей Борисович!

К нации, доверительно
О махинациях на президентских выборах в США
Дональд Джон Трамп
В ночь с 2 на 3 декабря Дональд Трамп произнёс речь, охарактеризованную им как "самую важную речь, которую он произносил". В обращении к нации, выложенном на YouTube, Трамп описал наиболее яркие случаи фальсификаций на минувших выборах и ясно и недвусмысленно обозначил свою волю идти до конца в борьбе с этими фальсификациями. Интересно то, что массмедиа проигнорировали обращение президента США, уделив ему небольшое внимание лишь в контексте опровержения того, о чём сказал Трамп. Для СМИ всё давно решено — короновали Байдена победителем едва ли не сразу, а публика непрерывно пичкается слухами из "надёжных источников" о том, что в окружении Трампа разлад и что в благоприятный исход не верит даже сам президент. Внимания заслуживает и тот факт, что видео, выложенное с личного канала Трампа на YouTube, долгое время не выдавалось в результатах поиска, а просмотры ролика, содержащего массу громких заявлений и недвусмысленных обвинений, застряли на отметке 4–5 миллионов. Газета "Завтра" расшифровала и перевела речь, являющуюся в зависимости от того, что произойдёт в ближайший месяц, либо финальным аккордом президентства Трампа, либо зачином колоссального гражданского противостояния.
Это, быть может, самая важная речь, которую я когда-либо произносил.
Хочу прояснить ситуацию с нашими последними попытками обличить огромный массив фальсификаций, имевших место в ходе до смешного затянутых выборов 3 ноября. У нас было то, что называется "день выборов", но теперь "день" превратился в "недели" и "месяцы выборов". Множество плохих вещей случилось в течение этого нелепого отрезка времени, особенно когда голосующим не приходится почти ничего доказывать для подтверждения своего права голосовать — нашей величайшей привилегии. Как у президента у меня нет долга важнее, чем защищать законы и Конституцию США. Вот почему я обязан защитить нашу систему выборов, на которую сейчас ведётся скоординированная атака. Мы будем защищать чистоту голосования, тщательно следя за тем, чтобы каждый легально отданный голос был подсчитан, а каждый нелегально отданный — не был.
Дело не только в соблюдении интересов 74 миллионов американцев, которые голосовали за меня. Дело в вере в эти и во все последующие выборы. Сегодня я обращу ваше внимание на наиболее шокирующие случаи нарушений, злоупотреблений и мошенничества, раскрытых за последние недели. Но, до того как продемонстрировать лишь небольшую часть из доказательств, что мы обнаружили (а мы их обнаружили очень много), я хочу раскрыть вам схему мошенничества демократов с почтовым голосованием, которая позволила изменять результат выборов, особенно в колеблющихся штатах, в которых демократам позарез нужно было побеждать. Они не могли предположить, что им будет так трудно: ведь мы вели в каждом из этих штатов с огромным отрывом, какой они даже представить себе не могли.
Да, давно всем было известно, что политическая машина демократов замешана в электоральных махинациях в Детройте, Милуоки, Атланте и Филадельфии, но в этом году сверх всякой меры проявилось их бессовестное стремление печатать и отправлять десятки миллионов незащищённых и никак не отслеживаемых бюллетеней. Это привело к доселе невиданным масштабам фальсификаций. Используя пандемию как предлог, демократические политики и судьи резко изменили правила проведения выборов за несколько месяцев, а где-то и за несколько недель до самих выборов. Законодательные органы почти не привлекались к процессу этих изменений, а ведь согласно Конституции, они должны были привлекаться.
Некоторые штаты — такие, как Калифорния или Невада, — высылали по почте миллионы бюллетеней, следуя спискам избирателей и совершенно не заботясь, запрашивали ли эти избиратели бюллетени. Неважно, живые или мёртвые — они получили свои бюллетени. Другие штаты, такие как Миннесота, Мичиган и Висконсин, поменяли процедуру почтового голосования прямо посреди предвыборной гонки. В этих штатах выслали формы для получения бюллетеней по почте вообще всем избирателям — вне зависимости от запроса, полагающегося по закону. Громадное расширение масштабов почтового голосования открыло шлюзы для колоссальных фальсификаций. Широко известен тот факт, что в списках избирателей полно людей, не имеющих права голосовать, — умерших, переехавших из штата или даже вообще не являющихся гражданами страны. Помимо этого, списки полны опечаток, неправильных адресов, продублированных записей и других ошибок. Это не ставится и никогда не ставилось под сомнение. Десятки округов в колеблющихся штатах имеют больше людей в списках избирателей, чем граждан возраста, нужного для голосования. В одном только Мичигане таких округов 67. В Висконсине избирательная комиссия не смогла подтвердить, что сто тысяч человек являются резидентами штата, но неоднократно отказывалась вычёркивать их из списков избирателей. В комиссии знали, почему они так поступали. Я тоже это знаю. Всё это — нелегальные голоса. Абсурд, что в 2020 году у нас нет средств подтверждения права на голос тех, кто отдаёт этот голос на важнейших выборах, подтверждения того, живут ли они в том штате, где голосуют, и подтверждения того, являются ли они гражданами США в принципе. Мы этого знать не можем. У нас во всех колеблющихся штатах зафиксированы случаи мошенничества в масштабах куда больших, чем требуется для отмены результатов этих штатов. Так, в Висконсине, где мы к концу дня выборов лидировали с большим отрывом, нам чудесным образом "нарисовали" поражение с разницей в 20 тысяч голосов. Это был огромный вброс голосов, большинство из которых (почти все) были отданы за Байдена. И по сей день никто не знает, откуда пришли эти голоса. Но в результате моя победа с большим отрывом превратилась в поражение с отрывом небольшим. Вот где всё скрыто: 3.42 ночи, Висконсин.
Если мы правы насчёт вбросов, Джо Байден не может быть президентом. Речь идёт о сотнях тысяч голосов, речь идёт о невиданных масштабах. К примеру, в некоторых штатах будет отставание, скажем, на 7 тысяч голосов, но позже найдётся 20 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч незаконно отданных голосов — среди этого числа те голоса, что были подсчитаны, когда наблюдателей от Республиканской партии выдворили с участков. Были люди, которые без задней мысли пошли голосовать 3 ноября — взволнованные, счастливые, гордые граждане, они пришли на участки и сказали: "Мы бы хотели проголосовать", — а им ответили, что голосовать они не могут. "Простите, вы уже проголосовали по почте. Поздравляем. Мы получили ваш бюллетень, вы больше голосовать не можете". Они не знали, как быть. Они не знали, кому жаловаться. Большинство просто ушло и сказало: "Странно как-то". Но многие усердно на это жаловались. Другими словами, они пошли голосовать, но им сказали, что они уже проголосовали и больше голосовать не могут, — а на самом деле они не голосовали. Они уходили с участков и теряли уважение к нашей системе — это случилось десятки тысяч раз по всей стране. Вот насколько отчаянно действовали демократы — они заполняли бюллетени за людей, не зная, придут ли те на участки, а если те приходили, то им говорили: "Извините, вы уже проголосовали".
Помимо всего прочего, есть очень подозрительная компания — производитель аппаратов для голосования под названием "Доминион". Простым изменением настройки, сменой чипа каждый голос за Трампа уходит Байдену. Что это за система? Нужно голосовать бумажными бюллетенями. Да, это может занять больше времени, но бумажные бюллетени куда более надёжны в отличие от этих систем, принципа работы которых не понимает никто, порой даже люди, которые их обслуживают. Хотя, боюсь, иногда они понимают эти принципы слишком хорошо. Например, в одном округе Мичигана, где использовались аппараты "Доминион", обнаружилось, что 6 тысяч голосов за Трампа "по ошибке" приписали Байдену. И это лишь верхушка айсберга, лишь то, что мы поймали. А как много случаев, которые мы упустили? Может быть, сотни по всей стране? Может быть, тысячи? Нам повезло найти конкретно этот случай, и они назвали его программной ошибкой. Но мы нашли ещё ряд таких вот "программных ошибок" тем вечером. 96 процентов политических пожертвований сотрудников компании "Доминион" уходят демократам, что неудивительно. Честно говоря, достаточно просто посмотреть, кто руководит компанией, кто ею владеет, а также обратить внимание на тот факт, что мы не знаем точно, где происходит подсчёт голосов: мы думаем, что за рубежом, за пределами США. "Доминион" — настоящая катастрофа. Избирательные власти в Техасе неоднократно блокировали использование систем "Доминиона" из опасений по поводу безопасности и богатого потенциала различных "ошибок" и прямого мошенничества. Каждый округ, который использует аппараты "Доминиона", должен быть внимательно рассмотрен, а ситуация должна быть расследована. Но не ради будущего, а ради настоящего, ради случившегося с выборами, которые мы выиграли без всяких вопросов.
Под моим руководством республиканцы выиграли выборы почти во все законодательные собрания, чего от них никто не ждал. Мы также выиграли до 16 мест в Палате представителей. Я говорю "до", потому что голоса всё ещё считают и с девятью местами ситуация не определена. Не определена даже сегодня, потому что это — полный бардак. Ожидалось, что республиканцы проиграют множество мест, но вместо этого они выиграли несколько кресел в Палате представителей. Огромный успех, которого мы добились в Палате представителей, громадный успех, которого мы добились в Сенате, неожиданный успех по всей стране — всё это делает статистически невозможным поражение центрального элемента этого успеха — меня. Социологи — настоящие социологи, а не те, что предрекали нам поражение с разницей в 17 процентов в Висконсине (где мы победили), или 5 процентов отставания в выигранной нами Флориде, или даже поражение в Техасе, где мы, разумеется, победили, — говорят, что не могут понять, как это произошло. Такого прежде не было. Я привёл партию к победам по всей стране, и я же оказался единственным, кто проиграл. Такого не может быть. Спикер законодательного собрания одного штата сказал мне: "Сэр, я думал, что потеряю своё место, но вместо этого из-за вас и из-за бешеного заряда, который обеспечили ваши митинги, мы одержали убедительную победу. И все это понимают. Вы были куда популярнее меня, но [в нашем штате, избираясь в законодательное собрание] я набрал намного больше голосов, чем вы [избираясь в президенты США]". Этого не могло произойти. С этим что-то не так, и я скажу вам, что это — избирательное мошенничество.
Вот пример: В Мичигане в 6.31 утра совершенно неожиданно на участок пришло 149 772 голоса. На тот момент мы побеждали с большим отрывом, но эта партия бюллетеней была принята без вопросов. Это коррупция — Детройт полон коррупции. У меня множество друзей в Детройте, и они об этом знают. Детройт абсолютно коррумпирован. Смотрите, смотрите: бюллетени внезапно пришли в 6.31 утра, это в Джорджии, где недавно случился пересчёт голосов. Этот пересчёт ни к чему не привёл, потому что они не захотели проверять подписи, а если не проверять подписи в Джорджии, то в пересчёте нет никакого смысла. Губернатор и госсекретарь Джорджии очень не хотели, чтобы подписи проверяли. Почему? Спросите об этом их. Но без проверки подписей, без их сравнения на конвертах с бюллетенями и в списках проголосовавших на прошлых выборах никакой пересчёт не имеет смысла. Находились тысячи и тысячи голосов, с которыми было не всё в порядке, и все эти голоса были против меня. Это было в ходе пересчёта, в котором не было никакого смысла. Смысл есть только в том пересчёте, который происходит сейчас. По закону штат обязан провести пересчёт голосов в случае такого маленького отрыва, какой был в Джорджии, но этот пересчёт должен быть с проверкой подписей, иначе это просто повторная проверка того же самого нечестного исхода, не имеющая значения. Что имеет значение, так это подписи на конвертах с бюллетенями, только они что-то значат. Мы будем сравнивать подписи на бюллетенях с подписями с прошлых выборов. И мы найдём, что много тысяч конвертов было подписано с нарушением закона. Демократы вели на этих выборах нечестную игру с самого начала. Они использовали пандемию китайского вируса, называемого так из-за страны его происхождения, как оправдание высылки по почте десятков миллионов бюллетеней, что сыграло огромную роль в мошенничестве. На это мошенничество смотрит весь мир. И никто не испытывает большей радости по этому поводу, чем Китай.
Многие люди получили по почте два, три или четыре бюллетеня. Тысячи бюллетеней высылали умершим людям. Фактически давно умершие люди — и у нас есть тому множество примеров — заполняли бюллетени, составляли заявления и отдавали свой голос, что хуже всего. Другими словами, мёртвые люди участвовали в процессе выборов. Некоторые из них мертвы уже четверть века. Только в колеблющихся штатах миллионы голосов были отданы незаконно. В этом случае результаты выборов в этих штатах должны быть пересмотрены, и пересмотрены немедленно. Может быть, дело дойдёт до повторного голосования, но я не думаю, что это было бы уместно. Когда испорченные, поддельные и незаконные голоса будут найдены, их перестанут учитывать, и тогда я легко выиграю во всех колеблющихся штатах — так же, как я побеждал там к концу дня выборов. Они не вбрасывают 25, или 50, или 100 незаконных голосов, потому что этого было бы недостаточно, чтобы перевернуть ситуацию хотя бы в одном штате. Они вбрасывают сотни тысяч таких бюллетеней, куда больше, чем им нужно, куда больше, чем нужно для перевеса, куда больше, чем позволяет закон. У нас есть доказательства этого, но массмедиа не станут говорить об этом. Напротив, они прямым текстом отказываются это обозревать, потому что им прекрасно известен исход попадания подобного в их повестку. Даже то, что я говорю прямо сейчас, будет извращено и переиначено, но я привык — я не отступлюсь, потому что я представляю интересы 74 миллионов американцев, более того, я представляю интересы даже тех, кто за меня не голосовал.
Афера с почтовым голосованием — это лишь последняя попытка из целой череды стараний пересмотреть исход выборов 2016 года.
Наши оппоненты множество раз доказывали, что они готовы пойти на всё, лишь бы вернуться к власти. Те же силы, что регистрировали давно умерших избирателей и набивали урны их голосами, раскручивали обо мне лживые слухи и громкие пустышки. Вы и сами всё видели предыдущие четыре года. Эти глубинные интересы идут вразрез с интересами нашего движения, потому что мы ставим Америку превыше всего. Они считают иначе, мы же возвращаем власть вам, людям. Им безразлична Америка, всё, чего они хотят, — власть для самих себя. Они хотят денег и не хотят, чтоб я был вашим президентом. Я был целью множества расследований с того самого момента, как объявил о выдвижении в президенты. Как только я вышел вперёд в партийной гонке на праймериз, расследования пошли сплошной чередой. Обвинения продолжались все четыре года, но я одолел их все — связи с Россией, скандал вокруг импичмента и многое другое. Роберт Мюллер потратил 48 миллионов долларов из денег налогоплательщиков, ведя обвинение против меня на протяжении двух с половиной лет. Он выписал 2800 повесток в суд, 500 ордеров на обыск, 230 ордеров на прослушку звонков и допросил 500 свидетелей — всё, чтобы убрать меня. Всё это ни к чему не привело. Вообще ни к чему. Сенатор Марко Рубио, глава комитета Сената по разведке, заявил: "Комитет не нашёл доказательств, что бывший на тот момент кандидатом в президенты Дональд Трамп или кто-либо из его избирательного штаба имел связи с российским правительством".
Теперь я слышу, что те же люди, что пытались уничтожить меня в Вашингтоне, отправили нужную информацию в Нью-Йорк, чтобы попытаться свалить меня там. Генеральный прокурор Нью-Йорка, недавно избранная на этот пост и никогда меня не встречавшая, как-то заявила в ходе своей кампании: "Мы объединим наши усилия с правоохранительными органами и другими генпрокурорами по всей стране, чтобы убрать этого президента с его поста. Важно, чтобы все понимали, что дни Дональда Трампа подходят к концу". Всё это обрамляло большое расследование в Нью-Йорке, в Вашингтоне, да и вообще во всех местах, где они только могли вести расследования. Они хотят сместить не меня, а нас с вами — мы не можем этого допустить. Один мой очень умный друг сказал мне: "Против тебя велось расследований больше, чем против кого-либо вообще, и если они не смогли ничего на тебя найти, то ты, возможно, самый чистый человек во всей стране".
Такого не происходило раньше и больше никогда не должно происходить с президентом США. Всё, что вам остаётся делать, — смотреть слушания и принимать решения самостоятельно. Доказательств моей правоты более чем достаточно. Доказательств подлога на выборах существует огромное количество. Все говорят: "Да, свидетельства мошенничества очевидны, но уже слишком поздно менять исход голосования, порядок выборов уже не изменить". Факты говорят об обратном — у нас ещё есть время для утверждения истинного победителя выборов, и это то, чем мы занимаемся прямо сейчас. Важно, чтобы все увидели вбросы, чтобы все увидели незаконно отданные голоса, чтобы все поняли, что нельзя позволять кому-то красть выборы. По всей стране люди выходят на улицы с плакатами "Остановите воровство!". Для противодействия этому воровству важно понимать проблемы, к которым приводит голосование по почте. Пенсильвания, Мичиган, Невада, Джорджия, Аризона и большинство других штатов позволяли любому получить бюллетень для почтового голосования и отдать свой голос, не имея никаких документов. Голосование полностью основывалось на честном слове, даже наличие каких-либо документов было необязательным условием. Большинство американцев пришло бы в ужас, узнай оно, что ни один из штатов не считает гражданство США обязательным условием для участия в выборах. Это национальный позор. Ни одна другая развитая страна не проводит выборы таким образом. Во многих европейских странах введены ограничения на голосование по почте именно из-за почти неограниченного потенциала для фальсификаций. Из 42 европейских стран 40 полностью запрещают голосование по почте для тех, кто живёт внутри страны, а у тех, кто живёт за её пределами, они требуют документы, подтверждающие гражданство.
Параллельно с усилиями демократов по расширению масштабов почтового голосования шла их яростная кампания по блокировке любых мер, направленных на защиту от фальсификаций: было заблокировано подтверждение подлинности подписи, подтверждение проживания в штате, подтверждение самого факта гражданства. Наличие гражданства у голосующего казалось нам настолько очевидным, что даже не вызывало вопросов. Действия демократов не похожи на действия людей, стремящихся к честным выборам. Это действия мошенников и воров. Единственная логичная причина, по которой кто-то будет стремиться блокировать продиктованные здравым смыслом меры, призванные защищать законность и легитимность выборов, — он хочет совершить аферу. Важно понимать, что действия демократов не являлись ответом на пандемию, — пандемия лишь стала предлогом для совершения того, что они и так делали уже много лет. Фактически первый законопроект, который предложила Палата представителей под руководством спикера Нэнси Пелоси, предлагал переход к всеобщему почтовому голосованию и уничтожение таких мер защиты выборов, как запрос документов у избирателя. Разрушение целостности наших выборов было приоритетом номер один для демократов по одной простой причине — они хотели украсть выборы 2020 года. Все усилия демократов по расширению масштабов голосования по почте ложились в основу абсолютного и всепроникающего мошенничества, случившегося на минувших выборах.
В Пенсильвании огромное количество бюллетеней, полученных по почте, обрабатывалось нелегально, а в Филадельфии и округе Аллегейни — вообще втайне и без обязательного присутствия наших наблюдателей. Им просто не позволили присутствовать, даже не пустили в помещение. Их просто выставили из здания, и им пришлось находиться снаружи, причём ничего наблюдать они не могли, потому что все окна оказались заколочены досками. Демократы даже пошли в Верховный суд Пенсильвании в попытках запретить наблюдателям доступ к участкам. Есть лишь одна причина, по которой коррумпированная политическая машина Демократической партии будет препятствовать прозрачности подсчёта голосов: они знают, что скрывают незаконные действия. Это вопиющий, непростительный и необратимый вред, нанесённый всему выборному процессу. Но Пенсильвания не одна — беспрецедентные случаи выставления наших наблюдателей с участков имели место во всех управляемых демократическими администрациями ключевых городах по всей стране. Вот лишь несколько дополнительных деталей, что были раскрыты. Множество избирателей по всей Пенсильвании получили два бюллетеня по почте, а многие другие получили бюллетени, которые они никогда не запрашивали. И среди этих многих, кто получил больше одного бюллетеня (а иногда и больше двух), подавляющее большинство оказались демократами. В пенсильванском округе Файетт некоторые избиратели получили уже заполненные бюллетени. В пенсильванском же округе Монтгомери людям, отсутствовавшим в списках избирателей, советовали "вернуться позже, чтобы проголосовать под другим именем".
В Мичигане муниципальные сотрудники натаскивали избирателей на голосование за демократов и сопровождали их с тем, чтобы убедиться, что те голосуют правильно. Это нарушает тайну голосования. Сотрудница того же участка говорит, что её проинструктировали не просить ни у кого документов. Ей также велели поставить вчерашнюю дату на множество бюллетеней, полученных после дедлайна. Она предполагает, что тысячи и тысячи бюллетеней были незаконно приняты задним числом. Другие свидетели в том же Детройте утверждают, что сотрудники избирательных комиссий подсчитывали одни и те же стопки бюллетеней несколько раз. Один наблюдатель под присягой дал свидетельство того, что видел множество коробок с бюллетенями, подписанными одной и той же подписью. Другой наблюдатель из Детройта также под присягой рассказал о том, как бесчисленное множество бюллетеней принадлежало незарегистрированным избирателям, а в округе Уэйн сотрудники избирательной комиссии вводили в компьютерную систему ложные даты рождения для подсчёта этих бюллетеней. Уже после выборов на участки прибывали десятки тысяч новых бюллетеней с почтового голосования, зачастую пришедшие вообще без конвертов и все содержащие голос за демократов.
В Висконсине рекордное число проголосовавших записали в категорию ограниченных, куда обычно входят инвалиды или старики. Это позволило подсчитать их голоса без необходимости удостоверения личности. В прошлом году примерно 70 тысяч человек претендовали на этот статус по всему штату. В этом году их число чудесным образом достигло почти 250 тысяч избирателей, после того как сотрудники избирательных комиссий округов Милуоки и Дейн, входящих в число самых коррумпированных политических мест в нашей стране, призвали граждан незаконно зарегистрироваться под этим статусом. В Висконсине насчитывается около 70 тысяч почтовых бюллетеней, к которым не прилагается соответствующих заявлений на заочное голосование, как того требует закон.
В Джорджии девять наблюдателей засвидетельствовали, что видели бесчисленное количество бюллетеней неправильной формы без складок или типичных маркировок, что указывает на то, что бюллетени не были доставлены в конвертах, как требовалось. Наблюдатель за выборами в округе Фултон подсчитала, что примерно 98% из большого количества необычно чистых бюллетеней, свидетелем которых она стала, были за Байдена. Кроме того, через несколько недель после выборов в округах Флойд, Файетт и Уолтон были обнаружены тысячи неучтённых бюллетеней, и эти бюллетени были в основном от избирателей Трампа. Эти факты легко вычислить, и они исчисляются тысячами.
В Аризоне избирателям, чьи бюллетени выдавали сообщения об ошибках от машин для подсчёта результатов, было предложено самим нажать кнопку, в результате чего их голоса не были подсчитаны. Кроме того, в Аризоне генеральный прокурор объявил, что бюллетени для голосования были украдены из почтовых ящиков и пропали в неизвестном направлении.
В округе Кларк, штат Невада, где проживает большинство избирателей штата, стандарты сопоставления подписей с помощью машины проверки подписей были намеренно снижены, чтобы можно было подсчитать большое количество бюллетеней, которые в противном случае никогда бы не прошли проверку. Машину настроили на признание чуть ли не любых подписей. Согласно одному отчёту, для проверки этого девять избирателей округа Кларк подали бюллетени с намеренно неверными подписями, и восемь из девяти бюллетеней были приняты и подсчитаны. На прошлой неделе избирательная комиссия округа Кларк отменила результаты местных выборов, после того как регистрационное бюро сообщило, что обнаружены "несоответствия, которые мы не можем объяснить".
Одним из наиболее существенных признаков широко распространённого мошенничества является чрезвычайно низкий процент отклонения бюллетеней для голосования по почте во многих ключевых штатах. Это те штаты, в которых я должен был выиграть. В колеблющихся штатах число отклонённых бюллетеней было значительно ниже, чем можно было бы ожидать исходя из предыдущего опыта. В Джорджии было отклонено всего 0,2% бюллетеней. Это существенно меньше, чем 1% почтовых бюллетеней, отклонённых раньше, то есть в этом году почти ни один не был отклонён. Они приняли все. Подумайте об этом и сравните с 2016 годом, когда отклонили 6,4%, при этом есть те, кто считают, что даже 6,4% — низкий показатель. Сейчас практически никаких бюллетеней не отклонили, а на предыдущих выборах таких было 6,4%. Мы заметили подобное снижение в Пенсильвании, Неваде и Мичигане. Бюллетени не отклонялись, особенно если они находились в районах, где преобладали демократы. Эти нарушения необъяснимы, если не допускать попыток приёма поддельных бюллетеней.
В Пенсильвании госсекретарь и Верховный суд штата в нарушение закона отменили требования проверки подписей всего за несколько недель до выборов. Такое действие должно быть одобрено законодательным органом. Ни судья, ни государство, ни какой-либо чиновник не имеют на это права. Единственный, кто может это сделать, — законодательный орган. Причина этого ясна. Они не проверяли подписи, потому что знали, что бюллетени не были заполнены избирателями, от имени которых они были поданы. Другими словами, их заполняли люди, не имевшие никакого отношения к именам в бюллетенях. Простой пересчёт бюллетеней в этих обстоятельствах только усугубляет фальсификацию. Единственный способ определить, было ли голосование честным, — это провести полную проверку конвертов в соответствующих штатах. Вы обнаружите, что многие из них, десятки тысяч, имеют поддельные подписи. Полная экспертиза необходима для обеспечения того, чтобы в окончательный подсчёт включались только законные бюллетени от законно зарегистрированных избирателей, которые были поданы должным образом.
Эти выборы — сплошная фальсификация. Мошенничество, подобного которому ещё не было. Наблюдатели, которым не разрешено наблюдать. Внезапные и бесчисленные бюллетени, хлынувшие неизвестно откуда, но подсчитанные и учтённые против меня. Огромные, гарантировавшие мне лёгкую и решительную победу цифры отрывов в день выборов, без следа испарившиеся спустя несколько дней. Машины для голосования, которые не работали или работали, но отключались в нужные моменты лишь затем, чтоб чудесным образом включиться с новыми голосами. Случилась масса частностей, но общее одно — мошенничество. Эти выборы были сфальсифицированы. Все это знают. Я не против поражения на выборах, но я хочу, чтобы эти выборы были честными, и чтобы любой их исход был честным. Чего я не хочу, так это чтобы у народа украли выборы. Вот за что мы боремся, и вот почему у нас нет другого выхода, кроме продолжения борьбы. Многие журналисты и судьи пока что отказываются принять это. Они знают, что это правда, они знают, что это имеет место, они знают, кто на самом деле победил на выборах. Но они отказываются сказать: "Вы правы". Нашей стране нужен кто-то, кто скажет это. В конечном счёте я готов принять любой справедливый результат выборов, и я надеюсь, что Джо Байден тоже. Но у нас уже есть доказательства. У нас уже есть на десятки тысяч бюллетеней больше, чем нужно для отмены результатов во всех штатах, о которых мы говорим. Речь идёт не только о моей предвыборной кампании, хотя это и определяет, кто станет следующим президентом. Речь в целом идёт о восстановлении доверия к американским выборам. Речь идёт о нашей демократии и священных правах, ради которых поколения американцев боролись, проливали кровь и умирали. Нет ничего более срочного и важного.
Единственные бюллетени, которые должны учитываться на этих выборах, — это бюллетени, поданные имеющими на это право избирателями, которые являются гражданами нашей страны, резидентами штатов, в которых они голосовали, и которые подали свои бюллетени законным образом до установленного законом срока. Более того, мы никогда больше не должны проводить выборы, на которых не было бы надёжной и прозрачной системы проверки права на участие в выборах, личности и места жительства каждого человека, подающего голос. Нужен очень, очень надёжный и защищённый бюллетень.
Самое большое снижение налогов в истории, сокращение регулирования, самое большое в истории… Мы многого добились за срок моего президентства. Если мы не искореним огромную и ужасную фальсификацию, имевшую место на выборах 2020 года, у нас больше не будет страны.
Перевод с английского Ильи Титова
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

























