Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Без паники
доллар и другие мировые валюты перестали выполнять функции меры стоимости, поэтому рынки разрушаются
Михаил Делягин
9 марта, после недолгих колебаний в конце прошлой недели, снова началось падение фондовых рынков, а на торгах ММВБ 10 марта российская валюта упала до минимальных отметок 72,65 рубля за доллар и 81,75 рубля за евро, после чего началось медленное восстановление курса.
Это значительное падение, но оно оказалось значительно менее выраженным, чем было на FOREX 9 марта, когда в России был выходной день, а во всём остальном мире — рабочий. Думаю, очереди к обменным пунктам станут меньше, а ситуация — всё более далёкой от паники. Конечно, всё происходящее на мировых рынках, — это проявление кризиса, который назревал уже давно, начиная с сентября 2019 года, когда ФРС вновь начала накачивать рынки «пустыми» сотнями миллиардов, если не триллионами долларов с целью не допустить падения перегретых фондовых рынков. Уже в декабре данная схема перестала работать, в январе это стало очевидно уже всем адекватным участникам рынка, и с начала февраля началось падение: сначала — в Китае, а затем — в США. Конечно, катализатором данного процесса выступила коронавирусная инфекция, вернее — даже не она сама, а шум, поднятый вокруг неё. Вторым катализатором стало решение России выйти из формата ОПЕК+ и не сокращать объёмы своей нефтедобычи.
В любом случае, крики о том, что «всё пропало», применительно к нашей стране, да и ко всему миру, сейчас не соответствуют действительности. Реальных причин для паники просто нет. Например, дешёвая нефть только на руку импортёрам, в первую очередь — Китаю, который сейчас заявляет о спаде коронавирусной эпидемии и восстановлении своей экономики. Выигрывают от дешёвой нефти и США — за исключением сланцевой индустрии, которую уже давно пора санировать. Но всё это — лишь катализаторы, а основная «реакция» идёт в сфере финансов.
Доллар и другие «мировые» валюты просто перестали выполнять функции меры стоимости, поэтому рынки разрушаются — ни нефть, ни коронавирус не являются причиной происходящих событий. Поэтому неделю-другую резкой коррекции рынков вниз, это «медвежье ралли», по-моему, просто надо пережить и не поддаваться панике. Ближе к маю начнётся ремиссия, восстановление рынков, которая должна продлиться примерно до конца лета. И только после этого, когда основные игроки окажется в зоне безопасности, может начаться настоящая финансово-экономическая катастрофа.
Конечно, многое для нашей страны зависит от политики Министерства финансов и Банка России. Если в первом уже заявили о том, что в Фонде национального благосостояния на 1 марта 2020 года накоплено 10,1 трлн. рублей, и этих средств хватит для того, чтобы на 6-10 лет возместить выпадающие доходы от экспорта энергоносителей при падении цен даже до уровня 25-30 долл. за баррель, то в ведомстве Набиуллиной пока не торопятся реагировать на падение курса рубля — видимо, считая, что 30-дневного моратория на покупку долларов вполне достаточно с его стороны. Вряд ли это решение можно считать способствующим стабильности курса рубля, но оно хотя бы не «топит» его открыто, как это было в конце 2014 года. Стоит добавить, что в нашем федеральном бюджете переходящих остатков накопилось больше, чем в ФНБ, и эти деньги тоже могут быть использованы для нейтрализации негативных последствий кризиса или вообще для того, чтобы жёстко потушить его, как это сделал покойный Евгений Максимович Примаков в 1998 году. Сделать это достаточно просто, все возможности и ресурсы у нового российского правительства для этого есть. Но есть ли у него желание использовать свои возможности и ресурсы в этих целях, мы пока не знаем.

КАНДИДАТЫ ИЗ ДНЯ ВЧЕРАШНЕГО
ФЁДОР ЛУКЬЯНОВ
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Профессор-исследователь НИУ ВШЭ. Выпускник филологического факультета МГУ, с 1990 года – журналист-международник.
ПРИ БАЙДЕНЕ ТЕМА «РОССИЯ – УКРАИНА» ВНОВЬ ОКАЖЕТСЯ В ЦЕНТРЕ ПОЛЕМИКИ
Кампания-2020 в США даже по возрасту участников очень показательна – мы наблюдаем завершение политической эпохи. Если выиграет Трамп – это станет окончательным банкротством прежнего истеблишмента и демонтажем его политики. Но главное сражение снова переносится на четыре года, когда это поколение отправится на покой.
Так называемый супервторник, голосование на предварительных выборах в 14 штатах США, принес новый поворот. Вопреки прогнозам, впечатляющего успеха добился бывший вице-президент Джозеф Байден, который резко вырвался вперед в борьбе за демократическую номинацию на должность президента. Берни Сандерс, напротив, откатился назад, заставив говорить о том, что импульс его кампании иссякает. Других реальных претендентов не осталось. Мультимиллиардер Майкл Блумберг потерпел фиаско, а Элизабет Уоррен, которую называют Сандерс light, шансов не имеет, хотя и продолжает оттягивать голоса у «основного» Сандерса.
Итак, все упростилось до схемы «истеблишмент» против «несистемного». Это уже было в 2016 году в обеих партиях. Тогда у демократов верх взяла система, а у республиканцев «чужак». Результат известен. Повторится ли этот сценарий четыре года спустя – пока вопрос открытый, хотя успех Байдена явно означает мощные финансовые вливания и более активную работу в его пользу партийного аппарата. Партия оказалась несколько сбитой с толку в предшествующие недели, когда было ощущение, что Сандерс резко идёт вверх, а остальные просто теряют шансы. Но коль скоро у «умеренных» появился фаворит, сторонники статус-кво утроят усилия.
Сторонники и стратеги Трампа тщательно высчитывают, кто им выгоднее в качестве оппонента. Сандерс их, конечно, вполне устраивал. Человек с якобинскими, по американским меркам, взглядами, который сам себя аттестует как социалиста, – удобная мишень для нападок с позиций «американских ценностей». К тому же номинация Сандерса явно посеет неразбериху в среде демократов и особенно их спонсоров – «воротилы Уолл-стрит» финансировать приятеля Фиделя Кастро не будут. Байден хорош другим – соперничество с ним позволит продолжить против Спящего Джо ту же линию, что сработала против Гнутой Хиллари в прошлой кампании. Мол, ставленник той же самой партийной аристократии, да ещё и возраст под восемьдесят. Байден никогда не был известен большими талантами публичного политика, но в качестве оппонента на дебатах, скорее всего, окажется поярче Хиллари Клинтон. Также вполне вероятно, что к кампании Байдена подключится его прежний шеф Барак Обама, а он по-прежнему обладает электрифицирующим воздействием на часть электората. Главная проблема Байдена – молодёжь, так вот как раз с ней экс-президент США может ему помочь.
Выход Байдена в финал будет означать, что тема Россия – Украина вновь окажется в центре полемики. Трамп будет бесконечно будировать «Украинагейт» и коррупцию в семействе Байдена, а его соперник – весь круг обвинений, связанных с расследованием Мюллера и процедурой импичмента. Можно было бы посетовать на это обстоятельство, но на самом деле ничего нового оно к отношениям России и США не добавит. Они и так на крайне низком плато, а шансов с него приподняться точно нет до окончания избирательной кампании (кто бы ни боролся), а с высокой степенью вероятности и после.
Уже неоднократно доводилось писать, что главной проблемой между Москвой и Вашингтоном являются не личности, а отсутствие повестки дня.
Даже палочка-выручалочка в виде контроля над вооружениями практически исчерпала себя – администрация Трампа продлевать СНВ не собирается, а условия, на которых они предлагают начать новые переговоры, невыполнимы. Есть, конечно, теоретическая возможность, что победа Байдена (а он служил в администрации, которая этот самый СНВ подписала и добилась ратификации) позволит сразу объявить о продлении договора, благо кроме заявления почти ничего не надо делать. Но, во-первых, по укрепившейся уже в Америке традиции это сразу истолкуют как подарок Путину, чего Демократической партии явно не нужно. Могут как минимум начать ставить условия. Во-вторых, даже если такое произойдёт, это не изменит качества отношений.
Вообще, кампания-2020 даже по возрасту участников очень показательна – мы наблюдаем завершение политической эпохи. Все главные действующие лица – Байден/Сандерс, с одной стороны, и Трамп, с другой, – отражение социально-политического развития предшествующего периода. Если упростить – неолиберальной эпохи, которая началась в 1980-е и продолжалась до нынешнего десятилетия. Байден – её представитель, Сандерс – оппонент слева, Трамп – справа. Позиции разные, но отправная точка одна. Кто бы ни победил, она сохранится. Если верх все-таки возьмёт Сандерс, то Демпартия может вступить в трансформацию, аналогичную той, которой подверглась за три года Республиканская партия, превратившаяся в партию Трампа. Если победит Байден – в борьбе за номинацию и на выборах, будет предпринята попытка консервации, скорее всего временной. Выиграет Трамп – это станет окончательным банкротством прежнего истеблишмента и демонтажем его политики.
Но главное сражение снова переносится на четыре года, когда это поколение отправится на покой. И тут вопросов масса.
У демократов, по крайней мере пока, активнее и ярче всех именно самое левое крыло. У республиканцев просто непонятно, кто придёт после Трампа, настолько партия оказалась в его тени. Трамп не оставит наследников, но расчистит площадку. Вот там и увидим, куда все-таки пошла Америка.

Коити Ваката: Япония хотела бы регулярно присутствовать на МКС
Вице-президент Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), многократный участник экспедиций на Международной космической станции Коити Ваката рассказал в интервью РИА Новости, могут ли японские астронавты вновь летать на МКС на российских кораблях "Союз", стоит ли сохранить станцию после 2024 года, какие эксперименты будут проводить в космосе вместе российские и японские ученые и что планирует предложить Япония для лунной программы Gateway.
— Планирует ли Япония покупать места на российских кораблях "Союз" или все будущие полеты астронавтов на МКС будет проводить на американских космических кораблях?
— Мы уже отправили на "Союзах" семь японских астронавтов, но что касается покупки мест на "Союзах" у Роскосмоса – за это несет ответственность НАСА. После того как места на "Союзах" выкуплены НАСА, распределение мест среди международных партнеров, в том числе на долю JAXA, будет осуществляться многосторонней группой по вопросам экипажа. Согласно этой процедуре осуществлялись полеты астронавтов JAXA на "Союзах" раньше. На данный момент планируется, что астронавт Соити Ногути полетит на МКС на американском коммерческом пилотируемом корабле. Тем не менее, если НАСА примет решение приобрести еще места на "Союзе" для астронавтов, в том числе представляющих JAXA и других международных партнеров, есть вероятность того, что астронавты JAXA полетят на "Союзе".
— Насколько я понимаю, сейчас идет обсуждение между представителями НАСА и Роскосмоса о покупке мест. Вы уже обращались к американским партнерам по поводу мест для Японии на случай, если НАСА будет закупать себе места?
— Все варианты возможны. Для JAXA важно иметь возможность совершать полеты на постоянной основе. Так было в прошлом. Если посмотреть на предыдущие полеты семи астронавтов JAXA на "Союзах", они осуществлялись примерно раз в 1,5-2 года. Чтобы мы могли получить максимум от использования МКС, мы бы хотели регулярного присутствия на ее борту японских астронавтов. В прошлом астронавты JAXA провели прекрасные полеты на кораблях "Союз", и мы рассчитываем узнать о дальнейших планах относительно мест на "Союзах".
— Когда астронавт Хосидэ, который должен был лететь на "Союзе" в апреле, но замененный американским астронавтом Крисом Кэссиди, отправится на МКС?
— Сейчас JAXA планирует полеты двух астронавтов — Соити Ногути и Акихико Хосидэ. Как я уже говорил, вопрос о возможности их полета, на каком корабле они полетят на МКС, это решение за НАСА. Поэтому, что касается корабля для доставки Акихико Хосидэ, этот вопрос еще обсуждается с НАСА и международными партнерами.
— Какой позиции Япония придерживается по вопросу продления эксплуатации МКС до 2028-30 годов?
— Решение примет правительство Японии. Так как последний план реализации Базового плана по политике правительства в области космоса требует провести оценку деятельности Японии в сфере пилотируемых полетов на низкой орбите Земли после 2025 года, мы ожидаем решения нашего правительства о том, будет ли Японии продолжать участие в работе МКС после 2024 года.
Конечно, JAXA хотело в полной мере использовать МКС, так как эксперименты на ее борту давали большие результаты, это прекрасный комплекс для исследований. Так что для того, чтобы в полной мере использовать возможности МКС, мы приветствуем продление работы МКС на период после 2024 года.
JAXA занималось технической оценкой возможности работы модуля Кибо на МКС после 2024 года и удостоверилось, что системы и конструкция Кибо будут пригодны для использования по меньшей мере до 2028 года.
— Приняла ли Япония решение по участию в проекте строительства международной окололунной станции Gateway?
— В октябре прошлого года правительство Японии приняло решение принять участие в американской лунной программе Gateway. Сейчас мы разрабатываем технологии, которые позволят нам сыграть ключевую роль в международных усилиях в этом направлении. Есть четыре основных области, в которых мы ведем разработки. Первое — предоставление технологий и оборудования в тех технологических областях, где сильна Япония, для первой фазы программы Gateway. Второе – миссии по доставке грузов и топлива с использованием кораблей HTV-X и H3. Третье – обмен данными о поверхности Луны и технологиями для выбора мест посадки. Четвертое – разработка транспортных средств для исследований поверхности Луны.
— Япония обратилась ранее в Роскосмос с предложением о намерении участвовать в разработке прибора для космической обсерватории "Спектр-УФ". Принято ли какие-либо решение?
— Насколько я понимаю, Роскосмос и Институт космических исследований РАН и с японской стороны Институт космических и астрономических наук JAXA сейчас изучают потенциальное сотрудничество по международной космической обсерватории "Спектр-УФ". Я надеюсь, что скоро будет принято решение для расширения сотрудничества России и Японии в исследованиях космоса.
— Можно ли ожидать решения в этом году или в ближайшие месяцы?
— Не могу сказать. Хотел бы я знать, но надеюсь, это случится скоро.
— Какие проекты Япония планирует развивать с Россией в области космических исследований?
— Как я уже говорил, МКС – это фантастическая совместная программа. Работа с российскими коллегами в рамках программы МКС проходит отлично, и я надеюсь, продолжится в дальнейшем. У Роскосмоса и JAXA есть двустороннее соглашение по сотрудничеству в исследованиях в области кристаллизации белка для создания новых лекарств. Совместная программа экспериментов по кристаллизации белка идет очень хорошо, и мы надеемся расширить сотрудничество не только на сферу кристаллизации белка, но и на область экспериментов по физическому материаловедению с использованием нашего новейшего оборудования в японском модуле Кибо – ELF, печи электростатической левитации. С ее помощью можно проводить измерения температурных и физических свойств, таких как плотность, вязкость, поверхностное натяжение расплавленных веществ при температуре выше двух тысяч градусов, находящихся в невесомости. Использование ELF в модуле Кибо – это еще одна сфера, где мы хотели бы расширять сотрудничество с Россией.
Кроме того, в японском модуле Кибо есть аппарат с центрифугой, где живут мыши в различных условиях гравитации – от невесомости до 2G. Исследования по выведению мышей предназначены для получения новых данных для решения медицинских проблем, связанных со старением, например, остеопороза и мышечной атрофии: такие проблемы встречаются у стареющего населения в Японии. Это еще одна область, в которой мы рассматриваем сотрудничество с Россией. Все это потенциальные области для дальнейшего сотрудничества, поэтому нам нужно в полной мере использовать оборудование модуля Кибо на МКС. Я настроен позитивно и считаю, что будут и другие сферы для возможного сотрудничества в будущем.

ТРАМП 2.0 – ЗАВЕРШЕНИЕ СТАРОЙ ЭПОХИ, НО НЕ НАЧАЛО НОВОЙ
АНДРЕЙ КОРТУНОВ
Генеральный директор и член Президиума Российского совета по международным делам
История США знает всего несколько примеров того, как действующий президент, борющийся за переизбрание, терпит поражение от оппозиционного кандидата. Подобную смену хозяина Белого дома следует отнести не к общим правилам американской демократии, а к исключениям из правил. Нечастые исключения всегда связаны с особыми обстоятельствами.
Обычно поражение инкумбента бывает следствием глубокого экономического кризиса, ответственность за который общество возлагает на действующего президента. Другим фактором, препятствующим переизбранию, может оказаться вовлечение страны в длительную, сопряжённую со значительными потерями и в силу этого непопулярную, войну. Третий фактор – неожиданное появление на политической сцене сильного независимого кандидата, формальный или фактический раскол правящей партии, распыление электората действующего президента и в итоге – приход к власти оппозиционного кандидата.
На старте нынешних президентских выборов ни одно из данных обстоятельств не просматривается. Американская экономика показывает неплохие результаты. И как бы ни доказывали многочисленные оппоненты Дональда Трампа, что достигнуты они не столько благодаря, сколько вопреки деятельности президента, в глазах избирателей аргументы не выглядят слишком убедительными. Трамп также выполнил свои обещания четырёхлетней давности не ввязываться в новые военные авантюры за рубежом, устояв перед искушением начать масштабные боевые действия против Ирана, Северной Кореи или Венесуэлы. Раскола внутри Республиканской партии тоже не предвидится, чего нельзя сказать о нестройных рядах американских демократов.
Конечно, за восемь месяцев могут произойти самые разные неожиданности. Но, судя по всему, шансы на победу в ноябре у Дональда Трампа велики и продолжают расти буквально с каждой проходящей неделей. Попытки импичмента президента лишь ещё больше сплотили республиканское большинство в Сенате. Демократическая партия очень наглядно продемонстрировала неподготовленность к выборам уже на первых праймериз в Айове. А на международной арене Трампу недавно удалось добиться заключения важного для США соглашения с Китаем о первой фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров.
Что будет означать всё более вероятный второй срок Трампа для Америки и для остального мира? Прежде всего, Трамп 2.0 – окончательный приговор старой американской элите. После выборов 2016 г. ещё можно было утверждать, что Трамп победил в силу не просто случайного, но уникального стечения обстоятельств, что он оказался той самой «тёмной лошадкой», которую никто не воспринимал всерьёз, и что его победу просто «проморгали» самоуверенные политические тяжеловесы из обеих партий. Иными словами, приговор избирателей допускал право на апелляцию.
В случае победы Трампа в 2020 г. никакая последующая апелляция уже невозможна. Ведь во имя противостояния «вызову Трампа» старый истеблишмент США провёл поистине тотальную мобилизацию, собрав под своими знамёнами всех годных для призыва – от Майкла Блумберга до Джорджа Сороса, от голливудских знаменитостей до вашингтонских бюрократов, от ведущих либеральных СМИ до самых влиятельных аналитических центров. И если эта широчайшая политическая коалиция не остановит Трампа на ноябрьских выборах, поражение старой элиты станет окончательным и безоговорочным. В ноябре 2016 г. старый американский истеблишмент проиграл генеральное сражение, а в ноябре 2020-го он рискует проиграть войну.
Разумеется, Трамп 2.0 – фатальный удар по Демократической партии США. По крайней мере, в том виде, в котором партия существует в последние десятилетия. И не только потому, что в силу чисто физиологических причин эти выборы – последние для многих лидеров демократов, включая Джо Байдена, Берни Сандерса и Элизабет Уоррен. Но и потому, что поражение в 2020 г. будет означать окончательный крах партийной идеологии, партийной стратегии, партийной организации и партийной кадровой политики, сложившихся во времена последних президентов-демократов Билла Клинтона и Барака Обамы и мало изменившихся после выборов 2016 года. Демократы заплатят полную цену за упорное нежелание серьёзно разбираться в своих проблемах, за подмену честной и откровенной внутрипартийной дискуссии смехотворными ссылками на «роль Путина» в поражении 2016 года.
Трамп 2.0 – очередное потрясение для многих союзников Соединённых Штатов, особенно в Европе, которые до сих пор пребывают в надежде на то, что Трамп 1.0 – какая-то досадная аберрация истории, неприятная погрешность политической системы США, временное отклонение от фундаментальной нормы.
Для большинства либеральных лидеров Запада единственно возможная стратегия с траурного ноября 2016 г. состояла в том, чтобы смиренно пережить Трампа, как в Европе переживают холодную зиму в ожидании неизбежной весны. Казавшийся недавно невозможным Трамп 2.0 означает, что долгожданная весна откладывается ещё на четыре года. И поневоле в головы обескураженных союзников закрадывается страшное сомнение: а наступит ли она вообще, эта весна?
Более того, Трамп 2.0 – это дополнительные риски для стабильности в мире, ещё один удар кувалдой по шаткой конструкции либерального миропорядка. Вполне возможно, что необходимость учитывать фактор предстоящих выборов оказывала сдерживающее воздействие на импульсивное и напористое поведение президента в международных делах. Трамп 2.0, в отличие от Трампа 1.0, будет иметь привилегию игнорировать флуктуации общественного мнения внутри страны и руководствоваться лишь своими, подчас крайне агрессивными инстинктами.
Конечно, очень многое зависит и от того, какими окажутся в этом году результаты выборов в Конгресс США. Если демократам удастся хотя бы сохранить контроль над Палатой представителей, а тем более – добиться большинства также и в Сенате, то американская межпартийная борьба приобретёт вид жёсткого противостояния исполнительной и законодательной ветвей власти, а Трампа 2.0 будут также энергично окружать законодательными флажками и рогатками, как сегодня обкладывают Трампа 1.0. Хотя трудно себе представить, что безнадёжное отставание в президентской гонке никак не скажется на шансах демократов преуспеть в ходе выборов в Конгресс.
Что означает Трамп 2.0 для России? История показывает, что Москве всегда проще иметь дело с сильным американским президентом, чем со слабым. Поэтому российским интересам, по всей видимости, отвечает скорейшее разрешение нынешнего острого внутриполитического кризиса и восстановление управляемости и предсказуемости американской внешней политики – будь то с Трампом 2.0 или без него. Но не стоит забывать о том, что даже если Трамп 2.0 полностью расправится с фрондой в Конгрессе и подавит бюрократический саботаж со стороны «глубинного государства», он едва ли обозначит новую эпоху в американо-российских отношениях. Москва не будет в состоянии дать Трампу 2.0 всего того, чего от неё настойчиво добивался Трамп 1.0. Она не встанет на сторону Вашингтона в их конфликте с Китаем, не солидаризируется по Ирану, не поддержит американскую «сделку века» в израильско-палестинском конфликте, не передаст судьбу Николаса Мадуро и всей Венесуэлы на усмотрение Белого дома. А потому отношения в эпоху Трампа 2.0 не будут принципиально отличаться от отношений в эпоху Трампа 1.0.
Трамп 2.0 – сильный или слабый, торжествующий или загнанный в угол, благожелательный или враждебный – в любом случае станет символом завершения старой эпохи, а не символом начала новой.
Для Соединённых Штатов, для Европейского союза, для России, для Китая и для многих других ведущих игроков мировой политики точкой великого перелома, вероятно, станет не 2020-й, а 2024 год. «Момент истины» в мировой политике, время смены поколений в политических и экономических элитах, время пересмотра национальных ценностей и приоритетов, время начала трансформации международной системы отодвигается ещё на четыре года.
Данный материал написан по заказу Международного дискуссионного клуба «Валдай» и опубликован в феврале 2020 года.

НОВЫЙ ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС
РОБЕРТ КЕЙГАН
Ведущий научный сотрудник Института Брукингс, автор многих книг. Недавняя – The Jungle Grows Back: America and Our Imperiled World.
ЧТО СЛУЧИТСЯ, КОГДА ЕВРОПА РАСПАДЁТСЯ?
Многие сетуют, что Европа и трансатлантические отношения вступили на тёмный путь, но почти никто не обсуждает, куда он заведёт. Слабость и разобщённость Европы, стратегическое разъединение с Соединёнными Штатами, развал Европейского союза, «конец Европы», после «конца Европы» – всё это довольно мрачные сценарии, но в них есть некая успокаивающая туманность и отсутствие конкретики. Это не кошмары, а просто рассеивание несбыточных мечтаний. Однако крах европейского проекта, если он станет явью, может оказаться именно кошмаром – и не только для Европы. Помимо всего прочего, это снова включит в повестку дня то, что когда-то было известно как «германский вопрос».
Этот вопрос привёл к образованию современной Европы, а также к установлению трансатлантических отношений последних семи с лишним десятилетий. Объединение Германии в 1871 г. привело к появлению в сердце Европы новой нации, которая была слишком большой, густонаселённой, богатой и могущественной, чтобы другие европейские державы, включая Великобританию, могли её успешно уравновешивать. Разрушение европейского баланса сил стало причиной двух мировых войн и вынудило более 10 миллионов солдат и офицеров США пересечь Атлантику, чтобы воевать и погибать в них.
После окончания Второй мировой войны американцы и европейцы создали НАТО – не только для решения «германского вопроса», но и для того, чтобы ответить на советский вызов. Современные реалисты, похоже, забыли слова лорда Исмея, первого генерального секретаря альянса, о том, что НАТО существует для решения трёх задач: «Не подпускать русских, не отпускать американцев и придерживать немцев». В этом состояла цель целого ряда европейских интеграционных организаций, начиная с Европейского объединения угля и стали, которое, в конце концов, стало Европейским союзом. Как выразился дипломат Джордж Кеннан, некая разновидность европейского объединения «была единственным мыслимым решением проблемы выстраивания отношений Германии с остальной Европой», а такое объединение возможно только под эгидой Соединённых Штатов, обеспечивающих безопасность Европы.
И этот план сработал. Сегодня невозможно представить, что Германия вернётся к своему сложному прошлому в каком-либо варианте. Немцы стали, пожалуй, самым либеральным и мирным народом на планете, готовым примерить на себя мантию «лидера свободного мира». Многие по обе стороны Атлантики ждут от Германии больше решимости и уверенности – в частности, в мировой экономике, дипломатии и даже в военной сфере. Как отметил в 2011 г. министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, «германской мощи я боюсь меньше, чем германской пассивности». Особенно выразительно это прозвучало из уст польского лидера, который подтвердил общее мнение, что усилия немцев, направленные на трансформацию собственной ментальности, никогда не обратятся вспять.
Так ли это? Германию можно представить себе только такой или…? Учитывая, что порядок, благодаря которому появилась сегодняшняя Германия, подвергается нападкам, в том числе и со стороны США, мир скоро это выяснит. История подсказывает, что ответ может нам не понравиться.
Бегство от прошлого
В качестве исторической справки: за сравнительно недолгое существование в виде объединённой нации Германия была одним из самых непредсказуемых и непоследовательных игроков на мировой сцене. Она добилась объединения земель после серии войн 1860-х и 1870-х годов. Отто фон Бисмарк сплотил нацию «кровью и железом», как он выражался, превратив её в мирную, «сытую державу» следующих двух десятилетий. Затем, с 1890-х гг. и до Первой мировой войны, при кайзере Вильгельме II, она стала честолюбивой немецкой империей, мечтавшей о германизированной зоне влияния под названием «Срединная Европа» (Mitteleuropa), простирающейся до российских границ, и грезившей о «месте под солнцем», по выражению её тогдашнего статс-секретаря иностранных дел Бернгарда фон Бюлова. После войны, в период Веймарской республики, Германия была осторожной ревизионистской державой, но лишь до того момента, когда с приходом к власти Адольфа Гитлера в 1930-е гг. не начала завоёвывать Европу. После военного разгрома она долго оставалась разделённой нацией. Даже в годы холодной войны Западная Германия колебалась между прозападным идеализмом канцлера Конрада Аденауэра и реалистичной «восточной политикой» канцлера Вилли Брандта. Внутренняя политика отличалась не меньшей турбулентностью и непредсказуемостью – по крайней мере, до конца 1940-х годов. Исследователи долго размышляли об «особом пути» (Sonderweg) Германии – уникальном и тернистом, который нация преодолела, продвигаясь к современной демократии. Страна пережила и неудавшуюся либеральную революцию, и наследственную монархию, и авторитаризм, и период хрупкой демократии, и, наконец, тоталитаризм – и всё это за первые семь десятилетий своего существования.
Однако эта бурная история – не только плод немецкого характера. Важную роль сыграли обстоятельства, в том числе и чисто географические. Германия была могущественной страной в центре конкурентного континента. На востоке и западе она граничила с крупными державами, внушавшими страх, а потому всегда рисковала оказаться втянутой в войну на два фронта. Германия редко чувствовала себя в безопасности, но, наращивая мощь, стремясь обезопасить свои рубежи, лишь ускоряла окружение. На внутреннюю политику Германии оказывали большое влияние волны абсолютизма, демократии, фашизма и коммунизма, призрак которого долго бродил по Европе.
Писатель Томас Манн однажды высказал предположение, что дело не столько в национальном характере, сколько во внешних событиях. «Нет двух Германий, доброй и злой, есть одна-единственная Германия, – писал он. – Злая Германия – это и есть добрая, пошедшая по ложному пути, попавшая в беду, погрязшая в преступлениях и теперь стоящая перед катастрофой».
Демократичная и миролюбивая Германия, которую все знают и любят сегодня, возникла в особых условиях либерального мирового порядка, установившегося после Второй мировой войны при доминировании Соединённых Штатов. Немцы изменились за послевоенные десятилетия, но этой эволюции благоприятствовал мировой порядок, для которого были характерны четыре аспекта.
Во-первых, приверженность США задаче обеспечения безопасности в Европе. Эти гарантии американцев разорвали порочный круг, дестабилизировавший Европу и спровоцировавший три крупные войны за семь десятилетий (начиная с франко-прусской 1870–1871 годов). Защищая Францию, Великобританию и других соседей Германии, американцы дали возможность всем странам приветствовать послевоенное восстановление Западной Германии и полностью реинтегрировать немцев в европейскую и мировую экономику. Эти оборонные обязательства Соединённых Штатов устранили необходимость дорогостоящего военного строительства для всех сторон, что позволило европейским государствам, в том числе и Западной Германии, сосредоточить усилия на повышении благосостояния и социального благополучия своих граждан. В свою очередь, это привело к ещё большей политической стабильности. ФРГ пришлось отказаться от геополитических амбиций; однако есть все основания полагать, что это было скорее благом, чем ограничением. Как сказал в 1946 г. государственный секретарь США Джеймс Бирнс, «свобода от милитаризма» дала немецкому народу шанс «применить свою колоссальную энергию и способности на поприще мирного труда и созидания».
Вторым элементом нового порядка была экономическая система свободной мировой торговли, которую создали Соединённые Штаты. Германская экономика всегда зависела от экспорта, а в XIX веке конкуренция за иностранные рынки была движущей силой немецкой экономической экспансии. В новой мировой экономике немилитаристская Западная Германия смогла преуспевать, не угрожая другим. Напротив, экономическое чудо 1950-х гг., опиравшееся на экспорт, сделало страну одновременно двигателем мирового экономического роста и процветания, а также оплотом демократической стабильности в Европе. Соединённые Штаты не только мирились с экономическим успехом Западной Германии и всей Западной Европы, но и приветствовали его, даже когда это наносило ущерб американской индустрии. С 1950 по 1970 гг. промышленное производство Западной Европы в среднем увеличивалось на 7,1% ежегодно, ВВП рос на 5,5% в год, а ВВП на душу населения – на 4,4% в год. Это превосходило показатели роста американской экономики за тот же период.
К середине 1960-х гг. Западная Германия и Япония опережали США в некоторых ключевых отраслях промышленности – от автомобильной до сталелитейной, а также в потребительской электронике. Американцы соглашались с этой конкуренцией не из-за феноменального альтруизма, а потому что считали здоровую европейскую и японскую экономику жизненно важными основами стабильного мира, который всячески поддерживали. Урок первой половины XX века заключался в том, что экономический национализм способен дестабилизировать ситуацию в мире. Мировая система свободной торговли и такие организации, как Европейское сообщество угля и стали вместе с Европейским экономическим сообществом были призваны сдерживать его.
Одним из последствий этих благоприятных условий стало то, что Западная Германия глубоко укоренилась в либеральном Западе. Некоторые немецкие лидеры настаивали на принятии более независимого курса в годы холодной войны, желая сделать Германию мостом между Востоком и Западом или нейтральной страной. Но выгоды, которые западные немцы получили от интеграции в мировой порядок, где доминировали американцы, прочно удерживали их в этой рамке. Искушение проводить независимую внешнюю политику подавлялось не только экономическими интересами, но и сравнительно безопасным окружением, в котором западные немцы жили своей жизнью, что разительно отличалось от того, что они испытали в прошлом.
Идеологический компонент тоже присутствовал. Экономический успех Германии в безопасном либеральном мировом порядке укреплял немецкую демократию. Не было никаких гарантий, что демократия пустит глубокие корни на немецкой земле даже после бедствий, пережитых в годы Второй мировой войны. И уж точно никто в конце 1930-х гг. не считал, что Германия встала на путь построения либеральной демократии. Даже в период Веймарской республики глубокую приверженность демократическим партиям и институтам той хрупкой республики испытывало меньшинство немецкого населения. В 1930 г. эти институты были без проблем свёрнуты после объявления чрезвычайного положения, ещё до прихода Гитлера к власти тремя годами позже. До последних месяцев нацистского правления ему не оказывалось серьёзного сопротивления. Сокрушительное поражение, последовавшие страдания и унижения нанесли урон репутации авторитаризма и милитаризма, однако это не означало, что немцы поддержат демократическое правительство. Оккупация страны Соединёнными Штатами не допустила возврата Германии к авторитаризму и милитаризму, но не было гарантий, что немцы примут то, что многим казалось установлениями завоевателей.
И всё же они приняли демократию, не в последнюю очередь благодаря созданным условиям. В оккупированной Советами Восточной Германии нацизм уступил место иной разновидности тоталитаризма. А Западная Германия к 1960-м гг. уже была глубоко встроена в либеральный мир, сделалась его неотъемлемой частью, наслаждалась безопасностью и процветанием в демилитаризованном обществе. И подавляющее большинство немецких граждан стали демократами не только по форме, но и по духу.
К счастью, Западная Германия находилась в Европе и мире, где демократия казалась путём в будущее, особенно с середины 1970-х годов. Это было третьим ключевым фактором, который помог стране укорениться в либеральном мировом порядке. Условия жизни в Европе и мире отличались от тех, что привели Веймарскую демократию к краху, а нацизм – к успеху. Обстоятельства той эпохи как бы подталкивали Германию к агрессивной политике. В 1930-е гг. европейская демократия была вымирающим видом; фашизм повсюду укреплял позиции, поскольку казался более действенной и успешной моделью государственного и общественного управления.
В отличие от тех времён растущие и процветавшие демократии 1970-х гг. не только взаимно укрепляли друг друга, но и развивали чувство общих европейских и трансатлантических ценностей – нечто, чего не существовало до 1945 года. Это ощущение достигло апогея после падения Берлинской стены в 1989 г. и образования Европейского союза в 1992 году. Взрывной рост демократии на континенте, идея «целостной и свободной Европы», как выразился президент Джордж Буш – старший, помогли создать новую европейскую идентичность, которую немцы могли принять. И они приняли её, даже ценой частичного отказа от суверенитета и независимости. Объединение суверенитетов, с чем было связано членство в новой панъевропейской организации, замена немецкой марки новой общей валютой евро и дополнительные ограничения, накладываемые членством в НАТО, вряд ли стали возможны, если бы немцы не чувствовали себя связанными общими идеалами с остальной Европой и США.
Эта новая Европа, помимо всего прочего, была ответом на национализм и племенное мировоззрение, которые во многом способствовали войнам и зверствам, совершавшимся в прошлом. Четвёртый элемент нового порядка, давший Германии возможность покончить с прошлым и внести вклад в мир и стабильность Европы, – подавление националистических страстей и амбиций транснациональными организациями – такими, как НАТО и ЕС. Это поставило заслон на пути возвращения к прежнему соперничеству, в котором Германия неизменно становилась ведущим игроком. Немецкий национализм едва ли был единственным европейским национализмом, который казался исторически неотделимым от антисемитизма и других форм племенной ненависти. Но никакой другой национализм не сыграл столь разрушительную роль в кровавом прошлом европейского континента. Европа победила национализм, но это был именно немецкий национализм. Ведущая роль Германии в утверждении этого общеевропейского, интернационалистского мировоззрения имела большое значение для создания атмосферы взаимного доверия на континенте.
Эти четыре элемента – гарантии безопасности со стороны США, международный режим свободной торговли, волна всеобщей демократизации и подавление национализма – способствовали тому, что старый «германский вопрос» оказался погребён глубоко под пылью истории.
Однако в сочетании перечисленных элементов нет ничего такого, от чего нельзя было бы отказаться, и не факт, что они будут существовать всегда. Они отражают некую конфигурацию власти в мире – мировой баланс сил, при котором либеральные демократии стремительно развивались, а стратегическая конкуренция прошлых лет подавлялась доминирующей либеральной сверхдержавой. Таково было удивительное стечение обстоятельств, не вполне нормальных или стандартных в историческом контексте; необычной была и роль Германии.
Нормальное государство
Ещё до того, как либеральный мировой порядок начал трещать по швам, возникал вопрос: как долго Германия сможет оставаться странной страной, отказывающейся от нормальных геополитических устремлений, нормальных своекорыстных интересов и нормальной националистической гордости? Аналогичный вопрос на протяжении многих лет являлся краеугольным и в Японии – державе, судьба которой тоже изменилась после поражения в войне и последующего возрождения в либеральном мировом порядке. Многие японцы устали извиняться за своё прошлое, подавлять националистическую гордость, отказываться от внешнеполитической независимости. Единственный фактор, который, похоже, удерживал Японию от естественного стремления к нормальному национальному самоутверждению, была стратегическая зависимость от Соединённых Штатов, помогавших ей справляться с вызовами поднимающегося Китая. Как долго Япония будет сдерживать свои националистические поползновения, если не сможет полагаться на американскую помощь и поддержку?
У немцев ситуация зеркально противоположная. За исключением некоторых политиков, находящихся на полюсах политического спектра, немцы остро переживают своё прошлое, опасаясь воскрешения хотя бы малейшего призрака национализма, и они более чем готовы терпеть ограничения национального суверенитета, несмотря на то, что другие побуждают их взять на себя руководство европейским домом. Кроме того, в отличие от Японии Германия не нуждалась в защите Соединённых Штатов после окончания холодной войны.
Приверженность Германии интересам НАТО в последние годы объяснялась не столько стратегической необходимостью, сколько желанием оставаться нацией, укоренённой в европейском сообществе, не противопоставляющей себя ему. Немцы стремились успокоить и обнадёжить соседей, но, наверное, ещё больше хотели успокоить самих себя. Они по-прежнему опасаются старых демонов, находя утешение в добровольно принятых ограничениях.
Однако в один прекрасный момент добровольно надетые кандалы могут быть сброшены. Поколения сменяют друг друга, демоны забываются, а ограничения начинают мешать и раздражать. Сколько ещё поколений должно смениться в Германии, чтобы немцы захотели вернуться к исторической нормальности?
В последнюю четверть века соседи Германии и сами немцы внимательно следят за любыми признаками подобного сдвига в настроениях избирателей. Тревога, с которой британцы и французы встретили воссоединение Германии в 1990 г., показала, что, по крайней мере, в их глазах, даже спустя 45 лет после окончания Второй мировой войны, «германский вопрос» полностью не закрыт. Эта тревога уменьшилась, когда Соединённые Штаты ещё раз подтвердили свои обязательства относительно безопасности Европы после исчезновения советской угрозы и после того, как воссоединившаяся Германия согласилась остаться в НАТО. Они ещё больше успокоились, когда Германия заявила о готовности быть частью нового Европейского союза и еврозоны.
Но и в такой благоприятной обстановке невозможно было избежать возврата к «германскому вопросу» – хотя бы в его экономическом измерении. Как отмечал Ханс Кунднани в прекрасной аналитической работе «Парадокс немецкой силы» (2015), старый дисбаланс, дестабилизировавший Германию после её объединения в 1871 г., вернулся на повестку дня после воссоединения Германии и создания еврозоны. Германия снова стала доминирующей силой в Европе. Центральная Европа превратилась в цепочку поставок для Германии и, по сути, часть «большой немецкой экономики» – реализация плана Mitteleuropa в XX веке. Остальные же части Европы стали экспортным рынком Германии.
Кризис еврозоны 2009 г. создал новый порочный круг. Экономическое доминирование Германии позволило ей навязать остальной Европе наиболее предпочтительную для немцев политику борьбы с бременем долга. Тем самым Берлин настроил против себя греков, итальянцев и другие европейские нации, которые раньше обвиняли в своих тяготах брюссельскую бюрократию. Немцев раздражало то, что им приходится платить за расточительство других стран. За пределами Германии начались разговоры об «общем фронте» против Берлина, а внутри страны у людей появился синдром жертвы и опасения по поводу того, что их со всех сторон окружают «слабые экономики». По мнению Кунднани, это была «геоэкономическая версия конфликтов, бушевавших в Европе после объединения Германии в 1871 году».
Но на этот раз речь шла только об экономике. Споры велись между союзниками и партнёрами – демократиями, которые были частью общеевропейского проекта. Так что с геополитической точки зрения ситуация оставалась достаточно безобидной и неопасной. Или, возможно, казалась такой в январе 2015 г., когда Кунднани издал свою книгу.
Однако спустя пять лет стало очевидно, что всё не столь безоблачно, поскольку обстоятельства снова изменились: все четыре элемента послевоенного порядка, которые сдерживали возрождение немецкой силы, оказались в подвешенном состоянии. Национализм поднимает голову по всей Европе, демократия отступает в некоторых европейских странах и находится под давлением в разных частях нашей планеты. Международный режим свободной торговли подвергается нападкам – в основном со стороны Соединённых Штатов, а американские гарантии безопасности ставятся под сомнение самим президентом США. Учитывая историю Европы и Германии, нельзя не задаться вопросом: а не могут ли изменившиеся обстоятельства снова побудить европейцев в целом и немцев в частности изменить своё поведение?
После порядка
Если современная Германия – продукт либерального мирового порядка, то пора подумать, что произойдёт, если этот порядок развалится. Представьте себе Европу, в которой сегодня живут немцы. К востоку от них некогда демократические правительства Чехии, Венгрии, Польши и Словакии с разной скоростью скатываются в болото авторитаризма, отказываясь от либерального курса. На юге Европы Италия управляется националистическими и популистскими движениями с сомнительной приверженностью либерализму и ещё меньшей приверженностью экономической дисциплине еврозоны. На западе всё более встревоженная и раздражённая Франция находится в одном электоральном цикле от победы националистов, которая для Европы будет подобна землетрясению. Эта победа забьёт последний гвоздь в гроб франко-немецкого партнёрства, вокруг которого 70 лет назад в Европе было выстроено мирное сообщество наций.
Помимо этого – грянул выход Великобритании из ЕС. В 2016 г., когда приближалось голосование по Брекзиту, премьер-министр Дэвид Камерон задался вопросом: можем ли мы быть настолько уверены, что мир и стабильность на нашем континенте гарантированы? Это был законный и правильный вопрос, потому что Брекзит действительно способствовал дестабилизации Европы, усугубив дисбаланс силы и оставив и без того ослабленную Францию один на один с могущественной и всё более изолированной Германией. Это ещё одна победа национализма, ещё один удар по институтам, созданным для решения немецкого вопроса и прочной привязки Германии к либеральному миру.
В предстоящие годы немцы могут оказаться в окружении европейских стран с возрождающимся национализмом. Также есть вероятность, что во всех крупных державах к власти придут националистические или национал-социалистические партии разного толка. Будут ли немцы в состоянии сопротивляться искушению возврата к национализму? Не окажутся ли немецкие политики под ещё большим давлением, чем сейчас, и не начнут ли они искать немецкие интересы в Европе и мире, где все другие страны будут, конечно же, отстаивать свои национальные интересы? Уже сегодня правая националистическая партия «Альтернатива для Германии» добилась третьего результата на выборах в Бундестаг. Этой партией руководят идеологи, уставшие от культа вины и порицающие правящую коалицию в бесконтрольном наплыве иммигрантов. Один из лидеров партии назвал ведущих политиков Германии «марионетками держав, победивших во Второй мировой войне». Нет причин, по которым партия, исповедующая те же принципы, но не столь категорично и агрессивно, не могла бы в какой-то момент прийти к власти. Как заметил историк Тимоти Гартон Эш, «борьба за будущее Германии» уже началась.
Нельзя также утверждать, что в мире усугубляющегося политического и экономического национализма европейские страны будут и дальше отказываться от военной силы как инструмента влияния. Уже сегодня европейцы признают, что постмодернистский эксперимент отказа от военной мощи оставил их безоружными в мире, никогда не разделявшем их оптимистичных, кантианских взглядов. Европейцы по-прежнему лелеют надежду, что безопасность будет сохраняться без них и что им удастся избежать болезненных расходов на вооружения. Однако платить всё же придётся, если они возьмут на себя ответственность за собственную оборону. Вряд ли они смогут этого избежать. Пятнадцать лет назад большинство европейцев чувствовали себя вполне комфортно, играя роль Венеры в тандеме с Марсом (Америкой) и критикуя американцев за архаичное упование на жёсткую силу. Однако Европа стала Венерой благодаря историческим обстоятельствам – не в последнюю очередь из-за сравнительно миролюбивого и либерального порядка, созданного и поддерживаемого Соединёнными Штатами. Этот мир стремительно исчезает на фоне России, готовой использовать силу для решения своих задач, и отказа США от внешних обязательств.
Если отбросить возможность перманентной трансформации человеческой природы, ничто не помешает европейцам вернуться к политике силы, доминировавшей на континенте тысячелетиями. И если вся Европа пойдёт этим путем, даже самой либеральной Германии будет трудно не поддаться этому веянию – хотя бы из соображений самообороны.
Сетования американцев по поводу недостаточных расходов европейских стран на оборону всегда звучали несколько иронично. Европейцы не тратятся на оборону потому, что мир кажется им сравнительно спокойным и безопасным. Однако если мир перестанет быть безопасным, то они, возможно, перевооружатся. Но не так, как хотелось бы американцам.
Надвигающаяся гроза
Если бы кто-то попытался изобрести способ отбросить Европу и Германию назад в прошлое, вряд ли он сделал бы это лучше, чем нынешний президент США Дональд Трамп. Проявляя неприкрытую враждебность к Евросоюзу, администрация Трампа поощряет Европу к ренационализации. Тут можно вспомнить госсекретаря Майка Помпео, который в Брюсселе в конце 2018 г. выступил с речью, превозносящей добродетели национального государства. В борьбе между либеральными и нелиберальными партиями, между интернационалистами и националистами, которая разворачивается сегодня в европейской политике, администрация Трампа отдаёт предпочтение нелиберальным партиям и националистам. Белый дом критиковал лидеров правоцентристских и левоцентристских европейских партий – от канцлера Германии Ангелы Меркель до президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Терезы Мэй. В то же время американская администрация приветствовала лидеров популистских, нелиберальных партий – таких, как Виктор Орбан в Венгрии, Марин Ле Пен во Франции, Маттео Сальвини в Италии и Ярослав Качиньский в Польше. Посол США в Германии Ричард Гренелл выразил в одном из интервью желание наделить большими полномочиями консерваторов Европы. При этом он не имел в виду традиционную правоцентристскую партию Ангелы Меркель.
Помимо поощрения национализма правого толка и призывов к роспуску панъевропейских организаций, администрация Трампа раскритиковала режим свободной торговли в мире, служащий фундаментом европейской и немецкой политической стабильности. Президент лично сделал мишенью критики Германию из-за её большого торгового профицита, пригрозив ввести пошлины на немецкий автомобильный экспорт вдобавок к тем тарифам, которыми уже обложены европейские сталь и алюминий. Представьте себе, к каким последствиям может привести ещё большее давление и конфронтация: спад в экономике Германии снова пробудит к жизни дух злобного национализма и станет причиной политической нестабильности. Греция, Италия и другие слабые европейские экономики зашатаются, и для их спасения потребуется помощь Германии, которую она не сможет оказать. В итоге возродится экономический национализм и острые разногласия прошлого. Добавьте к этому сомнения в неизменности американских гарантий европейской безопасности, которые Трамп умышленно раздувает, настоятельно требуя от Германии и остальной Европы увеличить расходы на оборону. Похоже, что цель американской политики – спровоцировать идеальный шторм в Европе.
Кто может сегодня сказать, случится этот шторм через пять, десять или двадцать лет? Всё меняется очень быстро. В 1925 г. Германия была разоружённой, функциональной, хотя и нестабильной, демократией, работавшей со своими соседями над установлением прочного мира. Лидеры Франции и Германии подписали локарнские договоры и исторический Рейнский пакт. Экономика США переживала небывалый подъём, и здоровье мировой экономики было неплохим. Или так всем тогда казалось. Спустя десятилетие Европа и мир уже нисходили в кромешный ад.
Наверное, сегодня можно рассчитывать на то, что немецкий народ и его соседи в Европе спасут мир от этой участи. Вероятно, немцы навсегда трансформировались, и ничто не способно повернуть вспять или изменить эти преобразования, даже распад Европы, окружающей Германию. Но, по-видимому, даже либеральные и миролюбивые немцы не являются неуязвимыми для сил, направляющих ход истории и практически им неподвластных. Поэтому нельзя не думать о том, как долго продлится спокойствие, если США и мир продолжат двигаться по нынешнему пути.
По всей Германии до сих пор разбросаны тысячи неразорвавшихся бомб, сброшенных союзниками в годы Второй мировой войны. Одна из них взорвалась в Гёттингене несколько лет назад, убив троих мужчин, которые попытались её обезвредить.
А теперь давайте себе представим, что современная Европа – это неразорвавшаяся бомба с нетронутым предохранителем и неповреждённым детонатором. Если это подходящая аналогия, тогда Трамп – игривый подросток с молотком, весело и беззаботно стучащий по ней. Как вы думаете, что может произойти?
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 3, 2019 год. © Council on Foreign Relations, Inc.

ВОЙНА НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ
ТАНИША ФАЗАЛ
Профессор политологии в Университете Миннесоты, автор книги Wars of Law: Unintended Consequences in the Regulation of Armed Conflict.
ПОЛ ПОУСТ
Профессор политологии в Университете Чикаго, приглашённый научный сотрудник Чикагского совета по международным отношениям.
ЧЕГО ОПТИМИСТЫ НЕ ПОНИМАЮТ В КОНФЛИКТАХ
Политические потрясения последних лет развеяли миф о том, что мир достиг некоего утопического «конца истории». Однако кому-то по-прежнему может казаться, что мы живём в эпоху беспрецедентного покоя и процветания. Человечество находится в большей безопасности и благополучии, чем предыдущие поколения. Оно меньше страдает от жестокости и произвола и вряд ли готово развязать войну. Принято считать, что вероятность войны стабильно снижается, столкновения между великими державами немыслимы, а вооружённые конфликты любых типов становятся всё более редкими.
Такая оптимистичная точка зрения имеет влиятельных сторонников как в экспертных кругах, так и среди политиков. В 2011 г. психолог из Гарварда Стивен Пинкер посвятил целую книгу (The Better Angels of Our Nature) сокращению числа войн и насилия в современном мире. Статистика подталкивает к такому же выводу: если смотреть в перспективе, насилие идёт на спад после столетий кровопролития, и это влияет на все аспекты жизни – от «развязывания войн до шлёпанья детей».
Пинкер не одинок. Президент США Барак Обама заявил в ООН в 2016 г.: «Наш международный порядок настолько успешен, что мы воспринимаем как должное то обстоятельство, что великие державы больше не ведут мировые войны, что с окончанием холодной войны исчезла мрачная тень ядерного Армагеддона, что на местах былых сражений в Европе возник мирный союз». Сегодня даже гражданская война в Сирии идёт к завершению. Ведутся переговоры о прекращении почти 20-летней войны в Афганистане. Обмен задержанными между Россией и Украиной возродил надежды на урегулирование конфликта между двумя странами. Лучшие черты человечества, похоже, побеждают.
Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Значит, так и есть. Оптимизм строится на шатком фундаменте. Утверждение, что человечество пережило эпоху войн, базируется на небезупречных данных о войне и мире. Более точные показатели ведут к противоположному, пугающему выводу. А анархическая природа международной политики говорит о том, что возможность нового серьёзного столкновения присутствует всегда.
Подсчёт жертв
Идея о том, что войны переживают необратимый спад, по сути, строится на двух постулатах. Во-первых, сегодня гораздо меньше людей погибают на полях сражений – как в абсолютных цифрах, так и в процентах от населения планеты. Эксперты Института исследования проблем мира в Осло отмечали это ещё в 2005 г., но именно Пинкер представил данную идею широкой публике в своей книге в 2011 году. Изучив многовековую статистику жертв конфликтов, Пинкер пришёл к выводу, что сокращаются не только войны между государствами, но и гражданские конфликты, геноцид и терроризм. Он связал это с распространением демократии, торговли и общей убеждённостью в том, что войны нелегитимны.
Есть ещё один факт – после 1945 г. не было мировых войн. «Мир находится на завершающем отрезке пятисотлетней траектории к перманентному миру и процветанию», – писал политолог Майкл Муссо в статье в International Security в 2019 году. Политолог Джошуа Гольдштейн и правоведы Уна Хэтэуэй и Скотт Шапиро утверждают то же самое, связывая спад войн между государствами и завоеваний с распространением рыночной экономики, миротворчества и международных соглашений, объявляющих агрессию вне закона.
В совокупности два этих факта – уменьшение числа погибших в боях и отсутствие войн, охватывающих целые континенты, – формируют представление о том, что человечество стремится к миру. К сожалению, оба они базируются на неполноценной статистике и искажают понимание того, что можно считать войной.
Начнём с того, что использование подсчёта погибших как доказательство сокращения вооружённых конфликтов достаточно проблематично. Прорывы в военной медицине позволили многократно уменьшить риск гибели на полях сражений даже в случае интенсивных боевых действий. На протяжении столетий соотношение раненых и убитых в боях составляло три к одному, в современной американской армии оно почти десять к одному. В других армиях мира наблюдаются аналогичные показатели. То есть сегодня солдаты скорее рискуют быть ранеными, чем убитыми. Эта историческая тенденция подрывает доказательность большинства существующих подсчётов военных потерь, а следовательно, и аргументацию идеи о том, что войны стали редким явлением. Хотя найти достоверные данные о числе раненых во всех воевавших странах очень сложно, по нашим оценкам, снижение военных потерь вдвое меньше, чем утверждал Пинкер. А учитывать только погибших – значит игнорировать ущерб, который война наносит раненым и обществу, вынужденному о них заботиться.
Возьмём наиболее часто используемую базу данных о вооружённых конфликтах – проект Correlates of War (CoW). С момента создания в 1960-е гг. проект предполагал, что конфликт считается войной, если во всех задействованных организованных формированиях погибло не менее 1000 человек. Однако за два века войн, которые исследованы CoW, успехи медицины кардинально изменили ситуацию. На смену картинам, на которых раненых солдат уносят с поля боя на носилках, пришли фотографии вертолётов экстренной эвакуации, доставляющих бойцов в госпиталь менее чем за час – «золотой час», когда шансы выжить наиболее высоки. Благодаря антибиотикам, антисептикам, возможности определить группу крови и сделать переливание операции чаще всего проходят удачно. Совершенствуется и защитное снаряжение. В начале XIX века солдаты носили громоздкую форму, которая не защищала от пуль и артиллерийских снарядов. В Первую мировую появились каски, во время войны во Вьетнаме распространение получили бронежилеты. Сегодня солдаты носят шлемы, которые защищают и одновременно обеспечивают радиосвязь. Во время войн в Афганистане и Ираке новые медицинские разработки позволили уменьшить число погибших от самодельных взрывных устройств и обстрелов из стрелкового оружия. В результате многие современные войны, фигурирующие в базе данных CoW, кажутся менее интенсивными. Многие не преодолели порог по жертвам и не включены в проект.
Улучшение санитарных условий также положительно повлияло на картину в целом, видимые перемены произошли в плане гигиены, качества пищи и воды. Во время Гражданской войны в США врачи часто не мыли руки и инструменты, а современные медицинские работники прекрасно осведомлены о микробах и делают это. За шестинедельную кампанию во время Испано-американской войны 1898 г. было 293 жертвы (убитые и раненые), ещё 3681 человек пострадал от различных заболеваний. И это не исключительный случай. В Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. 80% смертей были связаны с болезнями. Подсчёт и категоризация жертв войны – сложная задача, поэтому к подобной статистике нужно относиться с некоторой долей сомнения, хотя в целом они отражают общую тенденцию: с улучшением санитарии повысилась и выживаемость в войнах. Здоровье солдат, как и их оснащение, тоже влияют на военные потери. Крепкие солдаты, воюющие в полной экипировке, имеют больше шансов выжить, чем истощённые болезнями.
Кроме того, некоторые достижения, сделавшие современные войны менее смертоносными, хотя и не менее жестокими, нельзя считать безусловными. Многое зависит от возможности быстро доставить раненого в госпиталь. В американской армии это оказалось возможным в асимметричных конфликтах с боевиками в Афганистане и Ираке, где Соединённые Штаты полностью контролировали небо. В войнах между великими державами контроль над воздушным пространством распределяется более равномерно, поэтому стороны не всегда в состоянии эвакуировать раненых по воздуху. Даже конфликт с КНДР станет серьёзной проверкой способности США быстро доставлять пострадавших в госпиталь, и потери убитыми могут возрасти. В столкновении великих держав стороны могут прибегнуть к химическому, биологическому, радиологическому и даже ядерному оружию, которое используется очень редко, и отработанной модели спасения жертв фактически нет.
Скептики скажут, что большинство конфликтов после Второй мировой – это гражданские войны, когда у сторон нет доступа к передовой медицинской помощи и процедурам, а значит – снижение военных потерь можно считать реальным. Для повстанческих группировок это действительно так, но в гражданских войнах участвовали и правительственные войска, которые вкладывали средства в развитие военной медицины. Распространение гуманитарной помощи и программ развития после 1945 г. сделало такие технологии более доступными, в том числе для гражданского населения и повстанцев. Фундаментальный принцип работы таких гуманитарных организаций, как Международный комитет Красного Креста, – беспристрастность, то есть, оказывая помощь, они не делают различий между гражданским населением и повстанцами. Кроме того, у повстанческих группировок часто есть зарубежные сторонники, которые обеспечивают их технологиями, позволяющими снизить военные потери. (Например, Великобритания предоставила бронеэкипировку Свободной сирийской армии в начале гражданской войны в Сирии.) В результате даже базы данных, которые включают гражданские войны и используют более низкий порог жертв, чем CoW, (например, часто упоминаемая Uppsala Conflict Data Program) способствуют созданию впечатления, что гражданские войны стали менее распространёнными, хотя на самом деле они просто стали менее летальными.
Собирать корректные данные о числе раненых в гражданских войнах трудно. Согласно докладу неправительственной организации Action on Armed Violence, из-за сокращения возможностей для журналистов и роста нападений на сотрудников гуманитарных миссий сообщения о раненых поступают реже, в результате цифры занижаются. Так формируется сомнительная статистика по конфликтам вроде сирийского: если судить по сообщениям СМИ, соотношение раненых и убитых один к одному, но здравый смысл говорит, что реальное число раненых гораздо выше.
Даже если игнорировать эти тренды и доверять статистике, складывается не очень оптимистичная картина. По оценкам Uppsala Conflict Data Program, даже заниженные цифры имеющихся баз данных свидетельствуют о том, что число активных вооружённых конфликтов в последние годы растёт и в 2016 г. достигло самого высокого показателя после Второй мировой войны. Сегодня многие конфликты длятся дольше, чем в прошлом. Вспышки насилия в Демократической Республике Конго, Мексике и Йемене не погасли окончательно.
Безусловно, снижение числа убитых – огромная победа человечества. Но это достижение может стать обратимым. Политолог Беар Браумюллер отмечает в своей книге Only the Dead: войны последних десятилетий, возможно, стали менее масштабными, но не стоит ожидать, что тренд сохранится. Достаточно вспомнить, что перед Первой мировой войной Европа переживала «долгий мир». Ни короткие вспышки враждебности между европейскими державами, как, например, противостояние Франции и Германии в Марокко в 1911 г., ни балканские войны 1912 и 1913 гг. не могли развеять эту иллюзию. Однако те мелкие конфликты стали предвестником разрушительного столкновения.
Сегодня тень ядерного оружия, казалось бы, удерживает от повторения этого сценария. У человечества достаточно ядерных боеголовок, чтобы уничтожить миллиард жизней, и этот ужасающий факт, как утверждают многие, не даёт конфликтам великих держав перерасти в полномасштабную войну. Идея о том, что военные технологии настолько изменили динамику конфликта, что войны стали невообразимы, отнюдь не нова. В 1899 г. в книге Is War Now Impossible? (в русском издании 1898 г.: «Будущая война и её экономические последствия» – прим. ред.) русский финансист и военный теоретик польского происхождения Иван Блиох отмечал: повышение смертоносности оружия означает, что скоро воевать вообще не придётся. В 1938 г. – за год до нападения Гитлера на Польшу и за несколько лет до начала серьёзных ядерных разработок – американская пацифистка Лола Мэверик Ллойд предупреждала: «Новые чудеса науки и техники позволят нам привнести в мир некую долю единства; если наше поколение не использует их ради созидания, они пойдут на разрушение мира и всей цивилизации в результате новой ужасающей войны».
Возможно, ядерное оружие действительно обладает большим сдерживающим потенциалом, чем предыдущие военные инновации, но это оружие дало и новые возможности, из-за которых страны могут оказаться втянутыми в катастрофический конфликт. Например, в Соединённых Штатах ракеты находятся в статусе «запуск по сигналу предупреждения», то есть при получении данных о начале ракетной атаки противника. Такой подход безопаснее, чем упреждающий удар (когда информации о готовящейся атаке противника достаточно, чтобы вызвать удар США). Но если ядерное оружие находится в постоянной боевой готовности, существует риск случайного запуска из-за человеческой ошибки или технического сбоя.
Маленькая большая война
События последнего времени не говорят о спаде войн в целом. А как обстоит дело с войнами между великими державами? Историк Джон Льюис Гэддис назвал период после 1945 г. «долгим миром». Благодаря сдерживающему воздействию ядерного оружия и глобальной системе международных организаций великие державы стараются избежать повторения катастрофы двух мировых войн. Вручение Нобелевской премии мира Евросоюзу в 2012 г. стало признанием именно этого достижения.
Действительно, Третьей мировой войны не было. Но это не означает, что для великих держав наступила эпоха мира. Мировые войны прошлого столетия – плохой пример для сравнения, поскольку они не похожи на предшествовавшие им конфликты между великими державами. Война Франции и Австрии длилась менее трёх месяцев, война между Австрией и Пруссией в 1866 г. – чуть больше месяца. Число погибших не превышало 50 тыс. человек. Франко-прусская война 1870–1871 гг., заложившая фундамент для объединения Германской империи, продлилась менее года и унесла жизни около 200 тыс. солдат. Мировые войны по масштабам кардинально отличались от этих конфликтов. Первая мировая продолжалась более четырёх лет, погибли почти 9 миллионов солдат. Вторая мировая – шесть лет, на полях сражений погибли более 16 миллионов человек.
Иными словами, две мировые войны существенно изменили наше представление о том, что такое война. Эксперты и политики считают подобные конфликты симптомами войны. Но это не так. Большинство войн относительно короткие и продолжаются менее шести месяцев. Военные потери составляют около 50 человек в день. Эти цифры теряются в сравнении с потерями Первой (более 5 тыс. человек в день) и Второй (более 7 тыс. человек в день) мировых войн. На самом деле, если исключить эти два конфликта, уровень военных потерь с середины XIX века и до 1914 г. сопоставим с десятилетиями после 1945 года.
После 1945 г. между великими державами произошло несколько войн. Но их не признают таковыми, потому что они не похожи на две мировые войны. К ним можно отнести Корейскую войну, в которой Соединённым Штатам противостояли силы Китая и Советского Союза, а также войну во Вьетнаме, где США вновь столкнулись с Китаем. В обоих случаях крупные державы вступали в прямое противостояние.
Список последних конфликтов великих держав значительно увеличится, если включить в него прокси-войны. От американской поддержки моджахедов, воевавших против советских войск в Афганистане во время холодной войны, до соперничества в Сирии и на Украине – крупные державы постоянно, хотя и опосредованно, ведут борьбу друг с другом. Аутсорсинг живой силы – отнюдь не изобретение последних лет, а скорее норма для конфликтов великих держав. Вспомните наступление наполеоновской армии на Россию в 1812 году. С продвижением на восток «великая армия» теряла силы. Мало известен тот факт, что в 400-тысячной армии было не так много французов. Иностранные солдаты – как наёмники, так и рекруты с завоёванных территорий, – составляли большую часть войск, направившихся в Россию. (Многие из них быстро утомились от маршировки в летнюю жару, покинули коалицию, и наполеоновские войска уменьшились почти вдвое, не пройдя и четверти пути.) Тем не менее, опираясь на иностранцев, Наполеон смог возложить бремя кампании не на французов. «Французам грех на меня жаловаться: чтобы спасти их, я пожертвовал немцами и поляками», – якобы говорил Наполеон австрийскому дипломату Клеменсу фон Меттерниху.
Проще говоря, большинство вооружённых конфликтов, в том числе между великими державами, не похожи на Первую и Вторую мировые войны. Мы не пытаемся приуменьшить значение двух этих войн. Понимание того, как они произошли, поможет избежать будущих конфликтов или, по крайней мере, ограничить их масштаб. Но чтобы определить, сократилось ли число войн между великими державами, нужно чёткое, концептуальное понимание того, что такое война.
Необходимо признать: Первая и Вторая мировые войны были беспрецедентными по масштабу, но не последними конфликтами этого типа. Государства не стали вести себя лучше. Кажущийся спад смертоносности войн на самом деле маскирует агрессивное поведение.
Рано праздновать
Идея о том, что война – это нечто, связанное с прошлым, не просто ошибочна. Она ведёт к опасному триумфализму. Предполагаемое сокращение войн не означает, что им на смену пришёл мир. Граждане Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Венесуэлы будут возражать, если их страны назовут мирными, хотя формально ни одна из них не находится в состоянии войны. Как отмечал социолог Йохан Гальтунг, реальный, или «позитивный», мир подразумевает элементы активной вовлечённости и сотрудничества. Хотя глобализация после окончания холодной войны связала сообщества, некоторые проблемы ещё сохранились. После падения Берлинской стены в мире оставалось менее 10 пограничных стен. Сегодня их более 70, в том числе строящаяся на границе США и Мексики, а также разделяющие Венгрию и Сербию, Ботсвану и Зимбабве.
Даже когда войны заканчиваются, сохраняется определённая настороженность. Возьмём, к примеру, гражданские войны, которые сегодня обычно завершаются мирными соглашениями. Некоторые, как в Колумбии в 2016 г., являются подробными, амбициозными документами, превышающими 300 страниц, выходящими за рамки стандартного процесса разоружения и описывающими земельную реформу, борьбу с наркотиками и права женщин. Однако гражданские войны, завершившиеся мирным соглашением, как правило, вновь вспыхивают и перерастают в вооружённый конфликт даже быстрее, чем те, которые закончились при отсутствии мирных договорённостей. Часто то, что кажется упорядоченным завершением конфликта, на самом деле просто возможность для воюющих сторон перегруппироваться и найти ресурсы для возобновления боевых действий.
Следовательно, во времена, когда человечество вооружено до зубов, стоит сомневаться в том, что наступил мир во всём мире. Сегодня глобальные военные расходы выше, чем в поздние годы холодной войны, даже с учётом инфляции. Поскольку современные государства не сложили оружие, можно предположить, что они не стали более цивилизованными или мирными, просто эффективно работает сдерживание. Тогда возникает та же угроза, что и с ядерным оружием: сдерживание может сработать, а может и провалиться.
Страх – это хорошо
Однако самая большая угроза связана не с ошибочным ощущением прогресса, а с самонадеянностью. Судья Верховного суда США Рут Бейдер Гинсбург, правда, по другому поводу, использовала очень яркую метафору – «выбрасывать зонт во время дождя только потому, что под ним сухо». В период опосредованных войн Соединённых Штатов и России в Сирии и на Украине, нарастания напряжённости между США и Ираном, а также агрессивного поведения Китая недооценка рисков будущей войны может привести к фатальным ошибкам. Новые технологии, включая беспилотники, кибероружие, повышают угрозу, поскольку нет понимания того, как государства должны реагировать на их применение.
В первую очередь уверенность в том, что войны идут на спад, заставит государства недооценивать опасность и скорость эскалации конфликтов. Последствия могут быть катастрофическими. И не в первый раз: европейские державы, начавшие Первую мировую, были настроены на ограниченную превентивную войну, но стали заложниками региональной конфронтации. Историк Алан Джон Тейлор подчёркивал: «Любая война между великими державами начинается как превентивная, а не как завоевательная».
Из-за ложного ощущения безопасности сегодняшние лидеры могут повторить те же ошибки. Опасность особенно велика в эпоху лидеров-популистов, которые игнорируют советы экспертов – дипломатов, спецслужб и научного сообщества. Для них важнее резонанс. Непостоянство действий Госдепартамента и пренебрежительное отношение Дональда Трампа к спецслужбам – лишь два примера глобального тренда. Долгосрочные последствия такого поведения могут оказаться глубокими. Часто повторяемое утверждение, что войны идут на спад, станет ошибочным пророчеством – увлёкшись агрессивной риторикой, демонстрацией военной мощи и контрпродуктивным возведением стен, политические лидеры увеличат риск войн.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 6, 2019 год. © Council on Foreign Relations, Inc.

ПРЕВЫШЕ ВЕЛИКИХ СИЛ
ДАНИЕЛ БАЙМАН
Профессор Школы внешнеполитической службы Джорджтаунского университета, старший научный сотрудник Института Брукингса.
КЕННЕТ ПОЛЛАК
Научный сотрудник Американского института предпринимательства.
КАК ЛИЧНОСТИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОПРЕДЕЛЯЮТ ИСТОРИЮ
История обычно излагалась как жизнь великих людей. Считалось, что Юлий Цезарь, Фридрих Великий, Джордж Вашингтон, Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер, Мао Цзэдун – славные и печально известные лидеры – определяли ход событий. Потом стало модно рассказывать те же самые истории с точки зрения зависимости происходящего от структурных сил: в ход шли приблизительный расчет национальной мощи, экономическая взаимозависимость или идеологические течения. Лидеров начали рассматривать лишь как средство для проявления других, более важных факторов. Их личные особенности и пристрастия перестали иметь значение. Главными стали не великие мужчины и женщины, а великие силы.
В 1959 г. в книге «Человек, государство и война» политолог Кеннет Уолтц обосновал этот новый подход. Он утверждал, что концентрация на личности лидера и человеческой природе мало что дает, когда речь идет о глобальной политике. Нужно детально изучать международную систему и распределение сил в ней. В разгар холодной войны Уолтц заявлял: не важно, кто сидит в Белом доме (Дуайт Эйзенхауэр или Эдлай Стивенсон) и в Кремле (Иосиф Сталин или Никита Хрущёв), США и Советский Союз будут преследовать те же интересы, создавать те же альянсы и действовать так, как им диктует соперничество холодной войны.
В академической среде с готовностью приняли «структуралистский дух времени» и в следующие десятилетия преуменьшали роль лидера, хотя некоторые теоретики включали в число факторов, влияющих на международную систему, типы режимов, институты и идеи. Сегодня, когда определяющую роль в мире играют безличные силы, подобный подход кажется оправданным. Еще несколько десятилетий назад невозможно было представить те изменения, которые за эти годы претерпели экономика, технологии и политика. Развитие средств коммуникации и транспорта, изменение климата, культурных ценностей, образования и медицины фундаментально преобразовали отношения между людьми в сообществах и на планете в целом. Информационная революция дала супервозможности индивидууму и государству и столкнула их друг с другом. Одновременно происходит перераспределение сил в международной системе: эра однополярного американского превосходства, пришедшая на смену холодной войне, закончилась, формируется непредсказуемая многополярность. Именно эти безличные чудовища сеют хаос сегодня в мире.
Структурные факторы и технологические изменения, безусловно, определяют поведение государств, но это не единственный элемент мозаики. Даже сегодня лидеры способны управлять, направлять или противодействовать силам международной политики. А значит, есть мужчины и женщины, которые определяют путь своих государств. Их влияние может быть благоприятным или разрушительным, но личность лидера нельзя сбрасывать со счетов.
Революционеры
Фактический правитель Саудовской Аравии, наследный принц Мохаммед бин Салман – самый яркий пример лидера, который бросает вызов факторам внутренней и внешней политики и таким образом определяет их – будь то на благо или во вред. На протяжении десятилетий изменения в Саудовской Аравии происходили очень медленно. Например, вопрос о том, можно ли женщинам водить машину, обсуждался с 1990 года. Саудовские руководители правили коллективно, поэтому все политические трансформации нужно было согласовывать со всеми ветвями разросшейся королевской семьи и с религиозным истеблишментом. Правящая элита уже давно говорила о необходимости фундаментальных реформ, но ничего не предпринимала из-за консервативного духовенства, мощных экономических интересов и ориентированной на консенсус политической культуры.
Потом появился Мохаммед бин Салман, который намерен модернизировать экономику Саудовской Аравии и общество (но не политическую систему). Он начал секуляризацию общества, затеяв пересмотр традиционной системы образования, и приступил к экономическим реформам. Как и предыдущее поколение авторитарных модернизаторов – Бенито Муссолини в Италии, Кемаль Ататюрк в Турции, Иосиф Сталин в СССР и шах Мохаммед Реза Пехлеви в Иране, – он вознамерился перетащить страну в новый век, и число жертв его не волнует. Добьется ли наследный принц успеха – неизвестно, но в любом случае он переломил логику саудовской политики и сделал ставку на далеко идущие реформы.
Во внешней политике Мохаммед бин Салман также нарушил многолетнюю традицию. С 1953 по 2015 гг. при королях Сауде, Фейсале, Халиде, Фахде и Абдалле Саудовская Аравия играла скромную роль на международной арене. В защите своих интересов она полагалась на других, прежде всего на Соединенные Штаты и лишь время от времени прибегала к «дипломатии чековой книжки». Эр-Рияд редко вел войны, а если это все же случалось, то действовал на вторых ролях. Разногласия с арабскими союзниками тщательно скрывались, зато публично поддерживалась линия США. Наследный принц бин Салман предложил радикально иной курс. Захват в заложники премьера Ливана, чтобы вынудить его уйти в отставку, вмешательство в гражданскую войну в Йемене, изоляция Катара, убийство саудовского диссидента Джамаля Хашогги в Турции, сближение с Китаем и Россией, угроза разработки ядерного оружия, тайный альянс с Израилем против палестинцев – вот впечатляющий список отклонений от прежней политики. В меняющихся международных обстоятельствах некоторые из этих шагов объяснимы, но важно другое: Мохаммед бин Салман последовательно выбирает более радикальные варианты, чем предполагается внешнеполитическими факторами.
Представим, что могло случиться, если бы система работала традиционным образом. В 2017 г. король Салман, занявший трон за два года до этого, отстранил тогдашнего наследного принца, своего племянника Мохаммеда бин Наифа и передал полномочия Мохаммеду бин Салману, одному из своих младших сыновей. Бин Наиф был партнером США в борьбе с терроризмом, представителем истеблишмента и сторонником стабильности. Его назначение наследным принцем должно было успокоить элиту: король Салман не поведет страну в кардинально ином направлении. Трудно представить, что бин Наиф мог бы бросить вызов духовенству и начать рискованные гамбиты в арабском мире. А Мохаммед бин Салман – благодаря сочетанию амбиций, собственного видения, эгоцентризма, готовности к рискам и решимости – сделал именно это.
Таких революционеров, действующих сверху, немного. Но если они появляются, то ведут к преобразованиям. Сталин превратил Советский Союз в индустриальную державу ценой жизни десятков миллионов людей. Мао попытался совершить нечто подобное в Китае, объединив страну и уничтожив традиционную элиту, но жертвами стали миллионы. Его преемник Дэн Сяопин вновь трансформировал страну, отказавшись от экономической модели Мао и обеспечив невероятный подъем Китая.
Вершители
Главный соперник Мохаммеда бин Салмана на другом берегу Персидского залива – лидер иного толка, но пользующийся огромным влиянием. Аятолла Али Хаменеи, высший руководитель Ирана – осторожный пожилой мужчина. Если бин Салман бросил вызов безличным силам традиционной внутренней и внешней политики Саудовской Аравии, то Хаменеи находится на перекрестке иранской внутренней политики и международных факторов влияния и «регулирует движение», как считает нужным.
Если допустить некоторое упрощение, то можно сказать, что сегодня иранская политика – борьба двух лагерей. Группа реформаторов-прагматиков стремится пересмотреть внешнеполитический и экономический курс в соответствии с нуждами иранского народа. Их подход – естественный ответ на ситуацию, в которой оказался Иран: богатая ресурсами страна влачит жалкое существование из-за собственного агрессивного поведения. Оппонентами прагматиков являются ортодоксы, выступающие за продолжение агрессии за границей и репрессий дома, эта группа доминирует во внутриполитической системе Ирана. Она в основном руководствуется персидским национализмом и революционным духом, а не трезвым расчетом того, как обеспечить рост иранской экономики и прекратить дипломатическую изоляцию.
Хаменеи находится в центре этой структуры. Он соизмеряет международное давление, толкающее Иран в сторону реформаторов и прагматиков, и внутреннее давление сторонников жесткой линии. Когда безличные силы находятся в некоем равновесии, Хаменеи получает возможность выбирать решение конкретной проблемы. Иногда он становится на сторону ортодоксов – например, активно поддерживая вооруженные формирования в Ираке, Сирии и Йемене. А иногда на сторону прагматиков. Так, в 2015 г. он пошел на ядерную сделку, которая сулила возрождение иранской экономики благодаря международной торговле в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана.
То, что иранский лидер будет действовать именно так, вполне можно было предсказать. После смерти аятоллы Рухоллы Хомейни в 1989 г. главным кандидатом на высший пост был Мохаммед-Реза Гольпайгани. Кто бы ни стал преемником, ему пришлось бы принять общие контуры революционных рамок, очерченных Хомейни, но за пределами этих руководящих принципов оставалось еще множество нерешенных вопросов. По сравнению с Хаменеи Гольпайгани был более традиционным консерватором, скептически относился к так называемой социальной толерантности (например, разрешению музыки на радио и телевидении) и был менее революционным во внешнеполитических взглядах. В итоге революционная легитимность восторжествовала, и муллы – с благословения Хомейни – выбрали Хаменеи.
Как бы правил страной Гольпайгани? Учитывая его предпочтения, он, вероятно, в большей степени отклонялся бы в сторону социального консерватизма и в меньшей – в сторону агрессивной внешней политики. Скорее всего, он бы ограничил роль духовенства в политике, поскольку придерживался традиционного взгляда: религиозные лидеры должны заниматься вопросами морали. При таком сценарии Иран после 1989 г. сосредоточился бы на укреплении общественных нравов, а не на разжигании конфликтов за границей. Но место Хомейни занял Хаменеи, и именно он стал делать выбор между противоборствующими лагерями в иранской политике.
Хаменеи – самый яркий пример лидера, принимающего окончательное решение, какое течение возглавить, когда безличные силы находятся в конфликте. Но он такой не один. В других обстоятельствах ту же роль играет канцлер Германии Ангела Меркель. Во время кризиса в еврозоне международные экономические силы вынуждали Германию действовать на опережение в отношении Греции и других партнеров. Однако Меркель выбрала более консервативный путь, что соответствовало внутриполитической ситуации в Германии, но в итоге это затянуло кризис. В то же время в вопросе о беженцах она в соответствии с либеральными международными нормами приняла сотни тысяч сирийцев, несмотря на то, что политики в Германии и остальной Европе выступали против подобной благотворительности. Другой канцлер, скорее всего, принял бы другие решения. Политик, занимавший в то время в Германии пост номер два, вице-канцлер Зигмар Габриэль, предлагал более щедрый подход в отношении Греции, а в вопросе о беженцах ссылался на внутреннюю напряженность и предлагал ограничить приток иностранцев.
Мастера выживания
Башар Асад и Николас Мадуро – явные представители этого типа. Когда речь заходит о президентах Сирии и Венесуэлы, многие хотели бы видеть их отстраненными от власти или даже мертвыми. Оставаясь живыми и сохраняя посты, они ставят под угрозу интересы своих стран.
Сирия и Венесуэла – терпящие бедствие государства, охваченные внутренними конфликтами, страдающие от голода, теряющие население и оказавшиеся под влиянием иностранных держав. Дело не в мощи или международной позиции Сирии и Венесуэлы. Причиной стал ужасающий раскол во внутренней политике, хотя можно было принять меры, чтобы остановить катастрофу. Уход Мадуро принес бы облегчение Венесуэле, а уход Асада позволил бы достичь компромисса и прекратить гражданскую войну в Сирии.
Конечно, все не так просто. Многие представители венесуэльской элиты, особенно военные, не хотят свержения Мадуро, а многие меньшинства в Сирии, включая общину алавитов, к которой относится и правящая семья, не хотят, чтобы Асад покидал свой пост. В то же время очевидно, что венесуэльскую оппозицию и США вынудил действовать сам Мадуро: если бы он бежал на какой-нибудь остров в Карибском море, конфликт было бы проще урегулировать. Точно так же иранцы и русские неоднократно давали понять Соединенным Штатам, что готовы пожертвовать Асадом, если их собственные интересы – и интересы алавитов – будут защищены. Если бы на Асада напал убийца или он оказался в вынужденном отпуске во время визита в Тегеран, новый лидер мог бы пойти на уступки оппозиции и заложить основы для переговоров о мирном урегулировании. Тем не менее и Мадуро и Асад остаются у власти, несмотря на внутриполитическое и международное давление, а их страны мучаются в ненужной агонии.
Многие усмехнутся, услышав этот аргумент, и скажут, что мощные безличные силы – безжалостная внутренняя политика в стране, охваченной гражданской войной, и естественное желание режима выжить – делают невозможным добровольный уход лидера в отставку. Но давайте вспомним президента ЮАР Фредерика де Клерка, который поступил именно так. У де Клерка были основания бороться за сохранение апартеида, как делали его предшественники. Когда де Клерк стал президентом, архиепископ Десмонд Туту, известный борец против апартеида, заявил, что смена власти – это «бессмысленная чехарда». Если бы де Клерк продолжал придерживаться политики апартеида, ЮАР, скорее всего, еще глубже погрузилась бы в расовое насилие или гражданскую войну, как Сирия и Венесуэла сегодня. Однако де Клерк поступил иначе: отказался от апартеида, позволил провести свободные выборы в 1994 г. и, проиграв, отдал власть. Ситуация предполагала, что де Клерк будет бороться за сохранение системы апартеида, но он понимал необходимость избежать гражданской войны и дать стране возможность войти в число цивилизованных государств.
Оппортунисты
Удача сопутствует храбрым, и некоторые лидеры умеют пользоваться любой предоставленной возможностью. Президент России Владимир Путин – пример того, как лидер может превратить относительно слабую позицию в более сильную. В 1999 г. Путин сменил Сергея Степашина на посту премьер-министра, став пятым председателем правительства за два года. Мало кто ожидал, что креатура российской политической системы кардинально изменит ситуацию, но уже через несколько недель он начал активную кампанию в Чечне, справедливо посчитав, что бескомпромиссная борьба принесет ему популярность. Вскоре он сменил Бориса Ельцина на посту президента.
Политика Путина резко контрастировала с действиями предшественников. Ельцин и его премьеры в основном приспосабливались к политике Запада: скрепя сердце приняли интервенцию НАТО на Балканах, признали военную слабость страны и отказались от старых друзей, включая Сирию. Путин предложил нечто новое. Опасаясь, что некоторые бывшие республики СССР слишком сблизятся с Западом, он поддержал сепаратистские движения в Грузии и на Украине и аннексировал Крым. Затем он оказал помощь Асаду ограниченной военной операцией, которая была призвана продемонстрировать мощь России. Кроме того, начал содействовать одной из сторон конфликта в Ливии. Путин решил рискнуть и встал на сторону кандидата в президенты Дональда Трампа, чтобы усилить политическую поляризацию в США и других западных странах. Трудно представить, что все это пункты долгосрочного плана. Скорее, Путин продемонстрировал свое мастерство во внутренней и внешней политике, используя любую возможность, которую давали ему противники.
Другой безликий бюрократ, пришедший к власти после Ельцина, тоже мог бы изменить курс. Из-за слабости России за рубежом и экономического краха у режима Ельцина осталось мало сторонников. Но изменения были бы умеренными, с меньшим упором на авантюризм во внешней политике. Степашин, например, не хотел возобновлять войну в Чечне, в итоге он присоединился к партии, выступающей за укрепление связей с США и даже вступление России в Евросоюз. Путин, напротив, был склонен проявлять гордость, цинизм, национализм в сочетании с готовностью рисковать, в итоге он смог бросить вызов Западу, когда многие эксперты считали его страну слабой.
Эгоисты
«Государство – это я». Фраза, приписываемая Людовику XIV, казалось бы, относится к ушедшей эпохе, когда государство отражало славу одного человека. Но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, доминирующий в политике страны уже почти 20 лет, демонстрирует, как эгоизм определяет внешнюю политику. На протяжении десятилетий различные турецкие режимы продвигали сложный набор интересов страны одними и теми же способами: старались не участвовать в конфликтах на Ближнем Востоке, дружили с НАТО и США, позиционировали Турцию как светское, прозападное государство, заслуживающее членства в ЕС. В начале нынешнего века Турция, казалось, стала еще более стабильной и вестернизированной, отказавшись от доминирования военных. Страна, долгое время поддерживавшаяся дружественные отношения с Западом, вступила на путь демократии и трансформировалась в нормальное европейское государство с сильными институтами.
У Эрдогана были другие планы. После того как он стал премьер-министром в 2003 г., политика Турции постоянно совершала резкие развороты. Режим поддерживал курдов, а потом преследовал их; сотрудничал с Асадом, пытался его свергнуть и снова сотрудничал; отталкивал Россию и снова раскрывал объятия; дружил с Израилем и осуждал его. Во внутренней политике Эрдоган приостановил демократические реформы и ужесточил репрессии.
Отчасти такие кульбиты могут быть связаны с оппортунизмом и реальной политикой, но прежде всего они отражают личные обиды Эрдогана и его стремление к славе. В 2010 г. атака Израиля на флотилию, пытавшуюся прорвать блокаду сектора Газа, привела к гибели 10 турецких моряков на судне Mavi Marmara. Несмотря на многолетнее тесное стратегическое сотрудничество Турции и Израиля, Эрдоган потребовал извинений, отозвал турецкого посла из Израиля и сблизился с ХАМАС. Спустя год он воспринял подавление демонстраций в Сирии как еще одно оскорбление, поскольку обещал умерить пыл Асада. В результате Эрдоган поддержал сирийскую оппозицию. Проанализировав заявления турецкого политика, исследователи Айлин Горенер и Мельтем Укал пришли к выводу, что он верит в свое умение контролировать события, не доверяет другим, видит мир в черно-белом цвете, сверхчувствителен к критике и неспособен сосредоточиться на реализации заявленного курса. Эрдоган убежден, что только он в состоянии спасти Турцию от врагов.
Альтернативный лидер, даже если бы ему удалось создать аналогичную антизападную коалицию, скорее всего, проводил бы совершенно другую внешнюю политику. Даже члены партии Эрдогана не соглашались с ним по курдскому, сирийскому и другим вопросам. Если бы один из них пришел к власти, вероятно, он тоже отдал бы приоритет Ближнему Востоку и дистанцировался от Европы, но вряд ли он действовал бы настолько хаотично и до такой степени персонализировал политику. Более прагматичный лидер быстрее нанес бы удар по «Исламскому государству» (ИГИЛ, запрещено в России. – Ред.) в отличие от Эрдогана, который годами позволял группировке использовать Турцию как перевалочный пункт на пути джихадистов в Сирию. Кроме того, он мог бы сотрудничать с Саудовской Аравией и другими противниками Асада или даже добиться сделки с сирийским диктатором.
Иногда эгоисты доходят до абсурда и приводят свои страны к катастрофе. Иди Амин, захвативший власть в Уганде в результате переворота в 1971 г., добавлял к своему имени все новые и новые титулы – Его превосходительство пожизненный президент, фельдмаршал Аль-Хаджи доктор Иди Амин, кавалер орденов «Крест Виктории», «Военный крест» и ордена «За боевые заслуги». Внешняя политика Уганды постоянно менялась: страна занимала то прозападную, то произраильскую позицию, то сближалась с Советским Союзом и ливийским лидером Муамаром Каддафи или открыто поддерживала террористов. Амин выслал из Уганды азиатское меньшинство и убил сотни тысяч представителей других этнических групп. Число сторонников Амина постоянно уменьшалось, он винил в проблемах своей страны Танзанию и в 1978 г. совершил вторжение. Танзания перешла в контрнаступление, Амин бежал.
Пассивы и активы
Некоторые лидеры тянут свою страну или дело назад, уменьшая их эффективность из-за собственной слабости. На бумаге у Аймана аз-Завахири как у главы террористической группировки – отличное резюме. Журналист Лоуренс Райт выяснил, что свою первую террористическую ячейку аз-Завахири создал в 1966 г. – в возрасте 15 лет – для атаки против египетского режима. Потом он провел несколько лет в египетских тюрьмах, перебрался в Пакистан, помогал бороться с советскими войсками в Афганистане и поддержал Усаму бин Ладена, когда в 1988 г. в Пакистане была создана «Аль-Каида». Поэтому, когда американцы уничтожили бин Ладена в 2011 г., аз-Завахири был очевидным кандидатом на пост лидера террористической организации.
Но при аз-Завахири звезда «Аль-Каиды» закатилась. Падение светских авторитарных режимов, в том числе президента Египта Хосни Мубарака, и гражданские войны в странах арабского мира предоставили уникальную возможность ведущей организации джихадистов. Однако в центре событий оказалась другая группировка – ИГИЛ. Бин Ладен пытался сгладить разногласия в движении, а аз-Завахири только усугублял их, в частности публично осуждая своих конкурентов. В нравоучительных заявлениях аз-Завахири проявлялись властность и нетерпимость к критике. Встречавшиеся с бин Ладеном описывали его как харизматичного лидера. Об аз-Завахири ничего подобного не говорили. При нем «Аль-Каида» стагнировала, за 10 лет организация не провела ни одной атаки на Западе, ее члены отдавали приоритет местным задачам в ущерб глобальным целям джихада.
США охотились на аз-Завахири с середины 1990-х годов. Представим, как развивались бы события, если бы его удалось поймать или ликвидировать. Преемник попытался бы повысить привлекательность организации, проявив себя как воин джихада. Возможно, «Аль-Каида» больше походила бы на ИГИЛ: вышла бы из тени, проводила больше атак на Западе, участвовала в громких акциях, например, обезглавливании заложников. Или новый лидер мог бы отказаться от глобальной повестки, сконцентрировавшись на местных и региональных задачах, которые больше интересовали членов «Аль-Каиды». Но вряд ли он вел бы себя, как аз-Завахири: выступал со скучными речами, пока ИГИЛ выходит на лидирующие позиции.
Другие лидеры пытаются прыгнуть выше головы. Яркий пример – шейх Мохаммед бин Заид, наследный принц Абу-Даби и фактический лидер Объединенных Арабских Эмиратов. Когда-то внешняя политика страны заключалась в том, чтобы не поднимать головы и становиться богаче, следуя за Саудовской Аравией. Население ОАЭ – около 10 млн (только десятая часть из них – граждане ОАЭ), но Мохаммед бин Заид решил изменить Ближний Восток. Он помог организовать переворот в Египте в 2013 г., вмешался в ситуацию в Йемене, чтобы остановить хуситов, продвигал блокаду Катара и поддержал одного из военных командиров в Ливии, который сегодня находится уже на подступах к Триполи. Благодаря военным реформам бин Заида войска ОАЭ продемонстрировали неожиданную компетентность в Йемене. На некоторое время ОАЭ стали доминирующим игроком в стране. Мохаммеду бин Заиду удалось использовать богатство своей страны и военные возможности, чтобы увеличить влияние ОАЭ в хаотичном регионе.
Люди прежде всего
Личность – это, конечно, еще не все. У страны есть национальные интересы, внутренняя политика, бюрократия и другие силы, которые могут играть существенную, даже доминирующую роль в формировании внешней политики. Но можно с легкостью использовать термины «национальные интересы», «внутренняя политика», «сопротивление бюрократии», не осознавая, как лидеры создают, направляют и эксплуатируют эти факторы.
Остановимся на взаимодействии лидеров с институтами. Если бы Саудовская Аравия была зрелой либеральной демократией, Мохаммеду бин Салману было бы сложно фундаментально переориентировать страну. В автократиях, где по определению отсутствует демократическая система сдержек и противовесов, лидерам проще доминировать в принятии решений. Но в автократиях могут появляться слабые лидеры, которые будут отражать импульсы бюрократии, военных или правящей элиты. Президент Алжира Абдель Азиз Бутефлика оставался у власти, находясь практически в коме, и ушел в отставку только в 82 года, потому что был удобной фигурой для политической элиты страны. В то же время лидеры вроде Путина и Эрдогана могут появиться в более плюралистичной системе и подчинить ее своей воле.
Даже зрелые либеральные демократии не защищены от харизмы доминирующей личности. Сегодня президента США Франклина Рузвельта считают практически полубогом, но в свое время его осуждали за самоуверенность и диктаторские замашки, включая попытки повлиять на состав Верховного суда, чтобы внедрить практически социалистическую экономическую политику. Еще до атаки на Пёрл-Харбор Рузвельт сформировал настроение общества: он перевооружил страну, предложил военную помощь Великобритании и подтолкнул Японию к удару – в итоге Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну. Рузвельт перекроил американские институты, чтобы они ему не мешали, использовав экономическую политику для расширения полномочий федерального правительства и войну, чтобы заложить основы для будущего глобального военного доминирования страны. Как писал философ Ральф Уолдо Эмерсон, «институт – это удлиненная тень одного человека».
Трамп по-своему тоже продемонстрировал скудость институтов. Рузвельт увещевал, направлял и формировал американские институты, Трамп блокировал и подрывал их – во многом из-за собственного эго и предрассудков. Да, американская бюрократия спасла президента от проявления наихудших инстинктов – например, отговорила от вывода войск из Сирии и выхода из НАТО. Однако вопреки советам помощников, приоритетам собственной партии и даже собственным политическим интересам Трамп кардинально изменил внешнеполитический курс США. Он отверг Парижское соглашение по климату и Транстихоокеанское партнерство, вышел из иранской ядерной сделки, повысил пошлины для китайских товаров, поддерживал крайне правых кандидатов на выборах в Европе и перенес в Иерусалим американское посольство в Израиле. Во внутренней политике Трамп доказал, что некоторые американские политические традиции – например, не нанимать родственников, чураться коррупции, раскрывать личные финансы, не угрожать арестом своим оппонентам и быстро заполнять ключевые позиции в администрации – бессильны против тарана. Его президентство характеризуется безрассудством и хаосом, и это отнюдь не продуманный план.
Лидеры могут подняться выше институтов, норм, системных сил и традиций внутренней политики и в итоге сделать свои страны сильнее или слабее, чем они могли бы быть. Лидеры могут создавать новых врагов или друзей, ослаблять или укреплять альянсы, пренебрегать нормами или рисковать, вместо того чтобы проявлять осторожность. Они могут фундаментально изменить национальные устремления и перевернуть стратегию государства.
Отто фон Бисмарк сделал Германию мирной державой, опорой европейского статус-кво, кайзер Вильгельм превратил Германию в величайшую угрозу европейской стабильности и главную зачинщицу Первой мировой войны.
Если учитывать роль личности, политика становится менее определенной и более непредсказуемой, чем в простых моделях международных отношений. В хорошие времена такой подход заставляет проявлять осторожность, потому что один человек не в том месте и не в то время может повести страну по опасному пути. В тяжёлые времена вера в силу лидера становится источником надежды. Лидеры действительно могут сделать мир более опасным, но они также способны сделать его более стабильным и процветающим. В условиях демократии это означает, что выбор лидера – тяжелая задача, но это то, что следует только приветствовать.

Риши Рам Гхимире: Непал не может оплатить Ми-17 из-за санкций США
Посол Непала в РФ Риши Рам Гхимире рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Елене Протопоповой, почему его страна до сих пор не может оплатить покупку у России семи вертолетов Ми-17, зачем они вообще нужны непальской стороне. Он также сообщил о приглашении взойти на высочайшую вершину мира Эверест, направленном российскому министерству обороны, объяснил, что мешает проведению совместных военных учений двух стран, и уточнил, почему Непал заинтересован во взаимодействии с Шанхайской организацией сотрудничества.
— Господин посол, в последнюю нашу встречу вы сообщили, что Непал закупит у России не менее семи вертолетов Ми-17. Состоялась ли сделка?
— Все верно. Наша цель – обеспечить вертолетом Ми-17 каждую из семи провинций нашей страны. То есть мы решили закупить у России семь вертолетов.
Но есть проблема с оплатой. На данный момент посольство России в Непале и наше министерство иностранных дел находится в контакте, обсуждая, как произвести оплату за российские вертолеты. Действуют санкции США в отношении РФ, и мы ищем страны, чтобы отправить России деньги. Из-за этих санкций стало проблемой, как платить России в долларах. Как этот вопрос будет решен, пока не известно. Может быть, заплатим через Китай, может быть, через Индию. Дело в том, что транзакции не производятся в рублях. Россия также не признает оплату в нашей национальной валюте. Это проблема.
Она, кстати, обсуждалась во время визита нашего министра иностранных дел в Москву в ноябре прошлого года. Министры решили тогда учредить небольшую комиссию с участием представителей российского и непальского правительства, чтобы разобраться с этим вопросом. Также два-три раза представители посольства России в Непале и министерства иностранных дел Непала встречались, обсуждали эту проблему.
Правительство Непала очень заинтересовано в оплате этих вертолетов. Нашей армии они очень нужны. Я знаю, что также есть частные компании, которые также покупают эти российские вертолеты. Непал, как вы знаете, горная страна, и вертолеты нужны и для перевозки людей, и для транспортировки товаров.
21-23 апреля министр обороны Непала приедет в Москву для участия в Московской конференции по безопасности. На эти даты мы запросили для нашего министра обороны встречу с министром обороны России. На этой встрече вопрос оплаты вертолетов будет обсуждаться.
Плюс есть еще один нерешенный вопрос – соглашение о гуманитарном сотрудничестве. Вы знаете, у нас было землетрясение в 2015 году, когда погибли около 9 тысяч человек. Тысячи школ, зданий, больниц были разрушены. У нас происходят такие природные катастрофы. И мы хотим сотрудничать с Россией по таким чрезвычайным ситуациям. Кстати, российские вертолеты как раз будут использоваться для спасения людей из зон стихийных бедствий, которые происходят у нас каждый год. И, кстати, российские вертолеты также могут быть использованы для спасения альпинистов.
— Каков в целом график контактов на текущий год?
— Очень важным визитом будет визит министра обороны в апреле. Других визитов министров в графике контактов на текущий год нет. В этом году очередь спикера нижней палаты российского парламента посетить Непал. В 2017 году спикер нашего парламента посещал Москву. Я думаю, в этом году визит господина Володина состоится. Надеемся, это произойдет. Мы ждем ответа от российской стороны по времени визита. Но они еще не решили. Они проинформируют, когда господин Володин сможет посетить Непал.
В прошлом году в Москву приезжал председатель Верховного суда Непала. То есть, как видите, мы обмениваемся визитами.
— На данный момент Непал – партнер по диалогу в Шанхайской организации сотрудничества. Министр иностранных дел Непала заявлял, что вы хотели бы получить статус полноправного партнера, но для этого потребуется поддержка государств-основателей ШОС, в том числе России. Получил ли уже Непал такую поддержку?
— Это региональный вопрос, включающий несколько государств. Россия не может в одиночку решить и обеспечить полноправное членство Непала в ШОС. Китай также не может решить этот вопрос в одиночку. Для этого все страны-участницы ШОС должны встретиться и принять решение. Это вопрос должен решиться Советом глав государств или глав правительств ШОС. Все страны – участницы организации должны согласиться, принять ли Непал, но этого пока не произошло. Это долгий процесс.
— Какое значение имеет для Непала полноправное членство в ШОС?
— Вы задали очень важный вопрос. Базовые цели ШОС, поставленные перед организацией, когда она только создавалась, это борьба с терроризмом, отмыванием денег, наркотрафиком. Позднее к задачам ШОС добавилось экономическое развитие. Мы в этом очень заинтересованы. Эта организация – самая авторитетная в мире, она включает четыре ядерные державы — Россию, Китай, Индию, Пакистан.
Смотрите, Китай — вторая экономика в мире, Россия обладает большим количеством ресурсов – газ, нефть минералы, которые экспортирует в Китай. Казахстан также имеет много газа и нефти. Непал не так далеко от Китая, имеет общую границу, поэтому раз Китай импортирует газ из России, может, в будущем у нас тоже будет такая возможность. Членство в ШОС нам может помочь в этом. Ведь одна из целей стран-участниц организации – помогать в экономическом развитии другим членам.
— Получается, что для Непала основная цель полноправного членства в ШОС это экономическое развитие страны?
— Это одна из целей, она не единственная. Нам нужны инвестиции для нашего развития. Я не знаю, есть ли в ШОС такой фонд, но определенно членство в организации будет способствовать росту инвестиций в нашу страну.
Есть много преимуществ, которые мы можем получить от полноправного членства в ШОС. Мы имеем дружеские отношения со всеми странами-участницами организации.
— А что Непал со своей стороны может привнести в ШОС?
— Несмотря на то, что Непал небольшая страна с малым количеством ресурсов, наша страна – горный центр, Шангри-Ла, одно из самых популярных направлений туризма. Если мы станем полноправным членом ШОС, мы будем более близки, много людей сможет приехать к нам.
Возможно, в плане финансов мы не сможем внести вклад, но у нас есть ресурсы. Индия, например, член ШОС, а все реки Непала текут в Индию, они исходят именно из непальской части Гималаев. Население Индии 1,3 миллиарда человек, им нужно электричество, вода. И мы можем им это дать. Пока же Индия не воспользовалась преимуществами наших ресурсов, ведь для таких проектов нужно огромное количество инвестиций. От них в конечном итоге выиграют и Непал, и Индия, и Бангладеш, который всего лишь в 42 километрах от нашей границы.
— Кто будет участвовать от вашей страны в саммите ШОС в Санкт-Петербурге в июле?
— На данный момент пока нет информации, но еще много времени до саммита.
— Рассчитываете ли вы, что на саммите ШОС будет поднята тема членства Непала в организации?
— Не в этот раз. Иран ведь тоже хочет стать членом ШОС. Также, я думаю, Турция. Сначала будет решен вопрос с их членством в ШОС.
Еще я думаю, что до вступления в качестве полноправных членов Турции и Ирана в ШОС вступит Афганистан. Разговоры об этом шли. Ведь одна из задач ШОС – борьба с терроризмом.
— Планируют ли Непал и Россия проводить совместные военные учения?
— Министерство обороны Непала направило в министерство обороны России приглашение совместно подняться в этом году на Эверест. Я думаю, они согласятся. Это может произойти уже в мае. С конца апреля до конца мая – благоприятное время для восхождения на Эверест. Другие месяцы года не так комфортны.
Мы сейчас ждем ответа от российской армии на приглашение, которое отправили месяц назад. Наше приглашение символизирует дружбу. Восхождение на Эверест занимает в среднем месяц, это очень непросто. Две недели нужно идти пешком, бежать там возможности нет. Медленно-медленно подниматься вверх. 200, 300 или 500 метров в день, затем отдых. При этом в случае сильного ветра идти невозможно, нужно ждать, когда он закончится.
Наше министерство обороны направило приглашения для покорения Эвереста нескольким странам. Мы пригласили также военных Индии, Китая, США. Это будет международное восхождение, причем бесплатное. Наша армия возьмет все расходы на себя. Восхождение одной команды стоит более 50 тысяч долларов, включая носильщиков, которые носят еду, коробки, все остальное. Численность команды от каждой страны – 20-25 человек.
Я думаю, большая часть приглашенных согласится. Если российские военные поднимутся на Эверест и скажут, смотрите, как прекрасен Непал, это будет великолепно. Это вдохновит других людей.
Что касается военных учений, то да, они могут быть организованы, но проблема в коммуникации. Наши военные не знают русский язык. А в российской армии все на русском языке. Такая же проблема у нас с Китаем, где все на китайском. Нужны переводчики, а это очень дорого.
Но мы хотим больше сотрудничества в военной сфере. В будущем мы сможем организовать военные учения с США, Великобританией, Китаем, Индией. Наша армия хорошо подготовлена для горной местности. У нас очень хорошая тренировочная база в Непале. Я думаю, этот вопрос может быть обсужден во время визита в Москву министра обороны Непала в апреле.
— Получила ли ваша страна приглашение на праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Москве?
— На данный момент мы не получали приглашения. Если оно будет, то прибудет, возможно, наш министр обороны.
— Глава МИД Непала передал ранее президенту, премьер-министру и министру иностранных дел России приглашения посетить Непал. Идет ли по дипканалам согласование возможных сроков визитов российских официальных лиц в Непал?
— Знаете, визитов на высоком уровне из России не было очень давно — с 1960 года, то есть еще со времен Советского Союза. Поэтому наше правительство приглашает. Да, Непал географически находится далеко от России, но политически мы очень близки.
В сфере экономики у нас низкий уровень сотрудничества, но высокий между людьми. В прошлом году Москву посетили более трех тысяч непальцев. Из Москвы в Непал приехали 11 тысяч россиян.
Визиты на высоком уровне возможны, но их нужно наполнить содержанием. Визит ради визита не имеет смысла. Хотя если президент РФ посетит Непал, это будет огромное событие. Нужно работать над содержанием.
У нас огромный потенциал для развития двустороннего сотрудничества. У нас есть большие возможности для частных компаний, для их инвестиций. Они получат выгоду от участия в проектах инфраструктуры в Непале. Я говорил вам о наших планах строительства нового международного аэропорта, дороги в аэропорт, железной дороги, о гидроэнергетическом проекте. Мы надеемся, что частные российские компании будут участвовать в проектах в нашей стране. Конечно, мы понимаем, что Непал далеко от Москвы. Но ведь у российских компаний есть много проектов в Индии. Может быть, оттуда они будут участвовать. Это хорошая возможность.
— Как обстоит в Непале ситуация в связи со вспышкой коронавируса?
— Несмотря на то, что Непал очень близок к Китаю, у нас не зарегистрировано ни одного случая заражения. Мы закрыли нашу границу для транспортировки товаров, но пока случаев не выявлено. Мы предприняли определенные меры предосторожности в связи со вспышкой этой инфекции.

Олег Сыромолотов: устраивающего всех решения по Идлибу пока нет
Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Маргарите Костив о том, есть ли сейчас какое-либо устраивающее всех решение по Идлибу, как решение Турции открыть для беженцев путь в Европу может отразиться на борьбе с терроризмом. Он также сообщил, когда планируются контакты РФ и США по вопросам безопасности, предоставляет ли Вашингтон Москве какие-либо доказательства "вмешательства в выборы" и намерена ли Россия исключать "Талибан" из списка террористических организаций в случае успеха перемирия в Афганистане.
— Ранее вы вели диалог по контртерроризму с нынешним послом США в Москве Джоном Салливаном. Определен ли ваш новый визави с американской стороны? Когда и где может пройти встреча?
— Когда Салливан приехал в качестве посла, он пришел, и мы с ним детально обсудили то, что мы сделали. Он мне сказал ориентировочно, кто будет от США вместо него вести переговоры.
Но у нас был один вопрос, я ему передал материалы, они их сейчас рассматривают. Когда они дадут нам ответ, сразу же будет определена дата экспертной встречи. В сентябре у нас была политическая и экспертная вместе, в прошлом году мы провели четыре раунда встреч. Я думаю, что в ближайшее время дата экспертной встречи определится. Она пройдет здесь, в Вене. Встречаются все спецслужбы, силовые ведомства, советы безопасности и так далее.
Я с ним (новым визави с американской стороны) еще ни разу не встречался.
— В ходе предвыборной кампании в США вновь звучат обвинения в кибервмешательстве Москвы, в поддержке того или иного кандидата. Обращались ли США по официальным каналам к российской стороне? Или дело ограничивается заявлениями в прессе?
— У нас эти темы вмешательства в выборы комментируют только пресса и политические деятели. Никаких документальных материалов мы никогда не получали и вряд ли получим.
— Недавно США и "Талибан" подписали соглашение о снижении насилия в Афганистане. Рассматривается ли в связи с этим возможность удаления этого движения из списка террористических организаций как на международном уровне, так и в России?
— Если действительно перемирие вступит в силу и действительно будет реальный прогресс, я думаю, что этот вопрос встанет обязательно. Если с ними подписывают соглашение, значит, их признали как политическую силу. Соответственно, часть фигурантов — я не думаю, что все — будет удалена из террористического списка, если это все реально. Я думаю, что это будет процесс и на международном, и на национальном уровне.
— Продолжает ли Россия диалог с Турцией по отмежеванию террористов от вооруженной оппозиции в Идлибе?
— Это каждый день упоминается как невыполненная Турцией часть соглашений, которые были достигнуты в Сочи. Сегодня уже было объявлено, что 5 марта президент (Турции Тайип) Эрдоган будет в Москве. Я думаю, там эти вопросы будут обсуждаться в том числе.
— Есть ли у Москвы понимание, как это можно сделать?
— Если бы у Москвы было понимание, как это сделать, мы бы взялись за этот процесс. А Турция взялась, значит, у них есть какое-то понимание. Если бы мы знали решение, оно давно было бы найдено, но в данной ситуации решения, которое устраивает всех, пока нет, и никто посоветовать не может. Хотя все понимают, что террористический анклав, который там существует, недопустим.
В прессе появилось, что "Хайат Тахрир аш-Шам"* — это, оказывается, не террористическая организация, а оппозиция, которая борется с (президентом Сирии Башаром) Асадом. К этому давно шло, это еще один шаг в оправдание террора и террористов.
— Может ли потенциальный миграционный кризис в Европе нести угрозы распространения терроризма?
— А кризис ли это? Потому что раздаются голоса, что этих беженцев просто выставляют из Турции. И цифры, которые объявляются, реальным не соответствуют. Но любой миграционный кризис, конечно, усугубит ситуацию с антитеррором.
— Будет ли Россия принимать какие-то дополнительные меры для защиты от этого?
— Россия в данной ситуации не затронута этими процессами. Как вы знаете, министры ЕС собираются на границу Греции и Турции и там будут обсуждать этот вопрос. Я думаю, и вопросы антитеррора там будут затрагиваться тоже, а самое главное — распределение, в какие страны они пойдут. Это ключевое.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.

НОВЫЙ КИТАЙСКИЙ КОШМАР
ФАРИД ЗАКАРИЯ
Ведущий программы Fareed Zakaria GPS на канале CNN и автор The Post—American World.
ПОЧЕМУ АМЕРИКЕ НЕ СТОИТ ПАНИКОВАТЬ ИЗ-ЗА НЫНЕШНЕГО КОНКУРЕНТА
Китай – это новый, серьёзный вызов. Но если Вашингтон сохранит хладнокровие и продолжит терпеливо проводить политику «вовлечение плюс сдерживание», вынуждая Китай приспосабливаться, и при этом сам будет приспосабливаться, чтобы дать Китаю пространство для этого, через несколько десятилетий аналитики смогут написать о не столь уж секретном плане США по расширению зоны мира.
В феврале 1947 г. президент США Гарри Трумэн встретился со своими главными советниками по внешней политике Джорджем Маршаллом и Дином Ачесоном и группой конгрессменов. Тема встречи – план администрации по оказанию помощи правительству Греции в борьбе с коммунистами. Маршалл и Ачесон представили своё видение. Артур Ванденберг, глава сенатского комитета по международным делам, слушал внимательно, а потом поддержал их, но с оговоркой. «Единственный способ добиться того, чего вы хотите, – выступить с речью и до смерти напугать страну», – якобы сказал он президенту.
В течение нескольких месяцев Трумэн именно так и поступал. Он представил гражданскую войну в Греции как проверку способности США противостоять коммунизму. В своих мемуарах, вспоминая экспансивную риторику Трумэна о поддержке демократий всегда и везде, Ачесон признавался, что администрация использовала аргумент «более убедительный, чем правда».
Что-то похожее происходит сегодня в американских дебатах о Китае. Новый консенсус, который поддерживают обе партии, военный истеблишмент и основные СМИ, предполагает, что Китай представляет смертельную угрозу Соединённым Штатам как экономически, так и стратегически, что американская политика в отношении Китая провалилась и что Вашингтону нужна новая, более жёсткая стратегия сдерживания Пекина. Позиция общества сместилась к практически инстинктивной враждебности: по данным опросов, 60% американцев сегодня негативно относятся к КНР, и это рекордный показатель с 2005 г., когда Pew Research Center начал проводить исследование. Но вашингтонская элита подкрепляет свою позицию аргументами «более убедительными, чем правда». Вызов, брошенный Китаем, отличается от предыдущих и является более сложным, чем рисуют современные алармисты. В ключевом внешнеполитическом вопросе ближайших десятилетий Вашингтон сам обрекает себя на дорогостоящий провал.
Давайте проясним ситуацию. Китай – репрессивный режим, проводящий не либеральную политику – от запрета свободы слова до притеснения религиозных меньшинств. За последние пять лет власти КНР существенно укрепили политический контроль и государственное регулирование в экономике. На международной арене Китай стал конкурентом, а в некоторых вопросах и противником США. Но главный стратегический вопрос для американцев сегодня звучит так: действительно ли Китай представляет смертельную угрозу, и если да, то как ей противодействовать?
Последствия преувеличения советской угрозы были огромными: преследование собственных граждан в период маккартизма, опасная ядерная гонка вооружений, длительная провальная война во Вьетнаме и другие военные интервенции в странах так называемого третьего мира. Последствия неправильного понимания китайской угрозы будут ещё более серьёзными. США рискуют растратить преимущества, достигнутые за 40 лет взаимодействия с Китаем и подтолкнуть Пекин к конфронтационной политике. В результате две крупнейшие мировые экономики окажутся втянуты в опасный конфликт небывалого масштаба, который неизбежно приведёт к десятилетиям нестабильности и небезопасности. Холодная война с Китаем, скорее всего, будет более длительной и затратной, чем с Советским Союзом, и исход её неясен.
Нарушенное взаимодействие
Генри Киссинджер отмечал, что США начинали все крупные военные операции после 1945 г. – в Корее, во Вьетнаме, в Афганистане и Ираке – с большим энтузиазмом и при поддержке обеих партий. «А потом, когда война затягивалась, поддержка начинала разваливаться», – пишет Киссинджер. Вскоре все уже находились в поисках стратегии выходы.
Чтобы избежать повторения этого пути Соединённым Штатам следует детально изучить идеи, на которых базируется нынешний консенсус по Китаю. Они сводятся к следующему. Во-первых, взаимодействие провалилось, потому что не удалось трансформировать внутреннее развитие Китая и его поведение на международной арене, как писали бывшие сотрудники Госдепартамента Курт Кэмпбелл и Илай Ратнер в 2018 году. Во-вторых, внешняя политика Пекина в настоящее время представляет наиболее значимую угрозу для американских интересов, а следовательно, и для основанного на правилах мирового порядка, который Соединённые Штаты создали после 1945 года. Госсекретарь Майк Помпео пошёл дальше, заявив выступая в Гудзоновском институте в 2019 г., что «Компартия Китая – это марксистско-ленинская партия, сфокусированная на борьбе и международном доминировании». В-третьих, активная конфронтация с Китаем позволит более эффективно противостоять угрозе, чем прежний подход.
Этот межпартийный консенсус сформировался как реакция на кардинальные и во многих аспектах тревожные изменения в Китае. После прихода к власти Си Цзиньпина либерализация китайской экономики замедлилась, а политические реформы – в любом случае ограниченные – были свернуты. Сегодня Пекин использует политические репрессии в сочетании с националистической пропагандой, напоминающей о временах Мао Цзэдуна. На международной арене Китай действует более амбициозно и агрессивно. Эти изменения реальны и действительно вызывают тревогу. Но как они должны повлиять на американскую политику?
В ключевом внешнеполитическом вопросе ближайших десятилетий Вашингтон обрекает себя на провал.
Чтобы сформулировать эффективный ответ, нужно для начала разобраться с прежней американской стратегией в отношении Китая. Новый консенсус игнорирует почти 50-летний период, когда президент Ричард Никсон начал сближение с Пекином. Американская политика в отношении Китая никогда не сводилась исключительно к взаимодействию, скорее это было сочетание взаимодействия и сдерживания. В конце 1970-х американские политики пришли к выводу, что интегрировать Китай в глобальную экономическую и политическую систему лучше, чем держать его в изоляции, провоцируя обиды и деструктивные действия. Однако Вашингтон дополнял эти усилия последовательной поддержкой других азиатских стран – включая, разумеется, поставки вооружения на Тайвань. Этот подход, который иногда называют «страховочной стратегией», позволял по мере роста Китая сдерживать его мощь, при этом его соседи чувствовали себя в безопасности.
В 1990-е гг., когда основного противника в лице СССР уже не нужно было сдерживать, Пентагон урезал расходы, закрыл базы и сократил военные контингенты по всему миру – за исключением Азии. В стратегии Пентагона по АТР 1995 г., известной как «инициатива Ная», отмечался рост военной мощи Китая и его внешнеполитические амбиции, поэтому предлагалось не сворачивать военное присутствие США в регионе. По меньшей мере 100 тыс. американских военнослужащих должны были остаться в Азии, а продажи оружия Тайваню нужно было продолжать в интересах мира в Тайваньском проливе, т.е. чтобы удержать Пекин от применения силы против острова, который материковый Китай считает своей частью.
Страховочный подход поддерживали президенты обеих партий. Администрация Джорджа Буша-младшего совершила переворот в многолетней политике, признав Индию как ядерную державу – в значительной степени это был дополнительный фактор сдерживания Китая. При Бараке Обаме США наращивали сдерживание, укрепляя свое присутствие в Азии новыми военными соглашениями с Австралией и Японией, а также тесным взаимодействием с Вьетнамом. Эти же цели преследовал проект Транс-Тихоокеанского партнерства, которое должно было стать для азиатских стран экономической платформой, позволяющей противостоять доминированию Китая. (Администрация Трампа вышла из соглашения в начале 2017 г.). Обама в беседе с Си Цзиньпином обвинил Китай в киберкражах и ввёл пошлины на импорт для ретейлеров в ответ на несправедливую торговую политику Пекина.
Заявления о провале страховочного подхода отражают отсутствие стратегического видения. В начале 1970-х гг., до поворота Никсона в сторону Китая, Пекин был главным режимом-изгоем в мире. Мао Цзэдун был одержим идеей возглавляемого им революционного движения, которое должно уничтожить западный капиталистический мир. Эта цель оправдывала любые средства – даже ядерный апокалипсис. «В самом крайнем случае, если погибнет половина человечества, – объяснял Мао, выступая в Москве в 1957 г., – останется другая половина, зато империализм будет стёрт с лица земли и весь мир станет социалистическим». При Мао Китай финансировал и поощрял антизападные восстания, революционные и идеологические движения по всему мире – от Латинской Америки до Юго-Восточной Азии. По некоторым оценкам, в 1964-1985 гг. только в Африке Пекин потратил от 170 до 220 млн долларов, подготовив 20 тыс. боевиков из 19 стран.
Для сравнения: сегодняшний Китай – достаточно ответственная держава с военной и геополитической точки зрения. Китай не воевал с 1979 г. и не использовал летального оружия за границей с 1988 года. С начала 1980-х он не финансировал и не поддерживал марионеточные силы или вооружённые формирования в других странах. Это уникальный показатель невмешательства среди великих держав. Все остальные постоянные члены Совета Безопасности ООН за последние десятилетия неоднократно и во многих местах применяли военную силу – возглавляют список, разумеется, Соединенные Штаты.
Кроме того, Китай отказался от идеи подрыва международной системы и стал тратить огромные средства на её укрепление. Пекин занимает второе место в мире по взносам в ООН и финансированию её миротворческих программ. Он направил 2500 своих миротворцев – больше, чем другие члены Совбеза ООН вместе взятые. С 2000 по 2018 г. Пекин поддержал 182 из 190 резолюций Совбеза о введении санкций против государств, нарушающих международные правила и нормы. Основополагающие принципы внешней политики Китая сегодня – уважение суверенитета, территориальной целостности и невмешательство – в значительной степени призваны защитить от обвинений Запада. Но в то же время они отражают переход от радикальной, революционной повестки к консервативной заботе о стабильности. Если бы в 1972 г. кто-то предсказал, что Китай превратится в защитника международного статус-кво, в этом поверили бы немногие.
Согласно новому консенсусу по экономическому поведению Пекина, Китай вынуждает транснациональные корпорации передавать технологии, субсидирует национальные компании-лидеры и устанавливает официальные и неофициальные барьеры для иностранных фирм, которые хотят выйти на китайский рынок. Иными словами, Пекин использует открытую международную экономику, чтобы укрепить собственную государственническую и меркантилистскую систему.
Эта недобросовестная политика действительно требует ответных действий остального мира. Администрацию Трампа стоит похвалить за обращение к этой проблеме, особенно в свете решения Си Цзиньпина перейти к большему госрегулированию после десятилетий либерализации. Однако насколько масштабна и устойчива эта политика? Насколько действия Китая отличаются от практики других стран с развивающимся рынком? И опять же, какой должна быть правильная реакция США?
Практически все аналитики согласны, что своими экономическими успехами Китай обязан трём фундаментальным факторам: переход от коммунистической экономики к более рыночному подходу, высокий уровень сбережений, позволивший инвестировать огромные средства в развитие, а также растущая производительность труда. За последние 30 лет Китай стал активно привлекать иностранных инвесторов – больше, чем другие развивающиеся рынки – и в страну хлынул поток капитала. Китай – одна из двух развивающихся стран, вошедших в топ-25 рынков по объёму прямых иностранных инвестиций с 1998 года. Среди стран группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) Китай постоянно занимает позицию самой открытой и конкурентной экономики. Что касается китайского меркантилизма в отношении американской экономики, то бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс отмечал: «Нельзя всерьёз утверждать, что недобросовестная торговая политика Китая повлияла на рост экономики США хотя бы на 0,1% в год».
Стоит напомнить, что практически все экономические обвинения, которые выдвигают против Китая, – трансфер технологий под давлением, недобросовестная торговая политика, ограниченный доступ для иностранных фирм, регуляторные предпочтения для местных компаний – звучали и в адрес Японии в 1980-1990-х годах. В то время Клайд Престовиц в книге Trading Places: How America Is Surrendering Its Future to Japan and How to Win It Back объяснял: США не могли представить, что им придется иметь дело со страной, где «промышленность и торговля организованы как элемент достижения определённых национальных целей». Ещё одна популярная книга того времени The Coming War With Japan («Грядущая война с Японией»). Когда рост в Японии замедлился, исчезли и преувеличенные страхи.
Сегодня Китай представляет новые вызовы, учитывая намерение Си Цзиньпина вывести страну на лидирующие позиции и обеспечить экономическое доминирование в ключевых секторах. Но в исторической перспективе Китай получил наибольшие преимущества в глобальной системе торговли не из-за готовности нарушать правила, а благодаря своему размеру. Страны и компании хотят получить доступ на китайский рынок и готовы идти на уступки. Ситуация Китая отнюдь не уникальна. Странам с аналогичным весом часто сходит с рук подобное поведение – и в первую очередь, Соединённым Штатам. В докладе гиганта финансовых услуг Credit Suisse (2015 г.) приведён подсчёт нетарифных барьеров против иностранных товаров, установленных крупными странами с 1990 по 2013 год. США с показателем 450 играют в собственной лиге. Затем следуют Индия и Россия. Китай занимает пятое место со 150 нетарифными барьерами – треть от показателя США. С тех пор ситуация мало изменилась.
Практически все экономические обвинения против Китая в своё время звучали и в адрес Японии.
Большинство последних изменений в экономической политике Китая оказались негативными, но это упрощённый взгляд. Китай меняется по нескольким, иногда противоположным направлениям. Несмотря на возвращение к большему государственному контролю при Си Цзиньпине свобода рынка процветает во многих сферах, включая потребительские товары и услуги. Происходила и реальная либерализация – даже административная и судебная реформа, как отмечает политолог Юэн Юэн Ан. Правительство поддерживает госкомпании больше, чем несколько лет назад, но Пекин отказался от главного элемента своей меркантилистской стратегии – занижения курса национальной валюты для стимулирования роста. Экономист Николас Ларди подсчитал, что этот шаг обусловил половину от общего замедления роста китайской экономики после глобального финансового кризиса.
Или рассмотрим вопрос номер один в торговой войне США с Китаем – «кража нашей интеллектуальной собственности», как выразился Питер Наварро, советник Трампа по торговле. То, что Китай бесстыдно ворует интеллектуальную собственность, факт признанный всеми, кроме американских компаний, ведущих бизнес в Китае. В исследовании Американо-китайского делового совета защита интеллектуальной собственности занимает шестое место среди самых актуальных проблем, опустившись со второй строчки в 2014 году. Сегодня американские компании больше волнует государственное финансирование местных конкурентов и затягивание выдачи лицензий на их продукты. Что изменилось с 2014 года? Тогда в Китае были созданы первые специализированные суды для рассмотрения дел об интеллектуальной собственности. В 2015 г. иностранцы подали 63 иска в Пекинский суд по интеллектуальной собственности. Суд вынес решение в пользу иностранных фирм по всем 63.
Конечно, подобные реформы часто проводятся только под давлением Запада и только если они отвечают интересам самого Китая (больше всего заявок на патенты в мире в прошлом году подал китайский телекоммуникационный гигант Huawei). Но в то же время многие китайские экономисты и политики подчёркивают, что страна сможет модернизировать и укреплять свою экономику, только продолжая реформы. В случае провала, предупреждают они, страна окажется в «ловушке среднего дохода» – такая судьба обычно ждёт страны, которые выбрались из бедности, но упёрлись в стену 10 тыс. долларов ВВП на душу населения, потому что им не удалось продолжить модернизацию экономики, регуляторной и правовой системы.
Что касается политического развития страны, вердикт однозначный. Китай не сделал свою политическую систему открытой, как хотели многие, и даже пошёл по пути репрессий и контроля. Жёсткие действия против уйгуров в Синьцзяне, регионе на северо-западе Китая, вызвали кризис, связанный с нарушением прав человека. Кроме того, государство использует новые технологии, включая распознавание лиц и искусственный интеллект, для создания оруэлловской системы социального контроля. Это трагедия для китайского народа и серьёзное препятствие на пути страны к глобальному лидерству. Однако было бы преувеличением считать эти факты доказательством провала американской политики. На самом деле американские политики никогда не говорили, что взаимодействие неизбежно приведёт Китай к либеральной демократии. Они надеялись, что это произойдёт, ждали этого, но были сосредоточены на сдерживании поведения Китая на международной арене – и этого им удалось достичь.
Пересечь черту
При Си Цзиньпине внешняя политика Китая стала более амбициозной и агрессивной: от стремления к ведущей роли в институтах ООН до масштабной инициативы «Один пояс – один путь» и строительства островов в Южно-Китайском море. Все эти шаги говорят об отказе от прежней пассивности на глобальной арене в соответствии с принципом Дэн Сяопина: «Скрывайте свою силу, ждите благоприятного момента». Наращивание военной мощи происходило настолько масштабно, что можно говорить о системной реализации долгосрочного плана. Но какой уровень влияния Китая можно считать приемлемым, учитывая его экономический вес? Не ответив на этот вопрос, Вашингтон не может предъявлять претензии по поводу действий Китая, которые «пересекают черту».
По некоторым оценкам, Китай уже сегодня является крупнейшей экономикой мира. В ближайшие 10-15 лет он займёт эту позицию по всем параметрам. Дэн Сяопин советовал «ждать благоприятного момента», когда экономика страны составляла около 1% мирового ВВП. Сегодня она достигает 15%. Китай действительно дождался благоприятного момента и теперь как сильная держава стремится к более значимой роли в регионе и в мире.
Рассмотрим пример другой страны, которая набирала силу в XIX веке, хотя и не в таком масштабе, как сегодняшний Китай. Говоря современным языком, Соединённые Штаты в 1823 г. можно было назвать развивающейся страной, даже не входящей в пятёрку ведущих экономик мира. Тем не менее в соответствии с доктриной Монро они объявила все Западное полушарие недосягаемым для европейских великих держав. Пример Америки – не совсем точная аналогия, но он напоминает нам, что, набирая экономическую силу, страны стремятся к большему контролю и влиянию в окружающем пространстве. Если Вашингтон считает любую подобную попытку Китая опасной, значит США отрицают естественную динамику международной жизни и в итоге могут оказаться в «ловушке Фукидида», как выразился политолог Грэм Эллисон, – угрозой войны между восходящей державой и испытывающим страх гегемоном.
Китай вряд ли можно считать смертельной угрозой для либерального международного порядка.
Для Соединённых Штатов противодействие такому сопернику – новый, уникальный вызов. С 1945 г. все крупные государства, поднимающиеся к богатству и влиянию, были ближайшими союзниками или даже квазипротекторатами Вашингтона: Германия, Япония и Южная Корея. Поэтому обычно тревожное явление международной жизни – восхождение новых держав – в США воспринимали благосклонно и без опасений. Китай не просто больше этих государств, он никогда не входил в структуру альянсов и сфер влияния Вашингтона. Поэтому он неизбежно стал стремиться к определённой степени независимого влияния. Вызов для Соединённых Штатов и Запада в целом заключается в том, чтобы определить приемлемый уровень растущего влияния Китая и приспособиться к нему, т.е. иметь запас прочности, если Пекин перейдёт опасную черту.
Пока результаты адаптации Запада к подъёму Китая выглядят неубедительно. США и Европа не хотят идти на уступки Китаю в ключевых институтах глобального экономического управления – МВФ и Всемирном банке, которые остаются евро-американскими клубами. На протяжении многих лет Китай стремился играть более значительную роль в Азиатском банке развития, но Америка сопротивлялась. В результате в 2015 г. Пекин создал собственный многосторонний финансовый институт – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (работу которого Вашингтон тщетно пытался блокировать).
Помпео заявил – в покровительственной манере, которая вызвала негодование китайских граждан, – что США и их союзники должны «поставить Китай на место». По мнению Помпео, грех Пекина состоит в том, что он тратит на вооружение больше, чем требуется для его обороны. Но то же самое можно сказать и о Соединённых Штатах, и о Франции, России, Великобритании и большинстве других крупных государств. Тут уместно вспомнить определение великой державы – это государство, заботящееся не только о собственной безопасности.
Старый порядок, – где небольшие европейские страны ведут себя как мировые тяжеловесы, а такие гиганты, как Китай и Индия остаются на вторых ролях в глобальных институтах, – не может быть устойчивым. Китай должен получить место за столом лидеров и по-настоящему интегрироваться в структуры принятия решений. Иначе он останется свободным агентом и в одностороннем порядке создаст собственные структуры и системы. Восхождение Китая к глобальной власти – самый значимый новый фактор в международной системе за последние столетия. И это нужно признать.
Не либеральный, не международный, не упорядоченный
Для многих подъем Китая звучит как похоронный звон по либеральному международному порядку – набору правил и институтов, сформулированных в основном США после Второй мировой войны, на которых базируется нынешняя система, где вероятность войны между государствами минимальна, а свободная торговля и права человека процветают. Внутриполитические особенности Китая – однопартийная система, не допускающая оппозиции и несогласия, – и некоторые внешнеполитические действия – делают его проблемным игроком в этой системе.
Однако стоит отметить, что либеральный международный порядок никогда не был таким либеральным, международным и упорядоченным, как сегодня с ностальгией описывают многие. С самого начала он вызывал громкое сопротивление Советского Союза, затем последовала серия срывов сотрудничества между союзниками (из-за Суэцкого кризиса в 1956-м, ещё через 10 лет из-за Вьетнама) и частичный уход США при Никсоне, который в 1971 г. отказался от поддержки международного финансового порядка с помощью американских золотых резервов. Либеральный международный порядок с момента зарождения был деформирован исключениями, разногласиями и хрупкостью – такое описание больше соответствует действительности. Соединённые Штаты часто действовали вне норм этого порядка, совершая регулярные военные интервенции с одобрения ООН или без него. С 1947 по 1989 гг., когда США выстраивали либеральный международный порядок, Вашингтон совершил 72 попытки смены режима в мире. Аналогичным образом США вели себя в экономике, занимаясь протекционизмом и при этом протестовали против более мягких мер, принятых другими странами.
Либеральный международный порядок, как и все подобные концепции, никогда не переживал золотого века, но и не ветшал, как утверждают многие. Главные атрибуты этого порядка – мир и стабильности – по-прежнему на своём месте, число войн и аннексий стабильно падает с 1945 года. (Поведение России на Украине – важное исключение.) В экономике это мир свободной торговли. В среднем торговые тарифы между промышленно развитыми странами ниже 3% – в 1960-х, до очередного раунда международных торговых переговоров, они составляли 15%. За последние 10 лет произошёл откат по некоторым аспектам глобализации, но при очень высокой базе. Можно сказать, что с 1990 г. глобализация сделала три шага вперёд и только один назад.
Китай вряд ли можно считать смертельной угрозой для этого несовершенного порядка. Сравните его действия с поведением России, которая часто поступает как вредитель, стараясь разрушить западный демократический мир и его международные цели и при этом получая выгоду от нестабильности, подстёгивающей цены на нефть (главный источник богатства Кремля). Китай ничем подобным не занимается. Если он нарушает правила, скажем, в киберпространстве, то крадёт военные и экономические секреты, но не пытается подорвать легитимность демократических выборов в США и Европе. Пекин боится инакомыслия и оппозиции и особенно в отношении Гонконга и Тайваня. Поэтому он использует своё экономическое влияние для цензуры иностранных компаний, если те не поддерживают линию партии. Но это стремление сохранить суверенитет, в отличие от систематических попыток Москвы подорвать и лишить легитимности западную демократию в Канаде, США и Европе. Иными словами, Китай использует интервенционистские, меркантилистские и односторонние действия, но гораздо меньше, чем другие крупные державы.
Подъем однопартийного государства, которое продолжает отвергать концепцию прав человека, представляет собой серьёзный вызов. Репрессивная политика Пекина угрожает некоторым элементам либерального международного порядка – например, попытки размывания глобальных стандартов прав человека, действия в Южно-Китайском море и других районах вблизи границ. Все эти случаи нужно рассматривать детально и честно. В первом случае вряд ли можно как-то смягчить обвинения. Китай отвергает очевидные нарушения прав человека, поэтому эту повестку нужно сохранять и укреплять (решение администрации Трампа выйти из Совета ООН по правам человека достигло противоположного эффекта – Пекин получил пространство для манёвра).
Тем не менее либеральный международный порядок смог приспособиться к ряду режимов – от Нигерии до ЮАР и Вьетнама – и по-прежнему поддерживает основанную на правилах систему, обеспечивающую мир, стабильностью и цивилизованное поведение государств. Размер Китая и его политика являются вызовом для дальнейшего распространения прав человека, которое началось с 1990-х годов. Но одну сферу потенциального регресса не стоит считать смертельной угрозой более масштабному проекту базирующейся на правилах, открытости и свободной торговле международной системы.
Сдерживание и его цена
Ещё одна идея нового консенсуса гласит: некая форма длительной конфронтации с Китаем позволит сдерживать его авантюризм на международной арене и стимулирует внутриполитические преобразования. Мало кого радует термин «сдерживание» времён холодной войны, но многие принимают некую версию этой логики. Теоретически жёсткая линия в отношении Китая вынудит его хорошо себя вести и даже проводить реформы. Об этом не принято говорить, но главная идея «ястребов» состоит в том, что сдерживание Китая ускорит падение режима, как произошло с Советским Союзом.
Но Китай – не Советский Союз, неестественная империя, построенная на жестокой экспансии и военном доминировании. В Китае США вступят в конфронтацию с цивилизацией и нацией с сильным чувством национального единства и национальной гордости, которая поднялась и вошла в число великих держав мира. Китай экономически становится ровней, а технологически в некоторых областях даже лидером. Его население в сравнение с американским огромно. Кроме того, Китай – крупнейший мировой рынок практически всех товаров. В стране работают одни из самых быстрых компьютеров на планете, и Пекин обладает крупнейшими в мире валютными резервами. Даже если произойдёт смена режима, основные элементы, обеспечившие подъем и мощь страны, сохранятся.
Пентагон с энтузиазмом воспринял идею о том, что Китай является «стратегическим конкурентом» США. По мнению чиновников, это вполне разумный подход. Последние 20 лет американские военные вели борьбу с боевиками в распадающихся государствах, и периодически им приходилось объяснять, почему дорогостоящее вооружение не приносит победу над плохо вооружённым, нуждающимся в деньгах противником. Китай в качестве оппонента – это возвращение в счастливые дни холодной войны, когда Пентагон мог осваивать огромные бюджеты, пугая угрозой войны с богатым, хорошо вооружённым противником с собственными передовыми технологиями. Однако логика ядерного сдерживания и благоразумие лидеров гарантировали, что полномасштабной войны между двумя странами не будет. Каким бы ни был бюджет Пентагона, стоимость холодной войны с Китаем будет баснословной, она деформирует экономику США, раздув военно-промышленный комплекс, как предупреждал когда-то президент Дуайт Эйзенхауэр.
Прибавьте к этому высокую степень взаимозависимости США и Китая. Американский экспорт в Китай вырос на 527% с 2001 г., а в 2018-м Китай был крупнейшим поставщиком товаров в Соединённые Штаты. Есть и взаимодействие между людьми – сотни тысяч китайских студентов учатся в США, а почти пять миллионов американских граждан имеют китайские корни. Соединённые Штаты получили огромную выгоду благодаря тому, что в стране собрались блестящие умы со всей планеты, которые занимаются передовыми разработками, а потом адаптируют их в коммерческих целях. Если США закроют двери для талантов из страны-противника, то быстро лишатся передовой позиции в мире технологий и инноваций.
Нынешний подход администрации Трампа к Китаю характеризуется двумя противоречащими друг другу треками: Вашингтон и отказывается от взаимозависимости и приветствует её. В торговле основную цель Вашингтона можно назвать интеграционной – заставить Китай больше покупать у США, больше инвестировать в США и позволить американцам больше продавать и инвестировать в Китай В случае успеха эти усилия увеличат взаимозависимость между двумя странами. Такой подход заслуживает похвалы, правда, стоит отметить, что торговые тарифы обычно оказываются дороже для того, кто их вводит, а не для реципиента. По некоторым оценкам, введённые администрацией Обамы тарифы на шины обошлись в 1 млн долларов за каждое сохранённое в США рабочее место. Но в целом подход разумный, хотя и реализуется в рамках узкой повестки «Америка прежде всего», потому что взаимозависимость даёт Вашингтону больше рычагов воздействия на Пекин.
С другой стороны, в вопросах технологий подход администрации Трампа очевидно дезинтеграционный. Стратегия заключается в том, чтобы разорвать связи с Китаем и заставить другие страны сделать то же самое – это приведёт к расколу мира на два лагеря. Этой логикой объясняется глобальный поход Трампа против Huawei. Однако неутешительные результаты кампании демонстрируют пороки в этой логике. Остальной мир не пошёл за США (у которых нет альтернативной технологии 5G, чтобы конкурировать с Huawei). Администрация Трампа просила 61 страну ввести запреты против компании. Пока согласились только три – ближайшие союзники США.
Такие унылые результаты позволяют предположить, какой будет стратегия разъединения. Китай – крупнейший торговый партнёр многих стран помимо США, включая ведущих игроков Западного полушария, например Бразилию. Когда их спрашивают об отношении к стратегии разъединения, все мировые лидеры в той или иной степени повторяют ответ, который дал мне глава одного правительства: «Пожалуйста, не заставляйте нас выбирать между США и Китаем. Ответ вам не понравится». Это не значит, что они обязательно выберут Китай, скорее всего, они предпочтут сохранить нейтралитет или играть на два лагеря. Более того, изолированный Китай, выстроивший собственную внутреннюю цепь поставок и технологии, будет защищён от американского воздействия.
Странно, но в большинстве дебатов об американской политике в отношении Китая не затрагивается вопрос об ответной реакции. В Китае тоже есть радикально настроенные руководители, которые многие годы предупреждали, что Соединённые Штаты попытаются задавить Китай и любые признаки амбиций повлекут за собой реализацию стратегии сдерживания. Политика США заставляет эти голоса звучать громче, обосновывая и продвигая то агрессивное и дестабилизирующее поведение, которое США хотели бы предотвратить.
Соединённые Штаты соперничают с Китаем – это факт, и такое положение сохранится в нынешнем столетии. Вопрос в том, должны ли США конкурировать в рамках стабильной международной системы, продолжая попытки интегрировать Китай, или постараться изолировать его любой ценой. Расколотый международный порядок с ограничениями и барьерами в торговле, технологиях и передвижении отрицательно скажется на благосостоянии, возникнет постоянная нестабильность, появится реальный риск вооружённого конфликта.
Сворачивание глобализации, безусловно, является целью многих в администрации Трампа. Сам президент открыто осудил глобализм и назвал свободную торговлю способом ограбить американскую промышленность. Он считает альянсы США устаревшими, а международные институты и нормы бесполезным ограничением национального суверенитета. Правые популисты годами пропагандировали эти идеи. Многие из них, особенно в Соединённых Штатах, правильно поняли, что самый простой способ победить либеральные элиты – спровоцировать холодную войну с Китаем. Удивительно, что те, кто десятилетиями строил либеральный международный порядок, с готовностью поддержали повестку, которая с неизбежностью разрушит его.
Не столь уж секретная стратегия США
Более разумная политика США – сделать Китай «ответственным участником» – ещё возможна. Вашингтон должен поощрять использование Пекином своего влияния в регионе и за его пределами, если это способствует укреплению международной системы. Участие Китая в борьбе с глобальным потеплением, распространением ядерного оружия, отмыванием денег и терроризмом нужно приветствовать и ценить. Инициатива «Один пояс – один путь» пойдёт на пользу развивающемуся миру, если будет осуществляться открыто и прозрачно или даже в сотрудничестве с западными странами. Пекин, со своей стороны, должен признать критику Вашингтона в вопросах прав человека, свободы слова и свободы в широком смысле.
Самыми опасными точками могут стать Гонконг и Тайвань, где статус-кво очень хрупкий, а баланс сил склоняется в пользу Пекина. Есть данные, что Пентагон провёл 18 военных игр, симулирующих конфликт с Китаем из-за Тайваня и во всех победил Китай. Вашингтон должен чётко дать понять, что любая победа в таком конфликте окажется пирровой, приведёт к экономическому коллапсу Гонконга или Тайваня, массовой эмиграции и международному осуждению. Если Пекин предпримет радикальные действия в отношении Гонконга или Тайваня, возможность сотрудничества с США будет закрыта на годы.
Сделать Китай «ответственным участником» ещё возможно.
Новый консенсус по Китаю строится на страхе, что Пекин в какой-то момент может захватить весь мир. Но есть основания верить в американскую мощь и решительность. Ни Советскому Союзу, ни Японии не удалось захватить мир, несмотря на схожие опасения по поводу их подъёма. Китай развивается, но сталкивается с рядом внутренних вызовов – от демографического спада до огромных долгов. Он уже изменился и будет вынужден меняться дальше под воздействием сил интеграции и сдерживания. Пекинские элиты понимают, что их страна процветает в стабильном, открытом мире. Они не хотят уничтожать этот мир. Несмотря на десятилетие политической стагнации в материковом Китае, взаимосвязь между подъёмом среднего класса и запросом на политическую открытость реальна, как это видно на примере Гонконга и Тайваня, за которыми внимательно следят в Пекине.
Некоторые американские эксперты говорят о китайском стратегическом видении и долгосрочном секретном плане по достижению мирового господства, который терпеливо и последовательно реализуется с 1949 г., если не раньше. Бывший сотрудник Пентагона Майкл Пиллсбери в книге, которую очень хвалят в администрации Трампа, назвал этот план «столетним китайским марафоном». Но более точно выглядит картина, живописующая как страна судорожно переживала тесный альянс с СССР, а потом раскол; «большой скачок», культурную революцию, а затем капиталистическую историю успеха; глубокую враждебность в отношениях с Западом, а потом тесные связи с США, и теперь снова играет во враждебность. Если это марафон, то дистанция имеет очень странные повороты, которые могли привести к катастрофе.
Соединённые Штаты, в свою очередь, с 1949 г. выстраивали структуры и политику для создания более стабильного, открытого и интегрированного мира, помогали странам войти в этот мир и сдерживали тех, кто стремился его разрушить, – и в целом добились впечатляющих успехов. Вашингтон не проявлял неуверенности и не фокусировался на краткосрочной перспективе. Сегодня американские войска по-прежнему находятся на берегах Рейна, защищают Сеул и базируются на Окинаве.
Китай – это новый, серьёзный вызов. Но если Вашингтон сохранит хладнокровие и продолжит терпеливо проводить политику «вовлечение плюс сдерживание», вынуждая Китай приспосабливаться, и при этом сам будет приспосабливаться, чтобы дать Китаю пространство для этого, через несколько десятилетий аналитики смогут написать о не столь уж секретном плане США по расширению зоны мира, процветания, открытости и достойного управления на всю планету – о марафонской стратегии, которая сработала.

Павел Константинов: Москва повысила температуру региона на два градуса
В мире началась гонка за освоение Арктики, но пока только у России есть крупные арктические города, проекты освоения шельфа и свободный в ближайшем будущем ото льда Северный морской путь. О том, где чище воздух — в российской Арктике или на Аляске, как приполярные города влияют на погоду вокруг них, а также о первой в мире сети климатических прогнозов для Заполярья рассказал корреспонденту РИА Новости Наталье Парамоновой кандидат географических наук, старший преподаватель МГУ Павел Константинов.
— Павел, чем арктические города отличаются от остальных и почему вы собираетесь установить в них единую систему метеонаблюдений?
— Климат теплеет в Арктике в три раза быстрее, чем в умеренных широтах. Для нашей страны это означает не только проблемы с таянием многолетней мерзлоты, но и надежды на то, что откроется безледокольная проводка по Северному морскому пути. В этом случае Россия станет великой транспортной державой, но чтобы ей стать, нам нужны населенные пункты вдоль маршрута следования судов, нужно создавать инфраструктуру.
Сейчас арктические города на метеорологических картах это белые пятна. Метеостанции располагали в тундре, чтобы они никому не мешали, или в аэропортах, а в самих городах до последнего времени ничего не было. С 2013 года мы провели 25 экспедиций и с каждый разом получаем новую информацию. Наша задача была разработать методику метеонаблюдений в полярных городах и запустить систему мониторинга.
Масштабы тепловых аномалий от маленьких городков удивляли в первую очередь. Многое все еще предстоит проверить. Города в Арктике — уникальные горячие точки. Визуально видно, что растительность в городе отличается от растительности за его чертой, то же самое может касаться возможности распространения там инфекций.
Формально арктические города это теплые точки в условиях холодного климата, то есть это окна в будущее. Мы на их примере можем видеть, что будет происходить лет через 50 со всей экосистемой большой Арктики в связи с изменением климата.
— В прошлом столетии в северных регионах страны было построено множество городов. Можно сейчас повторить этот опыт?
— Основное освоение российской Арктики пришлось на 30-е годы. Тогда были другие задачи и технологии. Нужно было привезти людей, как-то обеспечить выживание и начать разработку полезных ископаемых. Первыми полярными строителями были в том числе заключенные, поэтому о комфорте речь редко когда шла.
Теперь другие задачи. Надо, чтобы люди могли работать в комфортных условиях. А вот для этого надо изучить, что значит город в Заполярье, как он влияет на климат, как изменение климата влияет на него, что там с экологией. До нашего проекта это были белые пятна, и только сейчас мы поняли, как это можно изучать и какую систему мониторинга строить. Кстати, российские арктические города оказались более удачными, чем, например, города Аляски.
— Как понять "более удачные"?
— Советские строители выбирали для расположения городов возвышенности, а американский Фэрбенкс (город в центре Аляски — прим. ред.) расположен в низине. Понятно, что так исторически сложилось. Сначала в него добирались по реке, поэтому город получился в ложбине.
Сегодня в Фэрбенксе большое количество автотранспорта, потому что это главный способ передвижения в США, соответственно, с массой выбросов выхлопных газов. А газы оседают в низине, плюс полярные широты влияют, получается, воздух в городе грязный, особенно в нижнем пятиметровом слое. Фэрбенкс — один из самых загрязненных городов в США. Дональд Трамп при всем своем климатическом скепсисе без вопросов выделил достаточно большие деньги на мероприятия по очистке воздуха в Фэрбенксе.
— Судя по всему, Фэрбенксу уже ничего не поможет, если только его перенести?
— Перенести существующий город уже нельзя, но мы, когда будем строить новые города у себя в Арктике, сможем учесть эти ошибки. Но надо разобраться с особой климатологией арктических городов и особой химией атмосферы. Профессиональные химики ее называют dark chemistry (темная химия — прим. ред.). Они ее так называют, потому что это химия полярной или предполярной ночи.
— Кажется, что основная проблема арктических городов это холод и мерзлота. Если отопление будет бесперебойным, куртка теплой, а дом на сваях, то жить можно. Так ли это или есть еще проблемы, которые курткой и отоплением не решить?
— В первую очередь не решить проблему грязного воздуха. Человек такое существо, что когда холодно, у него сужаются капилляры, меняется поверхность слизистых. Дыхательная система находится в угнетенном состоянии, поэтому грязный воздух воздействует на нее гораздо сильнее, чем в другом месте. Условно говоря, в тропиках человек может это пережить, а в арктических условиях урон, который наносится здоровью и качеству жизни, гораздо сильнее.
В Арктике, то есть в условиях холода, возникают температурные инверсии, когда вся грязь концентрируется в нижнем слое атмосферы, который отделен от остальных слоев. Допустим, в Москве летом толщина слоя, где выбросы перемешаны со слоями атмосферы, примерно 150 метров, а в полярных городах выбросы сосредоточены в нескольких нижних метрах. Самое прискорбное, что вся жизнь проходит в этом приземном слое атмосферы. Это как цистерну с бензином разлить в пруду или в Черном море: для пруда последствия будут гораздо хуже.
Почему Норильск был долгое время самым загрязненным городом мира? Такого рода заводы разбросаны и по России, и по другим городам мира, но Норильск находится в арктических условиях, все его выбросы прибивались к земле и создавали микросмог. Надо сказать, что с выбросами разобраться можно, можно изменить ситуацию, а метеорологию поменять нельзя, поэтому чем раньше с ней разобраться, тем проще будет строить новые города и преобразовывать старые.
— Понятно, почему арктические города особенные с точки зрения экологии, а с точки зрения климата у городов есть особенности?
— Город с 50 тысячами населения в арктической зоне создает такой же остров тепла, как город с несколькими миллионами населения в средних широтах. Город Апатиты на Кольском полуострове, где 50 тысяч жителей, создает остров тепла с температурой, превышающей среднюю в этой местности на один градус. Москва с общим населением в 15 миллионов создает остров тепла с превышением средней температуры на два с небольшим градуса. То есть разница в численности населения в 300 раз, а влияние на температуру сопоставимо. То же самое происходит в городах Западной Сибири — Надым и Салехард.
Антропогенное воздействие в Заполярье гиперболизируется. Температурные аномалии там выше, чем в других местах планеты. Это происходит потому, что так же, как и с загрязнением воздуха, тепло концентрируется в двух десятках метров приземного слоя атмосферы. В этом особенность полярной климатологии.
— Раз постоянные и крупные города оказывают такое влияние, то может сделать их вахтовыми?
— Города в США и Канаде действительно ориентированы на вахтовую работу, но в то же время активно развивается университетский городок на Шпицбергене. Там, где резервное хранилище семян на случай глобального конфликта. На Шпицберген приезжают несколько тысяч студентов, и не кажется, что поток будет сокращаться. Человечество будет осваивать полярные районы.
— Если вернуться к созданию системы, насколько сложно ее создавать, как долго и насколько дорого поставить датчики?
— Экспедиция в один город обходится минимум в 500-700 тысяч рублей. Минимально мы должны провести в городе 10-14 дней, чтобы поставить 30-40 тестовых датчиков и определить точки, где потом будут стоять постоянно работающие датчики. Самое главное, это найти место, где ставить датчик. Как в Москве — можно поставить датчик во двор и он будет показывать относительно чистый воздух, а рядом с дорогой — грязный. Опыт установки датчиков был довольно тяжелым. Он стоил нам нескольких срезанных на металл датчиков и долгие поиски лучшего местоположения.
У нас есть системы онлайн-мониторинга, где мы видим масштабы острова тепла и загрязненность атмосферы. Ушло 3-4 года на разработку методики: где ставить эти датчики и как мерить. Теперь мы хотим в 2020 году замкнуть эту систему на города на Аляске и в Скандинавии. Тогда ее можно будет считать единой панарктической микроклиматической сетью. В каждом городе будет установлено до трех датчиков, которые в автоматическом режиме будут передавать информацию. Информация будет доступна любому желающему, потому что она относится к жизненно важной. На мой взгляд, такую систему можно будет сравнить с ГЛОНАССом с одной разницей. Мы не создаем аналог GPS, а первыми создаем оригинальную систему мониторинга в урбанизированных районах Арктики. Постоянно сейчас датчики работают в четырех городах: Апатиты, Надым, Салехард, Норильск.
— Установка датчиков и эксплуатация системы это дополнительные затраты, что они дадут кроме научного знания и предмета для национальной гордости ученым?
— Надо сказать, что острова тепла в полярных городах связаны со сжиганием топлива. Потери тепла создают колоссальные термические аномалии. У нас достаточно газа, чтобы отапливать жилища, но тем не менее если понять, как сделать теплоизоляцию новых домов проектируемых в Арктике городов более эффективной, то можно будет экономить на отоплении. Опять же, можно будет работать точечно, а не перестраивать весь город, потому что самое главное — никого не заморозить, экономия в арктических условиях вторична.
Ошибка в прогнозе температуры на 1-2 градуса при расчете систем отопления приводит к сильному перерасходу газа или угля, который на это самое отопление идет. Второе — датчики дают представления о загрязненности воздуха, причем на уровне отдельных кварталов. Люди будут знать, где гулять, а где сегодня не надо.
Российские города в основном отапливаются газом, а на Аляске топят частные дома углем. Они следят за расходом топлива, но выбросы сажи создают большее загрязнение воздуха. Что касается нашей Арктики, то газовое центральное отопление, похоже, более экологично, нежели дровяное.
Кроме того, мониторинг даст информацию о том, где мерзлота будет таять в первую очередь и где надо принимать срочные меры. Например, в Норильске нет городского температурного мониторинга. В Москве у нас несколько станций, которые регистрируют температуру, а в Норильске нет ни одной. То есть погоду передают, ориентируясь на метеостанцию в тундре, а там температура от городской может отличаться на 10 градусов. В плане метеорологической информации некоторые города стерильны. Причем что у нас, что на Аляске.
— Когда собранная информация станет доступной?
— В течение месяца заработает интернет-портал, где будут отражены данные со всех наших датчиков. Их сейчас около 15. Будем надеяться, что к концу года появятся зарубежные города. Все готово для запуска портала.
Наша стратегическая задача — чтобы это было свободная и доступная метеорологическая информация. Власти, граждане, экологические активисты могли использовать эти данные. В этом же году заработают датчики качества воздуха, которые будут показывать количество аэрозолей и частиц в приземном слое.
Сейчас среди ученых рассматривается концепция глобальной обсерватории, когда целью становится единая система знания о различных объектах Земли, ее атмосферы и океана, чтобы весь мир сделать более ясным и наглядным. Кто станет первым на этой ниве, тот получает научные и технологические преимущества.
На мой взгляд, система умных городов быстрее придет в северные регионы, чем в некоторые города-миллионники. Сейчас все страны стремятся в Арктику. Кто раньше поймет, как там работать и жить, тот и выиграет в арктической гонке.

Поможет ли транспортная блокада победить коронавирус? Интервью Леонида Марголиса из Национального института здоровья США
Профессор, вирусолог отвечает на главные вопросы о коронавирусе, ВИЧ и влиянии болезней на экономику
Чем нынешняя эпидемия коронавируса отличается от предыдущих опасных вспышек? После известного фильма Юрия Дудя резко выросло количество обращений на ВИЧ-тесты, а какие тесты на самом деле эффективны? На эти и другие вопросы отвечает профессор Леонид Марголис — вирусолог из Национального института здоровья США. С ним беседовал главный редактор Business FM Илья Копелевич.
Наш сегодняшний гость Леонид Марголис — доктор биологических наук, профессор Института национального здоровья США. Годовой бюджет этого института составляет 32 млрд долларов. Ну, скажем, российский оборонный бюджет — это в лучшие годы 47 млрд долларов. Но Леонид Борисович работает не только в Америке, но и в России — наш соотечественник, профессор МГУ, один из ведущих специалистов по вирусологии.
Леонид Марголис: Спасибо. Сразу скажу, что, к сожалению, не все 32 млрд идут в мою лабораторию. Я занимаюсь фундаментальной вирусологией. Не то что жалуюсь на финансирование, оно достаточное, но мы изучаем разные вирусы, в том числе ВИЧ, герпес-вирусы и некоторые другие.
Теперь еще и коронавирус. Он до вас [в научном смысле] добрался или нет?
Леонид Марголис: Мы еще не начали заниматься коронавирусом, и я надеюсь, что эта эпидемия спадет до того, как мы начнем, потому что фундаментальная наука имеет длинный разгон.
Вообще, почему он называется «коронавирус»?
Леонид Марголис: Потому что он очень красивый. Потому что когда вы смотрите на него в электронный микроскоп, это такая сфера, из которой торчат зубчики, похожие на зубцы короны. И какой-то человек, который увидел его в микроскоп, с поэтической, видимо, фантазией, решил, что это похоже на корону. В действительности это РНК-вирус. Многие РНК-вирусы имеют похожую структуру.
Это делает его более опасным? Почему такое публичное название в этот раз именно такое?
Леонид Марголис: Более опасным не делает. Вирус иммунодефицита очень похож внешне, во всяком случае, тоже имеет такие же зубцы. Зубцы эти функциональны, это не просто украшение природы. В них находятся те белки, которые позволяют вирусу связываться с поверхностью клетки и проникать. Если бы их не было, мы могли бы их как-нибудь инактивировать, тогда вирус не будет проникать.
Интересно сравнить вирус, который разглядели в электронный микроскоп, например, с песчинкой.
Леонид Марголис: Да, это трудно себе представить. Вирус этот примерно 150-200 нанометров, по сравнению с песчинкой он примерно такой же, как песчинка с пятиэтажным домом.
Мы наблюдаем всемирную одномоментную медийную панику, чрезвычайно активные действия всех государств, перекрытие движения, транспортного сообщения. Чем эта ситуация отличается от всех предыдущих? Этот вирус опаснее всех предыдущих эпидемий, которые мы переживали уже в последние годы?
Леонид Марголис: Думаю, что не опаснее, мы про него меньше знаем, чем, скажем, про вирус гриппа — пандемия 1956 года была ужасна по смертности.
Сколько тогда составлял процент летальных исходов?
Леонид Марголис: Я не помню 1956 года, но смертность от вируса «испанки» в 1918 году составила примерно 20%. Причем люди очень быстро умирали, сейчас даже более-менее понятно, почему. Вы утром заболели, а на следующее утро уже умерли. Там статистика была более понятная. С этим коронавирусом мы не знаем точные цифры. Вот на вчерашний день, скажем, считалось, что это летальность 0,6%, но она сильно различается по возрастным категориям. По-моему, 40% — [люди старше] восьмидесяти. Дети пока не умирали от этого вируса. Проблема в том, что эта статистика завтра может сильно поменяться, но в лучшую сторону. Потому что мы знаем знаменатель — число умерших, но мы не знаем числитель — число заболевших. Мы знаем только тех, кто обратились в больницу. А вирус этот немного похож по симптомам на грипп, и многие люди, скорее всего, заболели, несколько плохо себя почувствовали, пару дней посидели дома и пошли дальше. И вот количество этих людей мы не можем оценить на сегодняшний день даже примерно.
Примерно десять лет назад Китай тоже стал источником новой эпидемии, атипичной пневмонии. В южных провинциях Китая она появилась, и тогда как раз ВОЗ да вообще весь мир очень критиковали китайское правительство, потому что на протяжении нескольких месяцев они скрывали факт наличия новой эпидемии.
Леонид Марголис: Два месяца. И подверглись жестокой критике научного сообщества ВОЗ. В этот раз такого не было. Китайское правительство наоборот заслужило похвалу от ВОЗ и медицинских кругов за то, что они быстро очень изолировали вирус, начали изолировать население. Хотя на местном уровне, по-видимому, там скрывали какое-то время, и сейчас даже начальники местной провинции были сняты, я вчера прочел, со своей должности именно за это.
При этом речь идет о значительных экономических потерях. Люди не могут свободно перемещаться, а зачастую и товары. Значительные производства в Китае остановились. Тем не менее принимаются беспрецедентные меры карантинного характера, и в общем-то, есть впечатление, что новых очагов не возникает, что все локализовано в провинции Хубэй, и что есть шанс, что оно не вырвется за пределы.
Леонид Марголис: Знаете, с одной стороны, я не эпидемиолог, я слушаю выдающихся эпидемиологов. С другой стороны, и у этих выдающихся эпидемиологов, которых я слышал или с которыми контактировал, нет волшебного кристалла, чтобы понять, что будет. Но вот я слушал доктора Энтони Фаучи, ведущего мирового специалиста. Он утверждает, что все эти карантинные меры, хотя он их не оценивал, это уже политический вопрос, судя по опыту, могут задержать эпидемию, но не могут остановить проникновение вируса в другие страны. Если посмотрите на карту Европы, во всех странах есть несколько больных, зараженных этим вирусом. Например, жена приехала из Китая — там разные истории. А это значит, что вирус уже существует.
Но цепочки заражения пока нигде не возникли в других местах, пока это все приехавшее.
Леонид Марголис: Только на круизном судне Diamond Princess заразилось огромное количество человек в процентном отношении, там в том числе были наши соотечественники. Поэтому цепочка будет, но мы не знаем, какая, потому что мы не знаем точно, как этот вирус заражает. Что, если человек без симптомов, в отличие от «испанки», когда утром проявляются симптомы, и он сразу становится заразным? Здесь мы не знаем, в какой момент человек становится заразным.
Сколько времени нужно науке, чтобы это определить? Как ведет себя этот вирус, в какой среде он быстро распространяется, в какой концентрации?
Леонид Марголис: Но это не очень быстро [обнаруживается], конечно, хотя наука сейчас значительно ускоряется. Между эпидемией чумы, которая скосила 40% населения Европы, и открытием возбудителя чумы прошло почти 300 лет. Между началом эпидемии ВИЧ-инфекции и открытием вируса прошел год или полтора. Когда с появления эпидемии коронавируса прошла неделя, мы уже знали этот вирус, знали последовательную цепочку его генома. У нас есть уже генетический тест на этот вирус. Но этого недостаточно. Достаточно для того, чтобы выявить у вас вирус, но его инфекционность мы пока определить не можем, а это очень важно. Потому что если вы заражаете, скажем, 20 человек, то эпидемия идет, естественно, вперед.
Разные вирусы выбирают разные стратегии. Так вот, вирусу невыгодно убить вас сразу
От чего это зависит? Допустим, я, не дай бог, заразен. Могу ли я заразить сразу 20 человек или только одного?
Леонид Марголис: От вас это никак не зависит, если вы сидите дома и никого не встречаете, конечно. Но если вы заражаете, это зависит не от вас, а от свойств вируса. А мы не знаем точно его инфекционность. Мы не знаем, сколько вирусных частиц вы выделяете, сколько из них заразны, а сколько нет, потому что вирус может быть дефектным. У нас есть только генетический материал этого вируса, этого недостаточно. Если говорить про ВИЧ, то 99% или даже 99,9% вирусных частиц, которые выделяет больной, вообще не заразны, они не инфекционные, а дефектные. Инфекция продолжается благодаря 0,1% вируса. А как это у коронавируса происходит, мы пока не знаем.
Мы уже говорили, что пока что процент летальности достаточно низкий и, скорее всего, будет сокращаться по мере того, как мы будем узнавать, сколько в действительности людей болело, а сколько умерли.
Леонид Марголис: Да.
А если сравнить с обычным гриппом?
Леонид Марголис: Это очень близкие цифры.
Тогда почему мы не объявляем такие же драконовские меры и не отменяем Сочинский экономический форум каждый год, когда проходит очередной грипп?
Леонид Марголис: Опасаться, конечно, нужно и коронавируса, и гриппом тоже лучше бы не болеть.
Но мы знаем, что грипп бывает каждый год.
Леонид Марголис: Такие пандемии все-таки не каждый. В 1956 году была большая, и умерло много людей. Это еще вопрос к СМИ, к вам вопрос, больше, чем к вирусологам, — почему такая паника? Я совершенно не обвиняю ни массмедиа ни в каком заговоре, я вообще не сторонник конспирологии, но люди склонны к панике, я не знаю, может, вакуум важных новостей… Я думаю, если по всем радиостанциям и каналам договориться, что завтра будет конец света на следующей неделе, тоже множество людей впадет в панику.
Но никто в медиа не договаривался, просто пришло сообщение из Китая, сначала стало известно о наличии вируса, но было не ясно, передается ли он от человека к человеку. Как только заболел врач, который лечил, пришли к выводу, что он передается. В памяти атипичная пневмония, там летальность была гораздо больше.
Леонид Марголис: 9%.
Да, но она не распространилась широко. Вирус Эбола вообще страшный, там чуть ли не 50%, но он как был в Африке, так там и остался.
Леонид Марголис: Во-первых, у каждого вируса есть своя стратегия. Мы еще недостаточно знаем про этот вирус, но знаем общие законы эволюции. Знание некоторых законов может предугадать некоторые точные вещи. Ген хочет сохраниться и передаться, это относится ко всем. Поэтому мы так хотим завести детей, чтобы дети были похожи на нас — это тоже общий эволюционный закон. Почему так, спрашивать бессмысленно, как, почему тела притягиваются законом Ньютона пропорционально квадрату расстояния. Такой закон есть. И разные вирусы выбирают разные стратегии. Так вот, вирусу невыгодно убить вас сразу. Почему отчасти не распространилась Эбола? Потому что она очень быстро убивает человека, и вирус часто не успеет передаться другому человеку. А у ВИЧ стратегия другая: вы можете жить, условно, десять лет даже без лечения, и за это время многих заразите. Какую стратегию выбрал коронавирус, мы пока до конца не знаем, дальнейшее развитие ситуации зависит от этого. Кроме того, коронавирус немного похож на грипп. Грипп придерживается такой тенденции: весной инфекция идет на спад.
Почему?
Леонид Марголис: Солнышко, свежий воздух, но, может быть, и по каким-то другим причинам. Эпидемия гриппа бывает осенью, зимой, весной, а летом идет на спад. Специалисты надеются, что коронавирус тоже по весне будет полегче.
Куда испарились птичий грипп 1998 года и атипичная пневмония? Их больше нет? Пролетели и исчезли?
Леонид Марголис: Они вернулись в своих хозяев в животном мире. Мы точно не знаем, кто это был, но в одном случае это были маленькие млекопитающие, в другом случае, говорят, верблюд. Как эпидемия, между прочим, не вирусная, чумы, которая тоже уходила обратно в крыс. Поэтому так кончаются все эпидемии, слава богу, пока. Именно потому, что мы с вами как человечество еще живем. Кроме того, по мере заражения людей, это относится ко всем патогенам, опасность немножко падает, она становится менее и менее опасна, адаптируется. Стратегия этой эволюции — она адаптируется с тем, чтобы жить побольше. Возьмем вирусы типа герпеса, которые у нас уже миллионы лет...
И неистребимы.
Леонид Марголис: Да, некоторые из этих герпес-вирусов, их восемь штук. Но вот, допустим, шестой и седьмой у вас и у меня есть, и мы с вами их не чувствуем, а они часть нас. Они стали мирными, потому что такая их стратегия.
Возьмем такие события, как вспышки таких опасных новых инфекций, которые занесены из животного мира, очевидно. Кстати, наверное, не случайно, это в основном происходит в Юго-Восточной Азии и в Китае, раз за разом именно оттуда распространяются эти новые патогены, как правильно говорить. Как они влияют на науку и на фармацевтический бизнес? Вот сейчас все говорят: делаем вакцину, делаем тесты. В России изготовили тесты, в России работают над вакциной. Чего в этом больше, пиара медицинских служб или реальных бизнес-процессов?
Леонид Марголис: Ну, тест сделан, это благодаря развитию науки за предыдущие годы. Как только этот вирус выделен, его генетическая последовательность определена, дальше можно определить в течение очень короткого времени, есть у вас этот вирус или нет. Вакцина будет создана, никакого сомнения нет. Технологически это займет, может быть, год, может, несколько месяцев. Что такое вакцина? Это имитация того, что происходит в вашем организме, который получил этот патоген, заболел и выздоровел, и возникает иммунитет. Вакцину от ВИЧ до сих пор не произвели. А почему? Потому что от ВИЧ никто не выздоровел.
Хотя жить с ВИЧ научились.
Леонид Марголис: Да, огромные успехи, 32 лекарства — и можете жить нормальной жизнью, чуть меньше, чем если бы вы не заразились. Но вакцины нет, и это препятствие именно к тому, что продолжается эпидемия ВИЧ. Многие центры этим занимаются, известна более-менее технология. Я надеюсь, что вакцина будет сделана довольно быстро.
Но как это делается, например, в США, ну и вообще в западном мире? Там фармкомпании занимаются исследованиями за свой счет. Интересно ли им разрабатывать вакцину, потребность в которой, вполне вероятно, через год-два полностью отпадет, как это произошло с атипичной пневмонией? Или сейчас все-таки правительства стран должны дать денег, гранты? Как это происходит?
Леонид Марголис: Это сложный вопрос, потому что бизнес руководствуется и должен руководствоваться не только коммунистическими идеями о том, чтобы спасать каждого человека, но и выгодой от бизнеса. Поэтому, конечно, каждый раз бизнес взвешивает вопрос: если мы вложим 100 млн долларов в такое лекарство, сколько будет потребителей этого лекарства? И бизнес так и должен жить, но на то и существует правительство, чтобы стимулировать его в нужном направлении. Конечно, сейчас будут даны деньги тем компаниям, которые имеют опыт в развитии, будут даны деньги на фундаментальное исследование, уже началась работа в Национальном институте здоровья, в котором я работаю, над этой вакциной. Но вакцину могут создать люди, занимающиеся фундаментальной более-менее наукой в правительственных учреждениях, а вот эту вакцину производить — дело бизнеса. И я думаю, что так и произойдет.
Разные вирусы выбирают разные стратегии. Так вот, вирусу не выгодно убить вас сразу
Может ли произойти так, что в России вакцину создадут быстрее, чем где бы то ни было еще, чем в Америке? Если сравнить системы, как это у нас работает, как это работает там?
Леонид Марголис: Я думаю, при всей патриотичности, что скорее, по опыту предыдущих вакцин, вакцина будет сделана там, где дают больше денег, где больше стимулируется бизнес.
Зависит именно от количества денег или, может быть, зависит еще и от формы?
Леонид Марголис: От количества и от формы, и от культуры работы с биологией. Потому что, мне кажется, что бизнес в Америке стоит вокруг фундаментальных исследований, ждет, когда со стола упадет какая-нибудь идея, и немедленно покупается лицензия, обогащается отчасти тот институт или даже государственное учреждение, которое заработало это лекарство или вакцину. И бизнес рад броситься и сделать это лекарство и дальше его продавать, иметь лицензию на это.
А все-таки фундаментальные исследования, первичные, которые затем используются в фармакологии, проводятся в государственных институциях происходят?
Леонид Марголис: Да, в в Америке в — университетах, частных исследовательских институтах, но бизнес ориентирован больше на бизнес, как и должен.
Но он там стоит и ждет, он вылавливает.
Леонид Марголис: Он должен стоять и ждать. Мне кажется, что в России это пока не происходит, некоторая, может тенденция есть. Я участвовал в московском форуме «Здоровье Москвы», где было организовано несколько симпозиумов. Я участвовал в симпозиуме, который организовала главный кардиолог Москвы Елена Юрьевна Васильева, в частности, про связь сердечных болезней со старением, и в симпозиуме про инфекцию, который организовал Алексей Израилевич Мазус, глава Московского СПИД-центра. В теме, которую мы обсуждаем, я хочу сказать про этот симпозиум. Он собрал замечательных докладчиков из разных стран. Там был профессор Чжао [Цзяньпин], главный китайский эксперт, который сейчас в центре борьбы с коронавирусом.
Когда это произошло? Еще до того, как запретили въезд китайцам?
Леонид Марголис: До того, это было 16 января. Он рассказывал про ВИЧ-инфекцию, и там были другие специалисты.
А то бы, вероятно, не приехал.
Леонид Марголис: Ну, тогда же не было ничего, тогда все приехали. Как было бы сейчас, не знаю.
Поддержка бедных важна в смысле человеколюбия? Конечно. Но если эти бедные станут более богатыми благодаря бизнесу, поддержке, то они будут больше покупать продуктов, вещей и тем самым стимулировать бизнес.
Возвращаясь к коронавирусу: на ваш взгляд, такие жесткие меры — вообще полные перекрытия — оправданны в данной ситуации?
Леонид Марголис: Будущее покажет. Всегда, как в любом деле со здоровьем, даже в нашем личном, когда вы себя плохо чувствуете, лучше перестраховаться. Но дальше вопрос уже вашей психологии: если вы два раза чихнули, побежите вы к врачу или подождете симптомов, которые более важны? С другой стороны, столько народу пропускают различные симптомы сердечных болезней, а потом их отвозят в лучшем случае с инфарктом, вопрос психологии. В данном случае, все правительства, видимо, подстегивая друг друга, пошли на крайние меры. А насколько эти меры помогут — у нас нет контрольного эксперимента, как в науке: есть опыт — есть контроль, а здесь контроля нет. И если помогут меры, то все будут говорить, правильно, что благодаря этим мерам эпидемия кончилась.
Благодаря панике.
Леонид Марголис: Благодаря панике, благодаря всем массмедиа, благодаря слаженной работе правительств. А если не удастся, ну тогда будут говорить: «Несмотря на это...» Но никто не знает, что было бы, поэтому здесь трудно сказать.
Фармакология — это сейчас одна из главных отраслей экономики. Можно сравнить то, как это происходит в России и на Западе, особенно в Америке, как взаимодействуют бизнес и наука?
Леонид Марголис: Бизнес очень часто поддерживает в том числе фундаментальную науку, поскольку он ждет от нее результатов, которые можно будет транслировать, называется по-английски translation medicine, в некий продукт: вакцину ли, которую мы обсуждали, лекарство ли, которое мы обсуждали, диагностические средства, которые мы обсуждали, и поэтому бизнесу выгодно поддерживать эту науку не только из соображений гуманистических — «спасти человечество», но и вполне прагматических, как мне кажется. Я не бизнесмен. Поддержка бедных важна в смысле человеколюбия? Конечно. Но если эти бедные станут более богатыми благодаря бизнесу, поддержке, то они будут больше покупать продуктов, вещей и тем самым стимулировать бизнес. Примерно такая модель, на мой взгляд, имеется в Америке и других странах, когда бизнес дает некие гранты на какие-то исследования.
А кто это делает? Я понимаю, фармакологическая отрасль, масса компаний…
Леонид Марголис: Билл Гейтс.
Билл Гейтс не работает в фармакологии. Он тоже занимается и вкладывает деньги в исследования, связанные с медициной?
Леонид Марголис: Он вкладывает огромные деньги, сопоставимые с некоторыми государственными деньгами в исследования ВИЧ, создание вакцин, создание диагностикумов, но делает это очень разумно, как и все. Он не дает деньги какому-нибудь конкретному человеку, который ему сказал, что все сделает, и бог ведает как. Был такой случай в 90-х годах, о котором я знаю, не буду называть фамилии, эти люди уже умерли. К видному российскому политику, у которого умерла жена от рака, пришел видный российский ученый, который исследовал рак, и сказал: дайте мне несколько миллионов долларов, я вылечу рак. Он получил деньги, но, конечно, не вылечил, потому что таким образом это не делается. Вот и Гейтс, и Джефф Безос, а сейчас и наш соотечественник Юрий Мильнер дают деньги комитету, который определяет [их дальнейшую судьбу]. Они не вмешиваются в распределение этих денег, не говорят: «Дайте Смиту, дайте Джонсону, потому что, мне кажется, так лучше». В России немного не хватает этого, особенно потому что в России, даже там где вкладываются некие медицинские деньги, очень узкое количество ученых, мы все друг друга знаем: либо друзья, либо враги, либо в каких-то отношениях, поэтому независимую экспертизу, на мой взгляд, практически невозможно сделать. И для этого, как в некоторых странах, во Франции, скажем, тоже близкая ситуация, страна более узкая, нужно привлекать международных экспертов, которые, собираясь, оценивают независимо.
Мы сейчас хотим как раз все сделать своими руками. У нас такая сейчас теория, что мы не можем полагаться на то, что в Америке изобретут вакцину. Изобретут, а нам не дадут.
Леонид Марголис: Нет, это не так. Потому что, к счастью, мы говорим не о новых ракетах и не вооружении, где каждая страна секреты свои прячет от другой страны, поскольку это военное противостояние, вот в медицине, в биомедицине этого нет. Все мы работаем абсолютно открыто, я знаю все, что делается во всех лабораториях моей специальности во всем мире. Я знаю из конференций о том, что будет напечатано в журнале через, может быть, полгода или год, обо всех удачах, неудачах. Точно так же все знают, что делается в моей лаборатории. И если завтра изобретут вакцину, сейчас мы говорим про коронавирус или про ВИЧ, во Франции все будут про это знать. Другое дело, что французский бизнес, если поддержит вакцину, получит лицензию, и нам придется ее покупать. Но мы покупаем многие вещи. Вы когда последний раз видели русский компьютер? Я лично никогда не видел, он у всех одинаковый.
Я в школе видел, когда учился.
Леонид Марголис: И во Франции нет французского компьютера, и в Англии нет английского компьютера, мы все работаем на одинаковых компьютерах, которые покупаем. Так же будет и со всеми продуктами.
А вот Билл Гейтс, Джефф Безос и Юрий Мильнер, когда создают такие фонды и через вот эти структуры, комитеты финансируют конкретные исследования, — это чисто благотворительность или это бизнес-процесс, когда результат будет монетизирован в виде лицензии, которую у них купит какая-нибудь фармкомпания, начнет использовать технологию и создавать уже что-то в пробирке?
Леонид Марголис: Конечно, не факт, что эта компания будет принадлежать Биллу Гейтсу.
Но она заплатит?
Леонид Марголис: Какая-то компания, безусловно, купит лицензию на открытие вакцины, лекарства или диагностического метода, и она получит профит.
Теперь о СПИДе. У нас вся страна сейчас находится под впечатлением от фильма Юрия Дудя, конечно, замечательного, в котором огромное количество людей открыли глаза на факты, которые в принципе достаточно хорошо известны, все об этом заговорили. Но не только заговорили, масса людей бросилась себя проверять на СПИД, причем в основном самым дешевым образом. Я вас просто хотел спросить, чтобы вы рассказали людям, все ли тесты одинаковы хороши, какие в действительности помогут людям установить, есть у них СПИД или нет?
Леонид Марголис: Я занимаюсь фундаментальными исследованиями, здесь вам хорошо обратиться к действительно практикующему врачу-диагносту, в нашей стране есть, в Москве это отличный Центр СПИДа, который возглавляет Мазус. Фильм Дудя — конечно, замечательно, что у людей открылись глаза, уши должны были уже давно открыться, до фильма, потому что то, что пропагандирует Дудь, известно. Если бы люди слушали, они бы ничего нового там особенно не нашли, но все это полезно, потому что борьба со СПИДом должна быть не только со стороны медицины, но и со стороны общества. Но что касается всех тестов, я не буду говорить конкретно про тот, который был в фильме, это относится ко всем продуктам. Если вы пойдете и купите дешевую сковородку, у вас будут оладьи пригорать, если купите более хорошего качества, какую-нибудь французскую тефлоновую, вы будете оладьи жарить, ничего пригорать не будет. Насколько я знаю, в Москве хороший тест стоит дорого, но они раздаются бесплатно в Центре СПИДа, насколько мне рассказывал Алексей Израилевич Мазус, и можно их получить, вместо того, чтобы ходить и думать: а купил ли я дешевый тест, который бог знает что показывает, или нужно было купить дорогой, на который у меня нет денег.
Благо у нас бесплатно. Я просто читал в одном из ваших интервью, что СПИД — такая болезнь, когда вирус ведет себя таким образом, что иногда его нет в крови.
Леонид Марголис: Да, вы правы. Вначале его много в крови, а потом, может быть, несколько лет его в крови нет, даже при самых лучших тестах. Но тест на ВИЧ, который у нас есть, он не на вирус лично, он на антитела против вируса. А если вы заразились этим вирусом, то антитела у вас на сто процентов возникнут. Не сразу, на следующий день, на следующий день можно делать тест, он дорогой, как против коронавируса по генетическому коду, но через несколько месяцев у вас наверняка возникнут антитела или у меня, если бы я заразился ВИЧ, и это очень надежный тест. Если у вас через полгода ничего нет, я думаю, что вас пронесло.
В заключение вот вам личный вопрос. Предположим, вас сейчас пригласили бы на очень важную научную конференцию в Китае. Вы бы остереглись поехать лично или нет?
Леонид Марголис: Сложный вопрос. Если такая пандемия начнется, как в Китае, не дай бог, начнется в России, и будет такой же эпидемия, которой мы опасаемся, которую мы не можем пока исключить, поеду ли я в Россию? Да, поеду.
А в Китай?
Леонид Марголис: А отвечать про Китай я воздержусь.
Илья Копелевич

Сталин и Ватикан
хранить нашу веру!
Ольга Четверикова
Продолжаем публикацию материалов научно-просветительской конференции "Сталинские чтения", прошедшей 21-22 декабря 2019 года в Москве и посвящённой 140-летию со дня рождения одного из величайших политических деятелей ХХ века Иосифа Виссарионовича Сталина.
Я хотела бы начать с напоминания о том, что И.В.Сталин не только прекрасно разбирался в геополитических процессах, но и имел богословское образование. В силу этого он не мог не понимать той роли, которую играет Ватикан как религиозно-политическая организация, значение которой особенно усилилось после Второй мировой войны. Именно ясная и принципиальная позиция тогдашнего руководства нашей страны в отношении Ватикана обеспечила возможность Русской православной церкви утвердить документы, которые имеют непреходящее значение для защиты духовной независимости нашего народа.
Вначале надо кратко выделить этапы отношений между СССР и Св.Престолом (до 1926 г. не использовалось название Ватикан). Первый этап длился с 1917 по 1927 год. В эти годы Св.Престол стремился наладить связи с послереволюционным правительством и был нацелен на сотрудничество. Затем он прекратил какие-либо попытки сближения и занял жёстко антикоммунистическую и антисоветскую позицию. Особняком стоит период Второй мировой войны, когда были сделаны попытки пойти на контакт, но он сменился ещё более жёстким послевоенным противостоянием, которое длилось до начала 60-х годов. Хрущёвское время стало периодом экуменической открытости, которая при Л.И. Брежневе стала сходить на нет. Однако с началом перестройки активное сотрудничество под флагом межрелигиозного экуменического "диалога" увенчалось установлением дипломатических отношений и превращением Ватикана в политического партнёра современного руководства РФ. Мы рассмотрим только дохрущёвское время.
Послереволюционный период стал годами тяжёлых испытаний для нашей Церкви, поскольку большевистское руководство взяло курс на её вытеснение и устранение из общественной жизни страны. В этих условиях папство, заняв нейтральную позицию, решило использовать данную ситуацию в целях укрепления своего влияния в России, рассчитывая на то, что большевики нанесут такой удар по православию, после которого наша Церковь не сможет выжить, и её место займёт католицизм.
Эта стратегия замены православия была разработана папством ещё до прихода к власти большевиков. В годы Первой мировой войны Бенедикт ХV, которого называли немецким папой, cделал ставку не на Антанту, в которой участвовала Россия, а на германо-австрийский блок, поскольку именно с его победой он связывал возможность широкого проникновения в Российскую империю. И если до этого главным фактором влияния католицизма была Брестская уния, то в ходе мировой войны у него появилась возможность уже полностью подчинить себе западнорусские церковные приходы на оккупированных территориях. Главным центром по отработке соответствующих "технологий" была выбрана Галиция, а ключевую роль призваны были сыграть униаты.
Но произошла Февральская революция, в результате которой Временное правительство отменило все ограничения для католиков. Рим с удовлетворением встретил свержение царя, признал новое правительство, и уже 18 марта 1917 г. поверенный в делах России при Св.Престоле Николай Бок сообщал депешей министру иностранных дел Павлу Милюкову, что папская нота от 9 марта означает официальное признание нового строя. Ватикан рассчитывал на то, что с падением царизма влияние Православной церкви ослабеет и откроется возможность для католической пропаганды и унии. Как писал тот же Бок, в связи с сообщением о революции в России Ватикан испытал "чувство эгоистической радости за интересы Католической церкви". Бок хорошо знал ситуацию и говорил, что "на Россию Ватикан никогда не перестанет смотреть как на тучную ниву, которая может дать ему когда-нибудь обильную жатву". О том же телеграфировал поверенный в делах России в Париже: "Ватикан считает, что создавшееся у нас положение представляет особенно благоприятные условия для католической пропаганды".
Уже в мае 1917 года Ватиканом была создана Конгрегация по делам восточных церквей. И если раньше папство насаждало униатство и проводило беспощадную латинизацию, то теперь главную роль стали отводить католическому восточному обряду, который назвали тем "мостом", по которому Рим войдёт в Россию.
Этот вопрос крайне актуален, поскольку именно такие криптокатолические иезуитские уловки стали в наше время главным инструментом обработки православных. Суть по-новому понятого восточного обряда в том, чтобы сохранить в русской церкви её православный обряд, каноническое право, догматические положения, но подчинить её юрисдикции римского епископа через признание его первосвященства. И если формальная уния была нацелена на церковную иерархию, то восточный обряд — на простых мирян. Исследователь Константин Николаев так описывал это явление: брался русский православный обряд в его предвоенном виде, и папа римский клал на него свою каноническую печать. В силу этого православные приходы переходили из юрисдикции православного епископа в юрисдикцию епископа католического, то есть не было никакой унии в смысле соединения, а было поглощение католической церковью восточного обряда православных приходов. Для изучения и воспроизведения догматических, литургических, канонических вопросов и духовных традиций православных церквей был создан специальный Папский восточный институт.
Именно эта стратегия и осуществлялась папством после прихода к власти большевиков. Прекрасно понимая, в каком положении находится наша церковь, Ватикан попытался наладить отношения с новым режимом. В 1923 г. патриарх Тихон по этому поводу писал: "Пользуясь происходящей у нас неурядицей в церкви, римский папа всячески стремится насаждать в Российской православной церкви католицизм…" Действительно, католики считали, что после падения большевиков или их отказа от своей антицерковной политики, поскольку Православной церкви уже якобы не будет, должна появиться некая новая церковная организация. Она должна обладать большими средствами и техническим аппаратом, так как это привлечёт к ней "усталые сердца русских людей и церковно объединит их под началом Рима".
Папство пыталось представить крушение России как божественное наказание за нежелание вступить в союз с Римом. Неслучайно были совершенно нормальными, обыденными такие высказывания, как, например, бенедиктинца Хризостома Бауэра: "Большевики умерщвляют священников, оскверняют храмы, но не в этом ли как раз заключается религиозная миссия безрелигиозного большевизма, что он обрекает на исчезновение носителей схизматической мысли, делает, так сказать, "чистый стол" (tabula rasa), и этим даёт возможность духовному воссозданию?" А один венский католический печатный орган так дополнил тогда эту мысль: "Большевизм создаёт возможность обращения в католичество неподвижной России".
В силу этого, в 20-е годы XX века главной задачей папства было добиться соглашения с большевиками, выторговав большие уступки католической церкви и утвердив католицизм восточного обряда. Вокруг этой схемы вёл переговоры с наркомом по иностранным делам РСФСР Георгием Чичериным кардинал Пьетро Гаспарри на Генуэзской конференции 1922 года. Далее переговоры вёл уже Эудженио Пачелли — будущий папа Пий XII. На первый план тут выходит иезуит Мишель д’Эрбиньи, который несколько раз на протяжении 20-х годов ездил в Россию и написал книгу, которая крайне положительно оценивала большевистский режим. В ней он, например, утверждал, что коммунистический универсализм и католический унитаризм необходимо соединить. Главная же ставка делалась на криптокатолицизм, то есть замаскированный католицизм, когда фактически всё остаётся православным, вплоть до внешней юрисдикции, но иерархи тайно принимают католицизм. Для этого в 1929 году был создан Папский колледж "Руссикум" ("Коллегиум Руссикум"), который призван был готовить священников католического восточного обряда.
Попытки договориться с большевистской властью закончились в 1927 году в связи с выходом известной декларации митрополита Сергия Страгородского о налаживании отношений Российской православной церкви с советской властью. После этого руководство католической церкви резко сменило свою позицию. В 1930 году тогдашний папа Пий XI издаёт послание, объявлявшее молитвенный крестовый поход "за Россию", а д’Эрбиньи издаёт новый труд — "Антирелигиозная война в Советском Союзе", в котором совершенно в других красках и терминах обрисовывает реальность СССР. В 1937 году выходит папская энциклика "Divini Redemptoris", которая уже обличала "безбожный коммунизм". Выходит, понадобилось без малого 20 лет, чтобы католическая церковь высказалась, наконец, по поводу атеистического коммунизма. И далее весь предвоенный период был заполнен антикоммунизмом и антисоветизмом.
Между тем, в самой Италии к тому времени был установлен фашистский режим, с которым Св.Престол в 1929 г. подписал конкордат (по которому, в том числе, создавалось государство Ватикан), а в 1933 г. подписывается договор и с нацистской Германией. Таким образом, Ватикан де-юре признал эти режимы, оформив свою к ним лояльность. Фактически папство оказалось под контролем новых властей, и, видимо, не случайно Черчилль сообщал, что в 1935 г. И.В. Сталин, беседуя с французским министром иностранных дел П. Лавалем, произнёс известную фразу в адрес Ватикана: "А сколько дивизий у папы римского?" Имелся в виду всем очевидный факт, что Ватикан не играл самостоятельной политической роли в Европе.
Однако на фоне видимого подчинения итальянскому и немецкому режимам началась скрытая переориентация Ватикана на США. Эта политическая игра велась Эудженио Пачелли, будущим папой Пием XII, который в 1936 г., будучи в США, установил тесные контакты с американскими промышленными и банковскими кругами. Встречался он и с Рузвельтом, с которым у него была продолжительная переписка вплоть до смерти последнего в апреле 1945 г. Так начинал завязываться тесный американо-ватиканский союз, взаимовыгодный для обеих сторон.
Для Ватикана США становятся главным источником финансирования. Он, например, имел такие тесные отношения с Морганами, что в начале 1938 г. банкиры Дж. П.Морган (младший) и Т.Ламонт (оба не католики) были награждены высшими ватиканскими орденами. Не будем забывать и про мощную католическую церковь США. В свою очередь, американцев Ватикан интересовал не только как религиозный центр (это в перспективе), но и как источник обширной информации, который можно было использовать для влияния на другие страны. Спецслужбы Ватикана считались тогда наиболее информированными, так как обширнейшая сеть его религиозных связей позволяла проводить разведывательные мероприятия. В 1939 году Св.Престол поддерживал дипломатические отношения с 37 странами, и в 22-х из них присутствовали апостольские легаты. Так что госсекретариат Ватикана при своей небольшой численности (32 человека) имел гигантский разведывательный аппарат. На него работали епископы, священники, различного рода ордена, благотворительные организации и фонды — словом, целые сети, которые должны были передавать информацию в одну точку.
С началом Второй мировой войны Пачелли (теперь уже папа Пий ХII) оказался в двусмысленном положении. Он не стал объявлять Германию агрессором под предлогом, что папа не может вмешиваться в международную политику, и, провозгласив нейтралитет, до самого конца войны не сделал ни одного заявления в поддержку той или иной стороны. Не осуждая действий Германии и её сателлитов, он, вместе с тем, не только не закрыл, но активизировал атлантическое направление своей политики. В этом были заинтересованы и американцы, исходившие из того, что Ватикану предстоит сыграть главную роль в идейно-политической стабилизации послевоенной Европы.
Для более тесной связи с правительством США папа римский основал Вашингтонское архиепископство и назначил архиепископа Фрэнсиса Спеллмана главой католического духовенства всей американской армии. Коммуникация со Спеллманом у него была довольно плотная. А Рузвельт тем временем в январе 1940 г. назначил своего личного представителя при понтифике, которым стал бизнесмен Майрон Тейлор. Он находился в Ватикане с титулом "чрезвычайный посол" и был связан с госдепом США. Создалась щекотливая ситуация, поскольку официальных отношений не было, а представитель (позже им стал заместитель Тейлора) в Ватикане был. Совсем парадоксальной она станет, когда Америка вступит в войну, и её представитель будет сидеть в Риме, то есть столице вражеского государства, получая необходимую ему информацию о ситуации в Европе.
В мае 1940 г. Ватикан, учитывая положение дел на фронте, при посредничестве кардинала Спеллмана перемещает свой золотой запас в 7,7 млн. долл. из Лондона в хранилище на территории американской военной базы Форт-Нокс, и с этого времени Федеральная резервная система США превращается по факту в главный иностранный банк Ватикана. Так оно было на протяжении всей войны. Ватикан регулярно получал от США крупные суммы, которые представлялись в качестве "даров католиков", но в действительности поступали из секретного фонда Рузвельта. А понтифик, хорошо понимавший будущую роль США, высокопарно писал президенту уже в августе 1940 г., что он надеется "рассчитывать на поддержку президента в поисках золотого века христианского согласия ради духовного и материального улучшения человечества".
Итак, мы описали положение Ватикана. Что же касается советского руководства, то оно в эти годы знало не так много о том, что происходит внутри самого Св.Престола, и о его тайной деятельности. Ситуация начала меняться только в конце 30-х годов, когда разведку возглавил Л.Берия. Им были набраны новые кадры, двое из них — специально на ватиканское направление. Это были Николай Горшков, направленный в Рим в 1939 году, и Глеб Рогатнев, который с октября 1940-го по август 1941-го был резидентом советской внешней разведки в Италии. Им помогали два римских агента: Гао, который был вхож в политические круги, и итальянец с оперативным псевдонимом Друг, бывший агентом широкого профиля. Им удалось получить подробную информацию о деятельности коллегии "Руссикум", благодаря чему под контролем советской разведки оказалась операция по засылке на Урал нескольких его учеников, которых перевербовали по их прибытии на место. С началом Великой Отечественной войны Рогатнев вернулся в Москву, а Горшков переехал в Каир в советскую миссию при союзном командовании и до 1944 года в Риме не появлялся.
С нападением Гитлера на Советский Союз Пий XII и его окружение оказались в ещё более сложной ситуации. С одной стороны, они желали поражения нашей стране, рассматривая нас в качестве главного врага, а с другой стороны, понимали, что если нацизм победит, то католичество как таковое перестанет существовать в силу несовместимости с нацистской идеологией. Но, главное, они учитывали позицию англо-американцев, которые после вступления США в войну стали нашими союзниками.
В силу этого, несмотря на давление со стороны Гитлера и Муссолини, папа так и не высказал ни одного слова одобрения их войне против СССР. А госсекретарь Ватикана Доменико Тардини в ответ на просьбы немецкого и итальянского послов обозначить более чётко свою позицию в отношении СССР заявил: "Отношение апостольской столицы к большевикам не требует никаких новых изъяснений. Если речь идёт обо мне, то я был бы чрезвычайно рад, если бы коммунизм был повержен. Он является самым серьёзным, но не единственным врагом Церкви. Нацизм тоже преследовал и всё ещё преследует Церковь. Если бы апостольская столица вспомнила бы публично об ошибках и ужасах коммунизма, то она не смогла бы обойти молчанием заблуждения и преследования нацизма. Поэтому она придерживается в настоящий момент не доктрины крестовых походов, а руководствуется поговоркой "один дьявол другого гонит"; если тот, другой, хуже, то тем лучше". Такую же позицию, как мы знаем, занимало и англо-американское руководство.
Вместе с тем, желая использовать ситуацию в своих интересах и понимая, что при завоевании большой части территорий Советского Союза нацисты не допустят туда католиков, римские легаты решили подсуетиться и заложить свои базы ещё до того, как немцы там крепко обоснуются. Секретарь Священной конгрегации по делам Восточной церкви Эжен Тиссеран разработал целый план действий ("Апостолат в России"), который был скоординирован с главой Ордена иезуитов В. Ледуховским. Чтобы "не поранить", как указывалось, "патриотических чувств русских", было решено сделать всё, чтобы не возникло впечатления, будто существует какая-либо связь между отправкой священников и наступлением немецкой армии. Схема операции Тиссерана предполагала вербовку капелланов для сопровождения немецких частей и сбора информации, но успехом она не увенчалась, так как немцы не допустили действий ватиканской агентуры на "своей" территории.
Таким образом, Ватикан играл на два фронта, но его антисоветская позиция мешала американскому руководству, которому требовалось переломить сопротивление американских католиков, выступавших против сотрудничества с СССР. В связи с этим американцы начали склонять папство к более лояльному отношению к СССР, одновременно призывая и советское руководство к таким шагам навстречу Ватикану, которые положительно воздействовали бы на западное общественное мнение.
Между тем, уже с началом войны в СССР прекратилась антирелигиозная пропаганда, в частности, был свёрнут выпуск журналов "Союза безбожников". Но что касается Ватикана, то советское руководство вело себя крайне осторожно. Хотя, естественно, оно прекрасно понимало, что граничащие с нами страны: Польша, Венгрия, Чехословакия, — это католические государства, и без соответствующей дипломатической позиции было не обойтись.
Ещё в июле 1941 г. СССР установил дипломатические отношения с польским правительством В. Сикорского, пребывающим в Лондоне. Между Сикорским и советским послом И. Майским было достигнуто соглашение о формировании на территории Советского Союза польской армии из находящихся в заключении польских граждан и военнопленных под командованием генерала Андерса. Для религиозного окормления солдат и офицеров из лагерей в "Армию Андерса" выпустили половину находившихся там капелланов. Сталин даже согласился на посещение "Армии Андерса" одним из польских епископов, который получил для этого специальное папское полномочие.
Это был первый реальный шаг в сторону Ватикана, сделанный под влиянием чрезвычайных обстоятельств, но он никоим образом не означал изменения принципиальных позиций. Что же касается второго шага, то он так и остался до конца не прояснённым. В соответствии с исследованием историка Б. Филиппова, летом 1942 г. польский посол и французский представитель движения "Сражающаяся Франция" в Москве передали представителям Св.Престола в Тегеране и Сирии сигналы о готовности советской стороны к установлению контактов. Как пишет немецкий историк восточной политики Ханс-Якоб Шелле: "Римская курия при всём своём скептицизме сочла, что над этим, по меньшей мере, стоит подумать".
Эта "подача сигналов" закончилась ничем, но интересно, что тогда же была запущена фальшивка под названием "Письмо Сталина папе Пию XII". Впервые эта информация появилась на одной из связанных с нацистскими властями радиостанций, которая в марте 1942 г. заявила, что Сталин направил папе римскому письмо, в котором просил об установлении дипломатических отношений между СССР и Св.Престолом. Эту информацию подхватили как немцы, так и союзники. Немцы хотели обличить и прошантажировать римскую курию, а США и Англия решили представить Сталина как вменяемого союзника Ватикана в целях формирования положительного западного общественного мнения. Но, как пишет уже упомянутый Б. Филиппов, вероятнее всего, фальшивка была сфабрикована на Би-Би-Си и запущена в первых числах января 1942 года. На это, в частности, указывает то, что впервые Ватикан опроверг это сообщение уже 7 января. Однако слухи о подобных контактах продолжали распространять и далее.
В 1943 году произошло коренное изменение положения на фронте. И тогда же советское руководство стало получать информацию о том, что американцы и англичане используют Ватикан для того, чтобы вступить в сепаратные переговоры с определёнными кругами из нацистского руководства.
Действительно с февраля 1943 года посредническая миссия Ватикана выходит на первый план. Его начинают активно привлекать к тайным переговорам, которые вели между собой США и Англия по поводу Германии. Для этого в Ватикан в качестве эмиссара правящих кругов США прибыл американский архиепископ Фрэнсис Спеллман. И пока в Швейцарии шли переговоры между американским представителем А. Даллесом и представителем Германии князем Гогенлоэ, Спеллман выполнял собственную миссию. В течение шести месяцев он посещал различные страны Европы, Северную и Южную Африку, Ближний Восток, Иран, и везде его сопровождали американские военные и дипломаты. Главной задачей Спеллмана было добиться сепаратного мира с Германией и выхода Италии из войны при сохранении фашистского режима, но с устранением наиболее одиозных политических фигур. Это, в частности, он обсуждал в ходе встречи в Анкаре с германским послом Францем фон Папеном. Но фон Папен находился под наблюдением советской разведки, которая была в курсе происходящего. Одновременно об этих переговорах доносила в Москву и резидентура в США, которую возглавлял Василий Зарубин (в апреле 1943 года он стал резидентом в Вашингтоне, а до этого работал в Нью-Йорке.) И именно оттуда, из Америки, впервые стали приходить донесения, в которых упоминался Ватикан как место таких переговоров.
Советское руководство знало, что на фоне союзнической солидарности идут закулисные переговоры, и видело, как закладывалась архитектура тесного теневого союза между Ватиканом и США, который был направлен против нашей страны. Сталин был не только в курсе планов американского и ватиканского руководства, но и понимал ту роль, которую призван был сыграть Ватикан в качестве религиозно-политической силы в конце войны и в послевоенном мире. В переломный момент войны с помощью Ватикана американцы возрождали в европейских странах католические партии, которые должны были стать их главной опорой в период послевоенной реконструкции. Осуществлялось это при активном участии американской разведки УСС, а одну из ведущих ролей играл частный университет социальных исследований Pro Deo, созданный Ватиканом.
Понимая возрастающее значение религии в общественной жизни страны в условиях меняющейся геополитической обстановки, Сталин не только способствовал восстановлению патриаршества, но и представил программу возрождения церковной жизни в стране. Собрав в сентябре 1943 г. оставшихся высших иерархов РПЦ, он поднял вопрос о помощи государства "церковному центру", заявив: "Вам надо создать свой Ватикан, чтобы там и Академия, и библиотека, и типография помещались, и все другие учреждения, необходимые такой крупной и значительной Патриархии, какой является Патриархия Московская". Естественно, речь шла не о политической организации, а о религиозном центре. Но замысел Сталина шёл дальше.
По мере приближения конца войны явно вырисовывалась новая конфигурация отношений на Западе, в которой должен был доминировать "американский порядок". Руководство США превратило религию в составную часть своей внешнеполитической стратегии, и Ватикан встраивали в неё в качестве ведущей религиозной силы в Европе. Католики составляли большинство европейского населения, и главную ставку новые правящие круги делали на христианско-демократические партии и движения. Таким образом Св.Престол становился важным символом идейной сплочённости Европы, и совместно с оформлявшимся тогда же экуменическим движением (Всемирным советом церквей) должен был воплощать цивилизованный западный мир, противостоящий теперь уже новому врагу — СССР.
Но Советский Союз стал другим, он стал державой-победительницей, а в глазах освобождённых народов — ведущей державой, в том числе и в духовном смысле. Возникло осознание того, что если Россия победила в такой великой войне и изменила свой статус в мире, то изменился тем самым и статус Русской церкви, участвовавшей в этой Победе самым непосредственным образом. Именно из этого исходил Сталин и, отталкиваясь от идеи "Москва — третий Рим", считал, что Московский патриархат может претендовать на первенство чести в православном мире. Сильному в своём единстве Ватикану должен был противостоять сплочённый Русской православной церковью православный мир. Так впервые за долгое время всплыли вопросы всеправославного единства, и была высказана идея провести в Москве Всеправославный собор.
Ещё в январе 1945 г. в Москве состоялся Поместный собор РПЦ, на котором было принято Положение об управлении РПЦ и избран новый патриарх — Алексий I, воплощавший собой старый русский консерватизм. Сталин лично контролировал подготовку к собору, и показательно, что в его документах уже содержались отдельные установочные положения определённого внешнеполитического звучания, выходившие за сугубо внутрицерковные рамки и носившие политическую оценку деятельности Ватикана. Так, в принятом в феврале обращении "К народам всего мира" прямо подчёркивались усилия Ватикана "оградить гитлеровскую Германию от ответственности за все совершённые ею преступления" и "оставить после войны на земле фашистское, человеконенавистническое, антихристианское учение его носителей". Это была первая, по оценкам исследователей, апробация антикатолических планов советского руководства, связанных с организацией послевоенного мира.
Поскольку Ватикан всё более усиливал своё влияние в международных делах, весной 1945 г. советское руководство включило антиватиканскую составляющую в свою внешнеполитическую стратегию, что отразилось в документах Совета по делам РПЦ. Совет приступил к тщательному изучению взаимоотношений между католицизмом и православием, истории связей между РПЦ и Ватиканом. Результатом этой работы стали конкретные предложения, направленные против католической церкви и униатства как "защитников и пособников фашизма". Они касались отрыва униатских приходов СССР от Ватикана с последующим присоединением их к РПЦ и организации на западных территориях страны православных братств с предоставлением им права ведения миссионерской и благотворительной деятельности. Было предложено также провести в Москве Всемирную конференцию христианских (некатолических) церквей, главной задачей которой было бы блокирование претензий Ватикана на руководящее мировое значение.
Полностью реализовать задуманное не удалось, так как из-за саботажа греческих первоиерархов готовящийся Всеправославный собор был низведён до статуса Всеправославного совещания глав и представителей автокефальных православных церквей, которое состоялось в Москве в июле 1948 г. и было посвящено 500-летию провозглашения автокефалии РПЦ. Но, несмотря на это, значение данного события трудно переоценить, и его не перекроют никакие проходившие в последующем собрания и встречи. Это было крупнейшее в церковной и культурной жизни событие. Принятые здесь резолюции касались ключевых вопросов: отношения Православия к Ватикану, к экуменическому движению, к англиканам и церковному календарю (речь шла о необходимости сохранения древней православной Александрийской пасхалии). Все они были довольно жёсткими и давали чёткую и ясную оценку католицизму и экуменизму. В резолюции по вопросу "Ватикан и Православная Церковь" было указано, что римская курия извратила истинное евангельское учение и нарушила чистоту древневселенского православия новоявленными догматами, главный из которых — это совершенно антихристианское учение о главенстве в Церкви папы и его непогрешимости. В силу этого католическая церковь превратилась в политическую организацию, для которой политика стала высшим законом, а папа — политическим деятелем, всегда стоящим на стороне "сильных мира сего". Эта политика была осуждена как антихристианская, антинациональная, направленная против интересов народов, особенно славянских, и ведущая к братоубийственным войнам и защите фашизма.
Такая же принципиальная позиция была высказана в отношении Всемирного совета церквей, который определили как псевдорелигиозную организацию, ставящую целью создать сверхнациональную экуменическую церковь, которая заменила бы собой Церковь Христову и стала бы силой для духовного овладения миром. В основу резолюции по экуменизму были положены слова протоиерея И.Г. Разумовского: "Наша Церковь не хочет, не может и не должна быть под влиянием не-церковных организаций. Мы будем оберегать свою духовную свободу как неоценимое сокровище".
Хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что результаты совещания 1948 г. имеют для нас непреходящее значение. Они актуальны как никогда именно сегодня, когда папство под началом иезуитов строит свою глобальную экуменическую антицерковь. И перед нами выбор: либо принимать экуменизм, означающий смерть Православия, либо — держать оборону, хранить нашу веру.

«Феникс из пепла» или «бумажный тигр»?
что происходит в китайской экономике?
Андрей Островский
Вот уже много лет, начиная с 90-х гг. прошлого века, ведутся дискуссии о реальной мощи китайской экономики. Существуют различные точки зрения. Одна из них: многие экономические показатели КНР — это фальсификация статистических данных и, в конце концов, наступит такой момент, когда весь мир скажет "А король-то голый!" Другая точка зрения: в Китае всё обстоит прекрасно, в 2020 году там, наконец, будет побеждена бедность, ещё через 10 лет, в 2030 году — построено зажиточное общество, а затем страна выйдет на лидирующие позиции в мире не только по общему паритету покупательной способности, но и по его величине на душу населения. Каков же на самом деле уровень социально-экономического развития КНР сегодня?
Новый 2020 год спутал все карты для сколь-нибудь точного ответа на поставленный вопрос. В январе завершилась первая фаза американо-китайских переговоров, где была поставлена не точка, но запятая в ведущейся уже два года торговой войне между двумя странами. Не успели ещё высохнуть чернила на подписанных документах, как на Поднебесную, да и на весь мир, обрушилась новая напасть — обнаруженный в конце января на рынке "Хуанань" в городе Ухань коронавирус, который постепенно стал распространяться не только по территории КНР, но и за её пределами.
В этой связи при попытках ответить на вопрос, каков реальный уровень китайской экономики, возникает сразу два дополнительных, ранее не стоявших вопроса:
1) какое влияние на развитие экономики КНР окажет распространение злобного коронавируса?
2) как оценить результаты первой фазы переговоров по внешней торговле между КНР и США?
На протяжении 40 лет китайских реформ многие эксперты говорили о том, что КНР не сможет обеспечить рост национальной экономики, что большая часть её статистических показателей представляет собой "дутые" цифры, что китайская экономика — как оса: тоже полосатая, но тигром её не назовёшь, а если это и тигр, то разве что бумажный. Под эти разговоры Китай стал "мировой фабрикой" и безусловным лидером по многим экономическим показателям: объём валового внутреннего продукта по паритету покупательной способности, объём промышленного производства и "реального сектора" экономики в целом, объём внешней торговли, объём инвестиций в основные производственные фонды и т. д.
2020 год дал недоброжелателям "красного дракона" новые основания для различных мрачных прогнозов о перспективах экономики КНР, в частности — о том, что из-за односторонних уступок в пользу США, сделанных Китаем во время первой фазы переговоров, начнётся сжатие объёмов внешней торговли: как экспорта, так и импорта, — а также сокращение профицита; о том, что это приведёт к значительному спаду в китайской экономике: на 2, 3, или даже на 4 процентных пункта; а также о том, что эпидемия коронавируса вызовет долгосрочную социально-экономическую депрессию в КНР.
Чтобы понять, насколько обоснованны прогнозы такого рода, рассмотрим последовательно все вопросы, которые определяют состояние китайской экономики в настоящее время.
Среднегодовые темпы прироста ВВП КНР за годы реформ были чрезвычайно высокими: в 1979-2010 гг. — 9,9%, в 1991-2010 гг. — 10,5%, в 2001-2010 гг. — 10,5%. И никакие напасти, типа атипичной пневмонии (SARS) и птичьего гриппа в 2002-2003 гг., на них не повлияли: рост ВВП составил 9,8% в 2002 г. и 10,0% в 2003 г.
В 2018 г. многие показатели китайской экономики заметно превысили официальные прогнозы. В частности, объём ВВП составил 90,0 трлн. юаней, а в 2019 г. — 99,1 трлн. юаней, что заметно превышает планы на 2030 год, озвученные XVIII съездом КПК в 2012 году. ВВП на душу населения в 2019 году, 64644 юаня, соответственно, также оказался значительно выше 45000 юаней, которые требовалось достичь к 2030 году. Для борьбы с бедностью в августе 2018 г. были внесены поправки в Закон о подоходном налоге. В результате этих поправок при сохранении прогрессивных ставок подоходного налога необлагаемый налоговый минимум с начала 2019 г. составил 60000 юаней в год (или 5000 юаней в месяц, то есть примерно 50000 рублей в месяц), что затрагивает более 2/3 населения страны.
Да, в настоящее время в китайской экономике имеются различные проблемы, связанные не только и не столько с коронавирусом или с высоким уровнем внутреннего долга. Имеются системные глобальные проблемы: избыток населения пенсионного возраста, нехватка энергоресурсов и загрязнение окружающей среды, для решения которых потребуются не одно десятилетие и огромные инвестиции. Кроме того, имеются локальные проблемы. В прошлом году в экономике возникли проблемы из-за резкого роста цен на свинину в результате эпидемии свиной чумы. Да, многие недовольны премьером Ли Кэцяном из-за этого, но, тем не менее, экономические успехи КНР налицо, особенно по сравнению с РФ, в 2020 г. в Китае, возможно, будет ликвидирована бедность — доходы ниже 2800 юаней в год на человека, но не факт, что так будет. Есть очень бедные внутренние провинции: Ганьсу, Гуйчжоу, — где, в отличие от приморских районов, вряд ли удастся ликвидировать бедность уже в текущем году.
Особо следует отметить огромный внутренний долг Китая (по разным оценкам, от 260% до 300% ВВП), ситуация с которым, по мнению ряда экономистов, напоминает Грецию перед её дефолтом. Однако, следует отметить, что у Греции был огромный внешний долг, в то время как у Китая внешний долг составляет всего 1,965 трлн. долл. (примерно 15% ВВП). А внутренний долг — это корпоративные долги предприятий друг другу и различным банкам, где предприятия брали кредиты на капитальное строительство. Часть долгов приходится на крупные системообразующие предприятия, которые нельзя обанкротить без ущерба для всей экономики, другая часть — у малых предприятий различных форм собственности, которые кредитуются в т.н. "теневом банкинге" под огромные проценты, намного выше ставки рефинансирования. Такая ситуация время от времени возникает в Китае, и решают её просто — Народный банк Китая дополнительно выделяет средства для банков под кредитование убыточных предприятий, а часть предприятий просто банкротят. Каждый год в Китае банкротится свыше 1 млн. предприятий и появляется 1 млн. новых. В плохие годы — иное соотношение: два закрывшихся предприятия на одно открывшееся.
В целом вопрос с трудоустройством населения — самая острая для Китая проблема — решается. Ежегодно создаётся, по данным ГСУ КНР, примерно 13 млн. рабочих мест, а за 2016-2019 гг. было создано свыше 50 млн. новых рабочих мест на предприятиях всех форм собственности. Большая часть новых рабочих мест приходится не на крупные предприятия государственного сектора, а на частные и индивидуальные предприятия, развитие которых активно поддерживается государством.
Отдельная тема — влияние внешней торговли на развитие китайской экономики. Многие эксперты считают, что именно внешний рынок является мотором развития экономики КНР. Но если мы проанализируем китайскую статистику, в частности — динамику такого показателя как экспортная квота за 40 лет реформ, то увидим, что она неуклонно росла: с 10% в начале 80-х гг. до 36% в 2006-2007 гг.
Но после мирового финансового кризиса экспортная квота стала стремительно сокращаться, и, согласно данным за 2019 год, она составила менее 18%, то есть снизилась практически до показателя начала 90-х гг. ХХ века. Китай вполне может обойтись без дополнительного экспорта, так как внутри страны огромный внутренний рынок и быстрый рост внутреннего розничного товарооборота в результате повышения доходов населения.
В 2019 г. он составил уже 43% ВВП, т.е примерно 43 трлн. юаней при населении 1,4 млрд. человек, более 400 млн. из которых — это "средний класс", преимущественно проживающий в приморских районах Китая. Средняя зарплата в Китае уже сейчас превышает среднюю зарплату в России. Речь идёт даже не о статистических данных о средней зарплате в Китае. В разных объявлениях о трудовых вакансиях предложения по месячным ставкам зарплаты (от 5000 до 10000 юаней в месяц) даже для полуквалифицированных рабочих и служащих уже заметно превышают номинальную среднюю заработную плату не только по России в целом, но и для врачей, учителей, преподавателей вузов и научных работников Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
Также не следует преувеличивать и роль США во внешней торговле Китая. Согласно данным на 2018 г., объём американо-китайской торговли составил 633,5 млрд. долл., что почти равно объёму всей российской внешней торговли — 693,1 млрд. долл. Доля китайско-американской торговли составляла 13,7% объёма внешней торговли КНР и по этому показателю уступала только ЕС — 682,2 млрд. долл. (14,8%) Китай является крупнейшим торговым партнёром США, а США — вторым по величине торговым партнёром Китая и его крупнейшим экспортным рынком. Дефицит внешней торговли США с КНР за год уже превысил 330 млрд. долл. В США считают, что Китай умышленно занижает курс юаня по отношению к доллару для экспансии своих товаров на внешнем рынке. Если после вступления КНР в ВТО в 2001 г. курс юаня рос по отношению к доллару: 8,27 юаней за доллар в 2001 г. и 6,14 юаня в 2014 г., — то с 2015 г. происходила девальвация юаня: 6,75 юаня в 2017 г., 6,61 юаня в 2018 г., но 6,9 юаня в 2019 г. Два этих фактора: девальвация юаня и растущий дефицит внешней торговли США с Китаем, собственно, и привели к торговой войне между двумя странами. Но если в мировой прессе американо-китайские отношения называют "торговая война" (trade war), то в китайской прессе формулировка более сдержанная — "торговые трения" (маои моца).
В 2019 г. в результате торговой войны объём внешней торговли между КНР и США несколько сократился и составил 540,6 млрд. долл. (уменьшение на 10,6% по сравнению с предыдущим годом). Однако по основным товарным позициям экспорт из КНР по-прежнему продолжал расти, но не столь быстро, как ранее. В результате торговой войны 2018-2019 гг. США откатились на 3-е место по объёму товарооборота после Евросоюза и АСЕАН, хотя как отдельная страна США по-прежнему держит первое место по этому показателю.
В этих условиях Америка обвинила Китай в валютном манипулировании — то есть в искусственном занижении курса юаня относительно доллара, что, мол, ведёт к растущему дефициту для США в двусторонней торговле. Президент Трамп объявил об установлении 10%-ной импортной пошлины на китайские товары на объём поставок на 300 млрд. долл. и 25%-ной пошлину на объём поставок из КНР на 250 млрд. долл., то есть фактически на весь объём импорта из КНР в США. Китай в ответ повысил пошлины на импорт товаров из США на 60 млрд. долл., что составило примерно треть всего объёма импорта. Наиболее болезненной мерой оказался фактический запрет на импорт соевых бобов (88 млн. тонн в год),
Тем не менее, многие считают, что из первой фазы переговоров США вышли победителями — на том основании, что Китай сделал существенные уступки по допуску американских товаров на общую сумму 200 млрд. долл., а США — только на 50 млрд. долл. Однако нельзя сводить дело только к арифметическому анализу результатов переговоров. Самое главное, чего добился Китай, — это признание американцами того, что он не является валютным манипулятором. И это признание даёт Китаю возможность плавно (а иногда — и не очень плавно) регулировать курс юаня к доллару, что в Пекине не преминули сделать в ходе эпидемии коронавируса: юань подешевел с 6,7 до 6,9, а затем — и до 7,1 юаня за доллар. Это позволяет заметно увеличить объём стоимостного экспорта товаров и услуг при сохранении физического объёма со странами, ориентирующимися в торговых расчётах на доллар, в первую очередь — с США. В то же время Китай в своих "уступках" предоставил США возможность продавать те виды товаров, в которых Китай особо нуждается в настоящее время. Это энергоресурсы (нефть и природный газ), сельхозпродукция (соя-бобы и свинина), электромеханическое оборудование и продукция электроники, иными словами — достижения американского хай-тека.
Не без участия США заметно обострилась ситуация в Гонконге. До недавнего времени эта бывшая британская колония была важным опорным пунктом для КНР в качестве центра реэкспортной торговли, авиационного узла, порта и копилки иностранных инвестиций. После передачи Гонконга КНР в 1997 г. он стал постепенно превращаться в своеобразный экономический рудимент. На территории КНР появились особые экономические зоны, зоны свободной торговли, которые стали вытеснять и замещать Гонконг. Китай уже мог торговать напрямую со всеми странами мира без ограничений, включая США. В настоящее время от прежних времён у Гонконга сохранилась, по сути, единственная функция — "прачечной" по отмыванию грязных денег, поскольку примерно две трети иностранных инвестиций в КНР и из КНР идут через Гонконг.
И последнее, на что особо хотелось обратить внимание. В последние несколько лет в различных СМИ появилось много различных мнений и высказываний о Китае по различным темам, не отражающих реальную ситуацию в стране, включая и "Завтра". В частности, здесь недавно была опубликована беседа писателя Дмитрия Перетолчина с китаистом Николаем Вавиловым, где фигурируют некие цифры от альтернативных исследователей экономики КНР: например, 1% роста ВВП в 2019 году вместо официальных 6,1% — и на этом основании делается вывод, что Китай приблизился к стагнации. Хотелось бы напомнить двум уважаемым авторам, что аналогичная дискуссия проходила в 2001-2002 гг. между двумя американскими экспертами по Китаю: Т. Ровски и Н. Ларди. Ровски уверял, что китайская статистика фальсифицирована, и реальные темпы прироста ВВП составляют не более 2%, а не 9-10% в год. Ларди опроверг это заявление цифрами товарного импорта в КНР, которые легко было проверить по данным мировой таможенной статистики. Показатели огромного импорта в страну за 2019 г., в данном случае — 14,31 трлн. юаней (примерно 2 трлн. долл., около 14% ВВП) показывают, что официальный показатель ВВП КНР 2019 года в целом соответствует реальному положению дел. Весь импорт в КНР так или иначе используется, а не лежит мёртвым грузом в китайских терминалах.
Также необходимо правильно оценивать те или иные опубликованные в прессе или в Интернете статистические данные о состоянии китайской экономики, чтобы делать глобальные выводы по отдельным данным. В частности, продажи сотовых телефонов упали в Китае на 8%. Правильно, они должны были упасть, потому что годовое производство сотовых телефонов составило уже 1,798 млрд. в год, больше, чем вся численность населения КНР (1,4 млрд. человек). Китайский и мировой рынок вместе взятые не могут поглотить эту массу произведённых смартфонов. То же самое можно сказать и относительно снижения производства автомобилей: 29 млн. в 2017 году и 27 млн. в 2018 г, — куда уж больше-то? Ведь дело дошло до того, что уже несколько лет в лотерею разыгрываются номера на машину по цене 98 тыс. юаней за номер в Пекине, а на улицу разрешается выезжать через день — чётные и нечётные номера по дням недели. Льготы распространяются только на покупателей машин с электродвигателями — им при покупке авто сразу выдаётся номер, поскольку в Китае всерьёз взялись за охрану окружающей среды.
Безусловно, в результате американо-китайской торговой войны страдают все стороны. Для мировой экономики она означает снижение темпов экономического роста, для США — торгово-экономические ограничения на крупнейшем в мире рынке снабжения и сбыта, для КНР — ограничение возможностей доступа к крупнейшему в мире рынку новых и высоких технологий.
В то же время, согласно оценкам экспертов компании Goldman Sachs, американские санкции лишь стимулируют развитие китайской экономики и ускорят бурный рост ВВП. В конечном счёте, рынок Китая с населением почти 1,4 млрд. человек — в несколько раз больше американского рынка с населением 300 с лишним миллионов человек, и это даёт основания полагать, что КНР, в конечном итоге, выйдет из торговой войны с меньшими потерями, чем её американские партнёры.

Константин Сивков: «Скажи нам правду, Эрдоган!..»
о кризисе в русско-турецких отношениях
Владислав Шурыгин Константин Сивков
"ЗАВТРА". Константин Валентинович, главное событие недели, на мой взгляд, — это обострение ситуации в "Идлибской зоне", нарастание напряжения между Турцией и Сирией, между Турцией и Россией. Если читать ленту новостей, то возникает ощущение, что вот-вот на севере Сирии разразится большая война. Так ли это?
Константин СИВКОВ. На мой взгляд, всё не так страшно, как выглядит в ленте новостей. Турки имеют в Сирии свои интересы — Эрдоган мечтает отщипнуть от Сирии кусок и сохранить статус "защитника мусульман" применительно к свезённым сюда со всех концов Сирии исламистам. Для осуществления этого плана у него под рукой содержится определённая группа оппозиционеров. Эта группа невелика — две, две с половиной тысячи человек, которые называются "умеренной оппозицией". Другая группа — это примерно двадцать две тысячи человек, которые сидят в "Идлибской зоне", относятся к разряду радикальных джихадистов и очень мало контролируемы со стороны турок. А по условиям Сочинского соглашения всё турецкое присутствие в Сирии легитимизируется именно тем, что Турция обязалась контролировать всех присутствующих здесь боевиков: и "умеренных" и, так сказать, "неумеренных". То есть, присутствие турок здесь временное, и оно не может быть интегрировано в политическую систему Сирии. Поэтому в чём сейчас проблема Турции? Ликвидация идлибского котла для Турции означает лишь то, что она исчезает как фактор сирийской внутренней и внешней политики. Это не в интересах Анкары, поэтому Эрдоган жёстко борется за то, чтобы сохранить своё присутствие в Сирии, то есть "Идлибскую зону", поэтому он и грозит силой.
Конечно, Турция имеет армию, вторую по численности и по потенциалу среди армий НАТО. Общая численность группировки её сухопутных войск — почти полмиллиона человек. Это много! Плюс почти 400 самолётов, приличный флот, контроль над Босфором и Дарданеллами — стратегически важными для этого региона проливами. Но если внимательно присмотреться, то выяснится следующее. Есть такое понятие — "оперативная ёмкость района". Вот оперативная ёмкость района "Идлибской зоны" очень невелика. Она, с учётом всех характеристик, максимум — корпусной масштаб, то есть 20-25 тысяч человек, это три-четыре, максимум пять бригад с усилением, всё. Вполне сопоставимо с тем, что сейчас имеет сирийская армия, сирийцы даже побольше имеют, учитывая, что в географическом, военно-стратегическом отношении находятся в более выгодном равнинном регионе.
"ЗАВТРА". Ну, это если турки не будут влезать в большую войну против Сирии.
Константин СИВКОВ. Очень маловероятный сценарий. Во-первых, Эрдогану нужно будет обосновать для турецкого народа необходимость такой войны, во-вторых, даже если она начнётся, нельзя забывать, что у Турции в тылу есть РПК, есть курды, и эти курды могут получить современное оружие. И тогда Диярбакыр двухлетней давности покажется лёгкой щекоткой. Они получат в тылу второй фронт, только фронт уже гражданской войны. В-третьих, если турки начнут крупномасштабное наступление, то это будет сопровождаться большими потерями — на такой войне погибнут тысячи солдат. Турция просто не простит Эрдогану такого. А учитывая, что внутри Турции у Эрдогана существует мощная оппозиция, такая война может стать просто приговором для него. Поэтому крупномасштабной военной операции ждать не следует.
"ЗАВТРА". Все годы гражданской войны в Сирии Турция осуществляла план постепенной аннексии сирийских территорий, вводя, под предлогом защиты мирного населения, свои подразделения на сирийскую территорию. При этом Турция прикрывалась Аденским соглашением 1998 года, по которому Сирия разрешала Турции заходить на свою территорию на глубину до пяти километров для операций против курдских террористов. И, прикрываясь этим договором, который был связан исключительно с курдскими формированиями, турки фактически вторглись в Сирию. Сегодня турецкие блок посты стоят уже в 60 километрах от границы. Правда уже глубоко в тылу сирийских войск, которые, очищая Идлиб от боевиков, просто обошли эти заставы и отбросили боевиков дальше к границе. При этом турки отказываются отводить свои подразделения, прикрываясь всё тем же Аденским соглашением — такой вот "слоёный пирог" здесь сложился…
Сегодня ситуация предельно обострилась. Почти два года в "Идлибской зоне" происходило накопление радикальных боевиков, которых в ходе миротворческой операции, по договорам, вывозили туда вместе с семьями из "котлов" в разных сирийских провинциях, спасая от неминуемого уничтожения. В памяти ещё свежи видео с этими автобусами, на которых их вывозили. Теперь они отдохнули, восстановились, их кто-то перевооружил, причём не надо спрашивать, кто, потому что никаких других границ, никаких других путей для поставки вооружения, кроме самой Турции, там нет. И занялись единственным, что умеют — террором. Только за прошедшие три недели было зафиксировано 1488 фактов обстрелов, полторы сотни мирных жителей погибли, около 300 получили ранения разной степени тяжести…
Константин СИВКОВ. А теперь давайте напомним, что в рамках Сочинского меморандума от 9 января Турция взяла на себя три обязательства. Обязательство первое — обеспечить отвод боевиков на 10-15 километров в сторону от границ города Алеппо и деблокировать трассу М-5, которая соединяет Дамаск и Алеппо. Обязательство второе — сепарировать весь этот бандитский интернационал. Отделить "умеренных" от радикальных. "Умеренных" в дальнейшем интегрировать в политическое пространство Сирии, а радикальных — разоружить. И обязательство третье — выставить в зоне разграничения свои блокпосты. Но турки выполнили только один пункт: постановку блокпостов, причём сегодня турки пытаются использовать их как пункты обороны и охраны боевиков от сирийской армии, как это ни парадоксально. Разбитые джихадисты, понимая, что сирийские военные не будут стрелять в сторону турок, просто начали концентрироваться вокруг турецких блокпостов. И эти турецкие блокпосты, каждый из которых был ни много ни мало, а ротного состава, то есть порядка 100-120 человек вместе с техникой и с вооружением, превратились в полевые крепости, прикрывающие боевиков. Доходило до смешного: сидящие в сирийском окружении турки стали у сирийцев запрашивать для себя продовольствие, но в размерах, во много раз превышающих потребности личного состава. Им были заданы справедливые вопросы: мол, ребята, а для чего вам столько продовольствия? На что турки отвечали: мы вынуждены кормить беженцев, которые вот к нам прибились. Их спрашивают: а что за беженцы? Вы их предъявите, и мы их накормим в рамках гуманитарной операции. Но предъявить "мирных беженцев" турки так и не смогли. Но тут же, вдобавок к имеющимся двенадцати блокпостам, завели на сирийскую территорию ещё пять ротных тактических групп общей численностью более 500 солдат и 100 единиц бронетехники.
"ЗАВТРА". Если посмотреть турецкое телевидение, то там идут непрерывные победные реляции о том, что на каждый выстрел в турецкую сторону турки отвечают массированными ударами по сирийцам, что поражены сотни целей, и турецкая армия готова громить сирийцев не только в Идлибе, но везде, где захочет. По твоим оценкам, насколько эти угрозы реальны?
Константин СИВКОВ. Конечно, турецкая армия имеет мощные средства поражения, но для применения их необходимо целеуказание. Для обеспечения целеуказания нужно иметь развёрнутую систему тактической разведки. А такой разведки Турция не имеет. То есть она может вести огонь на дальность наблюдения блокпостов, но не более того. Это не так далеко. И реально обеспечить поражение сирийских военных объектов, находящихся за пределами наблюдения этих блокпостов, она не сможет. Поэтому — да, мы отмечаем удары турок по переднему краю сирийцев, но при этом, учитывая, что на этом переднем крае перемешаны как сирийские подразделения, так и боевики, то не ясно, куда же падают снаряды: на сирийских солдат или на боевиков.
"ЗАВТРА". То есть, скорее, это всё-таки пропаганда для внутреннего употребления?
Константин СИВКОВ. Есть эпизод простой, известный по предыдущему инциденту, когда погибли восемь военнослужащих. Турки обязаны были согласовывать любые свои передвижения в "Идлибской зоне" с российской и сирийской сторонами путём информирования и получения согласования на такие действия. Эта колонна проинформировала наших представителей, центр по поддержанию мира в Сирии, о том, что они собираются двигаться. Но, учитывая, что в этом районе велись боевые действия, наша сторона согласия на движение не дала, разъяснив причину. Тем не менее, турки на это наплевали, и двинулись через зону боевых действий и, естественно, были обнаружены сирийцами. Я думаю, что этих турецких военнослужащих турецкое командование, а точнее — политическое руководство Турции, подставило преднамеренно, чтобы иметь повод обострить отношения с Сирией и нарастить здесь своё военное присутствие.
"ЗАВТРА". Вообще, за последние 25 лет Россия несколько раз очень больно наступала на турецкие мозоли. Сначала в 2000-е выкинула Турцию с Кавказа, разгромив там ориентировавшихся на неё джихадистов. Потом провела операцию в Крыму, который турки считали уже потенциально своей территорией и были готовы действовать там по известному кипрскому варианту. Наконец, наша армия пришла в Сирию, когда турки с саудитами и катарцами уже готовились разрезать эту страну как пирог. Мы хорошо помним их бешенство, апофеозом которого стал удар по российскому бомбардировщику Су-24, что поставило Турцию и Россию на грань войны. Турки тогда пытались обратиться за помощью к НАТО, но там ответили: мол, это ваши проблемы, это ваши личные разборки с Россией, а не действия против блока, — и турки тут же "слились". Заметь, сегодня повторяется та же самая картина. Эрдоган впервые с тех пор, как была ситуация с самолётом, вдруг опять заговорил о НАТО, о натовской солидарности, о том, что НАТО должно поддержать Турцию. И вот здесь у меня вопрос: а не решится ли НАТО в этот раз их поддержать?
Константин СИВКОВ. Ну, во-первых, начнём с состояния НАТО. Сегодня этот блок переживает далеко не лучшие свои времена. Армии альянса сильно сокращены и в техническом отношении оставляют желать лучшего. Сегодня боеспособность стран блока меряется уже не армиями и корпусами, а эскадрильями и батальонами. То есть в рамках евроНАТО — Эрдогану особо надеяться не на кого. Остаются Соединённые Штаты Америки. Конечно, у них с военной силой всё хорошо. И даже база американская на территории Турции имеется — Инджирлик. Но вот "впишется" ли Америка за Эрдогана, большой вопрос. С одной стороны, да, это повод остановить Россию. Но с другой, зачем США укреплять позиции Эрдогана, которого они рассматривают как своего врага и не далее чем четыре года назад пытались свергнуть? Наоборот, американцы делают всё, чтобы его устранить. Нет, американцы сегодня воевать за Турцию не будут. Эрдоган отчётливо понимает, что в стратегическом отношении, он НАТО не нужен, как не нужен и Соединённым Штатам Америки. Поэтому его призывы и обращения к НАТО — это всего лишь часть психологической войны, обеспечивающей нелегитимные действия турок в Сирии.
"ЗАВТРА". Но тогда кто здесь играет на обострение? Кому выгоден конфликт между Россией и Турцией?
Константин СИВКОВ. Ответ очевиден — тем же американцам. Именно они крайне заинтересованы в том, чтобы противоречия между Россией и Турцией переросли в противостояние. Потому, что тогда, с одной стороны, возникнут большие проблемы по поддержанию нашего присутствия в Сирии, а с другой стороны, они вынудят Эрдогана идти к ним на поклон, а значит — показать свою слабость. Надо понимать, что американцы в начале XXI века потерпели тяжелейшее геополитическое поражение. Они начали две стратегических операции: вторжение в Среднюю Азию и вторжение на Ближний Восток. Первая операция, вторжение в Афганистан, как мы видим, окончилась полным поражением, поскольку обеспечить контроль над Афганистаном и окружающими его странами не получилось. А вторжение в Ирак тоже закончилось провалом. Ирак сейчас больше контролируется Ираном, нежели США. Сорвалась и ещё одна операция по "рекультивации" исламского мира, "Арабская весна". В итоге США почти полностью утратили своё влияние в этом регионе. Фактически у них осталась одна опорная точка — Израиль. Поэтому, чтобы восстановить свой статус, влияние и значение на Ближнем Востоке, им жизненно необходимо противостояние Турции с Россией, при котором они станут и арбитром, и модератором.
"ЗАВТРА". Я сомневаюсь в том, что Турции нужно стратегическое противостояние с Россией. Скорее всего, им важно сохранить очаг напряжённости в Сирии. Сохранить "Идлибскую зону" как место постоянно тлеющего конфликта, благодаря которому роль Турции будет усиливаться, и, самое главное, это не даст возможности Сирии прекратить внутренний конфликт и начать строить полноценную мирную жизнь.
Константин СИВКОВ. Я тоже думаю, что Турция не заинтересована в разрыве союза с Россией. Он выгоден ей и экономически, и политически — как противовес той самой Америке, которая постоянно идёт по следу Эрдогана и всегда готова ударить ему в спину. Скорее всего, мы имеем дело с неизбежным процессом раздела сфер влияния, который всегда происходит после окончания любой масштабной войны. И Турция просто пытается отхватить кусок побольше. Но у неё в стратегической перспективе нет никакой возможности оставаться на территории Сирии. Значит, единствен о реальный выход из данной ситуации — выполнение условия Сочинского меморандума, то есть ликвидация радикальных боевиков и интеграция умеренной оппозиции в политическое пространство Сирии для представления и защиты турецких интересов. Надо понимать, что и для России отношения с Турцией критически важны. И мы так же заинтересованы в них, как и турки. Поэтому я думаю, что сейчас в дело должны вступить дипломаты. Именно через это поле проходит дорога по выходу из кризиса…

Марош Шефчович: Россия будет играть важную роль в стратегии ЕС
Годы трехсторонних газовых переговоров внесли положительный вклад во взаимопонимание России и Украины в этой сфере, сторонам удавалось договариваться даже при весьма сложных политических обстоятельствах, считает вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, ранее отвечавший в ЕК за энергетику. Он также уверен, что отношения с Россией будут играть значимую роль для ЕС в будущем, а газ, основным поставщиком которого для стран союза является РФ, будет важным топливом в ходе энергетической перестройки Евросоюза. Об этом Шефчович рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости в Брюсселе Марии Князевой.
— Господин Шефчович, вы неоднократно упоминали о необходимости еще большего развития аккумуляторной промышленности в ЕС, ЕС стремится к достижению климатически нейтральной экономики к 2050 году. И в то же время по-прежнему идут инвестиции, например, в новую СПГ-инфраструктуру в Европе. Как все это можно совместить, если ископаемые виды топлива становится все менее интересным для ЕС?
— У Европы есть четкое намерение стать первым климатически нейтральным континентом к 2050 году. И, конечно, чтобы достичь этого, нам нужно многое сделать. Мы должны модернизировать нашу инфраструктуру, изменить наш энергетический микс (соотношение долей используемых видов топлива — прим. ред.) Мы видим, что все больше стран отходят от угля. Мы увеличиваем долю возобновляемых источников энергии. И в этом контексте мы рассматриваем газ как очень важное переходное топливо (потому что он производит значительно меньше выбросов, чем уголь — прим. ред.) Когда экономика растет и нужно все больше и больше электричества, потому что с помощью электрификации можно добиться декарбонизации, конечно, такое переходное топливо необходимо.
И, конечно, мы будем смотреть, что нам могут дать в будущем технологии, например, в области улавливания и хранения углерода, смешивания природного газа с водородом. Есть много аспектов, которые изучают ученые и прогрессивные компании. Но это огромная трансформация и постепенное выстраивание (системы — прим. ред.), которые приведут нас к середине столетия к углеродно нейтральному статусу.
— Позвольте мне задать вопрос о "Северном потоке – 2". Есть ли в Еврокомиссии дискуссии по этому проекту в контексте санкций США?
— В принципе, мы не думаем, что союзники должны вводить санкции против экономических операторов друг друга. И это мы также сказали нашим американским партнерам. Что касается "Северного потока — 2", то, конечно, дискуссия о нем есть, она у нас ведется уже определенное время. Из-за поправок к Газовой директиве энергетическое законодательство ЕС будет применяться к "Северному потоку — 2", как и к любому другому газопроводу в ЕС. Таким образом, "Северный поток — 2" должен будет соблюдать правила ЕС (чтобы начать работать — прим. ред.) И я думаю, что это хорошо понимают все действующие лица.
— Вы говорите с США об отмене санкций?
— Наша принципиальная позиция заключается в том, что партнеры и союзники не должны вводить санкции, мы должны разговаривать и обсуждать все вопросы, даже сложные. У нас очень важные отношения с США, когда речь идет о торговле, инвестициях и найме наших людей по обе стороны Атлантики, поэтому мы предпочитаем вести честные дискуссии о том, как мы можем улучшить торговые отношения, как мы можем увеличить объемы торговли.
— Довольны ли вы достижениями в области энергетики, которых достигла Еврокомиссия, когда вы были вице-президентом по энергетическому союзу? Вы сделали все, что хотели?
— Я думаю, да, мне очень повезло, что я направил проект энергосоюза на путь реализации. Европа стала мировым лидером в борьбе с изменением климата и первой экономикой с юридически обязательными целями — по выбросам парниковых газов, возобновляемым источникам энергии, по энергоэффективности. Кроме того, Европа теперь намного более энергетически безопасна, мы диверсифицировали источники получения энергии и инвестировали в ее возобновляемые источники. Мы усилили конкуренцию на европейском энергетическом рынке, каждое государство ЕС теперь имеет доступ как минимум к трем различным источникам газа, что, конечно, делает нас очень и очень устойчивыми к любым событиям. И я думаю, что это хорошо. Мы также можем быть более уверенными в переговорах с нашими внешними поставщиками энергии. Они понимают, что у нас есть выбор и что мы хотим честных отношений, мы хотим, конечно, наилучшей цены, наилучших услуг и что мы не хотим, чтобы политические отношения были связаны с отношениями в области энергетики, потому что мы считаем, что это должны быть коммерческие отношения.
— Как вы оцениваете сотрудничество с российской стороной в ходе трехсторонних газовых переговоров в последние годы? Будете ли вы оставаться на связи в будущем?
— Не думаю, что я преувеличу, если скажу, что мы провели за последние пять лет сотни часов вместе с российскими и украинскими партнерами. Александр (Новак, глава Минэнерго РФ — прим. ред.) был моим партнером с самого начала. А с украинской стороны у нас несколько партнеров, разные министры. И я должен сказать, что я очень горжусь тем, что, несмотря на порой чрезвычайно сложные политические обстоятельства, мы всегда находили решение для каждой зимы. Так что за последние пять лет европейцы не слышали ни слова о газовых кризисах. И я думаю, что между Россией и Украиной постепенно выстраивалось взаимопонимание, а также, я бы сказал, взаимное доверие. Я рад сказать и то, что роль Еврокомиссии как честного посредника была высоко оценена.
Я думаю, что были построены более тесные отношения между российской и украинской сторонами. И я уверен, что министр Новак и министр (энергетики Украины Алексей) Оржель будут часто контактировать. И я также уверен, что господин (глава Газпрома Алексей) Миллер и компания "Газпром" установили гораздо более прочные отношения со своими коллегами на Украине. Я остаюсь в контакте с обеими сторонами. И я думаю, что мы продолжим дискуссии о более долгосрочных планах в области энергетики, о том, как Украина и Россия могут использовать, возможно, один и тот же подход, и как ЕС может помочь в решении других вопросов, что, я думаю, будет большим вкладом в общее улучшение отношений между Украиной, Россией и Европой.
— Будете ли вы продолжать работать в сфере энергетики в Еврокомиссии?
— Я думаю, что в сфере стратегического планирования для Евросоюза — то, за что я сейчас отвечаю, — энергетика будет играть важную роль, как и наши отношения с Россией.

Мюнхен: похоронка для Запада
«междусобойчик» по безопасности окончательно выродился в клуб по интересам
Алексей Анпилогов
В Мюнхене завершилась очередная, уже 56-я по счёту, конференция по безопасности. История эти ежегодных конференций берёт начало в далёком 1963 году. Как вспоминал один из её учредителей, бывший офицер вермахта Генрих фон Клейст-Шменцин, первую конференцию он решился провести в ответ на события Карибского кризиса 1962 года, когда почувствовал то, что мир снова вплотную подошёл к угрозе глобальной термоядерной войны.
Несмотря на противостояние с СССР, вплоть до середины 1990 годов на конференции приглашали только военных и политических лидеров государств-членов НАТО, а события конференции комментировали западные политологи и представители западных СМИ. Только с 1995 года формат конференции, наконец-то, подогнали под давно изменившиеся мировые реалии — в них стали участвовать представители России и стран бывшего Варшавского договора, а также лидеры других ведущих мировых стран, таких как Индия, Китай и Япония.
Учитывая это, достаточно иронично звучит название традиционного доклада конференции, который публикуется перед её началом. В этом году организаторы назвали его "Westlessness", что буквально можно перевести на русский язык как «беззападность». По мнению докладчиков, западные страны стремительно теряют влияние в мире, и, что не менее важно — сам коллективный Запад становится менее «западным», ощущая экзистенциальный кризис своих традиционных ценностей.
Удивительно, но даже тут организаторы оказались верны себе — о кризисе западного миропорядка уже доброе десятилетие говорит и самый ленивый, минимально завязанный в текущую международную политику. Но для организаторов Мюнхена, как для Орлиного Глаза из известного анекдота про индейцев, четвёртая стена у западного тюремного сарая упала только сейчас.
Впрочем, даже в этом процессе катастрофического падения авторитета западных стран доклад в основном винит не сам Запад, который пришёл к этому политическому тупику по собственной воле и в результате своих самонадеянных решений, а неожиданно обвиняет в этом… Россию и Китай. Мол, Пекин и Москва «провоцируют» распад Запада и постоянно оспаривают его гегемонию — вместо того, чтобы тихо сидеть под глобальным плинтусом.
Раздел о России составители доклада даже провокационно назвали «Путёмкинское государство», давая прямую аллюзию на известный сюжет о «потёмкинских деревнях». Но в таком сравнении докладчики допустили логическую дыру: с одной стороны, в мировых раскладах показали Россию чуть ли не корнем всех бед и равным соперником для западных стран, но, с другой стороны, в анализе состояния России последовательно напирали на то, что нынешняя политика нашей страны основана на фальшивом парадном фасаде, за которым ничего не стоит в реальности — строго по сюжету парадных деревень князя Потёмкина. Как говорится, тут надо уже или крестик миссионеров снять — и трусы колонизаторов надеть, иначе диссонанс какой-то получается...
Исходя из существующей мировой географии, столь же сложно винить в «беззападности» и Китай, хотя доклад умудряется сделать и это тоже. В китайском разделе также есть немало весёлых моментов — например, после перечисления на нескольких страницах претензий к Пекину, авторы доклада решают сменить гнев на милость — и призывают КНР срочно покаяться в ошибках и признать примат западных ценностей. Опять таки, оставим реальность такого ультиматума без комментариев.
А вот реальные шаги, которые можно было бы осуществить на конференции в Мюнхене, оказались вычеркнуты из повестки дня самими организаторами. Так, скандалом стало исчезновение с сайта конференции так называемого письма «Группы лидеров по вопросам евроатлантической безопасности», в котором были перечислены 12 возможных пунктов, способных сдвинуть с мёртвой точки процесс мирного урегулирования на Донбассе. Несмотря на то, что среди подписантов письма были «патентованные западники», в частности — бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Филип Бридлав, документ сочли «непозволительно пророссийским» и исключили из официальной повестки публичного обсуждения.
Вместо этого желающим предложили послушать президента Украины Владимира Зеленского, который «на голубом глазу» своими честными карими глазами предложил провести уже в текущем октябре выборы на Донбассе и в российском Крыму — причём сделать это по украинским законам и после передачи Киеву «полного контроля над границей». Насколько этот фантастический спич лежит в плоскости текущей политической реальности и почему мир при таких раскладах достаточно быстро и уверенно идёт к уже упомянутой «беззападности», для более-менее трезво мыслящего наблюдателя, в общем-то, очевидно.
Резюмируя: в Мюнхене было весело. Судя по всему, очередной, созданный добрых семьдесят лет назад «западный междусобойчик» окончательно выродился в клуб по интересам, площадку которого можно использовать только ситуативно, для заранее оговоренных двусторонних встреч. Что, в общем-то, продемонстрировала российская делегация — выступив лишь с достаточно коротким, но содержательным официальным докладом, а потом сосредоточившись на прямых переговорах. В которых не надо обсуждать дурацкий вопрос «Чей Крым?».

«Бартер с НАСА»: как Европа сотрудничает с Россией в космосе
Глава ЕКА в России Рене Пишель об МКС, «ЭкзоМарсе» и сотрудничестве
Мариам Дадашян
Глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель рассказал «Газете.Ru» о совместных проектах с РФ, трудностях в их реализации и планах дальнейшего сотрудничества.
— ЕКА уделяет много внимания вопросу космического мусора. Почему эта проблема так важна? Какие программы сейчас есть у ЕКА в этой сфере и планируется ли международное сотрудничество, в том числе с Россией?
— Мы все становимся все более зависимы от функционирования космической инфраструктуры — навигационных и метеоспутников, систем связи и спутникового интернета. В то же время космический мусор создает угрозу для этой инфраструктуры. Важно обеспечить разработку технологий, позволяющих предотвратить образование космического мусора при будущих запусках — до того, как количество запусков еще более возрастет. ЕКА реализует программу космической безопасности, в рамках которой проводится разработка технически обоснованной технологии удаления космического мусора (автономные устройства для увода отработанных космических объектов с орбиты и так далее). К 2025 году планируется запуск первой в мире миссии для увода фрагмента космического мусора.
Такая программа позволит также создать технологию автономной обработки предупреждений об угрозе столкновения и координации с другими участниками космической деятельности для предотвращения столкновений с учетом все возрастающего числа действующих космических аппаратов на орбите. В этом направлении ЕКА сотрудничает с неевропейскими космическими державами в рамках IADC (Межагентского координационного комитета по космическому мусору). Операции на орбите и сбор данных о космических объектах требуют международной координации посредством органов стандартизации — это предполагает также задействование России.
Может быть обсуждено возможное сотрудничество с Россией в рамках международных органов координации и стандартизации — или в части конкретных ограниченных областей этой чрезвычайно масштабной и важной задачи, затрагивающей все космические державы.
— Как развивается работа над системой наблюдения за космосом и слежения за объектами на орбите (Space Surveillance and Tracking, SST)? Какова ее основная цель?
— Основная задача проекта космического наблюдения и отслеживания космических объектов заключается в заполнении пробелов в уже имеющихся данных о космических объектах на околоземной орбите путем включения высокоточных данных. Эти данные предполагается получать при помощи орбитальных технологий слежения — пассивных оптических датчиков, а также наземных средств (в основном лазерных устройств). В «сегменте» SST, который будет реализован в рамках европейской программы космической безопасности, ЕКА сочетает работы по исследованиям и разработкам в части оборудования, программного обеспечения и сетей, используемых для наблюдения космического пространства и слежения за космическими объектами. В рамках этого проекта мы также стремимся помочь созданию европейских коммерческих сервисов по отслеживанию космических объектов.
— Евросоюз намерен объединить с 2021 года все свои космические программы в одну. Какова роль ЕКА, будет ли оно в этом участвовать? Объединение работы — это шаг в сторону независимости от других игроков для ЕС?
— Несмотря на то, что Европейский союз и ЕКА являются разными организациями, они связаны посредством входящих в их состав государств: 19 из 22 государств — членов ЕКА также являются государствами — членами Евросоюза, это означает, что в ЕКА входят 19 из 27 стран Европейского союза.
В обеих организациях основные направления деятельности определяются именно государствами-членами — несмотря на разницу в организационных структурах. ЕС в настоящее время планирует завершить процедуру утверждения регламента по космосу и согласовать бюджет ЕС на осуществления космической деятельности в рамках многолетней рамочной программы. Еврокомиссия запросила 16 млрд евро на космические программы в рамках следующей многолетней финансовой рамочной программы и ожидает финансирования космической деятельности по таким бюджетным линиям, как Horizon Europe, Invest EU, Digital Europe и Европейский оборонный фонд.
В этой связи ЕКА ждет с нетерпением переговоров с ЕС по Финансовому рамочному партнерскому соглашению (FFPA) и подтверждения делегирования ЕКА космических разработок Евросоюза.
— Продолжит ли ЕКА отправлять своих астронавтов на российских «Союзах», если испытания американских кораблей вновь затянутся?
— ЕКА отправляет астронавтов на МКС на основе бартерной договоренности с НАСА, то есть фактически НАСА определяет, каким именно образом наши астронавты летят на МКС.
— Планирует ли ЕКА сохранить представительство в Звездном городке при отсутствии запланированных на ближайшее время полетов европейских астронавтов на «Союзах»? Сохранится ли программа тренировок для астронавтов ЕКА в Звездном городке?
— Партнеры по МКС продолжают обсуждение деталей будущего плана полетов и возможности взаимной поддержки, то есть запуска российских космонавтов на коммерческих кораблях НАСА и астронавтов НАСА/США на космических аппаратах «Союз». В рамках обсуждения также рассматривается проведение тренировок экипажа в центрах подготовки каждого из партнеров по МКС, так как все астронавты проходят в любом случае всестороннюю подготовку в центрах партнеров для работы на МКС — что означает, что астронавты ЕКА продолжат тренировки в Звездном городке для работы на российском сегменте.
ЕКА сохранит свое представительство в Звездном городке, которое оказывает поддержку не только в части тренировок астронавтов, но также при проведении совместных научных операций с задействованием европейских и российских астронавтов, а также наземных контрольных измерений — все эти аспекты требуют присутствия ЕКА в Звездном городке.
— У ЕКА возникли сложности во время испытаний парашютов для российско-европейской миссии «ЭкзоМарс». Как справились с этой проблемой, остались ли нерешенные технические вопросы, помимо парашютов? Могут ли возникнуть причины для очередной задержки?
— В настоящее время все оборудование космического аппарата, включая перелетный модуль и десантный модуль, проходит различные испытания в компании Thales Alenia в Каннах. Параллельно проводятся испытания марсохода в компании Airbus в Тулузе и испытания парашютной системы в Соединенных Штатах. В конце января 2020 года состоялся обзор проекта «ЭкзоМарс-2020» рабочего уровня, организованный ЕКА и российским партнером Роскосмосом.
Сделанная по итогам обзора предварительная оценка передана на рассмотрение главам двух агентств 3 февраля. Они дали указание соответствующим генеральным инспекторам и руководителям программы представить обновленный план и график, предусматривающие проведение всех необходимых для получения разрешения на запуск работ. Такой план будет рассмотрен главами обоих агентств, которые встретятся в начале марта для совместного согласования последующих шагов.
— В каком сейчас состоянии находятся проекты «Луна-25» и «Луна-27»?
— Вопрос об общем статусе проектов «Луна-25» и «Луна-27» было бы правильно адресовать Роскосмосу. ЕКА завершило создание камеры PILOT-D для применения при посадке космического аппарата «Луна-25», проводится разработка других элементов в качестве вклада в миссию «Луна-27»: PILOT (система высокоточной навигации и обнаружения препятствий), PROSPECT (бурильное устройство и прибор для анализа образцов грунта) и SPECTRUM (обеспечение поддержки наземных станций ЕКА).
— Какие вопросы планирует обсудить с Рогозиным глава ЕКА Ян Вернер, когда приедет в Москву в марте? Контракт на доставку европейских астронавтов?
— Согласование Роскосмосом и ЕКА повестки встречи в марте пока не завершено. Повестка, конечно, будет включать рассмотрение статуса текущих совместных проектов в области исследований Марса и Луны, а также, возможно, потенциальных направлений сотрудничества в будущем.
— Модуль «Наука» Роскосмоса уже несколько лет не может отправиться с европейской рукой-манипулятором на МКС. Запуск планировали наконец произвести в этом году, план остается прежним? Почему не удалось отправить его раньше? Планирует ли ЕКА проверять руку перед отправкой? Не выходит ли ее ресурс? В каком она сейчас состоянии?
— Манипулятор ERA будет эксплуатироваться на российском сегменте МКС. В этой связи — а также с учетом его габаритов — запланирован запуск манипулятора вместе с российским многофункциональным лабораторным модулем (МЛМ). Это, к сожалению, означает, что на ERA отражаются задержки запуска МЛМ.
Недавно мы были проинформированы Роскосмосом о текущих планах по отправке МЛМ и ERA на Байконур в конце марта для запуска, намеченного в конце года. В настоящее время ERA находится на хранении на территории РКК «Энергия».
В феврале наши специалисты проведут инспекцию манипулятора — однако мы не ожидаем каких-либо проблем, связанных со сроком жизнедеятельности ERA, принимая во внимание регулярные проверки и техническое обслуживание в период хранения. Мы проанализировали вопросы срока активного существования ERA с учетом длительного срока хранения. В большинстве случаев последствий не выявлено, тем не менее мы проследили за тем, чтобы периодически проводились проверки механизмов и манипулятор хранился в заполненном азотом контейнере. Кроме того, мы провели ресурсные испытания, например, на образцах клея, идентичного используемому на манипуляторе.
— Сохранились ли у ЕКА общие научные программы с Роскосмосом на МКС? Изменилось ли их количество за последние 10 лет?
— Срок действия соглашения между ЕКА и Роскосмосом относительно сотрудничества при проведении научных экспериментов на МКС, подписанного в ноябре 2009-го, был недавно продлен ЕКА и Роскосмосом еще на 10 лет. Можно ожидать, что прибытие нового российского модуля МЛМ создаст новые дополнительные возможности применения этого соглашения. ЕКА реализовало значительное количество совместных экспериментов с Роскосмосом в областях биологии, медико-биологических наук, материаловедения и фундаментальной физики — таких как ПК-4 (Плазменный Кристалл-4) — совместный эксперимент в области фундаментальной физики, предполагающий исследование взаимодействия атомов в сложных плазмах, ЭМЛ (Электромагнитный Левитатор) — серия экспериментов, позволяющих ученым изучить процессы, задействованные в металлургии и материаловедении, путем плавления и отверждения парящих металлов, Сарколаб-3 — совместный проект исследований на человеке, позволяющий изучить процессы адаптации мышечной системы членов экипажа к условиям микрогравитации, EXPOSE-R — совместно проведенная серия экспериментов на внешней поверхности МКС, позволяющая улучшить понимание воздействия условий космоса на микроорганизмы.
Кроме того, ЕКА имеет значительный опыт сотрудничества с Россией в рамках программы ФОТОН, а также проводимых Институтом медико--биологических наук (ИМБП) наземных изоляционных экспериментов, таких как HUBES, SFINCSS, МАРС500 и запущенной недавно программы экспериментов по изоляции SIRIUS.
— ЕКА строит модуль для американского пилотируемого корабля Orion, который станет частью проекта Gateway. Планирует ли Европа расширить свое участие в этом проекте? Хочет ли ЕКА сотрудничать с РФ на этом направлении? Было ли обсуждение с представителями России относительно участия Роскосмоса в нем?
— Совет ЕКА на уровне министров Space19+, состоявшийся в ноябре прошлого года, подтвердил полную поддержку участия ЕКА в проекте Gateway. Помимо служебного отсека для корабля Orion, ЕКА планирует поставку модуля для Gateway. ЕКА поддерживает возможное участие России, однако этот вопрос требует прямого обсуждения и согласования между НАСА и Роскосмосом.
— Как вы видите развитие отношений ЕКА с Роскосмосом после запуска «ЭкзоМарса»? Планируются ли у ЕКА новые проекты с Россией? Есть ли перспектива совместной работы в научной сфере?
— Наши совместные проекты, такие как «Союз» в Гвианском космическом центре, «ЭкзоМарс» и МКС, заложили хорошую основу для обсуждения подготовки к будущему сотрудничеству. Одной из тем такого обсуждения станут планы Роскосмоса в области будущих научных миссий.

Александр Мацегора: КНДР уже не намерена торговаться с США по мелочам
В последние дни 2019 года ЦК Трудовой партии провел в Пхеньяне пленум, на котором обсуждалась изменившаяся обстановка в стране и за рубежом, вскоре стало известно и о перестановках в правительстве КНДР. Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника рассказал, как следует воспринимать заявления руководства страны по итогам пленума, есть ли шанс у США и КНДР вновь сесть за стол переговоров и какую роль в урегулировании ситуации на Корейском полуострове может сыграть российско-китайский план.
— Планируются ли в 2020 году взаимные визиты РФ и КНДР на уровне глав МИД или замминистров иностранных дел? Известны ли примерные сроки следующего раунда переговоров в рамках диалога по стратегическому сотрудничеству на уровне первых заместителей министров иностранных дел? Снят ли вопрос о визите Владимира Путина в Пхеньян?
— Надеюсь, что в 2020 году Сергей Викторович Лавров будет иметь возможность познакомиться с новым министром иностранных дел КНДР Ли Сон Гвоном. Приглашение предыдущему руководителю корейского внешнеполитического ведомства посетить Москву было направлено еще в прошлом году, мы уже подтвердили его новому министру. Заместители министров, курирующие отношения между нашими странами, в соответствии с планом межмидовских обменов должны в текущем году провести консультации по двусторонней проблематике. Когда и где это случится, пока не согласовано. Примерные сроки второго раунда стратегических консультаций также еще не определены. О том, что стоял вопрос визита Владимира Путина в Пхеньян, я впервые узнал только сегодня от вас.
— Планирует ли Москва наращивать поставки гуманитарной помощи в Северную Корею? О каких наименованиях может идти речь? Будут ли страны сотрудничать в профилактике коронавируса, который распространяется в Китае?
— Россия участвует в ооновских программах оказания гуманитарного содействия населению КНДР. В частности, выделены по три миллиона долларов на 2020-2021 годы на поставку по линии Всемирной продовольственной программы российской муки, из которой выпекают витаминизированные галеты для беременных женщин и детей. По линии ЮНИСЕФ мы предоставили 4,8 миллиона долларов на финансирование программы снижения детской заболеваемости и смертности, по линии Фонда ООН в области народонаселения – один миллион долларов на повышение квалификации корейских специалистов в сфере демографии и статистики. Решается вопрос с поставкой сюда крупной партии российской пшеницы, которая должна частично компенсировать потери в урожае зерна, вызванные имевшими место в 2019 году природными катаклизмами. Уверен в том, что специалисты двух стран наладят взаимодействие по проблеме распространения коронавируса, в том числе в плане обмена информацией, и если у нас будет разработана вакцина — опытом в предотвращении заболевания и методике его лечения.
— Как осуществляется пассажирское сообщение между РФ и КНДР в условиях борьбы с распространением коронавируса?
— В условиях борьбы с распространением коронавируса пассажирское сообщение между РФ и КНДР, как авиационное, так и железнодорожное, по решению корейской стороны полностью прекращено на период до 1 марта 2020 года.
— Рассматривается ли вопрос о выдаче северокорейских рыбаков, признанных в декабре виновными в незаконном пересечении российской границы и вылове биоресурсов? Как продвигается создание совместной с КНДР структуры по борьбе с браконьерами?
— Согласно принятому 3 декабря решению Находкинского городского суда пять граждан КНДР за нарушение государственной границы и незаконную добычу краба приговорены каждый к 1 году 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Отсидеть свое в нашей стране им придется от звонка до звонка. Более серьезное наказание может последовать по делу, связанному с имевшим место 17 сентября 2019 года инцидентом, когда граждане КНДР при задержании российскими пограничниками браконьерского плавсредства оказали сопротивление. По данному правонарушению процессуальные действия еще продолжаются.
Вопросами, связанными с предупреждением незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла живых морских ресурсов занимается Смешанная комиссия по сотрудничеству в области рыбного хозяйства. Решения о создании какой-то новой структуры сторонами принято не было.
— Как Москва оценивает заявление лидера КНДР Ким Чен Ына по итогам пленума ЦК ТПК, в котором он заявил, что Пхеньян скоро представит новое стратегическое оружие, также высказывания чиновников КНДР о том, что Пхеньян больше не видит необходимости придерживаться моратория на ядерные испытания?
— Мы пока не знаем, о каком оружии идет речь. В принципе, КНДР, как и любая другая страна, имеет полное право заниматься укреплением своей обороноспособности. Вместе с тем мы адресуем всем участникам процесса урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, не только Пхеньяну, но и Вашингтону, призыв воздерживаться от действий, способных еще более накалить обстановку.
Что же касается второй части вашего вопроса, то я бы рекомендовал, во-первых, ориентироваться на высказывания руководителя КНДР, а не чиновников, пусть даже высокого ранга, а во-вторых, точно, вплоть до запятой, приводить цитаты. Ким Чен Ын на декабрьском (2019 год) Пленуме ЦК ТПК сказал буквально следующее: "…у нас больше нет оснований в одностороннем порядке придерживаться обязательств, взятых не по принципу взаимности". Хотел бы напомнить, что это были за односторонние обязательства, принятые в порядке демонстрации доброй воли Пхеньяна: мораторий на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет, демонтаж испытательного ядерного полигона Пхунгери, возвращение останков американских военнослужащих, погибших во время Корейской войны, освобождение американских граждан, задержанных за враждебные действия против КНДР. Кроме того, в межкорейской Пхеньянской декларации от 19 сентября 2018 года КНДР зафиксировала свое решение ликвидировать полигон для испытания двигателей и ракетную стартовую площадку Тончханни в присутствии специалистов из заинтересованных стран.
Строго говоря, приведенное выше высказывание лидера КНДР нельзя однозначно воспринимать как прямое заявление об отказе от добровольного моратория на ядерные испытания, тем более что ранее он говорил, что в новых ядерных взрывах практического смысла больше нет, поскольку научная программа полностью выполнена. Так что ситуацию можно пояснить и таким образом: оснований придерживаться обязательств о прекращении испытаний у Пхеньяна нет, но и необходимость в них тоже отсутствует. Как бы то ни было, мы очень надеемся на то, что под боком у российского Дальнего Востока такого рода опасных экспериментов больше не будет.
— Продолжат ли Россия и Китай разработку проекта резолюции СБ ООН о смягчении санкций против КНДР после заявления Ким Чен Ына? Когда планируется представить его на рассмотрение Совета Безопасности?
— Российско-китайский проект политической резолюции по КНДР 16 декабря уже внесен в Совет Безопасности ООН. Наша совместная с китайскими коллегами инициатива, нацеленная на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова, является глубоко продуманным и проработанным документом, имеющим свою стройную логику. Заявление Ким Чен Ына ее не поколебало.
— Получила ли РФ ответ со стороны КНДР на представленный план урегулирования на Корейском полуострове? Как его оценивают в Пхеньяне? Планируются ли контакты по вопросам урегулирования на полуострове с представителями Китая и КНДР в двустороннем или трехстороннем формате?
— Российско-китайский План действий по комплексному параллельному урегулированию проблем Корейского полуострова, скажем так, не вызвал отторжения ни у Пхеньяна, ни у Вашингтона. Конечно, и там, и там хотели бы акцентировать внимание на наиболее злободневных для каждой из сторон пунктах: американцы – на ядерном разоружении, северокорейцы – на снятии санкций и гарантиях безопасности. Как бы то ни было, полагаем, что наш документ может стать хорошей основой для возобновления переговоров – и в двустороннем американо-северокорейском, и в многостороннем формате. Российско-китайский диалог по проблематике корейского урегулирования уже давно положен на стабильную регулярную основу. Трехсторонние консультации с подключением северокорейских коллег однажды уже состоялись в Москве и показали свою востребованность и эффективность. Не сомневаюсь, что такая практика будет продолжена.
— Как оценивают в Москве последние заявления США о возможности возобновления диалога с Пхеньяном? Можно ли на всех этих усилиях ставить крест?
— Американцы сразу же после провала в Стокгольме стали говорить о желании продолжить переговоры с КНДР. По разным каналам поступает информация, что они чуть ли не готовы пойти навстречу северянам в плане смягчения санкционных рестрикций. Однако эти позитивные сигналы всякий раз сопровождаются действиями, которые в Пхеньяне не без основания расценивают как крайне враждебные. КНДР требует кардинального изменения политики Вашингтона и предупреждает, что после безрезультатного саммита в Ханое здесь произошла коренная перезагрузка подходов на треке ядерного разоружения. Пхеньян больше не намерен торговаться по мелочам, когда каждый американский шаг по смягчению санкций сопровождался бы адекватным продвижением Пхеньяна в направлении денуклеаризации. В общем, ситуация серьезно осложнилась. Тем не менее усилия всех сторон по поиску консенсуса должны быть продолжены, мы в этом абсолютно убеждены. Что касается России, то мы свою часть пути обязательно пройдем.

Александр Мантыцкий: готовы помочь афганцам бороться с терроризмом
Посол России в Афганистане Александр Мантыцкий рассказал в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника о том, сколько там остается бывших советских военных, попавших в плен в годы участия СССР в конфликте, и хотят ли они вернуться на родину. Он также оценил планы США по выводу их контингента с афганской территории, высказал мнение о том, от чего будет зависеть ситуация в дальнейшем, сообщил, как Москва будет помогать афганцам в налаживании внутриполитического диалога и как российская сторона оценивает обстановку по борьбе с терроризмом в Афганистане.
— Сколько российских граждан, участвовавших в военных действиях на территории Афганистана, продолжают находиться в стране по сей день? Поддерживает ли посольство Российской Федерации связь с ними? Есть ли планы по их возвращению на родину?
— Нам достоверно известно о трех бывших советских военнопленных, добровольно оставшихся в Афганистане с 1980-х годов. Двое из них – Александр Юрьевич Левенец (Ахмад) и Геннадий Анатольевич Цевма (Никмохаммад) – выходцы с Украины и в настоящее время проживают в Кундузе. Третий – Сергей Юрьевич Красноперов (Нурмамад), уроженец города Курган – проживает в Чагчаране, столице провинции Гор, работает в отделении афганской энергетической компании "Брешна". С ним поддерживается регулярная связь по телефону, иногда проводятся личные встречи. Оказано содействие в установлении связи по телефону с братом в России, даны консультации по подготовке старших детей для обучения в российских вузах на бюджетной основе. Все трое давно осели здесь и в настоящее время не планируют возвращаться на родину.
Периодически поступают обрывочные сведения о других якобы бывших советских пленных, но чаще всего эта информация не соответствует действительности и связана с проведением провокаций или вымогательством денежных средств.
— Как, на ваш взгляд, будет меняться ситуация в сфере безопасности в Афганистане после вывода из страны американских вооруженных сил? В какие сроки, на ваш взгляд, реально осуществить вывод этих войск? Не опасаетесь ли вы, что после этого Афганистан вновь захлестнет волна насилия?
— В Вашингтоне на официальном уровне неоднократно заявляли о своих намерениях осуществить вывод контингента США из Афганистана. Однако администрация Дональда Трампа, насколько нам известно, до сих пор не обнародовала конкретных планов по сокращению военного присутствия США в этой стране. Согласно приведенным в последнем докладе Минобороны США по Афганистану данным, в настоящее время на территории ИРА находятся от 12 до 13 тысяч американских военнослужащих. Международные эксперты ожидают, что решение по упомянутому вопросу будет все же принято в преддверии президентских выборов в США.
В целом приходится констатировать, что, несмотря на оказание коалиционными силами давления на боевиков, обстановка в ИРА остается весьма напряженной. Судите сами: вооруженная оппозиция контролирует почти половину афганской территории. При этом в последние месяцы наблюдается рост интенсивности террористических атак на афганские национальные силы безопасности и натовские контингенты. Положение "на земле" усугубляется низким уровнем подготовки афганских силовых структур, которые, к сожалению, не в состоянии эффективно вести контртеррористическую борьбу без поддержки со стороны США и их союзников.
В сложившихся условиях вывод ВС США из Афганистана должен быть ответственным, исключающим его негативные последствия для стабильности как в самой стране, так и в регионе в целом. Думаю, что это прекрасно понимают и американские партнеры. Кстати, модальности вывода войск США в этой стране обсуждаются с талибами в катарской столице, где расположен офис Движения. Полагаем, развитие ситуации в ИРА в постконфликтный период не в последнюю очередь будет зависеть от американо-талибских договоренностей.
— Каким, на ваш взгляд, будет участие талибов в составе инклюзивного правительства, если планы по его созданию будут реализованы? Все ли требования Движения талибов (ДТ) к США и Кабулу выполнимы или некоторые из них будет невозможно выполнить в современных реалиях?
— Как известно, основное требование талибов к Вашингтону – полный вывод иностранных военных из Афганистана. Как я уже упомянул, сейчас представители США и Движения талибов в Дохе заняты обсуждением этого вопроса, а также других аспектов, которые лягут в основу возможного соглашения между сторонами.
При этом в СМИ периодически просачивается информация о том, что американцы пытаются добиться согласия талибского руководства на то, чтобы осуществить лишь частичный вывод своего контингента, оставив ограниченное число военных в Афганистане на ряде объектов. Каков будет итог этих переговоров, пока сказать сложно, ведь талибы заявляют о неприемлемости сохранения иностранного военного присутствия в стране.
Мы ожидаем, что после подписания соглашения между американцами и талибами начнутся межафганские переговоры, которые должны будут определить параметры будущего государственного устройства Афганистана. При этом есть разные точки зрения по поводу того, каким оно будет. Ряд экспертов считает, что действующее правительство национального единства продолжит свою работу при включении в его состав талибов, другие полагают более вероятным формирование переходной администрации, где талибы также получат ряд ответственных постов.
Так или иначе, решение о будущем своей страны должны принимать сами афганцы, а Россия, со своей стороны, будет оказывать посильное содействие продвижению мирного процесса в Афганистане.
— Ожидаются ли визиты афганских официальных лиц в Москву и российских в Кабул? Готовится ли новое заседание консультаций по Афганистану в московском формате?
— На февраль этого года запланирован визит делегации афганских парламентариев во главе с председателем Волуси джирги (Нижняя палата парламента Национальной ассамблеи Афганистана) Миром Рахманом Рахмани в Российскую Федерацию. Предполагается встреча с председателем Государственной думы Вячеславом Володиным. Депутаты двух стран обсудят развитие межпарламентских связей, укрепление экономического и гуманитарного сотрудничества.
Пока не планируем проведение очередного заседания московского формата, ожидая результатов переговоров между делегациями США и Движения талибов в Дохе. Однако не исключаем такую возможность, если почувствуем, что переговорный процесс вновь застопорится, а встреча в Москве сможет придать ему нужную динамику.
Необходимо отметить, что Россия в последние месяцы активно взаимодействует с представителями США и КНР в рамках трехсторонних российско-китайско-американских консультаций на уровне спецпредставителей по Афганистану с подключением Пакистана. В рамках этих встреч предполагается развитие сотрудничества с партнерами с целью создания благоприятных внешних условий для продвижения процесса национального примирения.
— Как обстоит ситуация с присутствием ИГИЛ* на севере Афганистана? Обращалось ли афганское правительство к России с просьбой о содействии в укреплении безопасности в приграничных регионах?
— В контексте ситуации в сфере безопасности нас не может не беспокоить возросшая активность международных террористических группировок на севере Афганистана. В частности, группировка "Исламское государство"*, по некоторым данным, по-прежнему сохраняет присутствие в приграничных с Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном районах. Все это, разумеется, создает предпосылки для возможного превращения данного региона ИРА в плацдарм для экспансии в государства Центральной Азии.
Несмотря на победные реляции официального Кабула относительно ликвидации группировки на востоке страны, к нам продолжают стекаться сообщения о сохранении присутствия боевиков ИГИЛ* в этих районах и их переброске авиатранспортом в северные и северо-западные регионы Афганистана. В частности, указывается на появление новых террористических группировок в труднодоступных горных районах провинций Фарьяб и Бадахшан.
Россия не раз подтверждала правительству ИРА свою готовность к активизации взаимодействия на антитеррористическом треке, однако никаких запросов от Кабула, в том числе по вопросу содействия в укреплении безопасности на севере страны, до сих пор не поступало.
— В декабре прошлого года в Тегеране на встрече секретарей Совбезов и советников по национальной безопасности по Афганистану секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев сообщил, что запрещенная в России группировка "Исламское государство"* продолжает укрепляться в Афганистане и готовит на севере страны плацдарм для вторжения в Центральную Азию и что за год ситуация показала тенденцию к ухудшению. В связи с этим что можно назвать в качестве основных мер, принятых за минувший год для купирования названных угроз? Реализуются ли с участием России меры по укреплению таджикско-афганской границы? Какие еще дополнительные действия надо предпринимать, чтобы нейтрализовать угрозы?
— Российская Федерация внимательно наблюдает за ситуацией в Афганистане. В целях нивелирования упомянутых угроз осуществляются меры долгосрочного и оперативного характера. В частности, на регулярной и безвозмездной основе в российских специализированных учебных заведениях осуществляется подготовка национальных кадров, в том числе для полицейских, антинаркотических и военных структур ИРА. Сотрудничество на антитеррористическом направлении ведется на многосторонних площадках в рамках ОДКБ, ШОС, СНГ, а также ООН. Повышенное внимание уделяется защите таджикско-афганской границы. Важнейшим компонентом ее безопасности является дислокация на территории Республики Таджикистан 201-й российской военной базы.
Придерживаемся позиции, что для предотвращения закрепления ИГИЛ* на территории Афганистана необходимо в первую очередь добиваться установления мира и стабильности в стране политико-дипломатическими средствами путем содействия продвижению процесса афганского нацпримирения на различных площадках.
В настоящее время прорабатывается возможность организации третьего раунда шестисторонних консультаций секретарей Советов безопасности и советников по национальной безопасности России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана, посвященной афганской проблематике. Кроме того, на апрель нынешнего года в Москве запланировано проведение встречи Секретарей советов безопасности государств-членов ШОС.
— В чем, на ваш взгляд, заключается специфика работы дипломата в Афганистане? Требует ли работа посла в такой стране особых, отличительных личностных качеств?
— В любой стране есть своя специфика дипломатической работы. В нашем случае это действительно сложная военно-политическая обстановка, наши дипломаты работают в условиях вооруженного конфликта. Это обстоятельство накладывает определенные ограничения при передвижении по городу, организации встреч и переговоров, проведении визитов высокого уровня и многосторонних консультаций. К сожалению, всем нам приходится учитывать это в своей повседневной жизни.
В остальном требования к дипломатам в Афганистане те же, что и ко всем сотрудникам МИДа: знание нескольких иностранных языков, в том числе языков страны пребывания, умение заводить контакты, анализировать, точно и ясно излагать информацию, работать в условиях напряженной внутриполитической ситуации, а в последнее время – повышенного санкционного и иного антироссийского давления.
* Террористическая организация, запрещенная в России

Владимир Ермаков: США явно не готовы к новому ДСНВ
Москва вынуждена будет предпринять ответные меры в случае, если Вашингтон примет решение выйти из Договора по открытому небу. Пока что официальных заявлений об этом не прозвучало, однако появляется информация, что США могут сделать это под предлогом нарушения соглашения с российской стороны, заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков. В интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника он рассказал, какие шаги предпринимает Москва для сохранения ДОН, будет или нет продлено оружейное эмбарго в отношении Ирана и как Запад реагирует на предложение России по мораторию на развертывание ДРСМД.
— Ранее только Франция откликнулась на российское предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, был ли начат предметный разговор с Парижем на эту тему? Обсуждают ли стороны возможный механизм верификации выполнения этого моратория?
— После того, как в прошлом году из-за действий США был развален Договор о РСМД, Россия предприняла ряд мер, направленных на поддержание предсказуемости и сдержанности в ракетно-ядерной сфере. На высшем уровне было объявлено о неразвертывании РСМД наземного базирования в тех регионах, где не будут размещаться такие средства американского производства. Странам НАТО было предложено пойти на аналогичный встречный мораторий, однако реакция альянса оказалась негативной.
Что касается Франции, то президент Эммануэль Макрон действительно подтвердил готовность к обсуждению возможных путей поддержания стабильности в "мире после ДРСМД". Это, к сожалению, не означает, что в Париже поддержали нашу инициативу. Однако французы увидели в ней возможность для диалога, что, несомненно, является позитивным моментом. Ожидаем, что тематика РСМД будет рассматриваться в ходе дальнейших контактов с французской стороной.
Исходим из того, что наша идея о моратории по-прежнему сохраняет свою актуальность. Ее реализация позволила бы избежать новых ракетных кризисов при сохранении возможностей для диалога. Мы сделали предложение, и оно остается "на столе".
— Россия также выражала готовность обсуждать с США возможное включение новых российских перспективных вооружений типа "Кинжал", "Посейдон" и "Буревестник" в новый договор по стратегической стабильности, каков был ответ Вашингтона? Обсуждается ли эта тема сейчас в контактах с американцами или речь идет только об усилиях по продлению существующего договора о СНВ?
— Необходимое уточнение: мы говорили американцам, что открыты к обсуждению темы новых вооружений и перспективных военных технологий в рамках комплексного стратегического диалога, который должен вестись с учетом наших приоритетов и наших озабоченностей. О каком-либо новом договоре с Вашингтоном речь сейчас не идет, поскольку американские коллеги к этому явно не готовы.
После того, как президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года объявил об упомянутых вами вооружениях, американцы начали предпринимать попытки подтянуть эти новейшие системы под действующий ДСНВ. Однако договор составлен так, что его оперативные положения распространяются только на межконтинентальные баллистические ракеты и баллистические ракеты подводных лодок с их пусковыми установками, а также тяжелые бомбардировщики.
Распространение сферы охвата ДСНВ на любые иные средства потребовало бы внесения поправок в текст договора с запуском процедуры их ратификации в обеих странах. Разумеется, в таком случае мы могли бы поставить вопрос о введении дополнительных ограничений и на те американские программы, которые вызывают озабоченность у российской стороны.
— Ведутся ли консультации с США по сохранению Договора об открытом небе? Разработали ли в Москве ответ на возможный выход США из Договора по открытому небу? Каким он может стать?
— Неизменно исходим из того, что Договор по открытому небу (ДОН) служит укреплению доверия и транспарентности в военной области. Его значимость для евробезопасности и необходимость полноценного функционирования трудно переоценить.
Официальных заявлений американской стороны о планах выхода из ДОН не было. Тем не менее с сожалением воспринимаем информацию о возможном намерении сделать это со ссылкой на якобы нарушения договора Россией.
В случае решения Вашингтона отказаться от договора мы будем поставлены перед необходимостью предпринять адекватные ответные меры. Публично обсуждать, какими они могли бы быть, считаем преждевременным. Рассчитываем на здравомыслие и дальновидность со стороны партнеров, призываем их сохранить ДОН как одну из немногих оставшихся опор архитектуры безопасности в Европе. Тем более что в течение почти трех десятилетий США и их союзники сами называли договор важной мерой доверия, а в свое время долго и настойчиво уговаривали Россию стать его участником.
Наша позиция доведена до сведения американских коллег. К сожалению, пока вместо вдумчивого анализа ситуации и путей сохранения договора американские партнеры ограничиваются повторением своего уже традиционного и абсолютно беспочвенного набора обвинений в адрес России якобы в "невыполнении" договора.
Попытки возложить вину на Россию контрпродуктивны и не выдерживают критики. У нас тоже есть немало вопросов к тому, как США и другие государства-члены НАТО выполняют ДОН. Однако мы предпочитаем вести разговор не о выходе из договора, а о совместном поиске решений, способствующих снятию взаимных озабоченностей.
— В октябре истекает срок действия оружейного эмбарго против Ирана. Обсуждается ли сейчас возможность его продления или в условиях последнего обострения вокруг ИРИ нужно восстановить для Ирана возможность закупать ранее запрещенные виды оружия?
— Могу со всей определенностью заверить, что никаких официальных дискуссий о пересмотре резолюции СБ ООН 2231 не ведется ни в Совете Безопасности, ни на других площадках. Упомянутая резолюция, в которой предусмотрен особый, хочу подчеркнуть, разрешительный порядок согласования поставок в Иран и из Ирана вооружений и военной техники по семи категориям соответствующего Регистра ООН не предусматривает как такового механизма или опции продления.
Стоит пояснить, что все положения резолюции были изначально направлены не на то, чтобы ограничить или наступить на законные права Ирана. Цель состояла в том, чтобы создать благоприятные условия для прояснения имевшихся на тот момент у МАГАТЭ вопросов к Тегерану. Все эти вопросы были окончательно закрыты и сняты с повестки дня еще в декабре 2015 года, что отражено в соответствующих документах МАГАТЭ и решениях его Совета управляющих. Тем не менее Иран и далее продолжал выполнять все условия ядерной сделки в соответствии с выстроенным балансом интересов и следуя принципу взаимности. Он делал это и в течение целого года после того, как в мае 2018 года Вашингтон в одностороннем порядке разорвал договоренности по СВПД и, нарушив свои обязательства по резолюции СБ ООН 2231, восстановил, а потом и усилил свои национальные санкции против Исламской Республики.
Все последующие решения иранской стороны о приостановке добровольных обязательств, выходящих за рамки ДНЯО и Соглашения с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях, носили ответный, вынужденный характер. Более того, в рамках приостановки Иран действовал в полном соответствии с буквой СВПД, причем все работы проводились под полным контролем МАГАТЭ и не представляли риска распространения. Замечу, что и сегодня Иран остается наиболее проверяемым со стороны МАГАТЭ государством. Надеемся, что в его сотрудничестве с Агентством не произойдет никаких изменений, что бы ни случилось с СВПД.
Подчеркну, что российская сторона всегда строго соблюдала требования резолюции СБ ООН 2231, в том числе касающиеся поставок вооружений. Будем следовать этой линии и впредь с учетом всех установленных СБ ООН сроков.
— Владимир Иванович, 10 февраля отмечается День дипломатического работника. В каком самом необычном месте/обстоятельствах вам приходилось встречать ваш профессиональный праздник?
— В отношении нашего профессионального праздника – Дня дипломата — за последние два десятилетия уже сложились устойчивые традиции, чем-то даже напоминающие встречу Нового года в кругу семьи. У нас в стенах МИДа на это торжество собирается вся большая семья российской дипломатии. Именно этих традиций мы все стараемся придерживаться. Что-то, как вы говорите, необычное в этот день, конечно же, случается. В основном это бывает связано с работой за рубежом. Приходилось участвовать в весьма колоритных мероприятиях – своего рода капустниках, живо отражавших и боевую атмосферу в коллективе, и специфику страны пребывания.

Фарес Кильзие: Почему России следует выйти из сделки ОПЕК+?
«Нефть и Капитал» публикует перевод резонансной статьи известного международного эксперта нефтегазовой отрасли, главы инвестиционного фонда CREON Capital Фареса Кильзие, в оригинале опубликованной на портале Oilprice. По его мнению, выйдя из сделки ОПЕК+, Россия окажется способной преодолеть стагнацию в нефтедобыче, которая сейчас грозит стать самой затяжной с советских времен.
Несмотря на 9-процентное снижение, спотовые цены на нефть Urals в Северо-Западной Европе в 2019 году по-прежнему в полтора раза превышали уровень 2016 года ($63,3 против $41,1, по данным Refinitiv), когда было достигнуто первое соглашение в формате ОПЕК+. В итоге бюджет России вновь, как и в 2017–2018 годах, получил дополнительные доходы, которые, как следует из оценок Министерства энергетики РФ, с момента заключения сделки достигли 6,2 трлн рублей (более $100 млрд).
Рост выше ожиданий
Таким образом, сделка в очередной раз доказала свою эффективность, приведя к результатам, превзошедшим первоначальные ожидания рынка. Например, в 2016 году Всемирный Банк и Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) прогнозировали, что в 2017 и 2019 годах средняя цена нефти сорта Brent составит $59,3 и $58,4 за баррель соответственно, тогда как в действительности она достигла уровня $63,2 за баррель. При этом в 2018 году средняя цена барреля Brent ($71,3) фактически превосходила более чем на $10 уровень прогнозов Всемирного Банка ($59,9 за баррель) и EIA ($57 за баррель).
Столь значительная разница отчасти была достигнута благодаря высокой дисциплине соблюдения условий соглашения его участниками. Например, по данным Международного энергетического агентства (IEA), в ноябре 2019 года члены ОПЕК достигли уровня выполнения соглашения в 154%, а участвующие в сделке страны, не входящие в ОПЕК, выполнили их на 125%. Это затронуло интересы хедж-фондов, которые стали активно инвестировать в нефтяные фьючерсы, поскольку сделка дала им возможность заработать дополнительный доход.
Так что не стоит считать совпадением тот факт, что цены на нефть росли в период декабрьских саммитов ОПЕК в 2018 и 2019 годах — тем более, что в ходе последнего саммита участники соглашения решили его продлить и нарастить снижение добычи.
В результате в первую неделю декабря 2018 года фьючерсы на Brent на Межконтитентальной бирже (ICE) выросли на 4,6% (до $61,4 за баррель), а в первую неделю декабря 2019 года — на 5,6% (до $64,3 за баррель).
Асимметричная выгода
Однако Россия оказалась неспособной извлечь большие выгоды из этой сделки. Привязав бюджет к цене на нефть на уровне $40 за баррель, российское правительство смогло вновь наполнить Фонд национального благосостояния: только за первые семь месяцев 2019 года он увеличился более чем вдвое, с $58,1 млрд до $124 млрд. Заработал на сделке и федеральный бюджет: если в 2016 году его дефицит достигал 3,5% российского ВВП, то за 11 месяцев 2019 года его профицит достиг впечатляющих 3,1% ВВП. Но правительству не удалось вновь запустить экономический рост, который еще в досанкционном 2013 году замедлился до 1,8%, что является несущественным уровнем для развивающихся стран. Более того, само наличие бюджетного профицита стало головной болью для правительства: если в 2016 году в федеральном бюджете осталось неизрасходованными 220 млрд рублей, то в 2018 году этот объем достиг 778 млрд рублей, а в 2019 году — целого триллиона рублей, как следует из оценок Счетной палаты РФ.
Для сравнения, Саудовская Аравия получила от сделки ОПЕК+ гораздо больше.
Главным образом благодаря выросшим нефтяным ценам она на только успешно осуществила IPO компании Saudi Aramco, капитализация которой уже превысила $1,7 трлн, но и запустила стратегическую программу Vision-2030, направленную на диверсификацию экономики за счет масштабных инвестиций в инфраструктуру, туризм и человеческий капитал. Внеся решающий вклад в сокращение нефтедобычи, саудиты смогли сократить свой бюджетный дефицит (с 12,9% ВВП в 2016 году до 3,8% ВВП в 2019 году, согласно IHS Markit) — следовательно, выход России из сделки не будет для них слишком болезненным. О реалистичности подобного сценария свидетельствует тот факт, что в минувшем декабре соглашение ОПЕК+ было продлено лишь на три месяца — четкий признак того, что в 2020 году сделка будет в той или иной степени пересмотрена.
Риски пополам с возможностями
Для России это не только угроза, но и благоприятная возможность. С одной стороны, выход из сделки устранит барьеры для добычи на месторождениях, которые в последние годы были введены в эксплуатацию «Роснефтью» (Сузунское, Русское, Западно-Эргинское, Юрубчено-Тохомское) и «Газпром нефтью» (Куюмбинское, Восточно-Мессояхское). В результате это ускорит рост российской нефтедобычи, динамика которой, по данным ВР, замедлилась с 5% в 1999–2008 годах до 1,3% в 2009–2018 годах. С другой стороны, даже при падении цен федеральный бюджет должен оставаться стабильным, поскольку на данный момент для покрытия его расходов достаточно уровня цен в $40 за баррель, а не более $100, как было еще в 2013 году.
Поэтому пересмотр сделки ОПЕК+ не станет катастрофой.
Сейчас России нужно начинать подготовку к выходу из сделки, а не откладывать это решение до тех пор, пока Соединенные Штаты станут крупнейшим нетто-экспортером нефти, который сможет обнулить усилия ОПЕК по сокращению добычи.
Перевод Николая Проценко

«Чёрный лебедь», я не твой…
Коронавирус – чисто медицинская проблема или диверсия?
Рыков Сергей
Китайский 2019-nCoV называют вирусом-убийцей, и, с некоторым налётом драматического романтизма, «Чёрным лебедем» экономики. Он – месть матушки-природы за хамское к ней отношение или плод дьявольских открытий микробиологов? И непонятно, какая сторона длиннее в этом треугольнике: медицина–политика–бизнес? У микробиолога, специалиста по бактериологическому и химическому оружию Игоря Никулина своя версия происхождения вируса-убийцы.
– Игорь Викторович, вирусом 2019-nCoV в Китае заражены уже более 42,6 тысячи человек, 1018 умерли.
– Это официальные данные. Я думаю, жертв больше. Американцы создали математическую модель и прогнозируют, что к концу февраля будут инфицированы 2,8 миллиона человек, 100 тысяч погибнут.
Из-за эпидемии в Китае закрыты 14 городов, более 400 промышленных предприятий. Ситуация чрезвычайная. Это серьёзный удар по экономике страны, да и по «нервной системе» нации. Посмотрите, какая там была паника, особенно в первые дни пандемии!
– Коронавирус и впрямь похож на корону?
– Под микроскопом он похож на подводную мину с сосками по бокам. Это мина под человечеством. Уверен, что это искусственный вирус. Индийские учёные уже расшифровали его код. Вирус рукотворный, а не природного происхождения.
Судите сами. Восемь смертельно опасных вирусов за последние 20 лет. То атипичная пневмония, то птичий грипп, то свиной… Один факт – просто факт. Совокупность фактов – тенденция. Эти вирусы до 2000 года не цеплялись к человеку. Они миллионы лет мирно жили рядом с нами и паразитировали только на животных. В случае с MERS, ближневосточным респираторным синдромом, например, вирусы паразитировали на верблюдах, на летучих мышах, на змеях, на птицах… Но человека не трогали.
– Умирают только китайцы. Это что же, этновирус?
– Да, похоже на то…
– Но тогда где логика? На территории Китая изобретён страшный коронавирус, который уничтожает самих китайцев?! Массовое самоубийство?
– А кто сказал, что его изобрели в Китае? Его могли завезти в Ухань «дипломатической почтой».
Место и время выбраны, что называется, до минуты и до метра точно. Провести такую диверсию в Пекине или в Шанхае практически невозможно, так как там каждый квадратный метр «простреливается» видеокамерами. Это во-первых. Во-вторых, там много американских компаний и офисов. Тысячи американских служащих. «Огонь по своим штабам»? Не проходит.
Ухань – очень удобный объект для подобной диверсии. Накануне празднования Нового года по восточному календарю на улицах и площадях там не протолкнуться. В Ухани есть бактериологическая лаборатория, на которую всегда можно списать все грехи. В этом регионе испокон веков едят сырое мясо, на что тоже можно при случае сослаться. Наконец, Ухань – перекрёсток мира. Отсюда самолёты летят во все концы мира.
Кстати, по периметру Китая и России расположены порядка 400 биолабораторий. Казахстан, Киргизия, Афганистан, Пакистан, Вьетнам, Тайвань, Филиппины, Южная Корея, Япония…
– Почти везде, где есть американские военные базы…
– Да. Все эти исследования финансирует Пентагон. И везде, где есть биолаборатории (или поблизости от них), с завидной регулярностью происходят вспышки новых неизвестных заболеваний, которые американцы цинично игнорируют. Они ставят опыты на других. Главное, чтобы это было подальше от территории США.
– Игорь Викторович, но есть же международная Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и о его уничтожении (КБТО). И США ратифицировали эту Конвенцию в 1972 году…
– Верно. Но в 2001-м отказались принимать протокол к ней. А протокол предусматривает механизмы взаимного контроля.
Заметьте, когда в 1979 году в Свердловске была вспышка сибирской язвы, мы пригласили лучшего специалиста в этой области, американского генетика-микробиолога, профессора Гарвардского университета Мэтью Мезельсона. Он не был другом СССР, но учёного привезли на место трагедии и показали всё. И Мезельсон согласился с тем, что причиной вспышки стал естественный вирус. (По официальным данным, в Свердловске от вспышки сибирской язвы погибло 64 человека. – Ред.). Большинство погибло от кишечной формы – они употребляли отравленное мясо. Было несколько пострадавших от кожной формы сибирской язвы, это были рубщики этого мяса. Было несколько случаев лёгочной формы.
– Игорь Викторович, в это время я жил примерно в километре от 19-го военного городка, где всё это произошло. Да, по официальной версии заражение сибирской язвой пошло от мяса скота, но активно гуляли слухи, что произошла утечка из подземной лаборатории того самого военного городка...
– Может быть, была и утечка. Я не исключаю диверсию. Мясо тоже можно заразить. Да, в 1979 году в мире была истерика, как сейчас. Да, нас обвиняли в том, что СССР нарушил конвенцию… Но приглашение авторитетнейшего микробиолога, борца против бактериологического и химического оружия всё-таки сняло напряжение. Мы продемонстрировали открытость, чего не сделали американцы – ни в Грузии, где погибли сотни людей от неизвестного вируса, ни в других местах. Везде, где американцы создают лаборатории под видом борьбы с биологической угрозой, количество эпидемий возрастает в десятки раз.
По данным Юлии Тимошенко, на Украине в прошлом году от различных инфекционных заболеваний погибло около 200 тысяч человек. Не знаю, насколько точны эти цифры, но проблема серьёзная. То бутулизм у соседей украинцев, то атипичная пневмония, то корь… Цифры засекречены, но многие блогеры называют цифру в 50 тысяч заболевших корью за прошлый год. И к нам корь занесли. К тому же украинцы ликвидировали свой Санэпидемнадзор. Эпидемии начались, а врачей разогнали. Украина и Грузия – две биологические бомбы на границе нашей страны.
– Игорь Викторович, вы как учёный занимались подобными вирусами?
– После окончания института я восемь лет проработал во ВНИИ прикладной микробиологии в подмосковном Оболенске. Начинал стажёром-исследователем, закончил старшим научным сотрудником. Вместе с коллегами мы доказали, что пресловутый вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – не «месть» природы человечеству, а дело рук самого человека.
– То есть бедные обезьяны, на которых все грешили, ни при чём?
– За основу был взят вирус иммунодефицита зелёных мартышек. Американцы работали с этим вирусом ещё в конце 70-х – начале 80-х годов, но почему-то первенство «открытия» отдали французам. В конце 80-х – начале 90-х годов было много публикаций о том, что в одной из американских тюрем на заключённых проводились опыты с ВИЧ. Что трое из ВИЧ-инфицированных зэков сбежали. Одного из них застрелили при побеге, другого поймали через недели две-три, а третий «подопытный кролик» бегал чуть ли не полгода, заражая проституток в окрестностях Нью-Йорка, а те, в свою очередь, одаривали экзотическим вирусом своих клиентов.
ВИЧ – вершина американской генной инженерии 80-х годов. Как они могли в то время создать такой штамм, для меня загадка. Даже сейчас эта работа тянет на Нобелевскую премию со знаком минус.
Сорос, который тогда финансировал нашу науку, заявил, что если мы будем продолжать эту «провокационную» тему, то он прекратит денежные вливания. Тему закрыли, а британцы спустя десять лет доделали мою и моих коллег работу. И пришли к такому же выводу: ВИЧ – вирус, выращенный в лаборатории.
Сейчас индусов Штаты начинают прессовать за «несвоевременное» открытие генома коронавируса. В нём, между прочим, обнаружены вставки ВИЧ, которые позволяют ему встраиваться в клетки человека.
– А наша страна, Игорь Викторович, надёжно защищена от подобных эпидемий?
– Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила ситуацию чрезвычайной. Всех россиян, эвакуированных из Китая, сажают на карантин под Тюменью. В Австралии и вовсе всех прилетевших оттуда отправляют на «необитаемый» остров, как в Средние века в Венеции. В экстремальной ситуации никакие меры не могут считаться чрезмерными.
Боюсь сглазить, но от масштабных эпидемий мы защищены надёжно. Наш Санэпидемнадзор один из лучших в мире. Ещё с советских времен.
«ЛГ»-досье
Игорь Викторович Никулин, микробиолог, общественный деятель. Родился в 1963 году в станице Абганерово Волгоградской области. Окончил Московский институт тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова (кафедру биотехнологии). Как эксперт по химическому и биологическому оружию был в составе комиссии по разоружению в Республике Ирак.
Работал советником Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, был членом комиссии ООН по биологическому оружию. Выполнял ряд важных дипломатических поручений.

Помпео осмотрел рубежи России
Как встретили гостя из США наши соседи?
Крашенинникова Вероника
Майкл Помпео начал с американского форпоста – Киева. Там президент Зеленский в разных вариантах изъяснял ему свою верность Вашингтону и лично президенту Трампу, чтобы загладить «вину» за неспособность подыграть тому на будущих президентских выборах. «США – ключевой союзник» – да! Усилия Трампа – «очень высоко ценит»! Закупка вооружений – да!
Столь горячий приём на Украине был ожидаем. Но судя по лучащемуся восторгу президента Лукашенко на фотографиях с Помпео, в Минске на президента США также возлагают немалые надежды. «Очень хорошо, что вы после разного рода недопонимания в отношениях между Беларусью и США, безосновательного недопонимания со стороны прошлых властей рискнули приехать в Минск», – сватал Беларусь Вашингтону её президент. Помпео подтвердил, что готов взять невесту: «США хотят Белоруссии помочь создать своё собственное суверенное государство». И в качестве необходимого атрибута суверенитета по-американски смело обещал: «Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100%».
Напомню, в случае Беларуси речь идёт даже не о «сфере влияния» России – о части Союзного государства.
Далее госсекретарь проследовал в другой центр наших интеграционных объединений – в Казахстан. В Нур-Султане стороны обменялись россыпями комплиментов и щедрыми планами. Американский посланец, понятно, манил инвестициями – в энергетику, конечно, и в другие сферы тоже. Два коренных слова незримо присутствовали при этом для Помпео: Россия и Китай. «Я уверен, что наибольшую прибыль страны получают тогда, когда сотрудничают с американскими компаниями», – сделал чёткий посыл госсекретарь США.
В следующем пункте турне Помпео, в Ташкенте, переговоры прошли не только с главой МИДа и с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Туда слетелись главы МИД всего региона – Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана – для министерской встречи «Центральная Азия – США» в формате 5+1. Приглашённых ознакомили с новой заокеанской стратегией в регионе, и, надо полагать, они получили ценные указания по части своих обязательств.
Так что это было, турне Помпео?
Это продолжение президентом Трампом планов Хиллари Клинтон по развалу Союзного государства, Евразийского экономического союза, ОДКБ и по созданию перманентных препятствий для интеграции на постсоветском пространстве. Западной части – Беларуси, вслед за Украиной, предназначено присоединиться к атлантическому сообществу, а азиатской – стать платформой для реализации политики против России и Китая, а также в направлении Афганистана, Пакистана и далее Ближнего Востока.
Госсекретарь Помпео – ближайший единомышленник Дональда Трампа. Зачищая свою администрацию от несогласных, Трамп неизменно его продвигал. Сторонник пыток Майк Помпео сразу после выборов в ноябре 2016 года стал директором ЦРУ, а менее чем два года спустя, в марте 2018-го, – госсекретарём. Помпео – не «болото», не колеблющийся, Помпео – прямой и твёрдый проводник политики Трампа.
Дождались своего счастья все те у нас, кто жаждал сотрудничества с Вашингтоном при Трампе: наконец он начал «ладить» с Россией!
Не сработал при этом ещё один расчёт. В России часто думают, что, если загрузить супостатов проблемами, они оставят Россию в покое. Создай раскол в США, в Евросоюзе – и пусть стороны конфликтов друг друга дубасят. Но оказалось совсем наоборот. Во-первых, дубасить принялись Россию, причём с обеих сторон. И во-вторых, длинных американских рук при этом на всё хватает: и подлить масла в огонь схваток на Ближнем Востоке, и развязать торговые войны против Евросоюза и Китая. И на СНГ тоже.
Паттерн, схема-образ действий администрации Трампа, за три с лишним года проявился достаточно ярко. Там, где предыдущая администрация, пусть не без колебаний, подписывала сложные соглашения – как с Ираном, Трамп нагло, ничего не скрывая, посылает дроны бомбить оппонентов.
Готовьтесь: так же радикально он будет работать и по территории наших интеграционных объединений.

Лилия Шевцова: «Трамп создает для России мучительную реальность...»
Самое неприятное для Кремля это то, что трамповская Америка строит новую биполярность, но не с Россией, а с Китаем.
Как всегда интересную и аргументированную точку зрения на очередную политическую проблему высказала в своем блоге политолог Лилия Шевцова:
«Америка всегда нам подыгрывала. Не желая того. Не понимая того. Неважно. Подыгрывала фактом своего существования в качестве самой могущественной державы и мирового жандарма. Россия имела повод для его сдерживания и оправдания милитаризма и воинствующего рыка.
Любой чих мирового гиганта позволял нам занудно ныть об унижении и неравноправии. А заодно давал Кремлю аргументы для превращения страны в «осажденную крепость», пугая население внешним «врагом».
Через свои отношения с Америкой – гарантию взаимного уничтожения, создание страшилок и диалог по поводу страшилок - Россия и после падения СССР продолжала обеспечивать претензии на сверхдержавность. Даже при оглушающей асимметрии российских и американских ресурсов.
И тут произошел обвал. В Белый Дом пришел президент, который начал крушить не только мировой порядок. Вынырнувший из мути Трамп подрывает основы российской державности, которая во многом держится на предсказуемости Америки, ее верности договоренностям и на согласии видеть в России партнера по ядерной «оси». Увы, становой хребет российской системы висит на американском крюке.
Выдвинув лозунг «Америка прежде всего!», Трамп принялся сбрасывать в мусорную корзину международные соглашения, начиная от договоров по климату и торговле, по иранской ядерной сделке, и кончая отказом от обязательств в отношении европейских союзников и предательством курдов.
Трамп стащил Америку с трона мирового гегемона, выбрав для нее роль ковбоя Дикого Запада. Но отказ от глобального лидерства означает и отказ США от ответственности и обязательств. Рассыпается миропорядок, который держался на американских скрепах и в котором удобно устроились и американские соперники, включая Россию и Китай.
Трамп превратил мировую политику в бои без правил. Но если он плюёт на союзников, то как он может относиться к соперникам? Мы больше не можем быть уверены, как Америка будет реагировать на российские гамбиты. Так, как американцы поступили в Сирии в 2018г, превратив в мясо колонну российских наемников?
Как вообще выходить на октагон при таком разрыве в весовых категориях: ВВП США – 21, 5 трил.долл.; военный бюджет 700 млрд. долл.; ВВП Китая- 14 трил.долл.; военный бюджет 240 млрд долл; ВВП России-1, 6 трил.долл.; военный бюджет 60 млрд. долл.
Отказавшись от роли стража стандартов и правил, Вашингтон переходит к силовому диктату там и тогда, когда посчитает нужным. Ирония в том, что хотя диктат силы является российским средством политики, Россия не привыкла быть ее объектом. А с какой стати Трампу проявлять к нам любезность?
Наши стратеги еще вчера издевались над беззубой Европой, укрывшейся под американским зонтиком безопасности. Сегодня брошенные Трампом европейцы вынуждены увеличивать свои расходы на оборону и учиться думать по-военному. Стоит ли гадать, кого они считают основной угрозой своей безопасности?
Трамп разрушает излюбленный принцип кремлёвской внешней политики - непредсказуемость. Можно себе позволить поражать мир неожиданными кульбитами, когда уверен в реакции слона в мировой посудной лавке. А если теперь не угадать, в какую сторону он развернется?!
Еще неприятнее то, что Трампа не интересуют бесконечные переговоры с Москвой по «стратегической стабильности». Призыв Вашингтона пригласить Китай к переговорам по контролю над вооружениями лишает Россию оснований претендовать на глобальную и исключительную роль.
Самое мучительное для России это то, что трамповская Америка строит новую биполярность. Но не с Россией. А с Китаем. Америка вынуждена искать способ сдержать экспансию ожившего Дракона, не видя больше причин сосредотачиваться на стареющем Медведе. Все последние столкновения Вашингтона с Пекином - это процесс формирования суперлиги, которая будет управлять миром.
Как в эту модель встроится России? На каких правах? Танго требует двух партнеров. Унизительно сидеть при них на приставном стульчике и изображать равного члена разностороннего треугольника.
Пытаться балансировать между США и Китаем, создавая у каждого из них потребность в России? Выглядит, как мельтешение между ногами…
Можно провоцировать гамбиты по всему миру (от Венесуэлы до Ливии), которые будут выглядеть как победы. Но если взглянуть на них с точки зрения исторической траектории, то эти «победы» смотрятся, как доказательство имперского затухания. Путин, встретившись с Трампом, в любой момент может его переиграть. А тот даже не поймет, что его переигрывают. Но это не меняет того факта, что Трамп создает для России мучительную реальность, подрывая привычные формы ее существования на мировом поле.
Учитывая тот факт, что Трамп имеет все шансы остаться в Белом Доме еще на один срок, России предстоит длительная головная боль....»

В токсичной среде
В прокат выходит фильм "Скандал" с Шарлиз Терон в главной роли
Текст: Мария Очаковская
В Голливуде Шарлиз Терон считают королевой перевоплощений, ей по плечу любой жанр. Но самого сенсационного перевоплощения оскароносная актриса достигла в новом фильме Джея Роуча "Скандал" - сыграла роль топ-ведущей канала Fox News Мегин Келли и выступила продюсером картины.
Фильм, который выходит в прокат 13 февраля, основан на реальных событиях: в 2016 году мир потряс разоблачительный скандал, давший начало движению #MeToo - топ-звезды Мегин Келли и Гретхен Карлсон обвинили в сексуальных домогательствах одного из самых влиятельных людей США, серого кардинала общественного мнения миллионов телезрителей, медиамагната и гендиректора Fox News Роджера Эйлса. В фильме телеведущую Гретхен Карлсон, подавшую иск против Эйлса, сыграла Николь Кидман, а вымышленную сотрудницу канала Кайлу - собирательный образ всех жертв - Марго Робби.
Мы видели вас в ролях уродливой убийцы в "Монстре", прелестной диверсантки в "Эон Флаксе", таинственной красотки в комедии "Миллион способов потерять голову", даже бритоголовой Императрицы Фюриозы в "Безумном Максе: Дороге ярости". Но ваша физическая трансформация в Мегин Келли просто ошеломительна.
Шарлиз Терон: Это для меня было очень важно - полностью перевоплотиться в Мегин Келли. Она узнаваемый персонаж и специфический человек - с особенным голосом, манерами… Я искала всевозможную информацию о ней, чтобы понять, почему она говорит именно так и как это связано с ее внутренним миром. Мы работали с гениальным гримером и художником Казухиро Цудзи, он просто легенда, я с трудом его уговорила. Вначале ничего не получалось, и я почти отчаялась, но в итоге он придумал и спроектировал восемь протезов-накладок, два я носила на веках, остальные на носу и подбородке. С этими накладками было тяжело работать, я заново училась моргать. Но когда привыкла - совершенно растворилась в ее образе. Пришлось нанять и тренера по голосу: у Мегин очень низкий тембр и очень быстрая манера говорить, а я по натуре спикер ленивый. В итоге почти надорвала голосовые связки.
Вы рассказывали, что, прочитав сценарий Чарлза Рандольфа, немедленно отослали его вашему другу режиссеру Джею Роучу. Что так зацепило?
Шарлиз Терон: Мне было важно рассказать эту неоднозначную историю о женщинах, существующих в токсичной среде. Миру нравятся истории об обидчиках и жертвах, но реальность не так проста. Всегда опасно наделять хищника вроде Эйлса человечностью, но это необходимо для понимания его манипуляций. Эйлс был обаятельным человеком и настоящим наставником для многих женщин в Fox News, в том числе для Мегин, помогал им строить карьеру. И выступить против него стоило ей сил и мужества. Сыграв роль, я стала ее больше понимать и восхищаться ее бесстрашием. К слову, Джон Литгоу в роли Эйлса виртуозен…
Но мужества ни вам, ни вашим героиням не занимать. Прочность вашей психики уже стала в Голливуде легендой.
Шарлиз Терон: Я ведь выросла на ферме в Южной Африке и много чего повидала. Будь я воспитанной барышней, в крайне молодом возрасте не уехала бы самостоятельно из родной страны и не пробилась бы в кино. У меня простой и жесткий характер: знаю, чего хочу, четко информирую об этом окружающих и умею настоять на своем, если меня не могут переубедить столь же ясными словами. Когда-то эти свойства были отписаны мужчинам, но времена меняются, и это мне нравится. И это мне нравится в моей героине.
Ваша профессия подразумевает "врастание" в чужие лица. Не можете же вы оставлять их на площадке, чтобы завтра опять "надевать"!
Шарлиз Терон: Только так и делаю. Не хватало еще, чтобы вечером после работы к моим маленьким детям приходила Эйлин Уорнос (героиня фильма "Монстр". - Прим. "РГ"). Нет-нет, после съемочного дня я с корнем вырываю из себя характер роли и возвращаюсь к своему природному характеру, который тоже, конечно, не сахар.
Если бы вы не стали профессиональной актрисой, кем бы хотели быть?
Шарлиз Терон: Детская мечта - стать балериной, что в Южной Африке было не просто. Я обожаю танцевать, и мама с самых ранних лет поддерживала меня в достижении этой мечты. К сожалению, травма ноги поставила крест на танцевальной карьере, но не на танцах: я танцую каждый день!
Что еще приносит вам радость?
Шарлиз Терон: Скажу пафосно: чувство удовлетворения от проделанной работы. Конечно, когда тебе на зубы надевают нечто лошадиное, к щекам прикрепляют силиконовые толщинки и изо всех сил уродуют твое лицо, как в "Монстре", или лепят протезы, как в "Скандале", радости мало. Во время съемок "Скандала" у себя в вагончике я едва удерживалась от того, чтобы послать все к черту. Зато когда все закончилось, приходит чувство удовлетворения от хорошо выполненной работы, и это чувство такое теплое и ласкающее, что его трудно с чем-то сравнить.
Плюс еще номинация на "Оскар", который этому чувству не мешает?
Шарлиз Терон: А кому "Оскар" когда-нибудь мешал? Но и "Оскар", и всевозможные красные ковры - это десерт. А вот хорошо сделанная роль - настоящий пир творчества.

Развитие и задолженность в странах с более низким уровнем дохода – Беседа между Кристалиной Георгиевой и Дэвидом Малпассом
Президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпасс
Вашингтон, США
Стенограмма
Г-Н МАЛПАСС: Позвольте мне вначале поприветствовать всех собравшихся и, в первую очередь, Кристалину Георгиеву, на один день вернувшуюся в Банк. Мы очень рады возможности видеть ее здесь и обсудить очень актуальную тему.
Г-ЖА ГЕЛПЕРН: Для меня особая честь присутствовать здесь, и я хотела бы обратиться с краткими словами приветствия к собравшимся и ко всем, кто смотрит нас в интернете. Нам предстоит очень важный разговор о проблемах развития и задолженности стран с более низким уровнем дохода.
Меня зовут Анна Гелперн, и мне доставляет огромное удовольствие находиться в этом зале вместе с Дэвидом Малпассом, известным всем вам Президентом Всемирного банка, а также с Директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Представлять этих людей здесь, в их собственном доме, кажется очень странным. Однако, учитывая, что нас смотрят зрители по всему миру, необходимо дать хотя бы краткую информацию, имеющую непосредственное отношение к сегодняшнему разговору.
Всем нам известно, что Дэвид уже очень давно занимается проблемами задолженности, и мне представляется, что нам будет весьма полезно узнать ваше мнение по этим вопросам, сложившееся на основе многолетнего опыта. Вы работали в министерстве финансов США. Вы знакомы с миром многосторонних организаций и с ситуацией в частном секторе, и прекрасно понимаете, почему мы так удручающе часто обращаемся к рассмотрению этой проблемы, и насколько нам удалось продвинуться в ее решении. Действительно ли мы в этом преуспели?
Что касается вас, Кристалина, то, перед тем как перейти на нынешнюю должность, вы работали во Всемирном банке, а затем в Европейской Комиссии, и вам удалось накопить огромный опыт решения гуманитарных проблем и, в частности, проблем координации, которые сегодня представляют особую сложность, если учесть, с каким количеством новых субъектов и новых механизмов нам приходится иметь дело. Поэтому находиться здесь сегодня – это особое удовольствие и честь для меня.
Что касается меня, то я – юрист. Я – не экономист. И поэтому у меня несколько иной взгляд на проблемы, которые мы будем сегодня обсуждать. Фонд и Банк опубликовали потрясающий совместный документ, и мне представляется, что крайне важно рассмотреть его в привязке к конкретной ситуации. Они публикуют огромное количество данных и исследований экономической политики по этой проблематике, и, на мой взгляд, это свидетельствует о том значении, которое международное сообщество придает прозрачности в этой сфере, даже если в ней предстоит сделать еще очень многое.
Мне представляется, что все это наложило определенный отпечаток и на содержание публикуемого сегодня доклада, не так ли? С одной стороны, во многих отношениях ситуация в странах с более низким уровнем дохода улучшается. Им доступны новые источники финансирования. Уровень задолженности в некоторых из них стабилизируется.
Однако оборотная сторона всего этого – то, что финансирование из новых источников порождает новые риски и новые вызовы. Кроме того, как быть с тем, что половина стран, бремя задолженности которых было облегчено, как кажется, только вчера, опять оказалась в категории уязвимых? Как быть с тем, что, хотя рынки стали для них более доступными, их затраты по выплате процентов растут быстрее, чем экономика?
Итак, в нашем распоряжении 45 минут, возможно, чуть меньше, и мы попытаемся затронуть три темы – по крайней мере, я надеюсь, что нам это удастся.
Во-первых, как мы оказались в нынешней ситуации? Что мы сегодня можем сказать обо всех инициативах, которые осуществлялись раньше? Чему мы научились?
В чем уникальность нынешнего момента? Каждое время имеет свои особенности, но в чем особенность сегодняшнего момента? Какие проблемы встают сегодня перед нами? И, что самое важное, как нам их решать? Учреждениям, двусторонним донорам и кредиторам, гражданскому обществу, всем нам?
Но прежде, один организационный вопрос – возможно, вы это уже слышали. У каждого из вас на кресле лежит карточка. Заполните ее, пожалуйста. Если у вас появятся вопросы, пожалуйста, передавайте их нам. Мне сказали, что наш сотрудник будет ходить по рядам и собирать их. Задавайте вопросы заранее, чтобы нам не пришлось торопливо разбирать их в последнюю минуту. Если вы наблюдаете за нашей беседой в интернете, то, мне кажется, у вас есть возможность направлять вопросы на платформу World Bank Live и, конечно, в Твиттер с хэштегом #DevtandDebt. Вы видите этот хэштег на экране, так что я не буду его диктовать.
Итак, Дэвид, вы уже очень давно занимаетесь этими вопросами, и вам удается сохранять оптимизм. Ну, или, по крайней мере, вы стараетесь его сохранять. Как мы оказались в нынешней ситуации? Будет ли правильно сказать, что что-то пошло не так после инициатив ХИПК и МДРИ?
Г-Н МАЛПАСС: Добрый день и спасибо. Мне кажется, очень удачно, что сегодня здесь присутствует юрист. Можно вспомнить, что 30-40 лет назад мы имели дело с синдицированными банковскими займами. С тех пор виды задолженности претерпели большие изменения – в экономическом, финансовом и юридическом плане. При этом направление, в котором всё это, вместе взятое, развивается, дает мне основания полагать, что мы можем смотреть в будущее с оптимизмом.
Идея состоит в том, чтобы привлекать сторонние сбережения таким образом, чтобы направлять их на осуществление наиболее перспективного проекта или оптимальным образом использовать эти средства в разных уголках мира. Поэтому я и в самом деле уверен, что мы можем смотреть в будущее с уверенностью. Недавно Банк подготовил большой доклад о четырех волнах задолженности. Сейчас мы проходим через четвертую волну.
Что касается вашего вопроса о том, как мы оказались в нынешней ситуации, то – и я говорил об этом в прошлом году – имеет место конфликт побудительных стимулов. Политикам и главам правительств нужны быстрые действия, а это означает, что они придерживаются недостаточно жестких стандартов при заимствовании средств, при отборе проектов, которым они, возможно, занимаются, и возникает вопрос, есть ли у них в действительности стратегия движения их стран вперед.
С другой стороны, финансисты говорят: «Послушайте, у нас есть средства, можем дать вам кредит, давайте договариваться». Тогда как, с точки зрения жителей этих стран, им нужен долговременный устойчивый рост экономики, который на деле позволяет повысить медианный доход.
И эти две цели не вполне совпадают. Поэтому одна из задач, которую пытается решить Банк, играя ведущую роль в обеспечении такой транспарентности – я называю ее транспарентностью долга и инвестиций, – добиться, чтобы суверенные субъекты, то есть, правительства сообщали, на каких условиях берутся займы и каковы цели инвестиций, а потом отделяли одно от другого, чтобы люди могли это оценить – ведь нам, здесь сидящим, трудно сказать, каким должен быть предельный размер задолженности. Я думаю, что это возможно. И мы могли бы обсудить, как добиваться транспарентности – просто чтобы люди могли оценить ситуацию.
Г-ЖА ГЕЛПЕРН: Это очень полезно.
Кристалина, если говорить подробнее, то, как мне представляется, конечной целью является доступ к рынкам, рациональное управление задолженностью и привлечение триллионов долларов, которые нужны этим странам для удовлетворения таких базовых потребностей, как чистая вода, адаптация к изменению климата, борьба с голодом. Так каков же верный рецепт?
Г-ЖА ГЕОРГИЕВА: Позвольте мне сначала сказать всем сотрудникам Банка, что оказаться здесь снова – это очень здорово. Я открою вам маленький секрет. Собираясь сюда, я думала о множестве важных вещей, но не забыла надеть этот красный жакет – специально для вас.
Прежде всего я хочу отметить, что я очень рада тому, что мы начали с темы развития, а затем перешли к разговору о задолженности – как это только что сделал президент Малпасс.
Мои поздравления по поводу пополнения МАР: теперь страны, которые более всего нуждаются в финансировании, смогут получить 82 млрд долл. США.
Но реальность такова, что финансовые потоки не всегда беспрепятственно направляются туда, где они более всего нужны. Фонд провел исследование и пришел к выводу о том, что для достижения Целей в области устойчивого развития странам с низким уровнем дохода необходимо нарастить объем инвестиций еще на 15 процентов, доведя этот показатель до 15 процентов от ВВП. Это – грандиозная задача.
Очевидно, нельзя не признать, что если мы будем рассчитывать на то, что все эти средства поступят только в виде заимствований, то допустим серьезную ошибку в наших рекомендациях для стран. Поэтому важной составляющей нашей сегодняшней дискуссии является вопрос о привлечении внутренних ресурсов, чтобы страны могли наращивать собственный потенциал привлечения средств на инвестиции, а также обслуживания будущего долга. И все мы знаем, что сделать здесь нужно еще очень многое. Фонд считает, что можно добиться дополнительного привлечения внутренних ресурсов в объеме 3-5 процентов ВВП.
И вот теперь мы подходим к вопросу о задолженности. Иными словами, первый важный момент, который я хотела бы отметить, – прежде чем разбираться, у кого можно занять денег, надо посмотреть, можно ли сделать что-то еще. Так что же еще можно сделать? Привлекать внутренние ресурсы, а затем повышать эффективность использования денежных средств.
Изучая государственные инвестиции в странах с низким уровнем дохода, мы можем отследить, что именно было приобретено лишь на 60 центов из каждого доллара. Это не значит, что что-либо приобретается только на 60 центов из каждого доллара. Это означает лишь, что качество инвестиций можно повышать и далее.
А затем мы переходим к вопросам о том, у кого брать кредиты, о структуре задолженности. Очевидно, что нам хотелось бы видеть больше возможностей для привлечения средств из частных источников. И Дэвид очень убедительно говорил о важности этого ресурса.
Но это возможно лишь в том случае, если есть удачные проекты, которые можно было бы профинансировать, и это делает роль государственного сектора очень значимой, с точки зрения как качества возможных объектов финансирования, так и целей, на которые этот сектор привлекает кредиты, и источников этих кредитов.
Все мы знаем, в каком направлении развивается ситуация. Мы знаем, что очень ощутимо вырос объем заимствований из нетрадиционных источников на условиях, не являющихся льготными. Это, естественно, повод для беспокойства. В прошлом году страны с низким уровнем дохода выпустили еврооблигации, в среднем, на 16 млрд евро. Это в три-четыре раза больше, чем всего шесть-семь лет назад. И, конечно же, их выпуск обходится дороже.
Кроме того, есть нетрадиционные кредиторы, не участвующие в координационных механизмах, таких, как Парижский клуб. Поэтому найти надлежащий баланс в этом вопросе – это, на самом деле, серьезная задача для стран и для наших организаций.
Основная цель этого документа – показать, что задолженностью можно управлять более рационально. У нас уже есть устойчивая система управления задолженностью. Ее можно применять на практике. И, как уже отметил Дэвид, мы можем обеспечить гораздо больше прозрачности: кто и кому ссужает деньги, кто занимает деньги, по какой цене и почему.
Позвольте мне в заключение сделать еще два замечания.
Во-первых, нельзя не признать, что мы живем в период «низких ставок надолго». Процентные ставки низки. Деньги стоят дешево.
Но не для всех. Если вы посмотрите, во что обходятся еврооблигации странам с низким уровнем дохода, то это не так уж и дешево. Восемь-девять процентов – нет, это недешево.
Но если вы хотите получить доход, если у вас есть деньги, и вы хотите выгодно вложить их, то куда вы отправитесь? Туда, где вы сможете получить доходность такого порядка. Поэтому побочным следствием низких процентных ставок в развитых странах является увеличение риска вследствие стремления получить более высокую доходность в развивающихся странах и, прежде всего, в странах с низким уровнем дохода.
Второе замечание, которое я хотела бы сделать, – это то, что сегодня во многих странах действуют более эффективные структуры по управлению задолженностью. Но один из наиболее отрезвляющих выводов по прочтении этого документа состоит в том, что сделать предстоит еще гораздо больше. Это – огромная задача для нас.
Г-ЖА ГЕЛПЕРН: Давайте пойдем дальше, и, пожалуй, я попросила бы Дэвида продолжить разговор, поскольку вы очень удачно подвели нас ко второй теме, а именно, чем отличается нынешняя ситуация, верно? Есть множество разных игроков.
Но мне представляется, что один из неизменных факторов – и вы об этом упомянули – это то, что государственное управление имеет большое значение и для инвестиций, и для управления задолженностью, не так ли? Соответственно, если страны заимствуют средства на рынках, то разработанные «Группой двадцати» принципы на это не распространяются – но какие-то рамки должны быть. Возможно, нам нужен более всеобъемлющий свод правил. Но каким образом можно гарантировать, что к тому времени, когда у этих стран появится доступ, у них будет определенный потенциал и, если хотите, потенциал государственного управления как для использования полученных средств, так и с для заимствования?
Может быть, сначала вы, Дэвид, а затем, Кристалина, могли бы подключиться и вы.
Г-Н МАЛПАСС: А я добавлю несколько слов к тому, что сказала Кристалина. Одно из последствий ситуации, которую она называет периодом «низких ставок надолго», – это очевидное неравенство. Я скажу о двух его проявлениях.
Одно из них – то, что в развивающихся странах по естественным причинам доходность будет выше, а значит, выше будет и стоимость обслуживания задолженности, и вот это неравенство можно, если хотите, назвать неравенством между Севером и Югом или между развитыми и развивающимися странами.
Далее, неравенство имеет место и внутри стран, и связано оно с тем, что более крупные и более прочные компании получают больше средств. Таким образом, мы оказываемся в ситуации, когда масштабы проблемы неравенства, которую мы пытаемся решать, явно растут.
И поэтому, как мне представляется, важный аспект транспарентности – немного выровнять ситуацию, чтобы нам не приходилось решать проблемы финансирования стран, в которых, на самом деле, есть возможность финансировать образование и здравоохранение, но сложившаяся там обстановка практически по своей природе складывается не в пользу такого финансирования. Вот поэтому я считаю, что настоятельно необходимо продвигать эту инициативу в этом направлении.
Что же касается государственного управления, то тут речь идет о коренных принципах принятия решений в странах. Знаете, во Всемирном банке существует мощный департамент, специализирующийся на практике государственного управления, – он ведет работу в странах, стремясь наращивать потенциал… Потенциал – это модное слово, но оно может определять, каким министрам предоставлены полномочия подписывать контракты. Если вы подписываете контракт, то будут ли обнародованы его условия?
Знаете, одна из практических проблем, которую мы сейчас решаем, связана с некоторыми новыми кредиторами, не входящими в Парижский клуб, – и, мне кажется, когда мы об этом говорим, людям подчас следует включать сюда Китай. Они не входят в Парижский клуб. Они наращивают масштабы кредитования, что, с одной стороны, хорошо. Мы хотим, чтобы развивающиеся страны получали больше кредитов. Но это означает также, что кредиты следует предоставлять на условиях, которые соответствовали бы принципам международного сотрудничества. Между тем часто в их договоры включается положение о неразглашении, и это не позволяет Всемирному банку или частному сектору ознакомиться с условиями договора.
Поэтому, с практической точки зрения, коль скоро речь идет о государственном управлении, есть некоторые вполне очевидные моменты: пожалуйста, не включайте в договоры с правительствами суверенных государств положение о неразглашении. Дайте правительствам возможность обнародовать условия как займов, так и инвестиций.
Недавно мы направили в Китай группу сотрудников для обсуждения этих вопросов. Китай хочет… ищет способы сотрудничества с международным сообществом в деле разработки таких условий договоров, которые больше соответствовали бы тому, к чему привыкло мировое сообщество.
Г-ЖА ГЕОРГИЕВА: Позвольте мне…
Г-ЖА ГЕЛПЕРН: Кристалина, позвольте мне развить эту тему и, предвосхищая ваш ответ, задать простой вопрос, который не дает мне покоя: а зачем это Китаю? Положение о неразглашении явным образом упомянуто в своде принципов, разработанном «Группой двадцати». Если я – новый кредитор и не занимался этим ни в 80-е, ни в 90-е, ни в 2000-е, если я использую другие механизмы и положения о неразглашении, то зачем мне вступать в Парижский клуб?
Г-ЖА ГЕОРГИЕВА: Хорошо, позвольте мне сначала ответить на этот вопрос, а потом я вернусь к заданному вами более обширному вопросу о том, что можно сделать для повышения степени готовности стран.
Все мы живем в мире, где велика степень взаимозависимости и который более уязвим к шоковым потрясениям. На этом сегодня можно не останавливаться подробнее, если вспомнить, какими проблемами новое потрясение – коронавирус – оборачивается уже сейчас для людей и для экономики.
В этом мире, более взаимосвязанном и более уязвимом к потрясениям, повышение прозрачности и качества отчетности отвечает интересам всех и каждого, потому что, в конце концов, кары ждут именно заимодавцев. И мы это знаем.
Однако еще важнее то, что страны, в которых не обеспечена полная транспарентность, и которые сами не имеют полной картины того, что находится у них «на балансе», по всей вероятности, не слишком преуспеют с точки зрения роста и расширения масштабов своей экономики. Группа экономистов провела анализ, который показал, что, на самом деле, неприемлемый уровень задолженности ставит экономический рост под угрозу.
Поэтому, кто бы это ни был, Китай или кто-то еще, если он хочет получать достойный доход от своих инвестиций, то повышение прозрачности – в его же интересах. Так в чем же проблема? Ближняя перспектива или дальняя перспектива. В краткосрочной перспективе, если вы можете получить больше, почувствовать себя более защищенным, то у вас будет искушение именно так и поступить. Однако в средне- или долгосрочной перспективе вам это не сойдет с рук.
Сегодня мы видим, что и Китай, и, кстати, и другие новые кредиторы четче представляют себе эту проблему, потому что они уже столкнулись с ситуациями, когда неприемлемый уровень задолженности ставит их инвестиции под удар.
На деле – и Дэвиду, и мне это очень хорошо известно, – Китай заинтересован в усилении координации программ кредитования и в получении сведений о том, кто в Китае кому дает кредиты, и какие, поскольку, когда у вас есть государственные компании и официальное кредитование, правая рука не всегда точно знает, что делает левая.
Мне кажется, что здесь сработает и собственный интерес. Страна решительнее защищает себя от риска дефолта – и это тоже имеет значение. И, разумеется, очень важную роль предстоит сыграть организациям, подобным нашим, - Всемирному банку, МВФ и другим.
Вы спросили нас, что делается сегодня и что можно сделать, и я хотела бы внести долю оптимизма, поскольку в прошлом году мы в обеих наших организациях одновременно – в июне или июле – приняли рамочные принципы оценки приемлемости уровня задолженности – новые рамочные принципы. Я говорила об июне? В июле. Хорошо. В июле прошлого года. Извините, мы приняли эти рамочные принципы в июле 2018 года. С тех пор прошло немного времени. Однако за этот период для 53 из 69 стран, подпадающих под действие этих рамочных принципов, уже проведен анализ приемлемости уровня задолженности и приняты меры по повышению качества их отчетности. При этом в 11 странах уровень прозрачности ощутимо повысился.
Я хотела бы привести в качестве примера Сенегал, об уровне задолженности которого мы знаем сегодня больше – говоря точнее, он составляет более 10 процентов от ВВП. Когда я встречалась с министром финансов Сенегала, он не был особенно доволен: казалось, что объем задолженности увеличился. Но он не увеличился. Теперь этот показатель оказался в зоне видимости, и все те, кто принимает решения, могут его увидеть и понять, какие у них есть возможности для заимствования средств и их инвестирования в будущее.
И я слышу от всех, кто работает в этой сфере, что, хотя мы и сталкиваемся с некоторым ростом уровня задолженности, в последние два года фактически происходит его стабилизация. И я рискну утверждать, что повышение прозрачности и повышение качества отчетности вносят свой вклад в улучшение перспектив развития ситуации с задолженностью.
Г-ЖА ГЕЛПЕРН: И это, безусловно, хорошие новости, которые приводятся в докладе. Это – один из наиболее впечатляющих процессов, к которым привлекают внимание его авторы. Однако я хочу выступить в роли адвоката дьявола, сказав, что вы увидели на 10 процентов больше, но при этом очень многое по-прежнему остается вне поля зрения – возможно, не в Сенегале, но не отстают ли процесс и потенциал раскрытия информации от потенциала – как бы это лучше сказать – «заработка на разнице» у тех, кто в этом процессе не участвует?
И речь при этом не только о Китае. То есть, это один аспект. Знаете, ведь эта система очень фрагментарна, верно?
Г-ЖА ГЕОРГИЕВА: Но если вы прочитаете этот доклад, то убедитесь, что в нем изложен вполне трезвый подход к этой проблеме. Там говорится о том, что в странах с низким уровнем дохода потенциал управления во многих отношениях еще относительно невысок. Поэтому мы имеем дело с двойственной ситуацией. Усложняются механизмы кредитования. Растет число источников средств. Однако умение работать с этим накапливается не столь быстро. И мне представляется крайне важным проводить подобные обсуждения, говорить об этом и, что самое главное, приводить реальные примеры того, как можно улучшить положение дел.
Сегодня в этом зале собрались люди, всей душой отдающиеся работе по наращиванию в странах с низким уровнем дохода потенциала, который позволял бы им улучшать качество инвестиций и жизнь своих граждан. Я считаю, что чем активнее мы будем подключать к этому частный сектор, тех, кто пока еще этим не занимается, чем шире будет наш охват, тем лучше.
И никогда нельзя забывать: в конечном счете, все это – дело самих этих стран. Мы можем помочь. Многие знают, что сейчас я приведу сравнение, которое многим уже знакомо. Мы можем подвести лошадь к воде. Но мы не можем заставить ее пить. Поэтому нам надо делать еще больше для того, чтобы, опираясь на факты и апеллируя к ее собственной выгоде, пробудить у лошади желание пить.
Г-ЖА ГЕЛПЕРН: Итак, прежде чем переходить к вопросам и ответам, я хотела бы поговорить о некоторых практических рекомендациях и мерах, которые могут быть полезны учреждениям, донорам и, собственно, всем нам, или которые, возможно, уже взяты ими на вооружение.
Было бы неправильно не упомянуть о реструктуризации долга, не так ли? А это тот вопрос, с которым вы оба, естественно, очень хорошо знакомы. Оба учреждения многие десятилетия внедряют инновации в этой сфере, и плоды этой работы иногда оказываются великолепными, а иногда вызывают глубокую депрессию.
А с появлением новых участников и новых механизмов этой деятельности, даже если каждый работает добросовестно и стремится сделать все, что в его силах, необходимо проделать огромную работу, как минимум, по переводу, чтобы каждый мог прочитать одно и то же и осуществлять инвестиции так, чтобы это приносило устойчивые результаты.
Дэвид, может быть, вы могли бы начать разговор по этой теме. А от вас, Кристалина, я особенно хотела бы услышать, каковы результаты проводимого Фондом анализа политики в этой сфере.
Г-Н МАЛПАСС: Здесь есть несколько аспектов. Так что сейчас я упомяну несколько модных словечек, чтобы слушатели уяснили масштабы задачи.
Когда мы размышляем о прозрачности задолженности, возникает одна проблема – государственные предприятия. Какие из них вы будете учитывать, и на каких условиях страны принимают на себя условные обязательства?
Вы задали вопрос о том, чем повышение прозрачности выгодно Китаю. Но, мне кажется, Кристалина правильно заметила, что можно привести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить, – то же самое верно и для стран-заемщиц: как нам убедить их захотеть повысить прозрачность? Потому что возникает соблазн предоставить гарантийное обеспечение, передать в залог свои активы, не получая от этого полноценной отдачи, создать такие условия ценообразования, чтобы продавать определенные сырьевые товары по сниженной цене на протяжении длительного времени и получить деньги вперед.
Так что всё это – сохраняющиеся, реальные, конкретные проблемы. И когда мы размышляем о реструктуризации задолженности, мне кажется, нам нужно практически… нам придется как-то разграничить различные категории задолженности и инструменты для их реструктуризации. Какие страны в ней нуждаются, а какие нуждаются в такой реструктуризации, которая обеспечила бы их более эффективное долгосрочное развитие? Если просто взять и заявить: я беру эти деньги в долг, но я планирую этот долг реструктурировать, это вряд ли будет выглядеть эффективным планом развития.
Поэтому, я считаю, нам может понадобиться некая процедура для стран, отвечающих критериям кредитования МАР, то есть, для беднейших стран. В рамках МАР-19 мы применяем новую процедуру – Рамочные принципы оценки приемлемости уровня задолженности в интересах развития, сокращенно SDFP, – которая, как ожидается, окажется весьма полезной для этих стран. Нам понадобится что-то особое или придется разработать что-то особое для Аргентины, потому что это такая большая страна, и так далее, по списку. Я не пытаюсь заниматься предсказаниями.
Г-ЖА ГЕОРГИЕВА: Ну, я, на самом деле, во многом продолжу с того места, на котором остановился Дэвид. Раньше в мире существовала традиционная площадка для реструктуризации задолженности – Парижский клуб, но теперь эта схема неактуальна, и нам приходится действовать по двум направлениям.
Первое – это расширение международного сотрудничества по вопросам обеспечения приемлемости уровня задолженности. И здесь важную роль вновь предстоит сыграть Всемирному банку и Фонду. Важную роль предстоит сыграть и «Группе двадцати». И на это надо будет обратить особое внимание.
Затем, второй аспект этого же направления деятельности: создать потенциал для объединения частных кредиторов, эмитентов еврооблигаций, нетрадиционных доноров – прошу прощения, кредиторов, и традиционных кредиторов.
А второе направление деятельности – просто повысить эффективность процесса накопления задолженности. Мы видим, что при выпуске новых облигаций все больше внимания уделяется теперь положениям о коллективных действиях. Мне сказали, что этот инструмент применяют 87 процентов стран с низким уровнем дохода, упомянутых в этом докладе.
В докладе также говорится, что, хотя этот процесс имеет место и носит относительно позитивный характер, проходившая в последнее время всесторонняя реструктуризация задолженности оказалась болезненной и не слишком эффективной. Либо занижались оценки масштабов необходимой реструктуризации – и это требовало проведения повторной реструктуризации, – либо реструктуризация затягивалась, либо в ней участвовали не все стороны. Таким образом, следует признать, что этот процесс оказывается весьма болезненным для столкнувшихся с ним стран.
И последнее по порядку, но отнюдь не по важности: нам необходимо отдавать себе отчет в том, что в мире существует настоятельная необходимость в проведении реструктуризации задолженности, и в этих условиях самое лучшее, что мы можем сделать, – обращать особое внимание на профилактику, потому что профилактика лучше, чем лечение. Для начала не доводите дело до проблем.
И я бы сказала, что многим странам, испытывающим проблемы с задолженностью, следует серьезно отнестись к общей микроэкономической ситуации, которая могла способствовать такому развитию событий. И мне кажется – как ни крути, ничто не может заменить разумную экономическую политику.
Г-Н МАЛПАСС: Вы позволите?
Г-ЖА ГЕЛПЕРН: Да, пожалуйста.
Г-Н МАЛПАСС: Я бы хотел вкратце указать на один аспект, я обращал на него внимание в самом начале: это конфликт стимулов. Когда мы говорим о реструктуризации задолженности, мы должны отдавать себе отчет в том, что руководители страны вполне способны удовольствоваться чем-то меньшим, нежели то, в чем реально нуждается население их страны. Они оценивают ситуацию и говорят: ну, ладно, если вы дадите нам отсрочку платежей на четыре года, это решит наши проблемы на срок наших полномочий или на краткосрочную перспективу. Так что эти вопросы надо решать, если это можно так назвать, в духе международного сотрудничества, –сказать: нам надо действовать исходя из высших интересов народа – и если проводится реструктуризация задолженности, то давайте проведем ее справедливую оценку и добьемся, чтобы она была достаточно глубокой для реального улучшения жизни людей.
Г-ЖА ГЕЛПЕРН: Это крайне важное замечание, и, собственно говоря, я хотела бы просить вас обоих осветить эту тему подробнее. А теперь мы переходим к ответам на вопросы – мы отвечаем на поступающие вопросы, не зная, о чем нас еще спросят. Это прекрасно.
Итак, в докладе говорится о том, что реструктуризация все чаще и чаще проводится за пределами программы МВФ, там, где такой программы нет, верно? В прежние времена – как вы понимаете, это достаточно схематичное изложение, – если бы вы столкнулись с кризисной ситуацией в сфере задолженности, вы бы обратились в МВФ. Затем вы обратились бы в Парижский клуб. Все остальные предложили бы вам сопоставимые условия, предоставили новые финансовые вливания, и вы жили бы долго и счастливо. Как правило, в реальности все проходило не так гладко, но сохранялась определенная последовательность событий.
Но в современном мире, как вы отметили, Парижский клуб перестал быть центром притяжения, появились альтернативные источники финансирования. Как вы сможете гарантировать, что используемые рамочные принципы политики будут способствовать достижению устойчивых результатов, а не подействуют как мертвому припарки?
Г-Н МАЛПАСС: Можно, я добавлю кое-что, а потом передам слово Кристалине? Помимо Всемирного банка, есть и другие многосторонние банки развития. Поэтому я хотел бы расширить ваш вопрос. Коль скоро в мире существуют другие учреждения, имеющие доступ к очень недорогому финансированию на международных рынках и настаивающие на предоставлении этого финансирования странам на очень льготных условиях, то ситуация усложняется.
А если добавить в эту картину еще и частный сектор? И в этих условиях «низких ставок надолго» и низкой доходности центральные банки приобретают гигантские объемы государственных долговых обязательств, долгосрочных государственных долговых ценных бумаг, и это сказывается на всей кривой доходности, а значит, складывается ситуация, при которой реструктуризация задолженности оказывается не столь ориентированной на будущее, какой она должна быть.
Г-ЖА ГЕОРГИЕВА: Для решения проблемы, с которой мы столкнулись, необходимо принимать более решительные и интенсивные меры, чем раньше, в то время, о котором вы говорили. Я хочу сказать, посмотрим правде в глаза. Мир изменился. И продолжит меняться. В детстве я жила в центре столицы, и уходя из дома, я не запирала двери, я знала, что никто у меня ничего не украдет. Этот мир ушел в прошлое.
Мы должны признать, что сейчас мы живем в более сложном мире. Это многополюсный, многофункциональный мир. И что это означает для таких людей, как мы, для учреждений, которые мы представляем, для всех остальных людей? Больше труда, больше активного взаимодействия, больше непрестанной деятельности. Если мы не станем выполнять наши задачи в соответствии с требованиями современного мира, мы подведем бедные страны.
Не то чтобы страны с низким уровнем дохода хотели больших проблем с задолженностью. Чаще всего у них и нет этих проблем. У них идет политическая жизнь, выборы, и так далее. Но надо признать наличие большой разницы в знаниях, потенциале и навыках, когда речь идет о долговых инструментах, источниках этих инструментов и способах управления задолженностью в большом количестве стран с низким уровнем дохода, и этот баланс нужно активно выравнивать с учетом всех возникающих сложностей, а для этого требуется – да, пожалуй, я повторю: для этого требуется труд.
Г-Н МАЛПАСС: Пожалуй, я обозначу конкретнее свою позицию и попрошу МВФ помочь мне в этом. Сейчас мы видим, что другие международные финансовые учреждения, а в известной мере – все учреждения по финансированию развития в целом и, безусловно, официальные агентства по кредитованию экспорта, склонны слишком быстро предоставлять займы, усугубляя долговые проблемы стран.
Например, Азиатский банк развития вливает миллиарды долларов в Пакистан, где сложилась очень непростая ситуация в бюджетно-финансовой сфере. В Африке Африканский банк развития направляет немалые средства в Нигерию, Южную Африку и другие страны, не имея при этом максимально выверенной программы обеспечения устойчивости и продвижения этой работы. В Казахстане ЕБРР активно продвигает свои займы в условиях, когда другие учреждения проделывают огромную работу, а затем осуществляются инвестиции под более низкий процент.
Таким образом, возникает реальная проблема: МФУ сами усугубляют долговое бремя. А затем, мне кажется, на МВФ «давят», с тем чтобы он решил эти проблемы, исходя из наилучших интересов страны.
Г-ЖА ГЕОРГИЕВА: Позвольте, я добавлю еще кое-что, потому что успела сказать только половину того, что должна была. Второй момент заключается в том, что в нынешнем более сложном мире на нас лежит гигантская ответственность: мы должны спрашивать себя, кому мы предоставляем кредиты, для чего, насколько мы уверены в том, что за этими программами не скрываются невидимые обществу айсберги задолженности. Этот спрос с себя чрезвычайно важен.
И кроме того, я хотела сказать: сейчас мы осуществляем в Африке 26 программ. Как видите, нельзя сказать, что Фонд там не присутствует. Мы сотрудничаем со многими африканскими странами. И я полностью признаю, равно как и мои сотрудники, что в новом сложном мире на нас лежит повышенная ответственность за содействие повышению прозрачности задолженности и приемлемости уровня задолженности.
Г-ЖА ГЕЛПЕРН: Знаете, что самое интересное в ваших последних замечаниях? Ведь учреждения, которые вы упоминали, – это не новые многосторонние учреждения, верно? Они появились еще в середине XX века. Но мы испытываем трудности, налаживая взаимодействие между устоявшимися учреждениями и заинтересованными сторонами, находящимися в одной лодке вот уже несколько десятков лет, и это немного тревожно – с точки зрения нашей способности привлекать новые учреждения к совместной деятельности.
Г-Н МАЛПАСС: Кстати, Европейский инвестиционный банк, ЕИБ, активно предоставляет финансирование на еще более льготных условиях, чем банки, которые я упоминал ранее. Много внимания уделяется АИИБ, Азиатскому инфраструктурному инвестиционному банку, но с ним налажено, в известной мере, более эффективное взаимодействие. Он находится в Пекине, но стремится к внедрению у себя стандартов, аналогичных стандартам Всемирного банка, и открыто заявляет об этом желании. И эти практические соображения приводят к тому, что с этим банком возникает меньше проблем в этой области, чем с другими.
Но это не значит, что будущее будет именно таким. Но вы сделали абсолютно верное замечание. До сих пор самой проблематичной была именно традиционная координация.
Г-ЖА ГЕЛПЕРН: Ну что ж, почему бы нам не перейти к ответам на вопросы, тем более, что некоторые из них мы затронули, но не стали подробно в них углубляться.
Итак, первый вопрос вряд ли вас удивит. Он звучит так: приведет ли создание глобального механизма реструктуризации суверенной задолженности к повышению эффективности взаимодействия между кредиторами? Позвольте мне дать некоторые пояснения. Кристалина, вы упомянули положения о коллективных действиях. Совершенно верно. У нас с вами есть надежная модель, и, с учетом того, что самая быстрорастущая категория долговых инструментов во многих из этих стран – это евробонды и облигации в зарубежной валюте, 87 процентов – это еще не 100, но это весьма неплохой результат. Но, разумеется, сложность отчасти заключается в том, что в большинстве этих стран основная часть долга приходится не на эту категорию задолженности. Это самая быстрорастущая категория долга, но при этом очень разношерстная.
А некоторые условия – вы уже упоминали их ранее: залоговое обеспечение, разные заемщики, разные кредиторы, разные гарантии, и это еще больше усложняет ситуацию. Что касается долга частных структур и даже муниципальных образований, то для этого есть процедура банкротства, верно? Почему бы не вернуться к этой идее? Может быть, частный сектор проявит больший интерес к участию сейчас, когда он в некотором смысле находится «за столом» в меньшинстве?
Г-ЖА ГЕОРГИЕВА: Сложность заключается в том, что сейчас мы еще активнее, чем раньше, стремимся упорядочить территорию, с трудом поддающуюся упорядочиванию. Но это не значит, что мы не должны пытаться расширить рамки, позволяющие нам проводить более эффективную реструктуризацию задолженности. Я поняла вашу позицию. И я дам на ваш вопрос следующий ответ: да, разумеется, мы должны искать пути повышения эффективности координации и сотрудничества в области управления задолженностью.
Нам также надо признать, что мы должны быть кристально честными и действовать соответствующим образом в ситуациях с неприемлемым уровнем задолженности. В качестве примера я могу привести нашу директиву в Африке. В Мозамбике возникла ситуация с неприемлемым уровнем задолженности, и необходимо было принять меры. И это серьезная задача для нас, для всего сообщества международных организаций: как мы можем охватить все аспекты, активно работать на местах и в то же время действовать честно и решительно? Но мы должны к этому стремиться, в противном случае я не думаю, что можно будет считать, что Дэвид и я справляемся со своими обязанностями.
Позвольте мне напомнить, почему меня так сильно беспокоит проблема задолженности в странах с низким уровнем дохода. Потому что без эффективного управления этой задолженностью уплата процентов, зачастую очень высоких, приводит к оттоку ценных ресурсов, которые можно было бы инвестировать в образование, здравоохранение и инфраструктуру, лишает этих средств людей, наиболее нуждающихся в качественных инвестициях. И на нас возложена колоссальная ответственность по защите интересов этих людей.
Г-Н МАЛПАСС: Именно так. Можно мне добавить еще несколько слов о прозрачности задолженности и инвестиций? Мне кажется, в наше время вопросы реструктуризации и вопросы обращения с частным сектором вызывают довольно много затруднений. Но надо начать с того, что весь мир, должники, кредиторы, международные учреждения сталкиваются с серьезными затруднениями, пытаясь просто-напросто выявить задолженность и добиться раскрытия ее условий.
Поэтому я хотел бы остановиться на этом вопросе и отметить, что он носит неотложный характер. В ближайшие… Нет, нельзя сказать, что его невозможно решить. Разве мы не можем выяснить сумму задолженности, допустим, Сенегала? Но мы в Банке столкнулись с такими затруднениями, пытаясь выяснить это, что мы пошли другим путем, или, скажем так, мы пытаемся определить общую картину задолженности, но лишь для отдельных стран в порядке эксперимента. И вот, мы берем Анголу, Сенегал или любую другую страну, и пытаемся, скажем, найти всю возможную информацию о различных видах задолженности, которую они накопили, и об условиях этого долга. Вот эта задача намного труднее.
И как вы отметили, Анна, каждый раз, когда выявляют какой-либо вид долга или способ увеличения долга, кредиторы и заемщики находят новый способ, который действующая система распознать не в состоянии. Поэтому мы стараемся действовать как можно быстрее и выявлять как можно больше категорий задолженности, надеясь, что позднее мы сможем использовать эту информацию для эффективного решения проблем.
Г-ЖА ГЕЛПЕРН: Нам задали много отличных вопросов, и я сейчас пытаюсь их сгруппировать. Я очень хочу, чтоб мы обязательно рассмотрели один из этих вопросов. Сейчас мы вернемся к любимой теме моей жизни – реструктуризации задолженности. Но не забудем и финансирование развития, это то, с чего вы начали, Кристалина.
Итак, вот два вопроса.
Кто будет предоставлять финансирование развивающимся странам, если мы прекратим деятельность международных финансовых учреждений и агентств по кредитованию экспорта в Китае? Не уверена, что кто-то предлагал прекратить их деятельность, но более общий вопрос заключается в том, откуда будут поступать все эти деньги. И если все станут открытыми и честными, раскроют информацию обо всех затратах, не приведет ли это к трениям – но, может быть, это будет во благо?
И я бы хотела задать еще один вопрос, который, как мне кажется, связан с предыдущим: какую роль играют такие программы, как, например, глобальный механизм финансирования на льготных условиях, – я попробую перефразировать свой вопрос, – итак, какое влияние они оказывают на страны с большими объемами задолженности и на страны со средним уровнем дохода. Если взглянуть на это шире – как эти программы сочетаются с поддержанием приемлемого уровня задолженности? И каким образом можно решить проблему задолженности, не закрывая или не ограничивая подобные программы?
Г-Н МАЛППАСС: Можно, я попробую сначала ответить на первый вопрос: кто должен предоставлять финансирование? По имеющимся эмпирическим данным, прозрачные страны на самом деле могут получить финансирование по более низкой процентной ставке. Я думаю, нам следует принять на вооружение вот какую модель: в мире есть большой объем сбережений, которые можно предоставить заемщикам, желающим поддерживать свою прозрачность и располагающим прозрачными инвестиционными проектами, куда можно направить эти средства. Поэтому, мне кажется, этот вопрос не очень важен – то есть, я согласен, что его следует рассмотреть, но речь вовсе не идет о том, чтобы прекратить финансирование. Речь о предоставлении и привлечении гораздо большего объема финансовых средств.
Г-ЖА ГЕОРГИЕВА: Позвольте мне добавить несколько слов. Я согласна с Дэвидом, обеспечение прозрачности задолженности – это способ привлечь больший объем финансирования в страны с низким уровнем дохода. Но я бы хотела ответить на ваш второй вопрос, о глобальном механизме финансирования на льготных условиях и об аналогичных механизмах.
Я бы хотела пояснить, что такое механизм финансирования на льготных условиях, для тех, кто незнаком с этим термином. Это механизм снижения процентных ставок по займам, предоставляемым странам со средним уровнем дохода, находящимся под влиянием внешних факторов, говоря конкретнее – притока сирийских беженцев в Иорданию или Ливан или венесуэльцев в Колумбию. Таким образом, механизм использует финансовые средства доноров не для того, чтобы вливать их в страну в качестве донорской поддержки, а для того, чтобы снизить стоимость кредитов, создавая условия для осуществления широкомасштабных инвестиций, в том числе в потенциально более доходные сферы. Мне кажется, это эффективная модель, позволяющая использовать средства с большей пользой – для наращивания институционального потенциала, для подготовки проектов и наблюдения за их осуществлением. На самом деле, мы в Фонде осуществляем финансирование на льготных условиях в гораздо меньших масштабах, чем Банк. Объем наших механизмов кредитования с нулевой процентной ставкой – всего лишь около 1 млрд долл. США в год. Мы намерены изучить эти инструменты подробнее. Существует ли более эффективный способ помочь странам, остро нуждающимся в увеличении финансирования? И, на самом деле, мы считаем, что модель механизма финансирования на льготных условиях могла бы здесь помочь. Используйте с умом имеющиеся у вас средства, и тогда вы сможете добиться гораздо бóльших успехов в стимулировании экономического роста и создании рабочих мест в нуждающихся странах.
Г-ЖА ГЕЛПЕРН: Это были чрезвычайно полезные и информативные ответы. У нас осталось пять минут и восемь вопросов. Сомневаюсь, что мы успеем ответить на все вопросы, но я вновь попробую их сгруппировать. Итак, у нас есть ряд вопросов, посвященных оказанию технической помощи, вашей совместной работе по оказанию технической помощи, в частности, по наращиванию потенциала обслуживания задолженности. Не пора ли перейти от технической помощи по запросу к обязательной технической помощи? Я не уверена, что это возможно – если продолжить вашу метафору о лошадях, которых надо напоить водой, – но я думаю, есть еще один вопрос, в котором, скажем так, используется слово «обязательный». Каким образом мы можем сделать обязательным раскрытие информации о договорах? Каким образом Всемирный банк и МВФ усиливают подотчетность стран с более низким уровнем дохода за каждый вложенный цент?
И можно мне поднять еще один вопрос, который мы не затрагивали впрямую, но который так или иначе касается всего, о чем вы говорили. Избиратели – это жители страны, верно? Поэтому представление о том, что раскрытие информации о задолженности, прозрачность задолженности, прозрачность инвестиций, – это нечто, касающееся только Всемирного банка и МВФ, чисто технический вопрос, – это представление является ошибочным. Государственный долг – это долг государства. И у людей должна быть возможность требовать отчета у своих правительств. Но надо ли делать обязательным раскрытие информации и предоставление технической помощи?
Г-ЖА ГЕОРГИЕВА: Мне ответить? Хорошо. Видите ли, я активно выступаю за внедрение стандартов раскрытия информации, за то, чтобы эти стандарты были разработаны надлежащим образом, а еще за последующий переход от добровольного к обязательному раскрытию информации. Мне кажется, это верный путь. Но это не значит, что такой путь будет легким. У меня возникнут трудности. Я пытаюсь заставить лошадь напиться. Но в самом деле, если подумать серьезно, речь идет не о выборе, который делают страны. Они все еще имеют возможность бездумно набирать кредиты. Речь идет об их долге перед своими гражданами и перед мировым сообществом, в котором все мы живем и работаем, для меня это совершенно очевидно. Что мы можем сделать в меру наших скромных возможностей? Мы должны быть требовательнее к себе в рамках своей деятельности, мы должны понимать, как мы можем и не можем поступать в тех случаях, когда нам не предоставляют информацию. И этот образ действий обязателен для нас, если использовать слово «обязательный».
Но я скажу более оптимистично, что мы наблюдаем большую заинтересованность в наращивании технического потенциала управления задолженностью, большую заинтересованность в наращивании потенциала в области управления налогово-бюджетной системой, иначе говоря, заинтересованность в проведении внутренних реформ в целях мобилизации ресурсов. Так что, откровенно говоря, лошадь-то хочет пить.
Г-ЖА ГЕЛПЕРН: Еще как хочет.
Прошу вас.
Г-Н МАЛПАСС: А для юристов я добавлю вот что: предоставляя кредиты, Банк применяет оговорку об отказе от залога активов, а это значит, что другие кредиторы не вправе требовать залога или гарантийного обеспечения. Так что, с учетом применения этой оговорки, существует политика заимствования на нельготных условиях, которую мы пока что продвигаем недостаточно активно. Что касается положения о нераскрытии информации, то МВФ, действуя на основании статьи 4 и других разделов его правил, имеет возможность настаивать на своем и требовать раскрытия информации. Я думаю, что мы, являясь частью сообщества, можем принять этот метод на вооружение и способствовать его применению.
Г-ЖА ГЕЛПЕРН: А знаете, вы ответили на два вопроса, которые я даже не успела задать. Это касается ваших действий в отношении обеспеченной задолженности и оговорки об отказе от залога активов. А еще один вопрос возвращает нас к ХИПК, МДРИ и к нашим действиям… какие еще инструменты у нас есть для…
Г-Н МАЛПАСС: Что касается этого вопроса, то мы продолжаем осуществление ХИПК – Инициативы в отношении бедных стран с крупной задолженностью. Она была выдвинута в конце 1990-х годов.
Г-ЖА ГЕОРГИЕВА: Да, и к ней должна присоединиться Сомали…
Г-Н МАЛПАСС: Быть может, у истоков этой инициативы стояла Кристалина, а также другие присутствующие в этом зале. Мы работаем над окончательным присоединением Сомали к этой инициативе, мы планируем привлечь и другие страны.
Так что есть несколько инициатив, которые, я считаю, были концептуально хороши. Сейчас они устарели, но оказали свое влияние. И мы можем также опираться на них в рамках нынешнего процесса, в том числе и на МДРИ.
Г-ЖА ГЕЛПЕРН: Ну что ж, без ответа у нас остался лишь один вопрос из этой большой стопки – нет, на самом деле, таких вопросов много, но я думаю, в конце стоит напомнить о том, что, конечно, не только бедные страны несут на себе бремя задолженности. В этом и заключается проблема – вы ведь упоминали проблему неравенства, верно? Объем задолженности у некоторых стран в несколько раз превышает размеры их экономики, но эти страны не испытывают никаких затруднений. Их выручают более низкие процентные ставки, а структура сроков погашения их задолженности выглядит таким образом, что мы не беспокоимся о них так, как могли бы. Но есть страны, которые не могут себе всё это позволить. Существует целый ряд слабых мест, и мы, к сожалению, не можем просто махнуть на них рукой, расслабиться лет на десять и не волноваться из-за них.
Г-Н МАЛПАСС: Меня волнует этот вопрос. Неравенство приводит к тому, что новые игроки на рынки не могут получить средства для того, чтобы открыть собственное дело, банки не доверяют женщинам и не кредитуют их.
А если говорить в целом о политике в этой области, то в мире действуют три основных центральных банка – Японии, США и Европы, и еще Банк Англии, которые приобретают долгосрочные долговые обязательства за счет краткосрочных заимствований. Они берут кредит «овернайт» и вкладывают средства в долгосрочные активы. Это конкретный пример неравенства – и серьезная проблема. Это буквально означает, что крупные, устойчивые предприятия получают больше капитала, получают более дешевый капитал, а это совсем не похоже на модель экономического роста.
И мы видим, что показатели экономического роста в Европе остаются очень низкими десятилетие за десятилетием, год за годом, и это продолжается уже больше десяти лет, и этого недостаточно для того, чтобы реально «подтянуть» развивающиеся страны.
Г-ЖА ГЕЛПЕРН: Кстати, о недостаточности: у нас уже недостаточно времени. Может быть, нам удастся когда-нибудь встретиться с вами на целый день, у нас осталось еще много неотвеченных вопросов, хотя вы и затронули в своих ответах много вопросов, которые даже не были вам заданы.
Большое спасибо. Большое спасибо Президенту и Директору-распорядителю, а также всем остальным участникам.

Рамис Юнус о провалившемся импичменте Дональда Трампа: «Позор Америки»
Американский политолог Рамис Юнус, специально для «Новых Известий».
Отказ республиканского большинства в Сенате США пригласить на слушания ключевых свидетелей, способных пролить свет на всю правду в вопросе "украингейта", приведшего к началу процедуры импичмента президента Трампа, еще больше разделил не только политический истеблишмент страны, но и в целом американское общество, на два непримиримых лагеря.
То, что Сенат проголосует строго по партийному списку, многие эксперты предполагали давно и поэтому в этом вроде нет ничего удивительного, но если учитывать то, что за этим политическим процессом наблюдала не только вся Америка, но и весь остальной мир, то произошедшее стало настоящим позором Америки, так как нельзя быть "беременной наполовину" и довольствоваться полуправдой, голосуя строго по партийному списку, особенно в таком важном политическом процессе, где затронуты основы Конституции США.
Как можно было не пригласить и не допросить под присягой ключевых свидетелей и непосредственных участников этого скандала: экс-советника по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, госсекретаря Майка Помпео и руководителя аппарата Белого Дома Мика Малвейни? Ведь это же могло очень сильно усилить позицию сторонников президента США и не оставлять более возможностей для маневра его оппонентам? А теперь, судя по всему, нижняя палата Конгресса США будет стремиться вызвать этих свидетелей к себе, чтобы продолжить этот политический процесс, но уже в расчете на общественное мнение, с тем чтобы перетянуть на свою сторону голоса внепартийных избирателей, которых в США приблизительно около 40% и от того, как они будут голосовать осенью этого года, и зависит теперь будущее нынешнего президента США. Весьма уместно тут вспомнить слова великого Цицерона: "Чьи уши закрыты для правды и кто не в силах выслушать ее из уст друга, того не спасет уже ничто."

Условия мира диктуют победители
не «Ялта-2», а «новая Ялта»
Михаил Хазин
Я полагаю, что термин "Ялта–2", применительно к инициативе Путина, — неправильный. Дело в том, что он неявно подразумевает попытку в новом формате переписать Ялтинско-Потсдамскую систему. Но сейчас международная, мировая ситуация абсолютно отличается от той, которая была 75 лет назад. Ялтинские соглашения были достигнуты в преддверии военного поражения ряда стран, которые в результате должны были не просто потерять свою периферию в пользу победителей, но и вообще утратить свою суверенность.
Сейчас же никаких явно проигравших стран нет. Войну проигрывает международная сетевая структура, такая грибница, "ризома" финансового глобализма. А выигрывают — те страны, которые у себя заражение этой ризомой преодолели. И есть страны, которые её не преодолели. Вот сегодня Трамп близок к преодолению, Си Цзиньпин близок к преодолению (у него финансовый глобализм представляют бывший генсек Ху Цзиньтао и нынешний премьер Ли Кэцян), Путин начал преодоление, почти полностью сменив финансово-экономический блок правительства России.
Что касается Джонсона и Макрона, то Макрон полностью подконтролен этой "ризоме", а Джонсон, похоже, начал преодолевать её влияние. Есть мнение, что "брекзит", выход Великобритании из Евросоюза, является контрпереворотом по отношению к перевороту 1936 года, когда Эдуард VIII был вынужден отказаться от короны Соединённого Королевства. Соответственно, тогда к власти в Лондоне пришла либеральная команда, фронтменом которой был Черчилль. Кто там реально был главным, неизвестно. Но фронтменом был Черчилль. И первое, что он сделал в качестве главы правительства, — сдал Британскую империю банкирам.
За годы "холодной войны", открытой Фултонской речью того же Черчилля, а предопределённой Бреттон-Вудскими соглашениями 1944 года, финансовые глобалисты постепенно взяли под свой контроль практически все страны мира, включая КНР и Советский Союз, а потом — и Россию. И контроль этот был основан на гарантиях экономического роста, за счёт бреттон-вудского финансового механизма, подконтрольного тем самым финансовым глобалистам.
С 90-х годов в результате элитного консенсуса за финансы и экономику нашей страны отвечала либеральная элитная группа, то есть — региональная, российская часть той самой "ризомы", которая существует в глобальном масштабе. Они, при помощи денег, частично полученных от старших "партнёров" (в том числе — кредитов МВФ), а частично — украденных при приватизации, прибрали к рукам и часть силовых ведомств — например, прокуратуру.
И практически в каждом силовом ведомстве на ключевых должностях, вплоть до замминистров, до сих пор сидят люди, которые получили генеральские звания при Чубайсе, при Волошине, при Медведеве…
В других странах мира такой симбиоз был ещё более давним и прочным, в США он сформировал структуры, которые сейчас в СМИ именуются "глубинным государством". И всё бы ничего, но после кризиса 2008 года у этой глобалистской "ризомы" начались проблемы, связанные с тем, что новых реальных активов после освоения ресурсов СССР и его бывших союзников по "соцлагерю" не возникло. А "ризома" — очень агрессивный и ресурсозатратный организм, для своего существования она требует всё большую часть того объёма прибылей, который генерируется в современной мировой экономике.
В норме финансовый сектор всю его историю получал 5% прибыли, но со времён Бреттон-Вудских соглашений, за счёт легализации эмиссионной прибыли, эта доля росла и перед кризисом 2008 года подскакивала до 70%. Сейчас она около 50%, но это всё равно в 10 раз больше нормы. А если учесть, что с 2008 года механизмы экономического роста, основанные на эмиссии доллара, уже не работают, то система начала пожирать саму себя.
Свободного ресурса у неё больше нет, потому каждую конкретную проблему она закрыть может, сконцентрировав оставшиеся ресурсы, но пока та решается, возникают две-три новых… Соответственно, финансовые глобалисты всё время проваливаются. И самый главный прорыв своих противников, который они так и не сумели купировать, — это, конечно, Трамп. Но все понимают, что остановиться или отступить эти ребята не могут. Ну подумайте сами, если всё вернётся "на круги своя", то из 10 нынешних банкиров и финансистов останется всего один… То есть эта "ризома" финансового глобализма будет, в конце концов, уничтожена.
То, что предлагает Путин в части встречи постоянных членов Совбеза ООН, — это необходимый и логичный шаг в данном направлении. Потому что всегда в истории победители собирались и устанавливали новые правила для мира. Правда, в нынешнем случае, на мой взгляд, Великобританию и Францию смогут (и должны) заменить другие страны — например, Индия. Великобритания явно не потянет масштаб задачи, а Франция… Франция (как и Германия, кстати) пока находится под властью финансовых глобалистов и, соответственно, на статус оной из держав-победительниц претендовать не сможет.
Так что это — не какая-то "Ялта–2", а именно "новая Ялта", которую, впрочем, с таким же успехом можно назвать новым Венским конгрессом или новым Вестфальским миром, или новой Берлинской конференцией, которая была после Крымской войны, или "новым Парижем" — я имею в виду Парижскую конференцию 1919-20 годов, на которой, собственно, и были нарисованы политические карты современного мира. В том числе — и знаменитая "линия Керзона".
А вместе с "новой Ялтой", устанавливающей новые нормы в мировой политике, нужен будет и "новый Бреттон-Вудс", устанавливающий новые нормы в мировой экономике и в мировых финансах. Участвовать в нём должны будут те же страны, что и в "новой Ялте", и именно они должны будут стать лидерами региональных валютных зон, на которые распадётся долларовая Бреттон-Вудская система. Впервые мы написали об этом в 2003 году в книжке "Закат империи доллара и конец "Pax Americana", и события, которые произошли с того времени, полностью подтвердили наш прогноз.
И, да, чуть не забыл. Для того, чтобы Путин мог в 2022-23 годах участвовать в "новой Ялте" и "новом Бреттон-Вудсе", он должен полностью зачистить "ризому" финансового глобализма на территории нашей страны. Ничего личного — только геополитика.

«Никакой политики»: почему американцы не бегут из России
Интервью главы Американской торговой палаты в России Алексиса Родзянко
Рустем Фаляхов
Как себя чувствует американский бизнес в России после ареста Майкла Калви, чего Вашингтон добился санкциями, сделал ли Дональд Трамп Америку снова великой, что ждать от нового посла США в РФ Джона Салливана? Об этом и многом другом в интервью «Газете.Ru» рассказал Алексис Родзянко, глава Американской торговой палаты в России.
— Как американский бизнес, работающий в России, оценивает смену правительства и предложения по внесению изменений в Конституцию?
— С одной стороны, эти изменения дают надежду на возможность некоторой политической стабильности — сейчас и позднее, после 2024 года. Но это мнение я слышал, скорее, как надежду, чем как конкретную оценку.
Вторая интерпретация событий — что при новой системе правительство будет отделено чуть больше от силовиков.
Есть также ожидания, что с новыми лицами в правительстве появятся и новые идеи. Интересно увидеть, какими они будут.
Сама фигура Михаила Мишустина в роли премьера дает надежду. Его последние достижения в налоговой сфере, например, хорошее администрирование налогов, бизнесом оценивались высоко.
— А минусы имеются у такой конструкции, когда налоговик во главе правительства?
— Мишустин начинает с чистого листа. Хотя это вносит некоторую неопределенность, но, наверное, это скорее плюс. Потому что он более технически, беспристрастно, подходит к делу. Но в чем-то и минус: если от премьер-министра будут нужны политические решения, поначалу у него может не хватить политического капитала на такие решения.
— Американский бизнес продолжает утекать из России?
— Те, кто ушел — уже ушли. Те, кто по объективным причинам вынужден был сократить свое присутствие — уже сократил. Остальные продолжают работать. Причем работать вполне успешно, продуктивно, но очень спокойно и тихо.
Никакой политики, только бизнес
— А что значит «по объективным причинам» ушли?
— Говоря это, я думал о ситуации с компанией Ford, например, которая, исходя из конкурентоспособности своей продукции, приняла решение о реструктуризации бизнеса и на российском рынке, и на европейском. Он сильно ужался, остался только там, где компания может успешно зарабатывать. Это было связано со стратегией и успехами компании на российском и европейском рынках, а не с политикой.
2019 год был достаточно стабильным, успешным, но без такого бурного роста, как, наверное, компаниям хотелось бы и к которому привыкли в двухтысячных годах.
— А в этот год не предвидится чего-то прорывного?
— Наши компании в России работают прибыльно и ожидают, что продолжат прибыльно работать и в 2020 году.
— Но риски все больше, а возможности для получения большой прибыли снижаются. Или нет?
— Россия была в прошлом году одной из самых прибыльных, если не самой прибыльной страной в плане роста акций. И это привлекает внимание и привлекает реальные деньги. Поэтому есть деньги, которые хотят в Россию, они идут. Что касается бизнеса, работающего на территории России, то да, рост медленный, но потенциал роста здесь больше, чем в Европе. Потому что уровень здесь все-таки не европейский, и до него можно дорасти. Но есть проблема структурных реформ, вопрос свободы предпринимательства…
— Хочется еще вернуться к поправкам в Конституцию РФ. Ничего не настораживает? Нет ощущения, что Россия еще больше может закрыться от мира?
— Ну, пока эти изменения известны только в общих чертах. Есть изменения в сторону либерализации, когда премьер-министр будет ответственен перед Госдумой. У Думы появляются новые полномочия, новые возможности. Это, наверное, делает правительство более чувствительным к реакции Думы, которая представляет интересы граждан.
Но, с другой стороны, судебная реформа очень нужна России, и структура новой власти у меня оставляет этот вопрос открытым.
«Эта рана продолжает гноиться»
— После дела главы Baring Vostok Майкла Калви вопросов к судебной системе, вроде, уже нет…
— Вы знаете, если бы это было «после дела Калви». Но это «во время дела Калви» пока. Это рана, которая все еще продолжает гноиться. И у меня нет ощущения, что что-то в тех преобразованиях, которые были названы в последние дни, было бы нацелено на реформирование судебной системы.
— Хочется теперь перейти к Трампу. Процедура импичмента стартовала. Из тех претензий, которые рассматриваются сейчас, какая, на ваш взгляд, самая серьезная? Использование служебного положения?
— Это самый острый момент. Если хотите, это вопрос мотива. Почему он хотел, чтобы расследовали дело Байдена? Чтобы наказать за коррупцию? Тогда это хорошая мотивация.
Но если это мотивация: «Ах, этот человек — мой главный конкурент, сейчас будут выборы, и лучше его снять со сцены», — тогда это, наверное, плохая мотивация. Главный вопрос, каково будет впечатление у сенаторов о том, какая мотивация преобладала — первая или вторая? Причем мотивация была, но факта преступления не было. Деньги, которые были обещаны Украине, они пошли Украине.
И тогда возникает вопрос: помысел сам по себе — достаточная ли причина снимать с должности президента? И доказано ли, что у него был именно этот помысел?
В сухом остатке: маловероятно, что сенат Трампа снимет. Чтобы снять президента по импичменту, нужно две трети голосов сената. Но, наверное, в сенате и половины не наберется тех, кто будет голосовать за то, чтобы его снять.
— А по вашему ощущению, какой все-таки мотив был у Трампа? «Замочить» конкурента?
— Думаю, что мотив был смешанным, сыграло свою роль и то, и другое. Есть еще такое обстоятельство: Трамп наверняка не забыл предыдущую предвыборную кампанию, когда Украина активно выступала против него как кандидата. И, мне кажется, он такие вещи не забывает.
— А ничего нового с фактической точки зрения уже, наверное, не добавится по ходу процедуры импичмента? Все, что можно нарыть против Трампа, уже нарыли?
— Знаете, если все внутренние разговоры, которые были между Трампом и его советниками, когда этот вопрос рассматривался, будут раскрыты, то это может стать новой информацией. И именно эту информацию ищут его обвинители — демократы.
Но, как говорят, и адвокат Трампа, и исполнительная власть имеют право обсуждать, что хотят и как хотят, приватно, без того, чтобы этим делиться с другой ветвью власти в Соединенных Штатах, это принцип конституции. Эта информация может быть недоступна и не должна быть доступна. Любой президент внутри своей команды имеет право обсуждать все в тайне.
Это принципиальный вопрос о том, как трактуют конституцию Соединенных Штатов. Ее особенность в том, что три ветви власти в Соединенных Штатах по конституции являются независимыми друг от друга. Они связаны друг с другом, но между собой не зависимы. То есть они имеют свое внутреннее существование. И аргументы о том, что «это не ваша часть, вы сюда не лезьте», они подкрепляются определенными принципами в конституции. Если этот принцип будет признан недействительным в данном случае, то это, наверное, создаст серьезный прецедент для будущего.
— Ну и тогда, наверное, не возникает большого вопроса, переизберется ли Трамп?
— Традиционно, если президент идет на второй срок и у него были плюс-минус успешные первые четыре года, то его шансы быть переизбранным высоки. У Трампа достаточно успешные первые четыре года с точки зрения кармана среднего американца и американской экономики. И есть кое-какие достижения в плане переговоров с Китаем, с Мексикой, с Канадой.
«Трамп даже поправил свой имидж»
Но, с другой стороны, история импичмента — это скандал. И, наверное, сам факт этого скандала — фактор отрицательный. Как он повлияет на выборы, пока неизвестно, но, мне кажется, вероятность переизбрания Трампа на второй срок довольно высока.
Если не будет крушения рынка или каких-нибудь других катаклизмов, Трамп может остаться на второй срок.
— Вам не кажется, что Трамп достаточно уверенно себя чувствует, и, скорее всего, действительно переизберется, потому что он ломает через колено сложившийся порядок вещей, и это дает надежду на улучшение жизни многим миллионам из числа тех, кто уже не надеялся, кто не вписался в сегодняшние реалии?
— Конечно, да, но это мы узнаем, когда будут выборы. Это вопрос о том, смог ли Трамп удержать ту группу сторонников, которая его избрала три с половиной года назад. И, как показывают опросы, хотя, как мы знаем, они не всегда верные, но опросы, тем не менее, сейчас говорят о том, что он сохранил лояльность этих избирателей.
И мне даже кажется, что Трамп сильно поправил свой имидж среди республиканского истеблишмента. Когда его избрали в 2016 году, они были вообще не с ним, и им было непонятно, кто этот человек, и как он попал сюда, и что такое произошло? А теперь они к нему привыкли. Если смотреть на его действия, то во многом он ведет себя так, как должен вести себя республиканский президент. Его экономическая политика, его решительность, его способность добиваться результата — все это, мне кажется, ему поможет.
— За текущий срок Трамп сделал Америку снова великой?
— Ну, Америка и до него была великой. Поэтому, скажем так, она от него не пострадала. Даже скорее выиграла, чем пострадала.
— Нет, подождите, не очень логично. Если бы Америка накануне президентских выборов 2016 года оставалась великой, наверно, Трамп и его пиарщики не взяли бы на вооружение лозунг про снова великую Америку. Он же на этом лозунге въехал в Белый Дом...
— Он на этом лозунге въехал, опираясь на тех, кто, как вы сказали, не вписался в новое величие Соединенных Штатов. И вопрос, сохранил ли он этих избирателей, — это очень большой вопрос. Прибавил ли он еще каких-то новых — еще больший вопрос.
Шансы Трампа также зависят от того, а кто же против него будет выступать со стороны демократов. Есть очень яркие различия между теми кандидатами-демократами, которые сейчас соперничают, чтобы получить право быть кандидатом от своей партии на предстоящих выборах.
— А кто конкурент номер один для Трампа от демократов?
— Однозначно Байден.
— А Блумберг вроде тоже хотел?
— У Блумберга много денег, он очень умный…
— Большой благотворитель, что тоже может понравиться полевевшим в последнее время избирателям...
— Но он поздно вступил в эту гонку.
— Он же известный человек, а не серая лошадка, ему никогда не поздно.
— Он очень известный, он даже очень-очень известный, за ним огромная сила — его СМИ.
— Хорошо, но почему поздно?
— Потому что другие уже начали эту гонку, много разных дебатов уже прошло. И вдруг после четвертых дебатов появился Блумберг. Объявился как кандидат. Он даже пропускает первые два штата, в которых будут сейчас дебатировать кандидаты. В Айове его нет, и в Нью-Хэмпшире его тоже нет.
Блумберг может успешно выступить. Он может деньгами засыпать любого, у него их много.
С одной стороны. С другой...Он нормальный, не эпатажный. С третьей стороны, сравнивая яркость личности Блумберга и Трампа, и даже Блумберга с другими демократами, он выглядит на их фоне довольно блекло.
— А в чем именно преимущество Байдена? Только в том, что он кандидат как раз того истеблишмента, который считает: «Кто угодно, только не Трамп»?
— У него несколько плюсов. Во-первых, у него опыт, он был вице-президентом при Обаме. Он много лет служил как сенатор, он всех знает в Вашингтоне. Он считается разумным, уравновешенным. Это не крайний левый, который сейчас вот придет и все отберет. А социалисты именно об этом сейчас говорят: «Надо взять все у богатых, и мы знаем, что с этими деньгами сделать». Приблизительно так. И это пугает большой слой избирателей. Всех республиканцев это точно пугает.
А вот с Байденом понятно, что ничего революционного не будет. И, возможно, он несколько успокоит внешнюю политику, будет более предсказуем, будет лучше слушаться своих советников.
У Байдена нет импульсивности Трампа. Это его сильные стороны. И еще одна его сильная сторона — его воспринимают чернокожие избиратели. У них достаточно консолидированное положительное мнение о Байдене. А для демократов этот блок очень важный.
— Я правильно понимаю, что эта тройка кандидатов в президенты самая конкурентная? Трамп, Байден и Блумберг?
— Байден и Блумберг очень импонируют левому крылу, наиболее активному от демократической партии. И если посмотреть на результаты опросов, то Блумберг сильно отстает. Впереди с переменным успехом Байден, после него по популярности идут рядом Уоррен и Сандерс.
— То есть, на следующих выборах в США могут победить те кандидаты, которые, в случае своего избрания, могут перераспределить богатства? Это Уоррен или Сандерс?
— Именно так, да.
«Россия американцам не интересна»
— Это, похоже, очень популярная предвыборная фишка, левый тренд в политике. Даже на Давосском форуме, где собрались все списочники Forbes, миллиардеры, не считалась какой-то запретной, а серьезно обсуждалась тема социальной справедливости, расслоение в мире между богатыми и бедными. И это угроза стабильности. Но насколько эти тенденции сильны в США, эти левые настроения в обществе, где миллиардеров и миллионеров больше, чем в других странах? И, соответственно, насколько такие настроения могут конвертироваться в голоса избирателей?
— Вопрос о неравномерном распределении… К нему можно подходить с разных точек зрения. Трамп подошел с такой позиции, что он будет помогать бедным работягам, которые в результате неправильной внешней политики, торговой политики США, потеряли свои рабочие места. И что эти рабочие места — это именно та помощь, которая нужна стране.
А социалисты считают, что богатые — они плохие люди, у них надо все забрать и раздать бедным, и тогда все будет хорошо.
— Условно говоря, не Си Цзиньпин виноват в том, что у вас работы нет, а собственная элита виновата?
— Сам Блумберг виноват, да.
— Тема России занимает какое-то место в гонке потенциальных кандидатов?
— Эта тема практически не фигурирует. Равнодушие большинства американцев к России — это факт.
— А диаспоры?
— Они не особенно многочисленны. Я бы сказал, что, наверное, российская диаспора крупнее всех.
Но российская диаспора вообще не организована. То есть она организована так же, как американское население в среднем — вокруг вопроса своего кармана, своего благосостояния, своей жизни, своего дома, своей семьи. Это факт, так было, есть и будет, и это просто надо понимать.
— А после президентских выборов санкционные волны продолжатся?
— Они, скажем так, свою интенсивность несколько подрастеряли. Сейчас наступила некоторая пауза, пока разбираются с президентом Трампом. Пока предвыборная кампания не начнется. Но, может быть, начало предвыборной кампании и приведет к каким-то дополнительным действиям в части санкций. Они могут быть связаны с опасениями по поводу вмешательства в инфраструктуру выборов в Соединенных Штатах.
— Санкциям уже шесть лет будет, они изменили что-то в экономике России и в общественных настроениях? Достигли первоначальных целей?
— Если их первоначальная цель была решить вопрос Украины так, чтобы это устроило Соединенные Штаты, то нет, этого не случилось.
— А это разве был такой расчет: «Вот сейчас введем санкции, и Россия вернет Крым»?
— Да, были такие ожидания. Они не сработали.
— Во взаимоотношениях России и США сейчас самое дно, ниже некуда?
— Отношения между нашими странами выглядят не лучшим образом, но они перестали ухудшаться. Стабилизировались, хотя и на низком уровне. Скребемся по дну.
Пока что заметного улучшения, особенно на межправительственном уровне, я не вижу. На уровне «бытовом» — страсти уже отошли на второй план.
— Сможет ли новый посол США в России Джон Салливан улучшить отношения с Россией?
— Посол Салливан сказал, что приехал с задачей улучшить двусторонние отношения между США и Россией. Мы надеемся, что у него это получится.

«Большая пятёрка»
инициатива Путина в контексте мировой политики
Александр Нагорный Николай Коньков
Начало 2020 года ознаменовалось не только погодными аномалиями по всему миру, но и невероятной плотности потоком других, весьма резонансных событий, каждое из которых несло в себе угрозу катастрофы — и не только климатической, о которой так охотно толковали на 50-м Давосском форуме, с коалами, кенгуру и Гретой Тунберг в роли "зелёной Жанны д'Арк".
Убийство в Багдаде генерала КСИР Касема Сулеймани, ответственность за которое взял на себя президент США Дональд Трамп, и ответные ракетные атаки Ирана, целью которых стали американские военные базы на территории Ирака, во всём мире восприняли как указание на реальную возможность Третьей мировой войны, с "ядерным Армагеддоном" в финале.
Условия "торгового перемирия" между Америкой и Китаем на фоне внезапно разбившего ВТО неизлечимого паралича — показали, насколько условны и глобальность, и свобода современной "рыночной экономики". Политика санкций, изначально направленная против "стран-изгоев", не признающих диктата США, теперь направлена против всех партнёров и союзников Америки.
Предложенные президентом Владимиром Путиным изменения в Конституцию 1993 года и смена правительства Дмитрия Медведева — продемонстрировали, что Россия больше не желает мириться с возникшим после уничтожения СССР и утвердившимся после расстрела Верховного Совета международным статус-кво однополярного мира Pax Americana не только де-факто, но и де-юре.
Наконец, загадочная вспышка коронавирусной инфекции, внезапно охватившая самую многочисленную страну мира, КНР, которая уже вышла на первое место и по величине национальной экономики, выглядит как предупредительный выстрел пока точно не идентифицированных сил, сулящих человечеству, в случае неповиновения, куда более летальную и массовую пандемию, жертвой которой могут стать миллиарды человек.
И это — не говоря уже о "перманентных" экологическом, финансовом, энергетическом и прочих видах кризиса, поразивших современную цивилизацию. Иными словами, мировая история не только приблизилась, но уже практически вошла в пресловутую "точку бифуркации" или, вернее, — в зону "системного аттрактора", где прежние законы прекращают своё действие, а пространство и время приобретают принципиально иные свойства.
Именно на пороге этого "горизонта событий", 23 января из уст президента России прозвучало предложение провести встречу лидеров государств-постоянных членов Совета Безопасности ООН с правом вето. Место и время для этого предложения были выбраны безупречно: международный форум в Израиле, посвящённый памяти жертв Холокоста и 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц — Биркенау, более известного в нашей стране как Освенцим. То есть никаких шансов "не заметить" или "замолчать" путинские слова у мировых массмедиа и политических лидеров просто не оставалось — тем более, что главной тематикой этой, пока гипотетической, встречи были названы борьба против нацизма, антисемитизма и терроризма.
Параллельно "хозяин Кремля" создал очень выгодный плацдарм против попыток лишить Россию статуса страны-победителя во Второй мировой войне: антисоветская и антироссийская истерия, в авангарде которой выступали Польша, Украина и республики Прибалтики, муссируя тему пресловутого "пакта Молотова — Риббентропа", теперь практически полностью нейтрализована темой сотрудничества местных националистов с гитлеровским Третьим рейхом в годы Второй мировой войны, в том числе — по теме Холокоста.
Путин впервые рассекретил связанные с данной темой документы, чем вызвал настоящий шок у официальной Варшавы, заодно дав понять, что это — лишь небольшая часть находящихся в распоряжении России архивных данных. Заодно он упомянул о "сотнях тысяч" людей разных национальностей, погибших в Освенциме (официальная цифра — 1,4 миллиона только евреев) и съездил из Иерусалима в Вифлеем на встречу с главой Палестины Махмудом Аббасом.
Всё это свидетельствует о том, что Россия больше не намерена соблюдать условия "вашингтонского консенсуса" и стремится к новому мировому статус-кво, который и предложила обсудить — пока в рамках "Большой пятёрки". И данное предложение, судя по всему, — из разряда тех, от которых нельзя отказаться. Над ними можно только некоторое — не очень долгое — время подумать и дать чёткий ответ.
Россия пережила свою катастрофу на тридцать лет раньше, чем весь остальной мир. И теперь она лучше, чем кто бы то ни было знает, что и как нужно делать, чтобы спасти и себя, и всех остальных.

Бургер с чечевичной похлёбкой
народ ломился в Макдональдс потому, что не было изобилия нашего общепита
Татьяна Воеводина
Сайт «Завтра» отметил юбилей, назвав его «постыдным» – 30 лет Макдональдса в России. Не то, конечно, постыдно, что у нас есть Макдональдс: он везде есть, а то, как народ в него ломился тридцать лет назад. Вот этого и устыдился сайт «Завтра»: предали-продали страну за буржуинскую котлету.
К публикации приложены фотографии, сделанные с высоты: очередь, даже для Советского Союза впечатляющая, змеится по всей площади. Забавно, что в тот давний день я эту очередь лично наблюдала, и тоже с высоты – со второго этажа библиотеки им. Некрасова, которая много десятилетий располагалась у начала Большой Бронной. Я и ещё несколько читателей библиотеки, расположившиеся у окна, - смеялись: многочасовая очередь в закусочную быстрого питания – вот в чём нам виделся юмор ситуации.
А вот негодовать на глупых «совков», дрожавших на морозе, чтобы приложиться к бургеру с колой, я бы не стала. Во все времена, во всех странах массовый человек живёт потребительскими интересами. Так он устроен, так создан природой. Исключения существуют, но именно как исключения. А массовый случай – он такой. Потребительский. Можно сколького угодно негодовать, искать тех злонамеренных мерзавцев, негодяев-предателей коммунистической идеи, которые внушили массам мещанские взгляды и потребительские идеалы, можно даже попробовать «Творцу вернуть билет», но… ничего не изменится. Массовый человек будет хотеть потребительских ценностей, будет ими жить, больше всего ими интересоваться. Они же всегда будут у него предметами престижа и самоутверждения. Разумеется, конкретные товары и вообще предметы меняются – со временем, в зависимости от социального слоя, страны проживания. Совсем внизу, в бедности, - это дорогая еда, которую я могу себе позволить. С продвижением по социальной лестнице – одежда, машина, домашняя обстановка, жильё в хорошем районе.
Помню, в стокгольмском музее, знаменитом Nordiska museet, говорили: в XVII веке среди простой публики было страсть как престижно иметь… стул. Сидеть не на лавке, не на пне, не на табуретке, а – на стуле. Так что предметы престижа могут быть очень разные.
При этом еда всегда будет интересной, потому что это основа жизни, близкая всем – от грудного младенца до ветхого старика. Не зря о еде столько разговоров в интернете и по телевизору: что полезно, что вредно, как нас травят, можно ли есть ЭТО или лучше ТО. Включите телевизор в прайм-тайм – и там непременно что-то либо едят, либо, стряпают, либо сравнивают и изобличают фальсификаторов.
Советские люди были очень обделены потребительскими радостями. Считалось, что главное у них есть, а всяких пустяков, вроде кафешек или фастфуда им не надо. А хотелось не просто белков-жиров-углеводов, а – потребительских впечатлений. Человек ведь живёт не белками, а впечатлениями. Этого, главным образом, не хватало.
Вспомните, чем торговали первенцы рыночной экономики, знаменитые КИОСКИ? В основном это были вещи, без которых лучше бы обойтись: жвачка, соки в коробочке, ещё какая-то химическая дрянь, которую надо было разводить в воде для получения шипучего пойла, косметика, китайско-турецкий яркий ширпотреб… Ну и, естественно, выпивка: пиво, спирт «Рояль» - символ эпохи. Это было нужно, желанно, это – шло! И это неоспоримо показало: народ в первую очередь хочет броской дряни, а не скромно-достойно-пресно-полезного. Пресно-полезного он захотел тогда, когда прочно его лишился. Вот этой броской дрянью был для народа Макдональдс. В первую очередь, не котлетой – впечатлением.
Так что не надо сильно корить за то, что продали идеалы за котлету. Так бывало с начала времён, правда, была не котлета, а - чечевичная похлёбка.
Народ ломился в Макдональдс потому, что не было изобилия нашего общепита. Теперь он есть, и Макдональдс – один из многих. Есть и прекрасные наши сети. Кто ездит по дорогам за городом, наверняка обращал внимание на закусочные «Помпончик» - не слишком диетично, но очень вкусно. Началось, кажется, в Ростове. Общепит – это естественное поле работы мелкого частника; государство скорее построит космодром, чем сеть закусочных. Когда-то, ещё при советской власти, одноклассник моих родителей, ставший значительным партийным работником в Туле, говорил: «Ну разрешили бы частные кафешки – и вся проблема бы решилась». Не разрешили. И народ ломился в Макдональдс.
Шустрые люди подверстали туда любовь к Америке, которую упорно раскручивали. Какая-то заполошная журналистка, как сообщает «Завтра», даже написала, что стояла в той очереди за свободой, а вообще-то очереди всегда ненавидела. Да, Америка тогда была модна и желанна, но ещё желаннее было новое потребительское впечатление.
Большевики вплоть до самого краха так и не поняли натуру массового человека, его истинные потребности. Они пытались иметь дело с каким-то вымышленным «новым человеком» и страшно обижались, что он всё тот же «ветхий человек».
Поднимая из руин наше государство и общество, надо в первую очередь иметь прямой, без сентиментальности, взгляд на вещи. На человека, в первую очередь.

Древесная квакша
как верить политикам, чьи слова лишь увеличивают «белый шум», множат миллиарды мёртвых, ничего не значащих слов?
Александр Проханов
Американцы убили ракетой иранца Сулеймани. Иранцы грохнули по американской военной базе. Весь мир, затаив дыхание, ожидал Третьей мировой войны, которая казалась неизбежной, но не случилась. В Китае народился коронавирус. Все китайские миллиарды сидят по домам, армия блокировала города, ведётся счёт заболевшим и умершим. Мир находится накануне чудовищной пандемии, которая может положить предел человечеству.
Но ничего подобного не случится. Вирус расточится, респираторы бросят в мусорные урны, и армия вернётся в казармы. Ещё один конец света не состоится.
Трамп придумал план умиротворения Палестины и Израиля. Палестинцев выселяют в пустыню, евреям отдают палестинские плодородные земли, Палестину заливают деньгами — и мир, по Трампу, обеспечен. Но ничего этого не случится: опять гремит интифада, Хамас пускает ракеты. Снова блеф, сотрясение воздусей, что стоит человечеству немалых нервов.
Англия вышла из Евросоюза, совершилось грандиозное деяние, которое пугало Европу и радовало англосаксов. Но ничего не случилось: Европа живёт прежней жизнью, англосаксы попивают эль и топчут флаги Евросоюза.
Началось обсуждение поправок к российской Конституции. В обсуждение включились все. Любители собак просят включить в Конституцию пункт, дающий право собаководам выгуливать собак в скверах. Огромный вал предложений, особенно усердствуют ученики первых классов. Эта кампания завершится ничем, мы увидим проволочный каркас Конституции, сконструированный в администрации президента.
После послания президента к Федеральному Собранию в умах случился взрыв. Многие утверждают, что после этих речений мы живём в другой стране. Ушёл Медведев, появился Мишустин, и ничего не изменилось: одни миллиардеры сменили других миллиардеров, а народ продолжает грызть свои грязные ногти. В преддверии думских выборов создаётся множество новых движений и партий. Российский политический ландшафт взбухает гигантскими пузырями, как это бывало уже не раз. Эти пузыри лопались, брызгали едкой слизью. Множество воздушных шариков, не успев взлететь, станут с треском лопаться.
Россия сражается за историческую правду, бьёт по рукам тем, кто хочет переписать историю Второй мировой войны. Антисемитский скандал со стародавним польским послом, польское свинство, когда русских не пригласили на торжество, связанное с освобождением Освенцима, идиотическое заявление Зеленского, утверждающего, что Освенцим освободили украинцы, — разве это не переписывание итогов Второй мировой войны? Нет, это не переписывание. Итоги Второй мировой войны: Ялтинский мир, Хельсинское соглашение, утверждающее незыблемость послевоенных границ, — были переписаны в 1991 году Горбачёвым. Исчезли две германские границы, и возникла одна большая. Исчезла грандиозная граница Советского Союза, и возникли восемнадцать эфемерных границ. Исчезла огромная граница Югославии, и вместо неё возникло множество новых, включая границу Косово. Все эти границы нелегитимны, меняют конфигурации не только Восточной Европы, но и всей Европы в целом.
Каталония стремится вывалиться из Испании. Ирландия и Шотландия хотят выйти из Великобритании. Силезия просится из Польши обратно в Германию. А целые районы Украины мечтают вернуться: кто в Венгрию, кто в Польшу, а кто — в Россию. Идёт грандиозный мировой карнавал, где одна маска смерти сменяет другую, и ни одна из них не страшна. Краски смываются, и наносится новый грим. Эти маски не пугают, а вызывают недоумение и раздражение. Возникает огромное количество мнений, заявлений, суждений, статей, прогнозов, конференций, дебатов, манифестальных заявлений. Как тут не вспомнить слова Пастернака, написанные ещё до войны:
Сырели комоды, и смену погоды
Древесная квакша вещала с сучка.
Вслушайтесь, оглянитесь — и увидите очередную квакшу, которая с сучка вещает нам мировую катастрофу.
Как жить в этом карнавальном мире, который больше не запугать угрозами немедленной гибели? Как верить политикам, чьи слова лишь увеличивают «белый шум», множат миллиарды мёртвых, ничего не значащих слов? Как действовать военным ведомствам, которые не знают, кто для них Турция — друг или враг? А Иран — союзник или противник? Что для них арабский мир: разменная карта в мировой игре или несчастные, изнасилованные народы? Неверие мировым коммуникационным системам, средствам массовой информации, лидерам общественного мнения. Кого слушать, чтобы понять истинную конфигурацию мира?
Эти знания таятся в малых, почти незаметных группах, они — у маргиналов, которые не участвуют в этом огромном мировом карнавале, они ведут свои исследования на мансардах — там рождаются образы цифрового мира, там пишутся новые музыка и поэзия. Туда приходит Христос, покидая шумные амвоны и златотканые мантии. Люди не слушают фарисейские речи, в которых звучат «прожиточный минимум», «черта бедности», «нацпроекты» или «реформа здравоохранения».
9 мая, власть, сними ткань с Мавзолея Ленина и проведи парад во всей его подлинной красоте, во всём величии, положи конец переписыванию истории!

«Новая провокация»: зачем США перебрасывают войска в Европу
Эксперт оценил крупнейшие за 25 лет учения НАТО «Defender Europe 2020»
Михаил Ходаренок
В феврале в Европе начнутся учения НАТО «Защитник-2020» — крупнейшие за последние 25 лет, в рамках которых НАТО отработает переброску войск США в Восточную Европу. В общей сложности в них примут участие 37 тыс. солдат из 19 стран. С деталями предстоящих мероприятий альянса разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.
Маневры НАТО «Защитник-2020» (Defender 2020), которые должны начаться в феврале, станут крупнейшими учениями альянса за последние 25 лет.
Их цель — отработать оперативную переброску американских войск в Польшу и страны Балтии. В рамках учений в Европу по морю и воздуху будут доставлены до 20 тыс. солдат и офицеров США, а также 13 тыс. единиц военной техники.
Всего в маневрах будет задействовано около 37 тыс. солдат из 19 стран. Учения будут продолжаться около пяти месяцев, пишет Deutsche Welle, затем военнослужащие ВС США вернутся на родину.
Для участия в маневрах в бельгийский Антверпен 3 февраля прибывает первый эшелон британских военнослужащих. Учения пройдут в мае и июне преимущественно на территории Германии, Польши и стран Балтии.
В НАТО отрицают, что учения «Защитник-2020» направлены против РФ.
«Эти маневры не связаны с какой-либо конкретной страной. Этим они отличаются от прошлых учений времен «холодной войны». Речь идет в целом о защите при различных кризисных сценариях», — подчеркнул заместитель командующего вооруженными силами США в Европе генерал Эндрю Ролинг.
Ему вторит и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, «Defender Europe не направлен против какого-либо конкретного государства».
Для начала напомним полное наименование предстоящих учений — «Defender Europe 2020». В переводе на русский — «Защитник Европы».
С подобным названием маневров в НАТО может отрабатываться только одно мероприятие оперативной подготовки — стратегическая оборонительная операция на Европейском театре военных действий. Цель подобной операции — отражение вторжения противника и нанесение ему такого ущерба, при котором он откажется от дальнейших военных действий на выгодных для НАТО условиях.
Остается только уточнить, кто в Европейском стратегическом регионе (так называется Европейский театр военных действий в мирное время) может быть потенциальным противником для НАТО (примерно равным альянсу по силам и возможностям), ради противодействия которому замышляются столь масштабные мероприятия в соответствующих планах подготовки войск (сил). Ответ тут однозначен — Российская Федерация, что бы там не утверждали политические и военные деятели Североатлантического альянса.
В деталях замысел проведения «Defender Europe 2020», разумеется, неизвестен. Вместе с тем есть основания полагать, что раз в объединенных вооруженных силах (ОВС) НАТО отрабатывается стратегическая оборонительная операция на театре военных действий, то должны быть определены важнейшие направления, районы и рубежи, на удержании которых в случае вторжения с востока должны быть сосредоточены основные усилия.
Остается только в штабе ОВС НАТО уточнить, как все это у них будет выглядеть на практике. Хотя, разумеется, никакого вразумительного ответа в этом случае российская сторона не получит. Но подобные пояснения могли бы быть весьма интересными — типа «не допустить выхода российских войск к Балтийском морю в районе Лиепая — Клайпеда и тем самым отсечения группировки войск (сил) НАТО в Латвии и Эстонии от основных сил альянса» или же «предотвратить форсирование русскими реки Висла в ее среднем течении с ходу на широком фронте».
Руководство НАТО для СМИ может заявить, что одной из целей предстоящих учений является «отработка оперативной переброски американских войск в Польшу и страны Балтии». Однако на языке офицеров-операторов оперативно-стратегических и стратегических штабов это звучит несколько по-другому — «стратегические перегруппировки войск (сил) США и НАТО на Европейский театр военных действий».
А это, между прочим, является одной из составных частей стратегического развертывания вооруженных сил, после которого до начала реальных военных действий остаются разве что часы и минуты.
К примеру, согласно информации Deutsche Welle, аналитик берлинского фонда «Наука и политика» (SWP) Клаудия Майор отмечает, что в данном случае цель маневров «Defender Europe 2020» заключается не в отработке конкретного сценария нападения, а именно в транспортировке войск.
«Основная цель учений — выяснить, можно ли будет в случае кризиса за несколько дней осуществить перемещение войск по территории Европы», — подытоживает эксперт.
Теперь только остается уточнить, что же это за кризис такой, который требует межтеатровых стратегических перегруппировок войск (сил) США и остальных стран НАТО. Разумеется, можно сказать и так — «перемещение войск по территории Европы». Звучит, на первый взгляд, вполне безобидно. Однако в переводе на военный язык это называется или создание ударных группировок (в случае наступательной операции), или же занятие войсками полос обороны (в случае оборонительной операции).
Бесцельно войска даже на учениях не «перемещаются», а выдвигаются (перевозятся) с вполне конкретными задачами — к примеру, создания группировок войск (сил) на одном или нескольких стратегических направлениях.
Ну, и, конечно, какая же оборонительная операция без контрудара, который осуществляется, как правило, для разгрома главной группировки прорвавшегося противника, в данном случае, очевидно, российских войск.
В качестве вывода можно сказать так — слова «транспортировка», «логистика», «проверка дорог и мостов» никого не должны вводить в заблуждение. Учения «Defender Europe 2020» предполагают проведение стратегической оборонительной операции НАТО на Европейском театре военных действий с целью отражения наступления российских войск. А поскольку со стороны Москвы подобного не предполагается в принципе, учения носят ярко антироссийскую окраску.
Между тем, согласно информации Deutsche Welle, некоторые представители фракций в германском бундестаге уже подвергли предстоящие учения критике.
В Левой партии их назвали «новой спланированной провокацией» в адрес России и считают, что это может привести к ответным шагам Москвы.
«Понятия «деэскалация», «мир» и «разоружение» больше не существуют в лексиконе НАТО», — заявил депутат бундестага от фракции Левой партии Александер Ной.
Михаил Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru».
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — полковник в отставке. Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986). Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983). Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988). Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).
Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).
Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).
Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

«Это не настоящая Палестина»: к чему приведет план Трампа
Эксперт оценил «сделку века» Трампа для Израиля и Палестины
Отдел «Политика»
США на этой неделе представили план по урегулированию палестино-израильского конфликта. Документ в Вашингтоне назвали «сделкой века», которая, как утверждают ее авторы, учитывает интересы всех сторон конфликта. Однако у Палестины остается достаточно много вопросов, а сама «сделка», похоже, не станет прорывом. Чем именно недовольны палестинцы, «Газете.Ru» рассказал научный сотрудник исследовательского центра в Институте Шалома Хартмана, эксперт клуба «Валдай» Мейр Краус.
— Как вы в целом оцениваете «сделку века», предложенную президентом США Дональдом Трампом? Можно ли этот план назвать жизнеспособным?
— План, предложенный Трампом, не включает в себя условий, которые поспособствовали бы началу мирных переговоров. План не предусматривает баланса интересов, который просто необходим.
Я не думаю, что план подразумевает создание настоящего Палестинского государства. Кроме того, неясно, что перед нами, — просто предложение или же полноценный план, который Вашингтон будет навязывать палестинцам всеми силами.
По всей видимости, это как раз план, альтернативы которому не предусматривается. Использованные формулировки, в целом, полностью отражают нарратив израильской политики в отношении Палестины.
— А что, в таком случае, принципиально нового предлагают США?
— Здесь можно говорить о трех новых аспектах. Во-первых, мы давно говорим о создании двух государств. И в Кэмп-Дэвиде в 2000 году, и в рамках процесса Аннаполиса в 2007-2008 годах обсуждалась проблема границ, установленных в 1967 году, обмена территориями — все, даже палестинцы, соглашались, что нужно считаться с теми территориальными изменениями, которые произошли за прошедшие годы.
В плане эти изменения не только не учитываются, но навязываются совершенно новые. Согласно сделке, где бы ни находилось еврейское поселение, оно может отойти Израилю.
Во-вторых, это вопрос статуса Храмовой горы. Впервые план мирного урегулирования предполагает свободный доступ на Храмовую гору для иудеев для совершения молитв. Это очень важно для израильтян, и в то же время, усложняет ситуацию для палестинцев и всего исламского мира. Но США закладывают это право для иудеев впервые.
В-третьих, это создание двух государств. Я не имею в виду саму идею — ей много лет. В течение 50 лет многие люди говорили, а факторы свидетельствовали, что это просто невозможно. Однако впервые США, несмотря на огромную поддержку, оказываемую Израилю, заявили, что территории надо поделить между двумя государствами. И это после долгих лет сомнений, которые выражали лидеры на этот счет.
— Почему же Палестина выступает против? Ведь, по большому счету, главные нюансы в территориальном вопросе учтены — Восточный Иерусалим, суверенитет.
— Палестинцы давно не являются полноценной частью населения этих территорий. За последние два-три года США сделали все возможное, чтобы усложнить их положение. Палестинцам затруднили доступ в Иерусалим, американское посольство было перемещено из Тель-Авива в Иерусалим, США прекратили финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и так далее.
Более того, палестинцам было отказано в участии в подготовке этого плана, и сделка не учитывает их ситуацию.
Если остановиться подробнее на вопросе Иерусалима, то следует отметить, что как для палестинцев, так и для иудеев, это не просто город или земля, это очень важный объект с точки зрения государственности и религии, духовный центр. В «сделке» американцы ссылаются на ситуацию, когда Иерусалим, включая Старый город, находился под контролем Иордании в период с 1948 по 1967 годы.
В своем плане американцы предлагают устроить столицу палестинского государства за стеной Иерусалима, то есть на самом деле, за его пределами. Это не Иерусалим в понимании палестинцев. Это территория, которая не имеет для них большого значения.
Но это не единственная проблема. Согласно плану, Израиль может распространить свой суверенитет на любое еврейское поселение. Если мы посмотрим на карту, то станет ясно, что в таком случае большинство частей будущего палестинского государства не будут связаны с друг с другом. Они будут разрознены. Палестинцы согласны произвести обмен своих территорий с Израилем в соотношении 1:1, чтобы общая площадь их государства осталась неизменной. Согласно плану, 30% их территорий должны отойти к Израилю, а в сухом остатке они получат только 70% территории. К тому же, все палестинские территории будут окружены Израилем. А это значит, что для перемещения за пределы Палестины им в любом случае придется пересекать израильскую границу. Это вряд ли устроит палестинцев.
— В чем, кроме дипломатической стороны вопроса, выгода США от подобных предложений?
— Мне кажется, что кроме политических выгод, этот план более ничего не принесет США. Надо отдать им должное, они хотят снизить напряженность в отношениях между Израилем и Палестиной. И по всей видимости, они знают, как это сделать. Однако я не считаю, что на это способен план, который они предложили. Есть мнение, что они таким образом пытаются помочь Нетаньяху выиграть грядущие выборы. Они представляют этот план всего за месяц до выборов в Израиле и незадолго до выборов в США. Поэтому, как мне кажется, кроме политики, за этим предложением ничего не стоит.
— Почему Израиль поддержал предложенный вариант?
— Если рассмотреть на все предложения, которые выдвигались за последние 53 года по разрешению данного конфликта, то легко понять, что «сделка века» — это самый произраильский и однобокий план мирного урегулирования. Именно это объясняет, почему Израиль его поддерживает. Однако, как со стороны левых, так и правых в Израиле есть некоторые возражения против этого плана.
Левые считают, что в плане нет положений, которые способствовали бы снижению напряженности и привели бы к окончательному установлению мира. Они считают, что он скорее будет иметь обратный эффект. Что касается правых, то они выступают против плана, так как для них существование палестинского государства, даже демилитаризованного, в принципе недопустимо.
— Как отнесутся к предложенному плану другие страны Ближнего Востока и арабского мира? И какую позицию может занять Россия?
— Арабские государства, особенно в последние десятилетия или чуть больше, стали более открыты к отношениям с Израилем и даже допускают достижение на этом направлении определенного прогресса. Но они соглашаются на это, только на том условии, что такие отношения будут вестись втайне и неофициально. Причина тому — палестинский вопрос. Они не хотят афишировать эти отношения, пока палестинский вопрос не решен. Я не думаю, что такой подход изменится.
Наверное, нам надо подождать, и через пару недель мы увидим, что Иордания будет решительно выступать против этого плана, Египет заявит, что он не поддержит план. Возможно, Саудовская Аравия отнесется к нему более сдержанно, но все же заявит, что необходимо вести прямые переговоры с палестинцами.
Россия же, на мой взгляд, поддержит идею создания двух государств, но выступит за поддержание баланса интересов сторон, потому что без него не удастся достичь продолжительного мира. Россия призовет стороны сесть за стол переговоров, чтобы найти решение с опорой на идею создания двух государств. Как мне кажется, маловероятно, чтобы Россия поддержала американский план.
— Как вы считает, насколько вообще реализуем предложенный вариант? И какие риски срыва «сделки» вы видите?
— Я не думаю, что в нынешнем виде этот план сработает. Но я думаю, что в Израиле произойдут политические изменения и, возможно, после выборов мы станем свидетелями мирных переговоров между Израилем и Палестиной.
Эти переговоры вряд ли будут основываться на положениях «сделки», но стороны хотя бы начнут обсуждать вопросы, которые волнуют их больше всего. Это вполне может произойти. Обнародование этого плана может подтолкнуть стороны к диалогу. Но для этого Израилю необходимы политические изменения, потому что при нынешнем премьер-министре это вряд ли произойдет.
Мейр Краус — эксперт клуба «Валдай», научный сотрудник исследовательского центра в Институте Шалома Хартмана, президент Иерусалимского института политических исследований (2009-2016).

«ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ЛОГИКА СЕЙЧАС В БОЛЬШОЙ ЦЕНЕ»
ДМИТРИЙ ПОЛЯНСКИЙ
Первый заместитель Постоянного представителя России при ООН.
ФЁДОР ЛУКЬЯНОВ
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» с момента его основания в 2002 году. Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России с 2012 года. Научный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай». Профессор-исследователь НИУ ВШЭ. Выпускник филологического факультета МГУ, с 1990 года – журналист-международник.
О том, каково сейчас быть российским дипломатом и находиться в самом центре международной политики, как изменилась эта самая политика в XXI веке, Федор Лукьянов беседует с первым заместителем постоянного представителя России при ООН Дмитрием Полянским.
Лукьянов: Твой опыт работы в МИДе приближается уже к трем десятилетиям – с 1993 года. Это несколько эпох. Что значит – быть российским дипломатом сегодня? Тем более на таком передовом направлении. Что изменилось по сравнению с прежними периодами?
Полянский: Общий контекст значительно усложнился – просто потому, что в мире пропала понятная система координат. Как раз наша, российская, линия мне, как правило, ясна, центр иногда можно даже не переспрашивать. А вот куда мир идет в целом, чего ждать, какую роль мы будем или не будем играть, наступит ли жесткое противостояние в духе холодной войны или все-таки оно трансформируется в какую-то многостороннюю систему… Масса вопросов, на которые никто ответить не может. Их прояснение, надо признать, зависит не от нас. Карты, прежде всего, в руках американцев, а они переживают разброд и шатания. Интуитивно многие вещи кажутся понятными, но этого же недостаточно. Точность прогноза очень невысокая.
Лукьянов: Ты говоришь, что наша линия ясна, а линии других – нет. И все это в запутанной и непредсказуемой среде. Но так, вообще-то, не бывает. Когда всюду круговерть, Россия не может одна стоять эдакой твердыней последовательности и непреклонности. Неизбежны импульсивные метания и ситуативные решения – согласно меняющимся обстоятельствам. Скажем, когда начался кризис вокруг Украины, решения принимались в срочном порядке, что называется ad hoc, они вызывали острейшие противоречия, даже по интерпретации того, что происходило. А ты представляешь страну в Нью-Йорке, должен отстаивать какую-то линию, которая может иногда закладывать лихие виражи, не всегда ожидавшиеся. И как себя вести, например, в работе с партнерами, где требуется определенный уровень доверительности, хотя бы в непубличном режиме?
Полянский: Я, само собой, не могу знать все досконально. Партнеры – такие же дипломаты, они прекрасно понимают, что есть официальная позиция. Мне Москва дает указания, я их придерживаюсь. Даже если я не знаю каких-то деталей, мне понятны причины, по которым то или иное делается.
Взять украинский случай. Причины наших действий партнерам, в общем-то, тоже были понятны. Они могли не соглашаться с методами, но сама подоплека, связанная с поведением ЕС и США, им была очевидна. Кстати, степень американского вмешательства в украинские дела только сейчас начинает вылезать на поверхность, и не факт, что это будет более лицеприятно, чем какие-то вменяемые нам в вину маневры.
Еще один пример – Солсбери. Помнишь, наверняка, громкие заседания в 2018 г., поток пафосных заявлений. Ясно, что никто из этих «заявителей» на месте событий не был, что там на самом деле случилось, никто не знал. Но им дали указание занять определённую позицию. Вопреки здравому смыслу и в отсутствии каких-либо доказательств. Не буду же я на них обижаться, уличать во лжи, шипеть в кулуарах, особенно на глазах у журналистов. Это профессиональная этика. Но и мои контрдействия оправданны. Я что-то недосказываю, они о чем-то умалчивают, но я прекрасно понимаю, где есть пространство для договоренности, где нет. А у них, кстати, бывает «серая зона». Те же американцы: предлагают нам сотрудничество по определенным вопросам, мы говорим – давайте, но они тут же вводят санкции против нас. Я спрашиваю: зачем вы нас держите за идиотов?
Лукьянов: Сознательная тактика?
Полянский: Не уверен, необязательно. Был недавно совершенно вопиющий эпизод, когда не дали визы делегации министра Лаврова. Я видел растерянное выражение лица госсекретаря Майка Помпео, когда он с министром в кулуарах встречался. Он как будто искренне хотел сказать: «Я тут ни при чем, честное слово». Сергей Викторович говорил, что американцы его уверяли: мол, «ни Помпео, ни президент Трамп такого решения не принимали». Вопрос: а кто тогда? Кто остается? Представляешь, если бы у нас по внешнеполитическим вопросам, да еще на таком высоком уровне, ни президент, ни министр иностранных дел не были бы в курсе, что кто-то кого-то не пускает? А у них множественность, даже путаница акторов, Конгресс и иже с ним. Например, постпредство США в ООН нам часто пытается помочь, но бьется, как об стенку. Они передают одни предложения, вроде как с ними в центре не спорят, а на деле получается, что страна следует другим курсом.
Вообще, в отношении не только России, но и Китая развивается все более острая шизофрения. Требуют сотрудничать, при этом постоянно давят и норовят наказать. Наши собеседники тут понимают некоторую абсурдность ситуации, но они не вольны в своих действиях.
Лукьянов: А раньше такого не случалось? Лицемерие было, есть и будет основой политической культуры, особенно западной, а уж в дипломатии – это норма. Может, сейчас просто стало более заметно благодаря информационному обществу?
Полянский: Раньше такое не практиковалось в той степени, как теперь. Да, во многом все усугубилось за счет новых информационных возможностей. Потенциал манипуляций возрос неизмеримо. Но и раскол такого масштаба внутри самих обществ трудно припомнить. Соединенные Штаты, Великобритания, ЕС – они сами не понимают, что с ними будет. Это не может не накладывать отпечаток на внешнюю политику.
Лукьянов: Поставлю вопрос ребром. Исходя из всего вышесказанного, нельзя ли сделать вывод, что дипломатия бессильна? Что она не в состоянии выполнять функции, которые ей предписаны?
Полянский: А какой критерий эффективности? То, что мировой войны нет, это, на мой взгляд, едва ли не основной критерий. Если нас вообще упразднить, ООН обнулить, то в течение одного-двух месяцев, когда не будут работать никакие дискуссионные площадки, начнется мировая война.
Лукьянов: Я не про ООН, а о дипломатии как таковой. Из того, что ты говоришь, получается, что публично у вас диалог глухих, а не публично – попросту разводят руками: все всё понимают, но сделать ничего не могут.
Полянский: Публичный и непубличный уровень всегда имел место. Андрей Громыко, Анатолий Добрынин или Олег Трояновский были заклятыми оппонентами своих американских визави, что не мешало им лично доверительно и уважительно общаться, решать проблемы.
Лукьянов: Вот именно – не просто общаться, но и решать проблемы. Ты сейчас решаешь проблемы, общаясь кулуарно?
Полянский: Конечно. Наша работа тут – постоянное согласование позиций, поиск подходов, приемлемых для всех. И в рабочем порядке всем приходится идти на компромиссы – в собственных же интересах.
Лукьянов: Это не вполне согласуется с тем, что ты раньше сказал о тех же американских, британских, европейских дипломатах, которые шарахаются из стороны в сторону.
Полянский: Речь шла, прежде всего, о двусторонних отношениях. Я своим коллегам в Вашингтоне не завидую. У них совершенно другой контекст, и они как раз в полной мере ощущают все то, о чем мы говорили. Но сейчас речь – о многосторонней дипломатии, здесь больше взаимозависимости и ограничителей на двусторонние зловредные действия.
Лукьянов: Хорошо. Это важно, что есть большая разница между дву- и многосторонним. Теперь о другом. Мы много слышим о том, что позиции России в мире укрепились неимоверно. Ты ощущаешь рост престижа России на международной арене?
Полянский: Ощущаю. Особенно после Сирии, Ближнего Востока, когда партнеры поняли, что мы действительно способны что-то задумать, на практике это реализовать, а затем последовательно двигаться в избранном направлении. Конечно, изменение очень чувствуется, особенно со стороны третьих стран, не западных. Африканские, ближневосточные государства гораздо внимательнее стали к нам прислушиваться. Западники больше побаиваются. А еще в их реакциях проскальзывает некоторая растерянность – они не знают, что с нами делать. Додавить не могут, изоляция не получается – по всем форматам мы востребованы. На Ближнем Востоке они вообще без нас ничего крупного сделать не в состоянии. Но при этом мы у них по-прежнему проходим по категории врагов (ну если все своими именами называть). Отсюда такая зацикленность на Украине – им важно поставить галочку, найти какое-то решение, показать хоть какую-то эффективность своей политики. И с облегчением начать искать точки соприкосновения.
Опять-таки, сильно беспокоит Запад и наше партнерство с Китаем. Кстати, китайское поведение тоже меняется. По ряду вопросов еще года два назад представители КНР десять раз думали, стоит ли высказаться. Сейчас уже не думают. Я не помню, чтобы китайцы на площадке ООН так активно и инициативно критиковали американцев, прямо наотмашь.
Лукьянов: Прав ли я, что сейчас стало очень опасно кому-то что-то говорить. В закрытом режиме, секретном, неважно. Шанс на то, что это утечет или будет сознательно вброшено, велик. Что происходит в плане доверительности бесед?
Полянский: О секретных вещах, естественно, в беседе я говорить не буду, и я не буду нигде ничего такого размещать, где есть хотя бы шанс на открытый доступ. Но вообще без доверия невозможно. Допустим, кому-то важно предугадать нашу реакцию, чтобы самому не попасть в сложное положение. Я могу поставить партнера перед фактом на заседании, прижать его к стенке. И формально я буду прав. Но если я ценю рабочие отношения, то могу коллегу предупредить. Например, мне пришли указания по какой-то резолюции или нашей позиции, я выделяю «красные линии», прихожу к нему и говорю: вот здесь мы точно подвинуться не можем. А здесь – можем, наверное, немного смягчить. Поэтому он не станет публично атаковать меня по теме, по которой это заведомо бессмысленно, или отправлять в столицу нереалистичные предложения. Вероятнее всего, он предложит разумные решения. Так что это скорее разведка, которую я сам помогаю провести. И в своих собственных интересах тоже, чтобы он лучше знал мою позицию и не наступил на какую-то мину, после чего я уже ничем не мог бы ему помочь. Это не значит, что я «сливаю» свою позицию. Тем не менее он это учтет и оценит. И мне точно так же потом подскажет. Такой механизм работает.
Лукьянов: Со стороны ощущение, что вынести на публику конфиденциальный разговор становится сейчас нормой.
Полянский: Это может случиться по незнанию один раз. Человек единожды так себя поведет и станет «черной овцой» в дипломатии. Есть понимание, что если ты что-то говоришь доверительно, собеседник либо должен это использовать по согласованию с тобой, либо без упоминания тебя. Но ты сам, естественно, думаешь, о чем можно заранее предупреждать, а о чем нет.
Лукьянов: По части дипломатии ты, наверное, прав. Но если ориентироваться на политику, мы видим другие проявления. Когда была грузинская война и шли баталии в Совбезе, Кондолиза Райс запросто обнародовала то, что Путин и Лавров говорили ей при личной встрече или по телефону… Или эпопея с транскриптом разговора Трампа с Зеленским – как выяснилось, никто его толком не предупреждал, что такое может быть. Это вообще становится нормой. Требовали же от Трампа предъявить записи переговоров с Путиным, хотели вызвать на допрос переводчиков. Я понимаю про секретность. Но ведь и обычный человеческий разговор можно повернуть так, что будет скандал.
Полянский: Примеры, которые ты привел, американские. И неслучайно. Это отражение того, что происходит у них самих. По их законам, осведомитель (whistleblower, как они говорят) может настучать на президента, и ему будет гарантирована защита. Когда президент или министр разговаривают с американцами, конечно, они учитывают этот фактор.
Но бывают все же и доверительные беседы. При желании все прослушивается, но я – еще раз – не о секретности. Есть большая разница между секретностью и доверительностью.
Лукьянов: У меня была более алармистская картина. То есть дипломатическая рутина работает, полагаешь?
Полянский: Дипломатия, спору нет, трансформировалась и видоизменилась в условиях электронных медиа, мессенджеров. Очень многое согласуется по WhatsApp или электронной почте, например. Ты вроде как человеку пишешь доверительно, но при этом понимаешь, что он при желании возьмет и опубликует скриншот. Но, повторюсь, такое возможно лишь один раз. Для дипломатического корпуса он сразу становится персоной нон грата. Я таких случаев даже не знаю, честно говоря. Но при этом все мы понимаем, что все, что хранится в компьютере или смартфоне, легко может быть прочитано третьими лицами, поэтому настоящие секреты туда в принципе не попадают.
Лукьянов: Доверительность – это одна сторона. Другая сторона – дипломатия, внешнеполитическая деятельность явно становится гораздо более публичной, театральной. Покойный Виталий Иванович Чуркин был звездой. Твой нынешний шеф, Василий Алексеевич Небензя, тоже за словом в карман не лезет. Я уж не говорю про Марию Владимировну Захарову. Тебе приходится быть артистом?
Полянский: Сам я стараюсь никогда людей не дразнить. Но и мне приходится иногда проявлять эмоции. Если, например, кто-то на заседании задевает и провоцирует, нехорошо оставлять это без внимания. И тут стоит добавлять толику эмоциональности, которая мне, вообще-то, несвойственна.
Дипломатия в ООН вплотную связана со СМИ. Если заседание проходит в открытом формате, люди волей-неволей делают громкие заявления, рассчитывая в том числе на внутреннюю аудиторию. Когда сирийский постпред, например, выступает и полчаса сыплет не вполне понятными оборотами, он это делает не для нас, а для того, чтобы его соотечественники увидели, что он дал адекватный отпор тем, кто критикует его страну. Ну или Василий Алексеевич порой использует цветистые обороты, которые западники через перевод не поймут в принципе, но их оценит домашняя аудитория. В других случаях такого, наверное, нет. Этот жанр в чем-то близок публичным заявлениям перед журналистами, когда для начала зачитывается нечто подготовленное и хорошо продуманное. Но и импровизация тоже бывает, конечно.
Лукьянов: А тебя как профессионала и наблюдателя не шокируют какие-то ходы нашей публичной дипломатии? Не кажется иногда, что перебор?
Полянский: Это личностный фактор в большей степени. Кому-то нравится, кому-то нет. Я иногда ставлю себя на место того или иного оратора и думаю, что, может, я бы по-другому сказал. Или не на этом сделал акцент. Не факт, что у меня получилось бы лучше. Находясь за границей, я не вижу всей картины. Не так остро чувствую ожидания внутренней аудитории. А это бывает очень важно в публичной дипломатии, влияет на то, какие моменты важно заострить, а на какие сделать меньший упор. Мы все-таки больше действуем, исходя из внешнеполитических аспектов.
Лукьянов: В старые добрые времена, которые не так давно закончились, все-таки грань между внешним и внутренним была намного четче. А сейчас ее практически не стало. Причем везде.
Полянский: Особенно в нашей стране, где люди интересуются политикой, где полно этого всего на телевидении в любых интерпретациях, в том числе и полускандальных.
Лукьянов: Если посмотреть в ретроспективе, вспомнить годы, когда ты был сильно моложе и мы жили в других условиях, ты ощущал пренебрежительное отношение к России? Если сейчас статус повышается, то был ли период, когда смотрели на российских дипломатов и думали или даже говорили: «Вы-то куда? И с чем?».
Полянский: Тут надо соизмерять свой уровень. Мне трудно сравнивать сегодняшний свой опыт с тем, что было, когда я начинал работать в Тунисе в начале девяностых, – тогда моя роль и функции были очень ограниченны. Да и внешняя политика, честно скажем, была никакая. Влияли внутренние факторы: чеченская война, внутренний политический кризис, экономический коллапс, на внешней арене солировал Андрей Козырев с его весьма спорными представлениями о роли России в мире – ясное дело, к нам было совсем другое отношение. Но если говорить о периодах, которые я могу оценить лучше, то могу сказать, что некая неопределенность возникла в начале этого десятилетия.
Лукьянов: Почему?
Полянский: На мой взгляд, прежде всего, из-за ситуации с Ливией. Наше решение воздержаться в СБ ООН, когда мы все-таки поверили заверениям западников (в последний раз, наверное) очень многие не поняли, особенно на фоне российской повестки до этого. Мы проводили довольно последовательную самостоятельную линию, четко декларировали свои приоритеты, и этот шаг, который западники сразу же использовали для развала Джамахирии, выглядел нелогично. От ливийского казуса пошло много кругов, много проблем для региона и мира в целом. На Ближнем Востоке чувствовалось очень сильное разочарование. Потом постепенно это выправилось. В том числе благодаря правильному решению и четкой и последовательной позиции по сирийскому вопросу. Соответственно, вырос и наш авторитет в регионе и мире. А с уважением, как мне кажется, нас начали воспринимать еще раньше, после Крыма, хотя официальная реакция западников и их сателлитов была оголтелой. Все понимали, что шаг тяжелый, хороших решений тогда в нашем арсенале не имелось. То, что мы не отступили, не бросили своих, более того – и сейчас по-прежнему держимся за свои позиции, можно сказать, зубами, вопреки всем ярлыкам, которые на нас вешают, вызывает, несмотря ни на что, уважение. Западники могут что угодно говорить, выдавать желаемое за действительное, но где-то нам даже завидуют. Потому что у нас есть решения, основанные на понятном подходе, и воля к их выполнению.
Это сейчас мало где встретишь. Все страдают от недосказанности и отсутствия внятных правил игры, четкой международной «конституции», согласно которой можно было бы действовать, понимая, что хорошо, а что плохо. Они видят, что мы последовательны. Мы выступаем, имея в качестве точки отсчета одни и те же категории. И им это импонирует, даже если они не разделяют то, что мы говорим. Последовательность и логика сейчас в большой цене.
Лукьянов: Вытекает естественное предположение: они же тогда, наверное, ждут (кто-то с надеждой, кто-то со страхом) нашего магического двадцать четвертого года? Вот уйдет Путин, и тогда…
Полянский: Пока об этом разговоров нет. Нет ощущения, что надо, мол, дождаться 2024 г., и в России все изменится. Так когда-то говорили про ситуацию с завершением второго срока Путина. Сейчас такого не слышу. Возможно, потому, что еще далеко до этой даты. Зато есть другие страны, будущее которых тоже неясно, а момент перелома гораздо ближе. Вот, например, до ноября надо как-то дожить – в США ведь все развивается совершенно непредсказуемо.
Лукьянов: Заключительный вопрос – жизненный. В профессиональном смысле ты счастлив?
Полянский: В профессиональном смысле – да. Здесь очень интересно работать, но ни на что, кроме работы, времени нет. Такая всепоглощающая и важная каторга с такими же, как я, каторжанами, общение и работа с которыми доставляет большое удовольствие. Приходится сталкиваться практически со всей палитрой вопросов, составляющих нашу дипломатию. Многие региональные сюжеты и кризисы обсуждаются и решаются прежде всего именно в ООН. Очень ценно формирующееся здесь понимание, как все устроено, насколько это важно и какие на этой многосторонней дипломатической площадке есть возможности и ограничители. Прочувствовав это, на мой взгляд, гораздо проще расти в профессиональном плане.

ВЫБОРЫ В США И РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ДМИТРИЙ ТРЕНИН
Директор Московского Центра Карнеги, член Совета по внешней и оборонной политике.
Когда-то главный советский американист Георгий Арбатов говорил: «Выборы в США – плохое время для хорошей политики и хорошее – для плохой». Эта максима, по-видимому, вечна. В последние четыре года, правда, оказалось, что «время плохой политики» может растянуться на целый президентский срок, если в этот период американский политический класс будет всецело поглощен острой внутренней борьбой, практически не оставляющей места для ответственных решений и долгосрочной стратегии, в том числе в сфере внешней политики. Завершится ли этот период в 2021 г. или продолжится до середины 2020-х гг., покажут результаты выборов в ноябре 2020-го. Для России это имеет важнейшее значение в выстраивании собственной среднесрочной стратегии на американском направлении, но в долгосрочном плане необходимо осмыслить и учесть опыт последних трех десятилетий.
Текущий диагноз
Сегодня политический класс Соединенных Штатов всецело сконцентрирован на президентской избирательной кампании и идущей параллельно процедуре импичмента президента Дональда Трампа. Все остальные вопросы текущей политики рассматриваются через эту призму. Риск принятия Конгрессом новых санкций в отношении России в самое ближайшее время снизится не только в связи с исключительной сосредоточенностью конгрессменов на импичменте, но и из-за того, что принятие санкций в нынешних условиях будет рассматриваться как удар по Дональду Трампу и его администрации, чего республиканцы, имеющие большинство в Сенате и вслед за своими избирателями поддерживающие президента, допустить не могут. С другой стороны, после вероятного неудачного завершения попытки импичмента республиканцы могут согласиться поддержать законопроект о санкциях, чтобы в очередной раз отмежеваться от «токсичной» России.
В обозримом будущем внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах продолжит мешать стабилизации американо-российских отношений. Хотя фокус расследования действий Трампа в Палате представителей сместился в сторону Украины, истерия в отношении России продолжается и даже усиливается. Это происходит, несмотря на то, что трезво мыслящие американцы признают необходимость восстановления диалога с Россией и даже налаживания какого-то взаимодействия с ней в вопросах стратегической стабильности (судьба Договора СНВ-3) и по другим темам, связанным с безопасностью, – таким, как распространение ядерного оружия или противодействие терроризму. Проблема, однако, в том, что любое взаимодействие рассматривается как уступка России, требующая предварительных шагов Москвы навстречу американским требованиям, – например, признания факта вмешательства России в выборы 2016 г. и обязательства не вмешиваться в будущем в американский политический процесс. На подобной основе, конечно, нельзя договориться о возобновлении полноценного диалога до президентских выборов 2020 года.
Исход грядущих выборов не привнесет фундаментальных перемен в американо-российские отношения, но может по-разному повлиять на них в зависимости от качества победы того или иного кандидата. Победа действующего президента с убедительным отрывом голосов избирателей – 4–5 процентных пунктов или больше – способна укрепить положение Трампа настолько, что он сможет проводить свою политику, в том числе в отношении Российской Федерации, без оглядки на демократическую оппозицию. С другой стороны, уверенную победу кандидата от Демократической партии уже нельзя будет объяснить вмешательством Москвы. Такой исход мог бы со временем – после «одно- двухлетки ненависти» – открыть некоторые, хотя и строго ограниченные, возможности для возобновления диалога по вопросам, связанным с военно-политической и контртеррористической проблематикой. Такой прагматичный диалог, конечно, более чем уравновешивался бы – или прикрывался – в информационном пространстве резкой критикой внешней и внутренней политики России со стороны победивших демократов.
Избрание же Трампа на второй срок с небольшим отрывом или только голосами выборщиков, а не большинства избирателей, скорее всего, приведет к продолжению нынешней «холодной гражданской войны», в которой России будет по-прежнему уготована роль злого кукловода Трампа, а следовательно, заклятого врага американских демократов, СМИ и большей части политического истеблишмента. Неясно, насколько Трамп в этих условиях сохранит декларируемую заинтересованность в улучшении отношений с Москвой и насколько республиканцы в Конгрессе будут препятствовать усилиям демократов наложить на Россию более жесткие санкции.
Уникальная и опасно дестабилизирующая ситуация может сложиться, если Трамп откажется признать поражение на выборах и освободить Белый дом, а также призовет своих сторонников – вооруженных домашним оружием – «защищать выбор народа от посягательств элит». Такого в истории США не было никогда, но ситуация уже неординарная, а Трамп проявил себя человеком, не стесненным внешними ограничениями. Некоторые наблюдатели возлагают в этих условиях надежду уже не на суды и другие конституционные механизмы сдержек и противовесов, а на прямое вмешательство военных на стороне Конституции для смещения засидевшегося на своем посту главы государства.
Возможности Москвы воздействовать на ситуацию, чтобы уменьшить токсичность России в американской политике практически отсутствуют. Американский бизнес, уже работающий в России, остается прибыльным, но старается особенно не трубить о своих успехах, чтобы не привлекать внимания активистов санкционных мер. Потенциальные новые игроки боятся инвестировать в Россию, опасаясь санкций и внутрироссийских проблем, о которых постоянно сообщают американские СМИ. Сдвиги могут последовать, но в долгосрочной перспективе и если Россия возьмет курс на активное экономическое развитие, приватизацию и демонополизацию при укреплении независимости судебной системы. Тогда экономическая привлекательность может пересилить политическую неприязнь.
За пределами политических и медийных кругов – в основном вашингтонских – восприятие России как однозначно враждебной Америке страны гораздо слабее. В интеллектуальном сообществе США, особенно в университетской среде, начался процесс переоценки ценностей, в том числе в области внешней политики. Появились серьезные работы, критикующие либеральный интервенционизм и милитаризм как отличительные черты американской внешней политики последних десятилетий. Речь не столько о том, как лучше проводить внешнюю политику, а как выработать новый курс, больше отвечающий мировым реальностям. Эти тенденции не являются пока определяющими, но их появление симптоматично.
При всей важности выборы 2020 г. – в известном смысле промежуточные. Они отразят накал борьбы и раскол общества, но не дадут ответа на накопившиеся вопросы. Выход США из трех кризисов, в которые они погружены, – политического, социально-ценностного и внешнеполитического – будет долгим и болезненным. Речь идет о завершении целой эпохи, начавшейся с приходом в Белый дом Рональда Рейгана в 1981 году. В экономике – это неолиберализм «чикагской школы». В социальной сфере – резкое усиление неравенства, когда условно 20% по-крупному выиграли от глобализации и 80% остались «при своих», но относительно первой группы сильно проиграли. Во внешней политике – триумфализм, порожденный внезапной и полной победой США в холодной войне.
Контуры нового баланса в экономике, внутренней и внешней политике Соединенных Штатов пока не просматриваются, но процесс изменений уже запущен, и за ним необходимо внимательно следить. Как и за неизбежной сменой поколений в американском политическом классе: ведь основным нынешним претендентам на пост президента – Трампу, Джо Байдену, Элизабет Уоррен, Берни Сандерсу, а также Майклу Блумбергу – за 70. Возможно, уже президентские выборы 2024 г., которые совпадут с ожидаемой новой конфигурацией власти в Российской Федерации, явят миру новый облик политики США и создадут условия для нового начала в американо-российских отношениях.
Позиции и характер действий сторон
Стремиться перевернуть страницу заставляет то обстоятельство, что нынешнее состояние отношений России и Соединенных Штатов характеризуется как конфронтация. Это, однако, качественно иная конфронтация, чем в период холодной войны: преимущественно конфликт интересов вместо антагонизма мировоззрений.
Фундаментальная причина столкновения – отсутствие удовлетворительного урегулирования по итогам холодной войны. Проиграв тогдашнее противостояние под именем СССР, Россия отказалась интегрироваться в американскую систему на правах младшего партнера. Более того, стала стремиться к восстановлению статуса великой державы. Америка же, выиграв холодную войну и фактически списав Россию со счетов в качестве крупной международной величины, сочла неприемлемым для себя партнерство на паритетных условиях, предлагавшихся Москвой. Это главное. Субъективные ошибки и просчеты имели место с обеих сторон, но их значение вторично.
Россия отстаивает право самостоятельно определять, продвигать и защищать свои интересы. Америка отстаивает порядок, установленный по результатам холодной войны. Российские действия – в частности, на Украине и в Сирии – подрывают американский порядок и тем самым обесценивают его. Россия не может признать американоцентричный порядок, поскольку это равносильно признанию собственного подчиненного положения. Америка не может ни договариваться с Россией, ни игнорировать ее действия, поскольку и то, и другое означает отказ от глобального лидерства, на котором основана гегемония США.
Вызов Америке со стороны России укладывается в набирающий силу тренд усиления национальных государств и ослабления глобальных институтов, созданных Западом во главе Соединенными Штатами – системы Pax Americana. Продолжающийся мощный подъем Китая, начинающийся подъем Индии – еще более весомые свидетельства тенденции. Поднимаются региональные державы – Турция, Иран, Бразилия. Элементы самостоятельности заметны во внешней политике Японии. В отдаленном будущем процесс укрепления роли национальных государств может затронуть и Европу – в частности, Францию и Германию.
Форма нынешней российско-американской конфронтации – гибридная война. Основные поля/среды этой войны: информационная, экономическая, финансовая, технологическая. Характер действий Америки основан на ее колоссальных материальных преимуществах. США действуют прямо и массированно. Характер действий России основан на трезвом осознании ее руководством относительной слабости по отношению к Соединенным Штатам. Россия действует асимметрично, расчетливо и зачастую успешно. За прошедшие пять лет Вашингтону не удалось заставить Москву существенно изменить курс в желательном для него направлении.
Перспективы конфронтации
Состояние российско-американских отношений тяжелое, но стабильное. Дальнейшее ухудшение возможно, даже вероятно, но фатальное развитие может стать только результатом трагического стечения обстоятельств. Сетка безопасности, предохраняющая стороны от прямого вооруженного конфликта, существует. Ее образуют постоянные прямые контакты между высшим политическим руководством, военным командованием и верхушкой аппаратов обеспечения национальной безопасности двух стран. Обе стороны исходят из того, что текущая российско-американская конфронтация при всей своей серьезности и потенциальной опасности не носит, в отличие от холодной войны, экзистенциального характера.
В ближайшие пять-семь лет ожидать существенного улучшения отношений России и Америки трудно. Антироссийские санкции обрели силу закона и не будут отменены на протяжении очень длительного срока – то есть практически никогда, если иметь в виду ныне действующих политиков. Россия действует в целом прагматично, исходя из видения ее руководством национальных интересов. Основываясь на них, Москва готова сотрудничать с любыми государствами, если они принимают во внимание интересы России и уважают ее статус в мире. Проблема в том, что ожидать такого подхода от Вашингтона в обозримом будущем не приходится.
Разумеется, Москва и Вашингтон, несмотря на явные и непреодолимые различия, не являются вечными и непримиримыми противниками. Долгосрочные перспективы выхода из американо-российской конфронтации зависят главным образом от внутренних факторов в обеих странах. В США, вероятно, сохранится стремление к ограничению глобальной вовлеченности Америки и сосредоточенность на повышении конкурентоспособности национальной базы. Такая тенденция наметилась уже со второго срока президентства Джорджа Буша-младшего, явно проявилась при Бараке Обаме и стала доминирующей в период правления Дональда Трампа. Это стремление предвещает переформатирование отношений как с союзниками и партнерами Соединенных Штатов, так и с их конкурентами и соперниками на мировой арене, в том числе с Россией.
В России восстановление великодержавного положения во внешнем мире ставит вопрос об устойчивости статуса, не подкрепленного в полной мере экономическими показателями. Решение этого вопроса логически требует большей ориентации внешней политики на цели внутреннего – прежде всего экономического и технологического – развития страны. Такая коррекция, в свою очередь, подразумевает перенос внимания с вопросов мироустройства в целом на вопросы места России в складывающемся мироустройстве. Безопасность страны в XXI веке, достаточно обеспеченная потенциалом ядерного и неядерного сдерживания, будет все больше определяться невоенными параметрами. Урок Советского Союза заставляет думать об экономике и технологиях, социальной политике, а также о настроениях в обществе.
Если оба обозначенных фактора в наших странах выйдут на первый план, то могут сложиться условия, при которых в отдаленном будущем – в 2030-х – 2040-х гг. – российско-американские отношения, оставаясь по преимуществу отношениями соперничества, что нормально для великих держав, могут выйти из состояния острой конфронтации. В идеале – стать простыми отношениями конкурентов, способных к точечному прагматическому сотрудничеству.
Насущные задачи: стратегическая стабильность
Некоторые шаги в сторону ослабления напряженности могут быть предприняты еще в условиях противоборства. Основа для этого есть. Так, несмотря на продолжающуюся и временами обостряющуюся конфронтацию, Россия и США сознают опасность прямого военного конфликта. Созданы и функционируют каналы связи и предотвращения вооруженных столкновений, поддерживаются личные контакты между лицами, занимающими ключевые посты в структурах вооруженных сил и национальной безопасности двух стран. Несмотря на отсутствие диалога, коммуникация продолжается.
Серьезным негативным фактором является свертывание и возможное упразднение режима контроля над вооружениями. Пытаться сохранить его – бесполезное занятие. В современных условиях требуется новый подход к стратегической стабильности взамен того, который основывался на реалиях второй половины ХХ столетия. Основная цель такого подхода – предотвращение вооруженных конфликтов между ядерными державами. Основные методы достижения цели – поддержание постоянных контактов и обмен информацией между соответствующими государствами (как это практикуется сейчас между РФ и США); взаимная сдержанность и непровоцирующий характер военной деятельности; информационный диалог по военным доктринам и стратегиям; сотрудничество в вопросах нераспространения ядерного оружия; совместная деятельность по предотвращению ядерного терроризма.
В ближайшее время России и Америке имеет смысл продлить Договор СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 г., на следующие пять лет, начать консультации по проблемам гиперзвукового оружия и космоса, а также проявлять сдержанность в дестабилизирующем развертывании ракетных систем средней и меньшей дальности, запрещенных в свое время Договором о РСМД. Кроме этого, полезен постоянно действующий семинар по проблемам стратегической стабильности, который поможет сторонам лучше понимать доктринально-стратегические установки друг друга.
Фактор Китая
Конфронтация между Россией и США, отражая дух эпохи, не является ее центральным конфликтом – в отличие от противостояния между Вашингтоном и Пекином. Именно американо-китайский сюжет уже стал важнейшим фактором формирования нового миропорядка. По сравнению как с Америкой, так и с Китаем Россия – экономически, технологически и демографически – относительно небольшая величина. Тем не менее именно эти три государства в настоящее время оказывают наибольшее влияние на геополитические и военные балансы в мире. В экономике и технологиях, однако, доминируют США и Китай. Для Соединенных Штатов именно Китай – главный соперник и потенциальный противник. Такое положение создает для России и риски, и возможности.
Возможность заключается в закономерном переключении основного внимания Вашингтона на Китай при дальнейшем снижении внимания к России как к угрозе. Реализовать это трудно из-за того, что даже при ослабленном внимании к России отношение американской политической элиты остается резко отрицательным. Кроме того, тесное сотрудничество РФ и КНР, особенно в военной и военно-технической областях, усиливает раздражение американцев действиями Москвы, переставшей быть главным противником, но способствующей теперь укреплению основного соперника Америки.
Риск состоит, прежде всего, в становлении новой биполярной модели, в которой Россия, отказавшаяся стать младшим партнером США, превратилась бы в вассала Китая. Одновременное давление Вашингтона на Москву и Пекин способствует реализации именно такого сценария. Противостоять подобной тенденции довольно сложно из-за того, что углубление отношений России с другими развитыми странами – в частности, Европы и Японией – сдерживается союзнической солидарностью этих стран с Америкой. В еще большей степени экономическое развитие России сдерживается структурными проблемами внутреннего характера, которые так или иначе будут решены, но, скорее всего, за пределами обозримого будущего.
В новом треугольнике «Вашингтон – Пекин – Москва» Россия, несмотря на очень разные отношения с Америкой и Китаем, пока стремится играть самостоятельную роль. От политики Соединенных Штатов зависит, насколько тесно Москва и Пекин будут координировать свои действия на американском направлении. Россия дорожит нынешними отношениями с Китаем и не встанет на сторону США в их противостоянии с КНР. Второго издания киссинджеровского «треугольника», выгодного Вашингтону, не будет. В то же время очевидно, что в условиях жесткого противостояния у России в какой-то момент может не хватить ресурсов, чтобы выдерживать самостоятельный курс. Можно обоснованно утверждать, что двойное сдерживание России и Китая не отвечает также стратегическим интересам Америки, но политика США в последнее время не всегда отличалась стратегической выверенностью.
В поиске региональных балансов
Если России все же удастся устоять на ногах и сохранить стратегическую самостоятельность, то отношения с Соединенными Штатами могут стать продуктивными. Менее глобальный и более национально-ориентированный подход США к мировым делам, создавая вакуумы безопасности в различных регионах мира – на Ближнем и Среднем Востоке, включая зону Персидского Залива, в Афганистане, Северо-Восточной Азии и не в последнюю очередь в Европе, – может сформировать условия для ограниченного российско-американского взаимодействия. Такое взаимодействие не должно быть исключительным. Напротив, оно способно стать частью многосторонних усилий ведущих игроков по стабилизации конфликтов, угрожающих их коренным интересам. Новый мировой порядок может возникнуть в том числе на основе региональных балансов.
Так, равновесия в Европе возможно достигнуть в случае урегулирования украинского кризиса. Условиями должны стать фактическое признание российского статуса Крыма и реинтеграция Донбасса в состав Украины на основе Минских соглашений 2015 года. Сама Украина стала бы в результате нейтральным по отношению к США/НАТО и Российской Федерации государством, ассоциированным партнером Европейского союза с возможностью свободно развивать дальше свои отношения с ЕС. Украинское урегулирование – дело самих украинцев, россиян и европейцев (немцев и французов в первую очередь, но не только), однако американцы могли бы внести свой вклад. Главное, что требовалось бы от США, – ясный отказ от дальнейшего расширения НАТО на Восток, которое реально уже заблокировано очевидным риском военного столкновения и очевидным нежеланием американцев брать под защиту периферийные для их интересов государства.
Таким же образом может выглядеть успешный вариант решения приднестровского конфликта в Молдавии: реинтеграция с разделом полномочий и военный нейтралитет при свободном развитии отношений с Евросоюзом. Снятие с повестки дня проблемы расширения НАТО позволило бы развивать ассоциацию Грузии с Европой и одновременно снижать напряженность между Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией, Грузией и Россией. Что касается Белоруссии, то она оставалась бы независимым государством, тесно связанным экономическими, политическими, военными и гуманитарными узами с Россией в рамках Союзного государства, ОДКБ и ЕАЭС, и при этом имела бы возможность развивать отношения с Евросоюзом.
На Ближнем и Среднем Востоке США могли бы начать взаимодействовать с Россией, как взаимодействуют с ней региональные государства – Израиль, Иран, Саудовская Аравия, Турция и другие. Москва и Вашингтон по-прежнему разделяют цель сдерживания распространения ядерного оружия в регионе. Ни Россия, ни Соединенные Штаты не надеются получить долгосрочную выгоду от войны между Ираном и Саудовской Аравией. И, конечно, Ближний и Средний Восток остаются очагом угрозы радикализма, экстремизма и терроризма, что одинаково заботит Вашингтон и Москву. Последнее целиком и полностью относится также к Афганистану.
В Северо-Восточной Азии укрепление российско-японских отношений полезно для США в условиях продолжающегося усиления Китая. Партнерство Москвы и Токио, как и тесное сотрудничество Москвы и Дели, способствует уравновешиванию обстановки в Азии, в бассейнах Тихого и Индийского океанов и в Арктике – от Мурманска до Мумбая. Этому также содействовало бы развитие американо-российских экономических и прочих связей через Тихий и Северный Ледовитый океаны.
Заключение
Россия в последние десятилетия была слишком зациклена на Америке. С одной стороны, у Москвы первоначально присутствовало жгучее стремление к дружественному единению двух стран, с другой – вскоре проявилось столь же жгучее стремление к реваншу за поражение в холодной войне. Российские руководители и элиты безуспешно искали в Америке истоки своих проблем и часто ждали от нее невозможного – признания равенства с Россией.
Вступая в третье десятилетие XXI века, россиянам нужно запастись терпением, обратить пристальное внимание на внутренние дела, на формирование ровных и взаимовыгодных отношений с гораздо более сильным Китаем. Москве стоит, конечно, отслеживать развитие ситуации в США, но не пытаться при этом вмешиваться в ход тамошних событий. Проникновение в политические спальни других государств всегда создает много шума и почти никогда не приносит пользу. Для России отстраненность от американской внутренней политики значительно выгоднее, чем вовлеченность в нее. Вполне возможно, что развитие как внутренней, так и международной ситуации в ближайшие 20 лет заставит Соединенные Штаты существенно изменить modus operandi на мировой арене. Тогда и появится реальная основа для новых российско-американских отношений конкуренции и взаимодействия, а пока нужно сосредоточиться на постепенном снижении уровня конфронтации, а в перспективе – на поиске условий выхода из нее.

ПУСТЬ РОССИЯ БУДЕТ РОССИЕЙ
ТОМАС ГРЭМ
Заслуженный сотрудник Совета по международным отношениям, работал старшим директором по России в Совете по национальной безопасности при президенте Джордже Буше.
АРГУМЕНТ В ПОЛЬЗУ ПРАГМАТИЧНОГО ОТНОШЕНИЯ К МОСКВЕ
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 6, 2019 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
После окончания холодной войны все президенты США обещали улучшить отношения с Россией. Однако каждый раз эти планы оказывались несбыточной мечтой. Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама намеревались интегрировать Россию в евроатлантическое сообщество и сделать ее партнером в построении либерального мирового порядка. Но по окончании президентского срока каждого из них отношения с Россией становились гораздо хуже, чем до их прихода в Белый дом. Россия тем временем отдалялась все больше и больше.
Президент Дональд Трамп обещал наладить тесное партнерство с Владимиром Путиным. Однако его администрация лишь ужесточила тот конфронтационный подход, который взяла на вооружение администрация Обамы после того, как Москва начала агрессию против Украины в 2014 году. Россия не намерена сдавать позиции на Украине; она все более дерзко противостоит Соединенным Штатам в Европе и на Ближнем Востоке и продолжает вмешиваться в американские выборы.
Политика, проводимая четырьмя президентскими администрациями в отношении России, потерпела фиаско потому, что независимо от общей тональности, примирительной или конфронтационной, она базировалась на неизменной иллюзии: правильная стратегия США может принципиально изменить представление России о своих собственных интересах и ее фундаментальное мировоззрение. Было ошибочно основывать политику на предположении, что Россия присоединится к сообществу либеральных демократий, но не меньшей ошибкой было думать, будто более агрессивный подход заставит ее отказаться от своих жизненно важных интересов.
Для начала стоит признать, что отношения Вашингтона и Москвы были в принципе конкурентными с того момента, когда Соединенные Штаты стали мировой державой в конце XIX века, и что они остаются таковыми по сей день. Эти две страны отстаивают совершенно разные концепции мирового порядка. Они преследуют противоположные цели в региональных конфликтах – например, в Сирии и на Украине. Республиканская, демократическая традиция США прямо противоположна традициям России с ее длительной историей автократического правления. С практической и идеологической точек зрения тесное партнерство между этими двумя государствами не может быть устойчивым. В нынешнем международном климате американские политики должны естественным образом прийти к пониманию этого.
Намного труднее будет признать, что изгнание и изоляция России, скорее всего, будет контрпродуктивной мерой, с помощью которой вряд ли удастся чего-то добиться. Даже в случае уменьшения ее относительной мощи Россия останется ключевым игроком на мировой арене благодаря значительному ядерному арсеналу, обильным природным ресурсам, центральному положению в Евразии, праву вето в Совете Безопасности ООН и высококвалифицированным кадрам. Сотрудничество с Россией необходимо для совместной борьбы с глобальными вызовами и угрозами, такими как изменение климата, распространение ядерного оружия и терроризм. Ни от одной страны в мире (за исключением Китая) не зависит решение такого количества стратегических и экономических проблем, считающихся важными для США, как от России. И необходимо добавить, что никакая другая страна не способна уничтожить Соединенные Штаты за 30 минут.
Более сбалансированная стратегия сдержанной конкуренции не только снизила бы риск ядерной войны, но и стала бы основой для сотрудничества и совместного поиска ответов на глобальные вызовы. Более продуманные отношения с Россией помогут гарантировать безопасность и стратегическую стабильность в Европе, хотя бы немного упорядочить ситуацию на Ближнем Востоке, а также контролировать подъем Китая. Требуя от России умерить амбиции и вести себя более сдержанно, американские политики должны быть готовы отказаться от своих краткосрочных целей, особенно в части урегулирования кризиса на Украине, для выстраивания более продуктивных отношений с Москвой.
Прежде всего, политики США должны взглянуть на Россию без сантиментов или идеологических клише. В новой стратегии построения отношений с Россией необходимо отказаться от архаичного мышления, свойственного предыдущим администрациям, и стремиться к поступательному развитию взаимодействия, исходя из долгосрочных интересов Соединенных Штатов. Вместо того, чтобы пытаться убедить Москву пересмотреть российские интересы, Вашингтону необходимо доказать, что эти интересы надежнее продвигать посредством взвешенной конкуренции и сотрудничества с США.
Конец иллюзии
Делая акцент на партнерство и интеграцию сразу после окончания холодной войны, Вашингтон в принципе неверно понимал российские реалии, полагая, что страна переживает подлинные демократические преобразования и что она слишком слаба, чтобы сопротивляться политике, проводимой США. Вне всякого сомнения, в начале 1990-х гг. предположение, что Россия избавляется от своего авторитарного прошлого, не казалось притянутым за уши. С точки зрения Америки, холодная война закончилась торжеством западной демократии над советским тоталитаризмом. Страны бывшего советского блока начали демократизацию после революций 1989 года. Набиравшая силу глобализация подпитывала убеждение, что демократия и свободный рынок – путь к процветанию и стабильности в грядущие десятилетия. Лидеры новой России – президент Борис Ельцин и окружавшие его динамичные молодые реформаторы – объявили о приверженности курсу на всеобъемлющие политические и экономические реформы.
Но уже в 1990-е гг. по некоторым признакам можно было судить, что эти предпосылки были изначально неверны. Вопреки преобладавшему на Западе мнению, распад Советского Союза ознаменовал не демократический прорыв, а победу популиста Ельцина над советским лидером Михаилом Горбачёвым, который оказался более убежденным демократом, организовавшим самые свободные и справедливые выборы в истории современной России. В России имелось мало устойчивых национальных демократических традиций, из которых можно было черпать вдохновение, а политическое сообщество оставалось шатким и слабым: на таком фундаменте невозможно построить функциональную демократию. Положение усугублялось тем, что государственные институты стали жертвой хищных олигархов и региональных «баронов». В стране орудовали безжалостные банды, нередко прибегавшие к кровавым разборкам в стремлении завладеть активами некогда полностью государственной экономики. Коммунисты старой закваски и советские патриоты противостояли более прогрессивным силам. В стране воцарился политический хаос.
Он усугублялся на протяжении 1990-х гг., и дело дошло до того, что многие наблюдатели реально опасались распада России, как это случилось в начале десятилетия с Советским Союзом. Задача восстановления порядка легла на плечи ельцинского преемника Путина. Хотя он использовал демократическую риторику, разъясняя свои планы, в документе под названием «Россия на рубеже тысячелетий» (опубликованном 30 декабря 1999 г.) он дал ясно понять, что намерен вернуться к традиционной российской модели сильного и в высшей степени централизованного авторитарного государства. «Россия, – писал он, – не скоро станет, если вообще станет, вторым изданием, скажем, США или Англии, где либеральные ценности имеют глубокие исторические традиции… Крепкое государство для россиянина – не аномалия, не нечто такое, с чем следует бороться, а, напротив, источник и гарант порядка, инициатор и главная движущая сила любых перемен».
Официальные лица в США прекрасно видели препятствия на пути демократических реформ и не были слепы в отношении подлинных намерений Путина. Однако приятное чувство, оставшееся у них после победы в холодной войне, заставляло настаивать на том, что партнерство с Россией должно опираться на общие демократические ценности; одних лишь общих интересов было мало. Чтобы заручиться общественной поддержкой, каждая администрация заверяла американцев, что лидеры России привержены демократическим реформам и процедурам. Начиная с 1990-х гг. Белый дом во многом измерял успех своего подхода прогрессом России на пути к становлению более крепкой и функциональной демократии. Это был довольно неопределенный проект, успех которого едва ли зависел от усилий или влияния США. Неудивительно, что стратегия потерпела крах, когда стало невозможно заполнить пропасть между данной иллюзией и все более авторитарной российской реальностью. Для Клинтона момент истины наступил после того, как Ельцин утвердил новое правительство консерваторов и коммунистов после финансового коллапса 1998 г.; для Буша – когда Путин начал подавлять деятельность гражданского общества, реагируя на украинскую «оранжевую революцию» в 2004 г.; а для Обамы – когда Путин объявил в 2011 г., что после длительного пребывания в должности премьер-министра он снова будет баллотироваться на пост президента.
Вторая ошибочная предпосылка – будто у России нет сил, чтобы бросить вызов Соединенным Штатам, также выглядела правдоподобной в период с 1991 по 1998 годы. От некогда грозной Красной Армии, оказавшейся на голодном пайке, осталась лишь тень её былого могущества. Россия зависела от финансовой поддержки Запада, пытаясь сохранять на плаву экономику и правительство. В этих обстоятельствах администрация Клинтона, как правило, добивалась поставленных целей, когда вмешивалась в события на Балканах или расширяла НАТО, не встречая серьезного противодействия России.
Однако предпосылка стала менее правдоподобной, когда экономика России начала быстро восстанавливаться. Путин прибрал власть к рукам и восстановил порядок, прижав олигархов и региональных «баронов». Впоследствии он начал кампанию по модернизации вооруженных сил. Однако администрация Буша, убежденная в беспрецедентной мощи «однополярного момента», не проявляла большого уважения к обновленному военному потенциалу России. Буш вышел из Договора по противоракетной обороне (ПРО), продолжил расширение НАТО и приветствовал так называемые «цветные революции» в Грузии и на Украине с их антироссийской подоплекой. Аналогичным образом администрация Обамы, хотя уже и не была так уверена в мощи Америки, по-прежнему не считалась с Россией. Когда в 2011 г. начались волнения, названные «арабской весной», Обама заявил, что сирийский президент Башар Асад, проводник российского влияния на Ближнем Востоке, должен уйти. Вашингтон также не обратил особого внимания на возражения России, когда США и их союзники превысили выданный им Советом Безопасности ООН мандат на вмешательство в ливийские события и вместо защиты гражданского населения, оказавшегося в зоне военных действий, провели операцию по свержению ливийского диктатора Муаммара Каддафи.
Россия спустила администрации Буша и Обамы с небес на землю. Российское вторжение в Грузию в 2008 г. продемонстрировало, что Москва накладывает вето на дальнейшее расширение НАТО посредством применения военной силы против потенциальных новых членов альянса. Аналогичным образом захват Россией Крымского полуострова и дестабилизация восточной Украины в 2014 г. шокировали администрацию Обамы, которая ранее приветствовала изгнание Виктора Януковича – пророссийского президента Украины. Год спустя военная интервенция России в Сирии спасла Асада от неминуемого поражения от рук повстанцев, получавших поддержку и помощь США.
Воля к власти
Сегодня почти все в Вашингтоне отказались от мысли, будто Россия находится на пути к демократии, и администрация Трампа считает Россию стратегическим конкурентом. Подобная коррекция курса давно назрела. Вместе с тем нынешняя стратегия наказания и изоляции России также ущербна. Она не только игнорирует очевидный факт, что Соединенные Штаты не смогут изолировать Россию против воли таких крупных держав как Китай и Индия, но и содержит ряд серьезных ошибок.
С одной стороны, стратегия преувеличивает мощь России и демонизирует Путина, из-за чего отношения превращаются в борьбу с нулевой суммой, когда единственным приемлемым исходом любого спора становится капитуляция России. Однако внешняя политика Путина была менее успешной, чем афишировалось. Его действия на Украине, нацеленные на предотвращение включения страны в западные структуры и сообщества, лишь сильнее сплотили Украину с Западом и заставили НАТО вернуться к первоначальной миссии сдерживания России. Вмешательство Путина в американские выборы осложнило отношения с США, нормализация которых нужна России для увеличения притока иностранных инвестиций и создания долгосрочной альтернативы избыточной стратегической зависимости от Китая.
В отсутствие согласованных действий Запада Путин сделал Россию главным игроком во многих геополитических конфликтах – прежде всего, в Сирии. Но ему еще предстоит доказать, что он может положить конец любому конфликту с целью закрепления преимуществ России. В период экономической стагнации и распространения социально-экономического недовольства в обществе его активная внешняя политика рискует довести страну до истощения или перенапряжения. В этих обстоятельствах Путину нужно урезать расходы. И это открывает перед Соединенными Штатами новые возможности для возвращения к дипломатии и снижения остроты конкурентной борьбы с Россией при одновременной защите интересов США.
Еще один изъян нынешней американской стратегии в ее изначальной предпосылке, что Россия – это клептократия в чистом виде, лидерами которой движет только один мотив: сохранить богатство и обеспечить выживание. В основе этой политики лежит предположение, что российские олигархи и официальные лица, находящиеся под санкциями, окажут давление на Путина и потребуют, например, изменить политику на Украине или свернуть вмешательство России в американские внутренние дела. Ничего подобного не происходит, потому что Россия в большей мере является патримониальным государством, в котором личное богатство и положение в обществе в конечном итоге зависит от властей предержащих.
Американские политики также повинны в том, что не считаются всерьез с желанием России иметь имидж великой державы. По многим меркам Россия действительно слаба: ее экономика – лишь малая доля американской экономики, по стандартам Соединенных Штатов население России нездорово, а инвестиции России в высокие технологии намного отстают от американских вложений в этот сектор. Однако российские лидеры уверены, что для выживания их страна должна быть великой державой – одной из нескольких стран, определяющих структуру, суть и направление мировой политики, и в погоне за этим статусом они готовы переносить серьезные лишения. Этот менталитет был движущей силой поведения России на мировой арене со времен Петра Первого, который около 300 лет назад привел свое государство в Европу.
После распада Советского Союза российские лидеры сосредоточились на восстановлении великодержавного статуса России подобно тому, как поступили их предшественники после национального унижения в Крымской войне 1850-х гг. и после гибели Российской империи в 1917 году. Как писал Путин два десятилетия тому назад, «впервые за последние 200–300 лет Россия стоит перед лицом реальной опасности оказаться во втором, а то и в третьем эшелоне государств мира. Чтобы этого не произошло, необходимо огромное напряжение всех интеллектуальных, физических и нравственных сил нации … Все сейчас зависит только от нашей способности осознать степень опасности, сплотиться, настроиться на длительный и нелегкий труд».
Часть этой задачи – противодействие Соединенным Штатам. По мнению Путина, именно они составляют главное препятствие для великодержавных устремлений России. В отличие от амбициозных представлений Вашингтона об однополярном мире Кремль настаивает на построении многополярного мира. Если говорить конкретнее, Россия стремится подорвать позиции Вашингтона, противодействуя его интересам в Европе и на Ближнем Востоке, а также пытаясь запятнать репутацию США как образцовой демократии посредством вмешательства в выборы и усугубления внутриполитического разлада в Америке.
Мир России
Стремясь восстановить великодержавный статус, Россия бросает геополитические вызовы Соединенным Штатам. Эти вызовы проистекают из вековых проблем России, вынужденной защищать огромную малонаселенную и многонациональную страну, лишенную физических заслонов и граничащую либо с могущественными государствами, либо с нестабильными территориями. Россия справлялась с этим, жестко контролируя внутриполитическую ситуацию, создавая буферные зоны на границах и не допуская формирования сильной коалиции соперничающих держав. Сегодня подобный подход противоречит интересам США в Китае, Европе, на Украине и Ближнем Востоке.
Ни одна часть Восточной Европы и бывшего СССР не представляется российским политикам более важной, чем Украина, которая стратегически позиционируется как путь на Балканы и в Центральную Европу, обладает огромным экономическим потенциалом и считается колыбелью великой русской цивилизации. Когда народное восстание 2014 г., поддержанное Вашингтоном, угрожало вывести Украину из орбиты российского влияния, Кремль захватил Крым и спровоцировал мятеж в восточной части Донбасса. То, что Запад счел вопиющим нарушением международного права, Кремль истолковывал как право на самооборону.
Глядя на Европу в целом, российские лидеры видят одновременно конкретную угрозу и сцену для демонстрации величия России. С практической точки зрения шаги, предпринятые Европой в направлении политического и экономического объединения, были чреваты появлением на границах России огромного образования, которое, подобно Соединенным Штатам, значительно превосходило бы Россию по численности населения, материальному богатству и силе. Психологически Европа по-прежнему возбуждает великодержавные амбиции России. За три прошедших столетия Россия не раз демонстрировала мастерство в ходе великих европейских сражений, вела искусную дипломатию и большую игру. Например, после поражения Наполеона в 1814 г. именно российский император Александр I принял ключ от Парижа. Объединение Европы и продолжающаяся экспансия НАТО привели к вытеснению России с европейского поля и к уменьшению ее влияния на европейскую политику. Поэтому Кремль удвоил усилия по углублению разногласий и линий размежевания между европейскими странами, а также начал сеять в умах политических лидеров уязвимых стран НАТО сомнения относительно приверженности их союзников обязательствам по коллективной обороне.
Россия вернулась на Ближний Восток после 30 лет отсутствия. Поначалу Путин вмешивался в сирийские события, чтобы защитить своего подопечного Асада и не допустить победы радикальных исламистских сил, которые поддерживали связи с экстремистами внутри России. Но после того, как он спас давнего друга, амбиции начали расти ввиду отсутствия решительных действий американцев в этой арабской стране. Россия решила использовать Ближний Восток в качестве арены для демонстрации своих претензий на статус великой державы. Действуя в обход миротворческого процесса под эгидой ООН, в котором США остаются главным игроком, Россия объединила усилия с Ираном и Турцией в поиске окончательного разрешения кризиса в Сирии. Для снижения риска прямой конфронтации между Ираном и Израилем Россия укрепила дипломатические связи с Израилем. Она восстановила отношения с Египтом и начала работать с Саудовской Аравией, чтобы взять под контроль цены на нефть.
Москва также продолжила курс на сближение с Китаем для создания стратегического противовеса Соединенным Штатам. Эти отношения помогли противостоять влиянию США в Европе и на Ближнем Востоке. Но у Вашингтона более серьезную озабоченность должно вызывать потенциальное расширение возможностей Пекина благодаря его сотрудничеству с Россией. Москва помогла Китаю выйти на рынки стран Центральной Азии и (в меньшей степени) на рынки Европы и Ближнего Востока. Она предоставила Китаю доступ к природным ресурсам по выгодным ценам и продала ему свои продвинутые военные технологии. Короче, Россия всячески способствует усилению Китая в качестве грозного конкурента Соединенных Штатов.
Нынешняя более самонадеянная внешняя политика Москвы отражает не столько возросшую силу страны (в абсолютном выражении ее потенциал не слишком увеличился), сколько ее веру в то, что на фоне нерешительности США ее относительная мощь возрастает. Одним из главных мотивов проведения Россией наступательной политики на мировой арене является устойчивый страх, боязнь того, что в долгосрочной перспективе возможно опасное отставание от Соединенных Штатов и от Китая. В российской экономике наблюдается застой, и даже по официальным прогнозам надежды на значительный прорыв в следующем десятилетии практически нет. Россия не может вкладывать столько же средств, сколько инвестируют два ее главных конкурента, в такие важные технологии, как искусственный интеллект, биоинженерные решения и роботизация. А ведь в будущем именно они будут определять суть силы и мощи страны. Возможно, Путин демонстрирует жёсткость сейчас, когда относительная мощь его страны возросла, чтобы лучше позиционировать Россию в новом многополярном мировом порядке, формирование которого происходит у него на глазах.
Между приспособлением и сопротивлением
Вызов, который современная Россия бросает США, не связан с экзистенциальной борьбой между этими странами в годы холодной войны. Скорее, это более ограниченное соперничество между великими державами с конкурирующими стратегическими интересами и задачами. Если Соединенные Штаты сумели договориться с Советским Союзом об укреплении мира и безопасности, продвигая при этом американские интересы и ценности, то, конечно же, они могут сделать то же самое и с современной Россией.
Начав с Европы, политикам США следует отказаться от расширения НАТО еще дальше на бывшие советские территории. Вместо того чтобы обхаживать страны, которые НАТО не готово защищать военными средствами (достаточно вспомнить вялую реакцию на российскую агрессию против Грузии и Украины), альянсу следует упрочивать внутренние связи и заверить уязвимые страны блока в приверженности обязательствам по коллективной обороне. Прекращение дальнейшего расширения НАТО на Восток устранит главную причину посягательств России на суверенитет бывших советских республик. Однако Соединенным Штатам нужно продолжать сотрудничество с этими странами в сфере безопасности, поскольку к подобным связям Россия относится терпимо.
До сих пор Соединенные Штаты настаивали на том, что для Украины остается возможность присоединения к НАТО. Вашингтон категорически отвергает включение Крыма в состав России и требует завершения конфликта в Донбассе на основании соглашения, подписанного в Минске в 2015 г. и предусматривающего особый автономный статус сепаратистских регионов внутри воссоединенной Украины. При таком подходе ситуация почти не сдвигается с мертвой точки. Конфликт в Донбассе продолжается, и Россия пускает все более глубокие корни в Крыму. Борьба с Россией отвлекает Украину от давно назревших реформ – страна страдает от коррупции, политической неопределенности и экономической отсталости. Избрание нового президента Владимира Зеленского, сторонники которого сейчас доминируют в парламенте, создало возможность для всеобъемлющего разрешения кризиса.
Необходимо пойти на два компромисса. Во-первых, чтобы успокоить Россию, Соединенным Штатам следует сказать Украине, что членство в НАТО снимается с повестки дня, но при этом продолжать углублять двустороннее сотрудничество с Киевом в вопросах безопасности. Во-вторых, Киеву следует признать включение Крыма в состав России в обмен на согласие Москвы на полное воссоединение Донбасса с Украиной без какого-либо особого статуса. Всеобъемлющее соглашение должно предусматривать компенсации Украине за утраченное в Крыму имущество, гарантии беспрепятственного доступа к прибрежным ресурсам и прохода через Керченский залив к портам на Азовском море. По мере реализации этих договоренностей США и Евросоюз постепенно снимали бы санкции с России. В то же время они могли бы предложить Украине существенную финансовую поддержку для облегчения реформ, исходя из того, что сильная, процветающая Украина – лучшее средство сдерживания российской агрессии в будущем и необходимый фундамент для построения более конструктивных российско-украинских отношений.
Первоначально такой подход будет скептически воспринят в Киеве, Москве и других странах Европы. Но Зеленский главную ставку в своей предвыборной программе сделал на разрешение конфликта в Донбассе, а Путин приветствовал бы любую возможность перенаправить средства и внимание на противодействие поднимающейся в России волне социально-экономических выступлений. Тем временем европейские лидеры устали от украинских проблем и хотят нормализации отношений с Россией, не отказываясь при этом от принципов европейской безопасности. Настало время смелой дипломатии, которая позволила бы всем сторонам заявить о частичной победе и смириться с жесткими реалиями: НАТО не готово принять в свой состав Украину, Крым не вернется к Украине, а сепаратистское движение в Донбассе нежизнеспособно без активной поддержки Москвы.
Более умная стратегия в отношении России не будет сбрасывать со счетов последствия военного вмешательства Кремля на Ближнем Востоке. Главные вызовы для США в этом регионе исходят от Ирана, а не от России. У Москвы свои интересы в Иране, которые не всегда совпадают с интересами Вашингтона, но вовсе необязательно противостоят им. Как и Соединенные Штаты, Россия не хочет, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие, поэтому она поддержала ядерную сделку с Ираном, так называемый Совместный всеобъемлющий план действий. Правда, администрация Трампа вышла из этой сделки в 2018 году. Как и Соединенные Штаты, Россия не хочет, чтобы Иран доминировал на Ближнем Востоке. Москва стремится добиться нового равновесия в регионе, хотя и не в той конфигурации, какую предпочел бы видеть Вашингтон. Кремль работает над улучшением отношений с другими региональными державами, такими как Египет, Израиль, Саудовская Аравия и Турция. Ни одна из этих стран не поддерживает теплые или дружеские отношения с Ираном. Россия уделяет особое внимание Израилю, позволяя ему наносить удары по позициям Ирана и «Хезболлы» в Сирии. Если бы США уважительно отнеслись к ограниченным интересам России в Сирии и приняли Россию в качестве регионального игрока, они, вероятно, смогли бы убедить Кремль делать больше для сдерживания агрессивного поведения Ирана. Администрация Трампа уже движется в этом направлении, но нужны еще более энергичные усилия.
Вашингтон должен также обновить подход к сдерживанию гонки вооружений. Соглашения, работавшие последние 50 лет, утратили актуальность. Мир движется к многополярному порядку – в частности, Китай активно модернизирует вооруженные силы. Страны разрабатывают передовые образцы обычных вооружений, способные уничтожать хорошо защищенные и укрепленные цели, которые когда-то были уязвимы только для ядерного оружия, а также кибероружие, способное выводить из строя командно-штабные системы управления. В результате разрушается режим контроля над вооружениями. Администрация Буша вышла из Договора по ПРО в 2002 г. – президент назвал этот договор «устаревшей реликвией» времен холодной войны. А в 2019 г. администрация Трампа вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который она высмеяла как неэффективный и безнадежно устаревший.
Вместе с тем Соединенным Штатам следует продлить новый Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), подписанный в 2010 году. Срок его действия истекает в 2021 году. Россия выступает за его продление, а администрация Трампа колеблется. Этот документ содействует прозрачности в отношениях между двумя странами и может укрепить доверие между ними, что немаловажно в эпоху натянутых отношений. Однако договор не сдерживает ускоряющуюся гонку все более мощных и изощренных вооружений. Например, наиболее многообещающие системы вооружений – сверхзвуковое оружие и кибероружие – не подпадают под действие СНВ. Политикам нужно разработать режим контроля над вооружениями с учетом современных, быстро развивающихся технологий, который включал бы и другие крупные державы. Хотя на определенном этапе Китай нужно подключить к этому процессу, Соединенным Штатам и России следует показать пример, как они это делали раньше, поскольку они накопили уникальный опыт учета теоретических и практических требований стратегической стабильности, а также принятия соответствующих мер по контролю над вооружениями. Вашингтону и Москве нужно разработать новый режим контроля над вооружениями, а затем подкрепить его многосторонней поддержкой.
Что касается стратегических проблем ядерных вооружений и других вопросов, то США не удастся предотвратить укрепление Китая, но они могут направить растущую китайскую мощь по пути, соответствующему американским интересам. Соединенным Штатам следует подключить Россию к этой работе вместо того, чтобы толкать ее в объятия Китая, как они это делают в настоящее время. Конечно, невозможно настроить Россию против Пекина, поскольку у нее есть веские основания для добрососедских отношений с Китаем, уже превосходящим Россию как великая держава. Однако США могли бы содействовать иному раскладу сил в Северо-Восточной Азии, который служил бы их целям.
Для этого американским политикам нужно способствовать умножению у России альтернатив Китаю. Это улучшит переговорные позиции Кремля и снизит риск перекоса в соглашениях между Москвой и Пекином в сфере безопасности в пользу Китая, как это происходит сейчас. По мере улучшения отношений между США и Россией в других областях Соединенным Штатам следует сосредоточиться на снятии санкций, которые сдерживают инвестиции Японии, Южной Кореи и США на российском Дальнем Востоке и создание совместных предприятий с участием российских компаний в Центральной Азии. Увеличение возможностей дало бы Кремлю больше рычагов воздействия во взаимоотношениях с Китаем, что выгодно Вашингтону.
Усилия Вашингтона по снижению конкуренции на региональном уровне могли бы убедить Россию уменьшить масштаб вмешательства в выборы, но эту проблему так быстро не решить. Определенное вмешательство России и других стран неизбежно в современном взаимосвязанном мире. Поскольку европейские демократии сталкиваются с похожими вызовами, Соединенным Штатам нужно работать с союзниками над общим согласованным и решительным реагированием на подобные киберугрозы. Должны быть проведены какие-то «красные линии» в отношении поведения России. Например, американским официальным лицам следует заявить о недопустимости компьютерных взломов, превращения украденной информации в оружие или искажения данных, включая списки избирателей и подсчет голосов. В случае согласованного обмена разведданными и опытом и проведения совместных операций США и их союзники смогут обезопасить важную электоральную инфраструктуру, противодействуя подрывной деятельности России с помощью уголовного преследования и точечных санкций, а также наносить превентивные контрудары в киберпространстве, когда это уместно.
Российские пропагандистские СМИ, такие как телеканал «Россия сегодня», радио «Спутник» и социальные сети, представляют собой более сложную проблему. Однако уверенное в себе, зрелое и искушенное демократическое общество должно легко сдерживать эту угрозу, не пытаясь при этом лихорадочно блокировать сайты и аккаунты в «Твиттере» с нежелательным контентом. В условиях межпартийного озлобления внутри Соединенных Штатов СМИ и политический класс преувеличивают угрозу, обвиняя Россию в провоцировании внутриполитических разногласий. При этом опасно сужается пространство для дебатов, поскольку американцам внушают, что любые мнения, совпадающие с официальной позицией России, – часть кампании влияния, инспирированной Кремлем. Более конструктивным подходом со стороны США и других демократий было бы повышение осведомленности широкой общественности об искусстве манипулирования сознанием, которым хорошо владеют средства массовой информации, а также улучшение навыков критического чтения разных материалов. При этом не стоит отказываться от энергичных дебатов, являющихся жизненной силой любого демократического общества. Некоторые скандинавские страны и прибалтийские государства прилагают значительные усилия для решения этих задач, но Соединенные Штаты отстают от них в этом вопросе.
Повышая защищенность своих систем и осведомленность граждан, США также должны вовлекать Россию в установление правил поведения в киберпространстве. Даже если на практике эти нормы не полностью соблюдаются, они помогут сдерживать и ограничивать наиболее возмутительное поведение и действия – наподобие того, как Женевские соглашения сдерживают вооруженные конфликты.
Предлагаемое сочетание компромиссов и мер противодействия учитывает интересы России и американской мощи. Данный подход резко отличается от тех, к которым американские администрации прибегали со времен окончания холодной войны. Прежние стратегии опирались на неверное истолкование намерений России, а их авторы отказывались признавать ограниченность возможностей Соединенных Штатов. Во многих отношениях данная стратегия олицетворяла бы возврат к традициям внешней политики США, сложившимся до окончания холодной войны.
Главная традиция всегда заключалась в предусмотрительных действиях, терпеливом проведении внешней политики на протяжении длительного времени. Что касается краткосрочной перспективы, то, согласно этой традиции, нужно довольствоваться постепенным прогрессом и пошаговыми завоеваниями. Соединенные Штаты не боялись идти на компромиссы (приспосабливаться), потому что были уверены в своих ценностях и в будущем триумфе. Они сознавали свою силу, но понимали ограниченность возможностей и уважительно относились к потенциалу и способностям противника. Это тонкое понимание было характерно для стратегий всех американских президентов во время холодной войны и позволяло справляться с вызовами, которые бросала им Москва. Вернувшись к истокам своего славного прошлого, США смогут справиться с теми вызовами, которые существуют сегодня.

Битва за Освенцим
Россия, Израиль и Польша сегодня
Исраэль Шамир
В пятницу, 17 января 2020 года, тысячи залпов сотрясли воздух российской столицы; небо над Москвой было украшено великолепными фейерверками. Это было повторением памятного салюта, отданного 75 лет назад, 17 января 1945 года, 24 залпами 324 тяжёлых орудий при освобождении Варшавы Красной Армией.
Это событие могло бы стать прекрасным поводом для восстановления дружеских чувств между двумя славянскими народами. Поляки могли бы вспомнить 200 000 русских солдат и офицеров, павших в боях под Варшавой, и сказать: "Они умерли, чтобы мы могли жить". Поляки могли бы поблагодарить Россию за щедрые земли и большие города, которые были вырваны из побеждённой Германии и подарены Польше: Данциг стал Гданьском, Штеттин стал Щецином, Бреслау стал Вроцлавом, а Позен стал Познанью. Они могли бы поблагодарить Россию даже за то, что она передала Украине населённые украинцами земли, находившиеся под польским владычеством между войнами, — владычеством, которое закончилось при немцах большой резнёй местных поляков украинскими националистами.
Но благодарность не является сильной чертой польского характера: правительство в Варшаве проигнорировало это событие. Вместо этого поляки не только уничтожают мемориалы и могилы советских воинов. Они решили установить на своей территории американскую радиолокационную систему ПРО, которая сделала внезапный ядерный удар США по России куда более реальным. Они пытаются сорвать строительство российского газопровода в Германию; приглашают бронетехнику США занять позиции на восточных границах Польши, устраивают обструкции делегации РФ в Европарламенте и т.д. Непрерывная и бесконечная демонстрация Польшей своей враждебности к России, в конце концов, заставила Москву использовать давний принцип "око за око, зуб за зуб".
Эта возможность появилась в результате еврейского наступления на Польшу. Евреи атаковали этот антикоммунистический восточный оплот Запада сразу с двух сторон: мощное американское еврейство и могущественное еврейское государство. Американские евреи начали атаку с того, что протолкнули через Конгресс США билль S447 (ставший законом 115-171), по которому Польша должна выплатить американским еврейским организациям 300 миллиардов долларов.
Кроме того, всё имущество, которое когда-либо принадлежало лицу еврейского происхождения в Польше, должно отойти тем же организациям. Треть Варшавы, половина Кракова, значительная часть жилой недвижимости по всей Польше до войны принадлежала евреям — и теперь она обязана вернуться "обратно" к американским евреям. Этот закон создал уникальную ситуацию: то, что когда-либо принадлежало еврею, навсегда остаётся в еврейских руках, и против этих "еврейских рук" не могут быть поданы судебные иски. То есть, если еврейский гражданин Польши умер, оставив долги, то эти долги аннулируются. Но если он умер без завещания, то дом переходит к еврейским американским организациям. Они могут выселить местных поляков или заставить их платить арендную плату за то, что те считали своей собственностью.
S447 — это блестящая идея. Она возрождает средневековое польское еврейство как "государство в государстве". В довоенной Польше это было не так; евреи там были польскими гражданами, и если они умирали, не оставив наследников, их имущество переходило Польской Республике — точно так же, как имущество любого иного гражданина, независимо от его вероисповедания. Теперь американские евреи под флагом Холокоста решились на самый большой захват собственности XXI века, вернувшись к идеям века XVI-го, и взять в свои руки всё имущество, которое до войны принадлежало польским гражданам Моисеева закона.
Эта своеобразная идея невозможна ни в США, ни в Англии. Если американский (или британский) еврей умрёт, не назначив наследников, его имущество будет передано государству. Но для Польши фактически выдвинут ультиматум о полной реституции. Если это сработает с поляками, то может сработать и в другом месте; евреи будут не обычными гражданами своих стран, а, скорее, членами наднационального еврейства. Долги останутся их частными делами, а вот активы будут принадлежать еврейству в целом. Блестяще, не правда ли?
Поляки выступили против американского билля S447. Есть демонстрации, есть призывы прогнать американского посла, которая добавила оскорбление к обиде, поздравив польских евреев с Ханукой, но забыв послать рождественские поздравления полякам-католикам, то есть подавляющему большинству нации, не говоря уже о поляках-протестантах и православных.
Израиль же закон S447 не просто поддержал, а потребовал от Польши раскаяния в том, что она тоже вела себя нехорошо по отношению к евреям, а также признания частичной ответственности за Холокост и выплаты репараций. Израиль получил от Германии за геноцид евреев сотни миллиардов долларов, но эти миллиарды уже израсходованы. Польша же ничего Израилю не платила. Коммунисты, правившие послевоенной Польшей, не считали, что сионистам нужно платить; они считали Польшу жертвой нацизма, а не выгодоприобретателем. Но "коммунистов больше нет, так что, пожалуйста, заплатите", — сказали евреи.
Израиль и американские евреи продолжают "давить" на Польшу. Они называют Освенцим "польским концлагерем", что очень оскорбляет поляков. Говорят, что многие поляки помогли нацистам реализовать "окончательное решение еврейского вопроса". Поляки издали закон, запрещающий так говорить; евреи стали скандировать это на улицах.
В связи с 75-й годовщиной освобождения Освенцима (кстати, Красной Армией) этот скандал выходит на первый план. Он отмечается параллельно в двух местах: в Иерусалиме и в Освенциме. В Иерусалиме собрались все "первые лица" современного мира: президент Франции, вице-президент США, канцлер Германии, президент России Путин. Польского президента Анджея Дуду в Иерусалим тоже пригласили — но не как спикера, а в качестве присутствующего гостя. Он предпочёл отказаться и посетил мемориал в Освенциме на месте бывшего концлагеря.
Президент Путин, несомненно, был в курсе этого конфликта и решил показать полякам, что их враждебность к России не останется без ответа. В конце декабря, на саммите глав государств СНГ и на заседании в Минобороны РФ, Путин представил некоторые документы периода Второй мировой войны, свидетельствующие о антиеврейской политике довоенного польского руководства. Например, Йозеф Липский, польский посол в нацистской Германии до 1939 года, говорил немцам, что поляки установят в Варшаве памятник рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру, если тот поможет Польше избавиться от евреев. "Какая антисемитская свинья!" — возмущённо воскликнул Путин.
Поляки предприняли попытку оправдаться, заявив, что польский посол якобы намеревался спасти евреев, отправив их в безопасную Африку, например на Мадагаскар, к безвредным лемурам, но эта попытка успеха не имела. У Путина в архивах доказательств больше. Так, он представил доклад, датированный концом 1944-го — началом 1945 года, когда про-лондонские силы Армии Крайовой (АК) предприняли попытку выбить немцев из Варшавы до прихода Красной Армии. В докладе говорилось, что бойцы АК систематически убивали евреев, переживших разгром восстания Варшавского гетто в 1943 году.
Русские всегда были терпимы к евреям. Погромов в России не было — только в Польше, на Украине и в Молдавии, в независимых ныне государствах, некогда входивших в состав Российской империи, а до того — Речи Посполитой. Русские спасли миллионы евреев, в том числе — миллионы польских евреев, которым было разрешено переехать в Советский Союз. Ни одна другая страна, по большому счёту, не принимала так много еврейских беженцев, как Россия. Многие евреи отплатили за это чёрной неблагодарностью, помогая Западу вести войну против России. Маша Гессен и Леонид Гозман — типичные прозападные антироссийские евреи, которые никогда не появились бы на свет, если бы не русское мужество, спасшее их предков.
И сегодня Россия хороша для евреев. Они являются неотъемлемой частью современной российской элиты; еврейские центры — это лучшие объекты недвижимости в Москве и других городах. Отношения с Израилем также довольно хорошие, несмотря на сдержанную конфронтацию в Сирии. Во время посещения Освенцимского форума в Иерусалиме Путин открыл новый мемориал советским евреям, погибшим во время блокады его родного Ленинграда, ныне — Санкт-Петербурга. Личная дружба Путина и Нетаньяху во многом позволила избежать тотальной войны за Сирию.
Израильские либералы, враги Трампа и Нетаньяху, весьма недовольны таким развитием событий. Они предпочли бы находиться в союзе с Варшавой, пренебрегая фактами польского участия в геноциде евреев. Но они ещё не правят Израилем.
У поляков же всё перепуталось. Они думали, что евреи, связанные с США, поддержат их против России, но у евреев есть свои собственные расчёты и интересы. Если поляки думали, что русские никогда не обнаружат их слабых мест, то это было ошибкой. Россия долго хранила в своих закрытых архивах документы того периода, но тогда Варшава была союзницей Москвы. Теперь это не имеет смысла, и русские предъявляют эти документы как доказательства польских антиеврейских настроений.
Они исправили нарратив Второй мировой войны. В то время как поляки любят начинать историю с "пакта Молотова — Риббентропа", выставляя СССР как союзника нацистской Германии, вместе с ней разделившую в результате агрессии невинную и чистую Польшу; в реальности договор между Польшей и Третьим рейхом опередил германо-советский пакт о ненападении на пять лет. Польша намеревалась напасть на Россию в качестве союзника и младшего партнёра Гитлера. Именно поэтому поляки не защищали свою западную границу, бросив все силы на укрепление восточной границы, с СССР. Именно из-за этого стратегического просчёта польского руководства тех лет немцы смогли полностью разгромить польскую армию в течение неполных трёх недель.
Россией также представлены документы, свидетельствующие о том, что полмиллиона поляков служили в гитлеровском вермахте. Это доказывает, что польское руководство сотрудничало с немецкими нацистами не в последнюю очередь из-за своих антиеврейских настроений. Гитлер лично присутствовал на поминальной службе памяти Юзефа Пилсудского в Берлине в 1935 году.
Действительно, поляки пытались сыграть в хитрую игру, науськав Запад против Германии, а Германию — против СССР, что закончилось для них руинами и гибелью государства, восстановленного и преобразованного после войны. Но вместо того, чтобы усвоить уроки истории и понять, к чему ведут подобные интриги для страны среднего размера, они "наступили на грабли" после окончания "холодной войны", пытаясь стать передовым фронтом западного наступления на Россию и благодаря этому реализовать давнюю концепцию великой польской державы "Междуморья". Освенцимский форум в Иерусалиме вновь доказывает, что такая политика может привести к новой катастрофе польской государственности.
Тем не менее, Сейм Польши 9 января без процедуры голосования принял специальную резолюцию, в которой осудил как "провокационные" и "ложные", документально подтверждённые заявления президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войны. "Два тоталитарных режима — нацистская Германия и коммунистический СССР — развязали эту войну", — подчёркивается в данном документе. А Польша — полностью невиновна. Эта мантра долгое время действовала безотказно; при этом нужно было обвинять Россию и Советский Союз.
Но теперь ситуация немного изменилась: евреи хотят получить деньги от Польши.
Для России всё это — перемена к лучшему. Евреи — ценный союзник. С Путиным на форуме в мемориале Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме, и с не приехавшим польским президентом Дудой, голос всё ещё антироссийской Польши не прозвучал.
Недавно я получил письмо от польского националиста, доктора Игнация Новопольского. Он пишет: "Мы, поляки, должны вернуться под защиту Варшавского договора, иначе евреи и немцы обчистят нас… Они начали обвинять Польшу в провоцировании Второй мировой войны и еврейского холокоста… С 1989 года западные корпорации были заняты разработкой стратегии эффективного ограбления богатств посткоммунистических обществ… Запад принёс огромные страдания бесчисленным людям во всём мире… имперские СМИ смогли убедить людей в посткоммунистических странах добровольно присоединиться к недавно созданному атеистическому раю ЕС. Сегодня, после более чем трёх десятилетий функционирования в Западной сфере влияния, молодые поляки принимают свою второсортность в ЕС как норму, как закон тяготения… Антироссийские настроения в Польше и других странах Центральной Европы — всего лишь демонстрация неблагоразумных тенденций в этих обществах. Чтобы выжить, народы должны преодолеть взаимную вражду, которая в настоящее время позволяет их врагам успешно использовать древнюю стратегию divide et impera. Ответ заключается в создании некоего рода "Еврославии" в сотрудничестве или даже конфедерации с Россией", — т. е. возвращении к Варшавскому договору."
Услышать такие слова из уст закоренелого польского националиста — признак очень глубоких перемен в душе. Если и когда такие люди займут в Варшаве Дворец Наместника, Польша заключит мир с Россией и будет процветать. Американские солдаты, танки и радары вернутся в Вирджинию. Российские военные мемориалы будут восстановлены свежевыкрашены. Русские легко прощают старые обиды; многие всё ещё помнят "четырёх танкистов и собаку", Анну Герман и Барбару Брыльску. Только Россия способна поддержать Польшу против претензий третьих сторон, как она это делала на протяжении многих десятилетий. Но пока пусть освенцимский форум станет полезным уроком для Польши — не проявляйте враждебности на Востоке по приказу Запада.

Наталья Бахова: «Когда экспортеры выходят на новые для них рынки, они боятся не получить выручку от иностранного контрагента»
По ее словам, российским компаниям сложно самостоятельно проанализировать потенциальных покупателей за рубежом
Начальник управления продаж и развития продуктов документарного и международного бизнеса Московского кредитного банка в интервью BFM.ru рассказала о том, чем России помогла санкционная политика США, как российские экспортеры осваивают новые для себя рынки и с какими рисками они могут столкнуться.
По данным Минэкономразвития, санкционная политика США помогла России нарастить экспорт нефти. Даже поставки российской нефти непосредственно в США выросли втрое. Российский экспорт продукции АПК увеличился с 2000 года в 20 раз. Вот такими приятными заголовками сегодня пестрят российские СМИ. Понятно, что в плане США это все — эффект базы. То есть мы изначально туда не очень много поставляли, но вообще в целом все ли так хорошо с российским экспортом?
Наталья Бахова: По данным Федеральной таможенной службы за январь и ноябрь прошлого года, поставки сырой нефти выросли в районе 3,8%. Положительную роль сыграли санкции против Ирана и Венесуэлы. Российские экспортеры увеличили свои погрузки в Турцию и США. К примеру, в Турцию за предыдущий год экспорт январь — ноябрь составлял 1,7 млн тонн, при этом в 2019 году он составил 7,5 млн тонн. Мы также увеличили экспорт нефти в Китай — это наш основной покупатель. Хотела бы заметить, что в целом топливно-энергетический экспорт России, который включает не только нефть, но и газ, сжиженный газ, нефтепродукты, — он снизился. Снижение с января по ноябрь составило около 9%. В 2019 году произошло снижение экспорта в сравнении с 2018 годом около 7%. Все это за счет конъюнктуры рынка, за счет снижения цен на нефть, за счет уменьшения экспорта зерна. Сейчас государство нацелено на уменьшение доли экспорта зерна и на увеличение доли экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. В текущий момент государство стимулирует экспорт масляничной продукции, масложировой продукции, мы экспортируем рыбу. И на текущий момент планируем это увеличивать.
Для того чтобы этого добиться, у государства есть программа поддержки, которую оно оказывает российскому экспорту. И эти программы, наверное, тоже видоизменяются.
Наталья Бахова: Программы поддержки соответствуют тем отраслям, которые государство стимулирует с точки зрения экспорта. Согласно 620-му постановлению 2017 года, банки могли предоставлять кредиты зернотрейдерам и финансировать их по субсидируемой ставке. По новым постановлениям мы не имеем возможности финансировать зернотрейдеров. При этом мы можем финансировать отрасли растениеводства, животноводства, масла, шоколада, хлеба, кондитерской продукции. Во всяком случае, новое постановление поддерживает именно продукцию с высокой добавочной стоимостью.
Расскажите, пожалуйста, о самой главной боли российских экспортеров на сегодняшний день. Чего боится бизнес, выходя на экспортные рынки?
Наталья Бахова: Когда экспортеры выходят на новые для них рынки, им нужно оценить все риски от этой сделки. Они боятся не получить выручку от иностранного контрагента, так как им, со своей стороны, тяжело проанализировать незнакомого покупателя. У наших экспортеров много конкурентов, потому что не только российские компании выходят на новые рынки со своим продуктом: также присутствуют игроки и с китайской стороны, и из Европы. Нашим экспортерам необходимо предоставить конкурентоспособный продукт, который будет включать в себя форму финансирования для иностранного покупателя.
Какие банковские продукты сейчас пользуются наибольшим спросом у российских экспортеров? Приведите, пожалуйста, несколько примеров знаковых для вас сделок.
Наталья Бахова: У нас есть ряд сделок, которые мы реализуем и реализовали. Например, в 2019 году — безрегрессный экспортный факторинг в Белоруссию. Покупателем выступил крупнейший ретейлер — «Евроторг». Мы установили лимит на эту кампанию и в рамках этого лимита предоставляем финансирование в рамках факторинга российским экспортерам. Недавно мы реализовали продукт, а именно дисконтирование экспортного аккредитива. Наш крупный машиностроитель отгружал технику в Казахстан, и без нашего инструмента российский экспортер использовал предоплатную форму расчетов от иностранного покупателя. С помощью дисконтирования аккредитива российский экспортер начал предоставлять строчку платежа своему дилеру в Казахстане, и мы этот аккредитив дисконтировали. Если зернотрейдер отгружает товар в Саудовскую Аравию либо в Египет, то там покупателями выступают государственные компании и наши зернотрейдеры должны участвовать в тендерах. Следовательно, они нуждаются в выпуске тендерной гарантии. При этом иностранные покупатели — государственные компании просят, чтобы гарантии были выпущены локальными банками. То есть должна быть, например, выпущена гарантия от египетского банка. В рамках нашей гарантии египетские банки выпускают уже гарантию на конечного покупателя.
Новый премьер Мишустин утвердил стратегию развития электронной промышленности России на период до 2030 года. Объем экспорта должен вырасти почти в три раза: до 12 млрд 200 млн долларов. Что мы можем продавать в этом сегменте?
Наталья Бахова: На текущий момент отрасль электроники не развита, то есть мы не видим на полках гаджеты российского происхождения. Согласно новой стратегии, государство планирует поддерживать эту отрасль с помощью экономического стимулирования и развития кадров. Мы, если говорить про Московский кредитный банк, работаем с этой отраслью. Наши клиенты в основном — это импортеры, которым мы предоставляем различные продукты. Как это происходит: российский импортер размещает заказ на китайской фабрике, и ему для этого нужно выпустить аккредитив — гарантийную функцию. Московский кредитный банк предоставляет опцию постфинансирования в отличной от аккредитива валюте. Что это значит: рынок сбыта у нашего клиента фактически — это Россия. У него вся выручка в рублях. При этом он продает ту продукцию, которую покупает в долларах. Следовательно, если ему предоставлять аккредитив в долларах с постфинансированием в долларах, то это неинтересно: он несет валютные риски. На любом этапе постфинансирования мы имеем возможность перевернуть задолженность одной валюты в другую. В общем-то, мы очень гибкий банк в этом направлении, клиентам это нравится, они с нами работают по аккредитивам. И гарантии также пользуются популярностью. Здесь есть такое новшество, когда у клиента, например, не одно юридическое лицо, а несколько, и ему неинтересно заключать соглашение по гарантии со всем рядом своих компаний, которые могут импортировать. Мы предоставляем опцию мультипринципального соглашения, когда у нас соглашение по гарантиям заключается с одним клиентом. И этот клиент нам дает гарантию за любых принципалов в рамках этого соглашения, и мы от лица любых принципалов, входящих в группу третьих лиц, выпускаем гарантии, когда клиенту это необходимо. Тоже достаточно оперативно получается, гибко и удобно.
Что касается планов на 2020 год. Насколько они оптимистичны?
Наталья Бахова: Планы такие, чтобы развивалась российская составляющая на международных рынках.

Как вырастить бензин
Этот продукт производить очень просто. Его можно делать дома в бочке: 100 частей любого масла (растительного или даже животного жира), 10 частей метанола и 1 часть щелочи. Всё бросаем в бочку, палкой перемешиваем, наутро всплывает глицерин с небольшим количеством щелочи (щелочь — это катализатор). В итоге получаем 10 частей глицерина, 100 частей продукта и 1 часть отходов — мыла.
Это не цитата из поваренной книги или пособия для садовода-дачника по производству удобрений. Это простейшая схема производства автомобильного топлива. Да, вы не ослышались. Примерно по такой схеме производят биодизель.
Автомобильное топливо растительного происхождения
В последние десятилетия развитые страны мира уделяют все больше внимания замене традиционного дизельного топлива альтернативным, биологическим. Вопросы поиска возобновляемых источников энергии привели к созданию биотоплива, которое является высокотехнологичным продуктом, получаемым из сельскохозяйственных культур или отходов переработки растительного и животного сырья.
Производство биоэтанола и биодизеля может стать реальной поддержкой сельскому хозяйству, поскольку позволяет создать дополнительный внутренний спрос на продукцию сельхозпредприятий. Кроме того, производство биотоплива помогает в утилизации отходов ряда отраслей промышленности, что для США, Китая, ЕС, России и ряда других стран является задачей, требующей оперативного решения, а также существенно сократить выбросы в атмосферу — так, содержащийся в биоэтаноле кислород позволяет более полно сжигать углеводороды топлива. В 2006 году применение этанола в США позволило сократить выброс около 8 млн тонн парниковых газов (в CO2 эквиваленте), что примерно равно годовым выхлопам 1,21 млн автомобилей.
Основными производителями этанола в мире являются США, Бразилия, Китай, Евросоюз и Индия. Стоит отметить, что доля основного производителя США, возрастает с каждым годом. Так страна увеличила свою долю на рынке за последние 10 лет на 5% до 49%, вытесняя Бразилию.
Основными производителями биодизеля в мире являются Евросоюз, США, Бразилия, Аргентина, Индонезия. Существенную долю в мировом производстве занимают страны Евросоюза, однако их доля за последние 10 лет сократилась на 19% до 36%. Существенно увеличили свою долю США, Бразилия, Аргентина и Индонезия.
Мировые производители биоэтанола и биодизеля
Несмотря на общий рост мирового производства, биотопливо на текущий момент занимает менее 10% в мировом балансе моторных топлив. Основная причина — высокая себестоимость производства биотоплив, а также необходимость государственного субсидирования или других форм господдержки биотопливных проектов. Так, например, рост рынка биодизеля в Америке и странах ЕС главным образом осуществляется благодаря государственной поддержке: за семь лет налоговых и кредитных льгот мощности по производству биотоплива выросли в странах Евросоюза с 3 млн до 25 млн тонн.
А после того, как меры господдержки были свернули, поток инвестиций со стороны бизнеса в этот сегмент резко сократился. Кроме того, рост объемов производства биотоплив требует увеличения задействованных в выращивании сырья пахотных земель: для производства биотоплива на одного автомобилиста требуется куда больше пашни, чем на производство еды для этого же автолюбителя. Один автомобиль отнимает хлеб у десяти человек.
Нефтяное лобби победить невозможно
Тем не менее у рынка биотоплива есть будущее. По мнению Алексея Аблаева, президента российской Национальной биотопливной ассоциации, биотопливо — это скорее нишевый продукт, но его главным драйвером развития рынка биотоплива в России станет необходимость увеличения внутреннего спроса на сельхозпродукцию.
«НиК»: Для начала ответьте на главный вопрос: может ли биодизель заменить традиционное топливо? И действительно ли нужно его заменить?
— У нас в стране производится так много прекрасного, качественного дизтоплива, и с этой точки зрения можно сказать, что биодизель действительно не нужен. А вот с точки зрения развития сельского хозяйства, как это ни странно звучит, производство биодизеля может помочь сельхозпроизводителям. Производство биодизеля позволяет решать проблему как избытков основной сельхозпродукции, так и его отходов.
Например, биодизель эффективно производить там, где много производится сельхозпродукции — например, дешевого растительного масла, которое нужно куда-то сбывать.
В США и Бразилии имеется недорогое сырье в виде соевых бобов. А если их перерабатывать, то получим сравнительно дорогой соевый протеин и соевое масло — по сути отход. Нормальный способ его утилизации, кроме употребления в пищу и кормления животных, — это производство биодизеля.
Поэтому, например, российские нефтяные компании скептически относятся к развитию производства биодизеля, и я с ними абсолютно согласен. Но если смотреть с точки зрения сельхозотрасли, то Россия наконец-то вошла в клуб стран, переизбыточных по сельскому хозяйству. У нас очень много зерна, перепроизводство по масличным культурам. Самый простой способ их утилизации — это развитие внутреннего спроса, потому что в мире наблюдается переизбыток экспорта сельхозпродукции, что негативно влияет на ее цены. Продавая всё больше и больше, мы рушим свой рынок, в том числе экспортный. Исключением является, пожалуй, только Бразилия — она производила биодизель, потому что импортировала нефть.
Поэтому главная цель производства биотоплива — поддержка сельского хозяйства. Вторая — модная экологическая тема сокращения выбросов СО2 и загрязнения атмосферы.
«НиК»: И с этой точки зрения биотопливо значительно эффективнее традиционного?
— Вопрос философский. Большинство исследований утверждает, что да. Однако выращивание соответствующих культур и производство из них топлива само по себе требует немалых энергетических затрат: нужно вспахать землю, посеять семена, обеспечить полив и т. п. Все эти затраты, естественно, связаны со сжиганием топлива и выбрасыванием в атмосферу дополнительного количества СО2. Если суммарные энергетические расходы на производство биотоплива будут велики, то никакого ожидаемого сокращения эмиссии СО2 и других парниковых газов может и не произойти.
В реальности же главный драйвер всего этого рынка в мире — это переизбыток продукции сельского хозяйства и нежелание государства видеть своих фермеров на тракторах и комбайнах, которые высыпают свою продукцию перед Белым домом или на Елисейских полях.
Например, в России мы выращиваем пшеницу, радуемся, что наконец-то перестали ее импортировать. Начался экспорт, появилась валютная выручка, а потом экспорт дошел до своего логического предела (в прошлом году мы продали 50 млн тонн, собрав около 120 млн тонн). При этом урожайность зерновых растет во всем мире примерно на 2% в год. В России больше, потому что мы внедряем современные технологии. И получается, что при стабильном рынке зерна нужно всё меньше посевных площадей, чтобы этот рынок удовлетворить. В Сибири или Поволжье производство уже невыгодно. В США та же проблема — в ряде штатов стало невыгодно производить кукурузу, фермы заброшены, народ люмпенизируется… И США внедрили производство биотоплива как стимул для развития внутреннего рынка сельхозпродукции.
«НиК»: Можно ли расценивать это как попытку победить нефтяное лобби?
— Нефтяное лобби невозможно победить. Если бы сельхозпроизводители всерьез начали сражаться с нефтяниками, то результат нетрудно прогнозировать. Просто нефтяные компании поняли, что проще уступить некоторую долю рынка (довольно незначительную), потому что сельхозтерритории беднее, чем нефтяные регионы, но они поддерживаются государством и существенным числом конгрессменов. Если бы сельхозлобби выиграло в «кровавой» войне за долю рынка, то пострадать могли бы и сланцевики, и крупные компании (особенно на воне трагедии в Мексиканском заливе).
«НиК»: Есть ли какие-то стандарты или ограничения применения биотоплив в автотранспорте?
— В России ГОСТ разрешает использование в топливе до 5% биодизеля (топливо В5) и до 10% биоэтанола (топливо Е10). Биоэтанол сейчас разрешен для использования в объеме до 10% почти всеми автопроизводителями. Более высокий процент содержания этанола требует некоторой модернизации: FFV (этанольно-гибридные) — это машины, которые могут ездить на любой смеси этанола и бензина. Отличие в стоимости этой машины от обычной — $200-300, потому что там ставится новый датчик на кислород, немного меняются компьютер, чтобы машина понимала процент содержания этанола, плюс меняются некоторые прокладки на те, которые лучше держат этанол.
Биодизель формально ничем не отличается от обычного дизеля по всем параметрам, в то же время в нем не содержится серы.
Правда, он более вязкий и загустевает на морозе, зато полностью разлагается при попадании в почву.
В Бразилии и в «кукурузных» штатах США процент содержания биотоплив выше — есть топлива с содержанием биоэтанола и 85% и даже 100%. В Бразилии 100% машин, которые сейчас продаются, могут ездить на любой смеси этанола и бензина.
В Европе стандартом предусмотрено использование в топливе до 10% биоэтанола и до 5% биодизеля, причем некоторые автопроизводители даже не упоминают этого в инструкциях к автомобилям, считая это само собой разумеющимся.
«НиК»: В России складывается благоприятная ситуация для использования биодизеля и биоэтанола, почему тогда он малоизвестен как топливо и редко используется?
— Проблема в том, что у нас масличные культуры всегда были в дефиците, выращивали их мало, а то, что выращивали, целиком уходило на внутренний рынок пищевой промышленности и в косметическое производство. Огромное количество нашего рапса и масла из него покупала Европа, так как там субсидировалось производство биодизеля и, соответственно, закупки масла для него. Было очень выгодно продавать масло в Европу. К тому же был низкий спрос на глицерин, а он является одним из отходов при производстве биодизеля.
Сейчас ситуация изменилась: в Европе сократили субсидии на производство биодизеля, в результате чего обанкротился целый ряд заводов про производству биотоплива. А спрос на глицерин, напротив, вырос, и сейчас мы его импортируем. А биодизельные заводы, как оказалось, зарабатывают прежде всего не на продаже биодизеля, а на продаже глицерина. Биодизель лишь покрывает себестоимость производства, а продажа глицерина — это и есть прибыль. Неочищенный глицерин стоит 400 евро за тонну, а очищенный (требуется дополнительное оборудование для дистилляции) — уже 600–800 евро за тонну.
В целом же себестоимость производства биодизеля составляет около $1, а стоимость традиционного дизеля на АЗС — 46 рублей.
Поэтому даже в благоприятных условиях Бразилии и Америки это нишевой продукт, 5% рынка сельхозрегионов, не больше.
«НиК»: К тому же производство биотоплива требует использования больших посевных площадей, которые можно использовать для выращивания сельхозпродуктов для питания.
— Именно поэтому я всегда говорю, что нет цели перевести весь мировой рынок на биотопливо, потому что не хватит посевных площадей и это будет просто экономически неэффективно. Иначе придется всю пахотную землю в России использовать только под биотопливо, вырубить все леса, поля и перелески, а все звери будут уничтожены и исчезнет биоразнообразие.
В реальности нигде, кроме как в суперблагоприятных странах вроде Бразилии, биотопливо не займет больше 10–15% рынка.
Сейчас в Америке 30% кукурузы идет на биотопливо, и все говорят, что это экономически разумная ситуация, поддерживающая цены на сельхозпродукцию на приемлемом для всех уровне. Понятно, что фермеры хотят лоббировать больше, нефтяники сопротивляются, потому что теряют рынок, но тем не менее некий баланс сложился и вряд ли что-то изменится, если не будут разработаны прорывные технологии производства топлив из непищевого сырья.
Пока это всё дорого, экспериментально и больше выглядит как поддержка и создание рабочих мест для ученых в этой отрасли. Но с другой стороны, нефть тоже когда-то была дорогой, а добывали ее ведрами из ям. Развитие новых технологий увеличивает объемы добычи, снижает стоимость. А сейчас отрасль биотоплива, которой максимум 20 лет, конкурирует с нефтяной отраслью, которой 150 лет.
Но мы понимаем, что главная угроза для нефтяной отрасли — это электромобили.
И здесь и мы, производители биотоплив, и традиционные нефтяники — находимся в одной лодке, понимая, что для нас электромобили — более опасная вещь, которая со временем изменит весь нефтяной рынок.
Подготовил Владимир Бобылев

Рамис Юнус о плане Трампа по примирению Израиля и Палестины: «Афера века»
Специально для «Новых Известий» американский политолог Рамис Юнус оценил ближневосточную мирную инициативу президента США.
«Анонсированная президентом США совместно с премьер-министром Израиля дорожная карта по урегулированию арабо-израильского конфликта не что иное, как попытка использовать эту болезненную на Ближнем Востоке тему для решения своих политических проблем, стоящих на повестке дня у этих двух политиков.
У президента Трампа - это начавшаяся в Конгрессе США процедура импичмента, а также президентские выборы осенью 2020 года, а у премьер-министра Нетаньяху - это начавшееся судебное разбирательство по обвинению его в коррупции и злоупотреблении служебным положением, а также парламентские выборы в Израиле в марте этого года. И именно поэтому атмосфера на пресс-конференции в Белом Доме и речи как президента США, так и премьер-министра Израиля напоминали слова из басни великого Крылова: "Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку", и были рассчитаны исключительно на их электоральную аудиторию.
Поэтому этот проект правильнее было бы назвать не "сделкой века", а самой обычной "афёрой века", которая не будет иметь никакого прикладного значения, так как она с самого начала была обречена на провал, потому что в разработке этого документа не принимали участия ООН и постоянные члены Совета Безопасности ООН, Евросоюз и самое главное, палестинская сторона, включая и мусульманские страны, поддерживающие Палестину, такие как Турция, Саудовская Аравия и Иран.
Учитывая вышеизложенное, можно уверенно сказать, что после сегодняшнего политического шоу страсти вокруг арабо-израильского конфликта не только не утихнут, а наоборот, могут еще более накалиться в зависимости от политической конъюнктуры в регионе, включая и разные интересы вышеперечисленных политических центров, каждая из которых имеет достаточно возможностей, чтобы поднести спичку к этой пороховой бочке».

Конспирология иранского кризиса 2020
теория заговора как методология анализа
Владимир Овчинский Александр Нагорный
Драматические события начала 2020 года, связанные с убийством иранского генерала Сулеймани, многие аналитики и на Западе, и у нас в стране небезосновательно называют «Иранским кризисом». По аналогии с «Карибским кризисом». И тогда, и сейчас мир был поставлен на грань Большой войны, которая могла статьи ядерной. Уже на сегодняшний день существует масса версий этих событий. И поток публикаций будет только возрастать. Авторы уже высказывались по некоторым аспектам ситуации. Но с каждым днем вопросов возникает все больше и больше. Попытаемся сформулировать ряд из них.
1. Зачем американцы убили Сулеймани?
Официальное объяснение Трампа, о том, что тот готовил теракты в отношении американских граждан, явно не проходит. Да и руководители американских спецслужб уже успели это опровергнуть, заявив, что такой конкретной информации у них не было. С большой степенью вероятности убийство Сулеймани должно было стать прологом к реальной «молниеносной» войне США с Ираном, естественно, по мысли Белого дома, с полной победой американцев. При этом предполагалось решить ряд задач: а) разрушить инфраструктуру, способную к развитию ядерной энергетики и созданию ядерного оружия; б) максимально ослабить в военно – политическом плане одного из ведущих игроков на Ближнем Востоке; в) через разрушение нефтяного комплекса Ирана нанести серьёзный ущерб экономическому развитию Китая – главного своего геостратегического соперника и потенциального военного противника. Причем, последняя задача, на наш взгляд, была определяющей.
Ястребы из окружения Трампа, такие как Джон Болтон, и раньше провоцировали войну с Ираном. Достаточно вспомнить обстрелы нефтехранилищ Саудовской Аравии или ракетные нападения на танкеры, в которых сразу обвинялся Иран. С большой долей вероятности можно предположить, что эти провокации были организованы ЧВК, связанными с Болтоном, в период его работы в Белом доме и после того, как его оттуда убрали. Но, по логике Трампа, видимо, ситуация в тот период до войны ещё не дозрела.
Дозрела она в августе 2019 года, когда Китай и Иран подписали стратегическое соглашение на 25 лет, в соответствии с которым Китай получает дешёвую нефть из Ирана и за это инвестирует гигантские средства в развитие нефтяных и нефтегазовых предприятий Ирана. Всего Китай предполагает вложить в них 280 млрд долларов, причем большую часть в ближайшие 5 лет. Кроме этого, страны объявили в августе 2019 года о проекте электрификации железной дороги протяжённостью 900 км между Тегераном и Мешхедом. Все инвестирование осуществляет КНР.
И, внимание, главное обстоятельство! Ирано – китайские соглашения предусматривают размещение китайских вооруженных сил в Иране для обеспечения безопасности китайских стратегических активов. Часть из этих воинских частей будет размещено прямо в районе Персидского залива. Иными словами, КНР своим мощным манёвром пробивает сухопутный коридор от своей территории через Казахстан и Туркмению к Ирану и далее на Ближний Восток. И там… Китай становится одним из главных геостратегических игроков Большого Ближнего Востока!! Видимо в «глубинном государстве» США посчитали, что «промедление смерти подобно», и начали операцию по срыву этого плана - провоцированию Ирана на ответные военные действия против Америки после убийства военного стратега, героя Ирана, с тем чтобы провести эффективную разрушительную военную операцию. Но, что – то пошло не так! Об этом «что–то» чуть ниже, а пока другой вопрос.
2. Как американцам удалось выследить и убить Сулеймани ?
Интернет забит многими предположениями, где превалируют версии об «израильском следе» в ликвидации генерала. Может быть он действительно есть, но решающую роль, по всей видимости, сыграло другое. Известный теоретик «окончательного решения иранского вопроса» путем войны американский политик и политолог Майкл Ледин 13 января 2019 года пишет в статье «Трамп обращается непосредственно к иранскому народу» (о событиях в Иране после убийства Сулеймани) на популярном сайте Frontpagemag: «сторонники покойного генерала Касема Сулеймани были блокированы в значительном количестве из – за предположения, что силами «Кудс» будет вестись борьба за власть после смерти верховного лидера Али Хаменеи, которому сейчас 80 лет.
По данным The Free Iran Herald, опубликованном в блоге Gateway Pundit, эта новость усиливает предположение о том, что Сулеймани, который, как известно, действовал по собственной инициативе, и которого рассматривали как возможного будущего диктатора в ожидании захвата им власти в Тегеране, был предан американской разведке его собственными коллегами по режиму, которые опасались, что он лишит их власти и привилегий.
Кроме того, появилась информация о том, что Сулеймани, который лично руководил репрессиями против народного восстания в Ираке с октября 2019 года, планировал государственный переворот в Багдаде. Этот переворот должен был привести к убийству иракского президента и захвату там американского посольства».
Если в этой информации есть хоть доля правды, то получается, что Сулеймани при благоприятном для него стечении обстоятельств мог стать диктатором сразу двух стран – Ирана и Ирака! А это, естественно, не устраивало многих – и США, и Израиль, и Саудовскую Аравию, и других лидеров Ирана, и руководство Ирака. И… , возможно, Китай.
О том, что убийству Сулеймани могла способствовать внутренняя политическая борьба в Иране говорит и развитие событий после того, как в Тегеране был сбит украинский авиалайнер. По итогам расследования этого инцидента в Иране проводятся массовые чистки, в Корпусе стражей Исламской революции прошли аресты, арестовывают сподвижников Сулеймани.
Есть основания в этой связи в контексте внутренней политической борьбы в Иране рассматривать и убийство 22 января 2020 года соратника Сулеймани командира иранского народного ополчения «Бассидж» Абдольхосейна Моджадами. Именно на него возлагались функции проведения спецопераций за пределами Ирана. Трамп в этот раз на себя ответственность не взял, американские и израильские спецслужбы тоже.
3. Почему война США с Ираном не состоялась?
Выскажем совершенно невероятное предположение - из–за того, что на следующий день после убийства Сулеймани, 4 января 2020 года центральное телевидение КНР продемонстрировало тестовый запуск китайской гиперзвуковой ядерной ракеты, которая способна уничтожить авианосную ударную группу США и достичь территории Америки. А уже 7 января 2020 года известное американское издание The National Interest публикует статью своего редактора по обороне Дэвида Экса «Похоже, что Китай испытывает 2 вида гиперзвуковых ракет. Большой скачок в гиперзвуковом оружии?». В ней он пишет, что китайские гиперзвуковые ядерные ракеты «могут изменить военный баланс сил… могут проникать в сети противоракетной обороны, радары и системы раннего предупреждения и поражать сложные цели… могут разделяться и скользить к цели на высокой скорости … они могут быть объединены во всеобъемлющую ударную сеть, охватывающую цели от острова Тайвань до заграничных военных баз США». Надо отметить, что тоже издание ещё 13 января 2018 года писало, что к 2020 году Китай может иметь гиперзвуковые ракеты для потопления американских авианосцев.
А что Америка? Там на этом направлении далеко не радужные перспективы. 17 января 2020 года заместитель председателя Объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джон Хайтен заявил, что разработки в области гиперзвукового оружия в США потерпели неудачу. Перед этим заявлением в журнале Science появляется большая статья Ричарда Стоуна «Когда на кону национальная гордость: гонка гиперзвукового оружия России, Китая и США», которая содержит неутешительные для США выводы о том, что Америка на данный момент не обладает таким оружием, какое есть у России и Китая, а также – беззащитна от него.
И, тогда можно продолжить логическую цепочку рассуждений: если у тебя нет оружия, равного оружия союзников твоего противника, то как ты мыслишь воевать?
Вот такие мысли навеял конспирологический анализ «иранского кризиса 2020». Ясно одно, то, что лежит на поверхности – не есть истина. Глобальная трансформация миропорядка идет полным ходом. Китай в ней диктует свои правила игры. Ближний Восток попал в жизненно важные интересы КНР. «Шахматная доска» недавнего прошлого в анализе ситуации уже не работает. А приоритеты вооружения и энергетики продолжают быть главными в современной внешней политике.
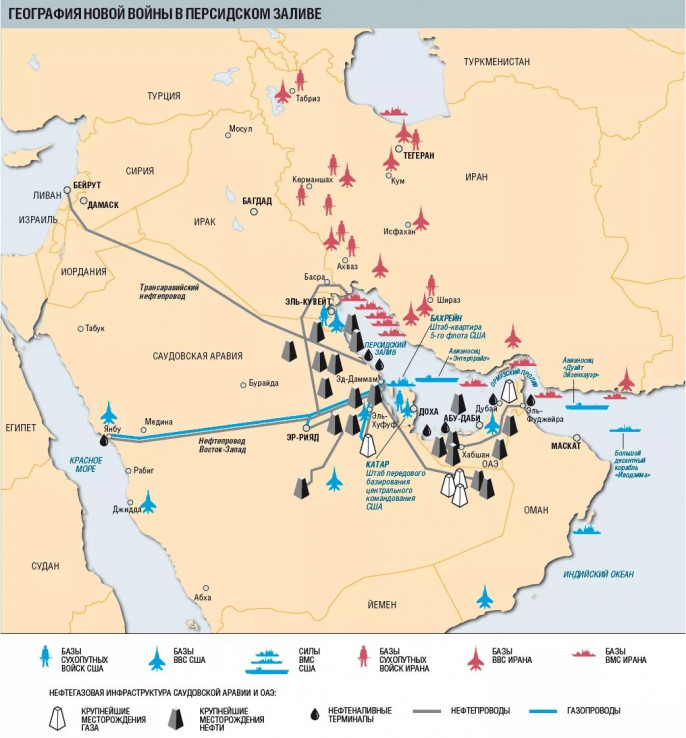

Американская «сделка века»
что ждёт Ближний Восток?
Рами Аль-Шаер
Западные СМИ обещают, что президент США Дональд Трамп уже в ближайшее время сделает достоянием публики детали его плана урегулирования арабо-израильского конфликта. Этот план известен под громким названием «Сделка века», и о нем уже давно говорят и на Западе, и на Ближнем Востоке. Некоторые особенности американского плана, судя по всему, уже просочились в высшие эшелоны таких стран как Израиль, Иордания и Франция. Но, судя по всему, не только в них. Ливанский телеканал «Аль-Майядиин», например, сообщил телезрителям, что, согласно черновику плана, Иерусалим не будет разделён, а останется единым под израильским контролем, хотя «некоторую ответственность» Израиль будет делить с палестинским государством. По полученной мной информации, «сделкой века» разрешено объявить некоторые районы восточного Иерусалима столицей государства Палестины.
Налицо, таким образом, первое нарушение принятой в 1947 году Генеральной Ассамблеей ООН резолюции 181 «О разделе Палестины на два государства», где определены границы Палестинского и Израильского государств, в том числе разделение Иерусалима на Западный и Восточный, а также нарушение резолюции Совбеза ООН, который давным-давно определил, что столицей Палестинского государства должен быть Восточный Иерусалим. План Трампа также якобы предусматривает, что будет образована «Новая Палестина» на территориях Западного берега Иордана и в секторе Газа, но участки земли, на которых располагаются еврейские поселения, останутся в суверенитете Израиля. Налицо, таким образом, второе грубейшее нарушение резолюции, согласно которой все израильские поселения на палестинской земле являются незаконными и должны быть демонтированы.
Хочу подчеркнуть (создаётся впечатление), что одна из основных целей «сделки века» - похоронить все решения ООН, которые определили границы Израильского и Палестинского государств и нанести ущерб всем усилиям мирового сообщества, в том числе России, для справедливого решения арабо-израильского конфликта.
Но этим нарушения международного права не ограничиваются. Напомним, что израильский премьер Нетаньяху ещё осенью пообещал, что он аннексирует долину реки Иордан ещё до окончания президентских выборов или же сразу после них. Зять Трампа Джаред Кушнер, правда, посоветовал Нетаньяху не делать этого, пока «Сделка века» не будет реализована. Но этот совет – лишнее доказательство, что и палестинцев, и мировую общественность хотят обмануть: сначала навязать арабам «Сделку века», а потом поставить палестинцев перед фактом аннексии одной из важнейших территорий палестинского государства.
Я не удивлюсь, если в опубликованном тексте американского плана обнаружатся и другие сюрпризы. Пока же обратим внимание на тот факт, что американский план есть, по сути дела, «фальшивая сделка», потому что изначально, (видимо) задуман как обман палестинского народа, и по сути своей призван надолго, если не навсегда, лишить этот народ законных прав на независимое существование в пределах отведённых для его государства границ. А то, что его опубликование планируется именно сейчас, в очередной раз доказывает, что он исключительно выгоден и президенту Трампу, и премьер-министру Нетаньяху. Ведь у обоих сейчас непростые времена. В Сенате США дебатируется вопрос об импичменте Трампа, и ему крайне важна поддержка американских евреев, особенно миллиардеров. Нетаньяху обвиняется в таких преступлениях, как дача взятки, подлог и подрыв доверия, и «Сделка века» может стать для него палочкой-выручалочкой: он обгонит по популярности своего соперника на выборах - Ганца и, возможно, даже получит «иммунитет» от судебного разбирательства.
Широковещательное опубликование «Сделки века» явится, таким образом, подарком для обоих. Американский президент неминуемо заявит, что в то время, как он решает мировые проблемы, насущные не только для Ближнего Востока, но и для всего мира, демократы пытаются ему помешать, выдвигая обвинения столь же абсурдные, сколь и разрушающие его политику, направленную на обеспечение интересов США и их главного союзника в ближневосточном регионе. Премьер-министр заявит, что его дружба с Трампом и обеспечение реализации «Сделки века» есть результат его мудрой политики и умелого стратегического маневрирования, в то время как люди, требующие расследования его повседневной внутренней политики, есть интриганы и политиканы, действующие в интересах завистников и оппозиционных лидеров. И в США, и в Израиле внимание общественности будет приковано к тому, как воспринимают американский план в регионе и в мире, а не к личным проблемам двух государственных мужей.
Кроме того, надо признать, что время оба выбрали крайне удачно. 23 января Путин, прибывший в Израиль на форум «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», встретился с Нетаньяху и другими деятелями, но для общественности страны ещё более важно, что он встретился также с матерью осуждённой за контрабанду и хранение наркотиков в РФ израильтянки Наамы Иссахарза. Это тоже идёт в зачёт Нетаньяху. Наконец, нельзя недооценивать важность форума с точки зрения симпатии мировой общественности к евреям, которые понесли страшные жертвы в годы Второй Мировой войны, и Нетаньяху в очередной раз выступил на этом международном форуме как сторонник твёрдой борьбы против антисемитизма, защитник евреев во всех странах мира.
На форум, посвящённый памяти жертв фашистского геноцида в отношении евреев и борьбе с антисемитизмом, приехало около пятидесяти мировых лидеров и крупных политических деятелей. Отношение мировой общественности к Холокосту – это пример скорби о евреях, погибших в концлагерях и умерщвлённых германскими нацистами с помощью их пособников из числа латышей, литовцев, украинских националистов и прислужников фашизма из других стран. Юдофобами и антисемитами в Европе было уничтожено более трети всех евреев на нашей планете. Это величайшая мировая трагедия. Форум в Израиле, разумеется, - наглядный пример решимости большинства народов на нашей планете не допустить повторения страшной трагедии такого рода.
Вместе с тем, скорбя вместе с евреями о гибели миллионов ни в чём не повинных людей на территории Европы, трудно не вспомнить о том, что живущий рядом с израильским народом палестинский народ испытывает сегодня страшные тяготы, живёт в условиях оккупационного режима. А режим этот создан евреями, в исторической памяти которых страдания и угнетения, пережитые ими в Европе, должны были, думается, выработать иммунитет против превращения палестинских территорий в огромный концлагерь.
Так думают, кстати, и многие люди в самом Израиле. Израильский журналист Гидеон Леви так написал в газете «Гаарец» относительно форума, прошедшего в последние дни: «Быть гостями в Израиле и не упомянуть о преступлениях, которые он совершил; отдать дань памяти Холокосту и проигнорировать его уроки». Это горькие слова, но их суть понятна: человечество помнит трагедию евреев, но очень мало делает, чтобы трагическим событиям в Палестине был положен конец. Президент Владимир Путин одновременно с посещением Иерусалима также посетил Палестинскую территорию и встретился с руководством Палестины, где выразил поддержку Россией борьбы палестинского народа для достижения своих национальных прав в создании независимого государства Палестины в рамках решения Организации Объединенных наций.
Более того, значительная часть палестинского народа сознаёт, что он даже не является участником «Сделки века». Если он согласится на условия, которые выдвинет Трамп, всегда найдётся повод, чтобы Израиль продолжил оккупацию земель в Палестине. А если американский план будет отвергнут, это даст повод Израилю начать пересмотр даже тех условий, в которых палестинский народ находится сегодня. Начнётся процесс односторонней аннексии самых важных и самых плодородных палестинских районов, сжимание палестинских территорий и выдавливание местного населения из так называемых «библейских земель».
Ряд арабских стран воздерживаются от критики американского плана, а их политики предпочитают отделываться туманными фразами. На мой взгляд, это вполне естественно. Так всегда бывает, когда государство отказывается от реального суверенитета, слепо выполняет то, что ему «советуют» делать руководители НАТО, дрожит, когда поступает окрик из-за океана. Подчинив себя воле США, которые присвоили себе право решать, что на Ближнем Востоке хорошо, а что – плохо, их союзники в регионе фактически потеряли право голоса, стали проводниками американской политики. И США знают теперь, что, даже если народы выскажут своё отрицательное отношение к американскому плану, они всё равно, не мытьем, так катаньем продавят принятие их плана в целом ряде ближневосточных государств. Если раньше сами ближневосточные страны выдвигали свои пути решения конфликта, то теперь предпочитают выглядеть, как кролики перед удавом.
Что можно сказать по этому поводу? Вспомним: во время 6-дневной арабо-израильской Войны 1967 года арабские страны Залива приняли совместное решение прекратить поставки нефти на Запад, чтобы Европа отказалась от поддержки Израиля и осуществила давление на США, бесперебойно поставлявших оружие Израилю. Мне трудно представить, что сегодня такое возможно – даже если учесть, что общественность в этих странах в своём большинстве выступит против «Сделки века». НАТО удалось связать арабские страны по рукам и ногам. Даже родина Ислама, хранительница исламских святынь, не в состоянии возражать сегодня Америке, давно известной своими антиарабскими акциями. Ряд арабских стран связан с Западом договорными отношениями довольно кабального типа настолько, что их порой называют «дистанционными пультами Вашингтона». К тому же Запад постоянно запугивает страны Залива мнимой иранской угрозой.
В Европе известие о скором опубликовании американского мирного плана также приняли с огромным скептицизмом. Западные и израильские газеты даже прокомментировали их отношение к «Сделке века» так: западноевропейские страны не собираются выдвигать свой, альтернативный мирный план, они просто дожидаются того, чтобы план американского президента развалился на глазах у всего мира. Что же касается президента Франции, то Макрон справедливо заметил: ни один мирный план никогда не увенчается успехом, если обе стороны не захотят совместными усилиями добиться мира. Палестинцы, надо полагать, могли бы пойти на изменения в границах между двумя государствами путём обмена некоторых территорий, но они явно не пойдут на принятие односторонних аннексий их земель Израилем.
В самом Израиле есть немало политиков и политологов, которые считают, что путь, выбранный Нетаньяху и якобы одобренный США, не только не улучшит положение Израиля в регионе, но наоборот, сделает его намного хуже. А «Сделка века» внесёт в это немалую лепту, так как способна превратить конфронтацию в регионе из политической в военную. Бывший израильский премьер Ехуд Ольмерт заявил, что намерение Нетаньяху аннексировать долину Иордана – это популистский и провокационный политический акт, который принесёт вред безопасности Израиля и резко отрицательно скажется на его имидже в мире. В сущности, эта акция не может иметь никаких выгод ни с дипломатической точки зрения, ни с точки зрения безопасности.
Я со своей стороны считаю, что заявления о возможной аннексии долины Иордана имели две цели. Первая – это прозондировать почву, насколько США готовы принять такое развитие событий. Там, как известно, эту инициативу не только не отвергли, но даже отнеслись к ней «с пониманием». Второй целью было вызвать какие-то отклики в арабском мире, и здесь вновь мы увидели, как арабские страны, включая Иорданию, находящуюся на Восточном берегу Иордана, выдавили из себя не резкое осуждение, а нечто вроде нечленораздельных междометий. Теперь становится понятно, что намерение аннексировать долину Иордана перестало быть «идеей», а принимает форму осознанной политической цели, которую Нетаньяху ставит перед своим государством.
Как палестинец, я считаю себя просто обязанным высказать свою точку зрения на то, как могут пойти дела на Ближнем Востоке после опубликования «Сделки века». Верна эта точка зрения или нет, покажет время, но эту точку зрения поддерживают политологи в Сирии, Ираке и Иране, не говоря уже о палестинцах. Делается это на основе разных фактов и факторов, действующих в регионе в наши дни.
Начну с того, что в ряде стран региона враждебность к Израилю в целом на уровне общественности возрастёт. Я предвижу такое развитие ситуации в южной части Ливана, в значительной части Сирии, в южном и центральном Ираке, в Иордании, в Йемене и даже в некоторой части Саудовской Аравии. Резко враждебно будет относиться к Израилю и Иран, особенно после публикаций в печати, в которых сообщалось о том, что израильская разведка помогла американцам убить генерала Сулеймани, народного героя Ирана.
Враждебность, увы, часто принимает форму партизанских действий на уровне отдельных личностей или даже акций смертников-одиночек. Чем больше будет районов, которые аннексирует Израиль, тем больше будет подобных акций и, следовательно, тем больше будет угроза безопасности граждан Израиля. Израильская контрразведка сообщает о том, что ежегодно нейтрализует от полутысячи до тысячи террористических актов, но речь идет в основном об актах борьбы за освобождение своей родины, а также отчаяния людей, доведенных буквально до умопомрачения. Израиль ещё никогда по-настоящему не сталкивался с организованным партизанским сопротивлением, и было бы большим несчастьем для его народа, если бы это приняло крупные масштабы. Кроме того, ущемление национальной гордости арабов может вызвать новый всплеск терроризма на Ближнем Востоке.
Всё это вполне реально также и по целому ряду иных причин. Первая – это разобщённость палестинцев, в том числе напряженные отношения между руководителями Палестинской автономии и руководителями Хамас в секторе Газа. Было время, когда этот раскол израильтянами приветствовался; теперь они могут горько пожалеть об этом. Отряды Хамас сегодня значительно лучше обучены и оснащены, чем прежде, и они даже бросают вызов египетским подразделениям на границе сектора Газа. Махмуд Аббас, палестинский президент, не имеет должного авторитета в Газе: после того, как власть там силой захватило движение Хамас, оно полностью игнорирует ООП, включая ФАТХ, которая является самой крупной составной частью ООП, и, соответственно, руководство Палестинской автономии.
В ответ ФАТХ в конце декабря обвинила ХАМАС в том, что оно, в сущности, способствует продвижению американского плана, так как глава Хамас Исмаил Ханийя не только не может представлять палестинский народ, но более того – он представляет тех, кто плетёт заговоры против палестинского народа. Как видим, налицо раскол, обострение отношений между двумя районами, в которых проживает палестинское население, и, значит, израильтянам придётся иметь дело с двумя силами, которые не собираются договариваться между собой. Вместе с тем, Махмуд Аббас объявил, что реализация «Сделки века» заставит палестинское руководство на Западном берегу принять те меры против Израиля, на которые Палестинская автономия вполне способна: он отзовёт признание Израиля, что аукнется во всем арабском мире, и перестанет координировать на Западном берегу усилия по обеспечению безопасности с израильской армией. И то, и другое способно привести к хаосу.
Между тем, политологи, знакомые с американским планом, напоминают, что он предусматривает создание некоего палестинского государства как достижение трёхстороннего соглашения между Израилем, Палестинской автономией и Хамас. В нынешних условиях это соглашение остается утопией, а реализация американского плана остается возможной только с применением силы - либо израильской, либо натовской. И в одном, и в другом случае речь идет о новом кровопролитии. Палестинцам в их нынешнем положении терять, в сущности, нечего. Но что будет, если вооружённые столкновения охватят чуть ли весь регион?
Нужно напомнить ещё, что руководители Палестинской автономии предупредили администрацию США: американский план вместо того, чтобы принести мир на землю Палестины, вызовет массовые протесты и на Западном берегу, и в секторе Газа. Абсурдность ситуации ещё и в том, что Трамп и его окружение, входя в контакт с союзниками США по поводу «Сделки века», не соблаговолили хотя бы проконсультироваться относительно своего плана со стороной, играющей главную роль в достижении мира: с палестинским народом. Неудивительно, что палестинцы расценили план Трампа как «американо-сионистский заговор».
Ближневосточные политологи справедливо заметили, что «Сделка века» сыграла своего рода положительную роль для палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа: она заставила их выработать некую сходную позицию. А уже это грозит созданием единого фронта против американского плана и для ликвидации угрозы аннексии палестинских территорий. Если раньше Махмуд Аббас рассчитывал на американскую помощь для поддержания более или менее сносного уровня жизни в Палестинской автономии, то после решения Трампа в 2017 году признать Иерусалим столицей Израиля сотрудничество Палестинской автономии и США практически сведено на нет. Для политиков Палестины - США и его натовские союзники потеряли всякий авторитет как посредники в ближневосточном урегулировании. А две палестинские организации, имеющие долгий опыт национально-освободительной борьбы – Народный Фронт Освобождения Палестины и Демократический Фронт Освобождения Палестины – призвали палестинский народ к народному восстанию против политических махинаций США и Израиля.
Возможно, это ещё не завершение того провала, к которому идёт американский план, но я искренне верю в то, что трамповскую авантюру со «Сделкой века» ждёт позорное отступление. Его постигнет та же участь, что постигла все предыдущие мирные планы США, которые Америка выдвигала на протяжении последних 27 лет, начиная с дьявольски хитроумного Соглашения в Осло. Более того, надеюсь также, что все те ближневосточные политики и стратеги, которые под влиянием западных СМИ и с благословения неоимпериалистов из НАТО, щедро раздающих подачки, уйдут с международной арены. Им настало время уйти, освободить место для молодых, преданных своим народам, настоящим борцам, которые ведут дело не к расколу народных движений, а к сплочённому фронту за независимость и суверенитет арабских народов. И первым их походом должно быть развенчание и срыв планов США и их союзников в регионе, которые хотят сохранить закабаление арабских стран. Новые поколения ни в коем случае не должны допустить это.

В пыли красной планеты. Ученый рассказал, как искать жизнь на Марсе
Татьяна Пичугина. Никаких аномальных выбросов метана на Марсе не происходит, установили российские ученые на основе анализа данных, полученных в рамках программы "ЭкзоМарс-2016". Это противоречит выводам, сделанным ранее по измерениям марсохода Curiosity и орбитального аппарата "Марс-Экспресс". Значимое количество метана в атмосфере Красной планеты давало бы надежду найти там жизнь. О возникшей коллизии и как ее лучше всего разрешить РИА Новости рассказал Олег Кораблев, научный руководитель спектрометрического комплекса ACS, руководитель отдела физики планет ИКИ РАН.
Ученые находят метан
Вопрос, есть или нет на Марсе метан (CH4), находится в центре научного и общественного интереса не один десяток лет. На Земле львиная доля этого парникового газа вырабатывается живыми организмами. Кое-что поступает из недр при разработке месторождений ископаемого топлива и в результате геотермальной активности. В последние годы свой вклад вносит оттаивание многолетней мерзлоты в Арктике, скрывающей залежи газогидратов.
На Марсе до сих пор ни жизни, ни вулканов, ни месторождений углеводородов не обнаруживали, хотя потенциально все это там может быть. Например, при наличии жидкой воды на Красной планете сложились бы условия для образования кристаллов метана (клатратов). А вот газообразного метана, по идее, там быть не должно, однако его нашли.
Дело в том, что атмосфера Марса очень кислотная — почти на 96 процентов состоит из углекислого газа. Есть в ней и сильные окислители, такие как перекись водорода. Метан — восстановленное соединение и не может там долго существовать. Кроме того, его разрушает солнечное излучение. Молекулы метана в атмосфере Красной планеты распадаются примерно за триста лет. Если же их там все-таки много, не исключено, что источник находится под поверхностью и выбросы происходят регулярно.
"Метан искали на Марсе с первых экспедиций. Приборы тогда были, по современным представлениям, несовершенные, но уже пытались измерять полосу CH4 в районе трех микрон. Без особого успеха. В 2003 году запустили аппарат "Марс-Экспресс" со спектрометром PFS на борту, созданном при нашем участии. Его идейным вдохновителем был профессор Василий Мороз, много лет руководивший нашим отделом. Это послужило поводом серии сообщений о метане на Марсе", — рассказывает Олег Кораблев.
Первая публикация принадлежит Владимиру Краснопольскому с коллегами, сотруднику Католического университета Америки (США). По данным наземного телескопа "Канада — Франция — Гавайи", установленного на горе Мауна-Кеа, они определили, что метан в атмосфере Марса есть.
Затем — статья по результатам работы научного коллектива PFS во главе с итальянским астрофизиком Витторио Формизано и сообщения Майкла Мумма из Центра космических полетов Годдара в США, опиравшегося также на наблюдения наземных измерений (полностью анализ опубликовали лишь в 2009 году).
Все три научные группы получили сходные показатели содержания метана в атмосфере: три-десять частей на миллиард в объеме (ppbv). Это на несколько порядков меньше, чем на Земле, где около двух частей на миллион, но все же немало.
Метан точно есть, но откуда?
"Обсуждение этого вопроса активизировалось, когда к работе на поверхности Марса приступил ровер NASA Curiosity с комплексом приборов SAM для забора и анализа проб атмосферы и грунта. Там есть отдельный канал, спектрометр на перестраиваемом лазере TLS", — продолжает ученый.
TLS предназначен для измерения содержания кислорода и метана, изотопного состава CO2. Взятый из атмосферы воздух помещают в 20-сантиметровую кювету и облучают лазером. Световой луч 81 раз отражается от зеркал, суммарно пробегая 16 метров. Поглощение излучения лазера на этом оптическом пути регистрирует очень чувствительный детектор.
Сначала результаты TLS, за которые отвечает группа Криса Вебстера из Лаборатории реактивного движения в Пасадене (США), были негативными: метана нет. Спустя два года его все-таки нашли, в том числе используя метод обогащения пробы: из кюветы с воздухом откачивали углекислый газ и пары воды, в результате парциальное давление каждого из оставшихся газов повышалось. Это позволило измерить концентрацию метана на уровне меньше одной части на миллиард в объеме.
Подтвердились и выявленные ранее всплески содержания метана. Еще в 2003 году группа Мумма зафиксировала выброс этого газа в период, когда в Северном полушарии было лето, — примерно 45 ppbv. Это единичное событие, предположили ученые, но тогда надо допустить, что на поверхности действует некий фактор, разрушающий метан за небольшое количество лет. Вероятнее всего, какой-то сильный окислитель.
Curiosity зарегистрировал также сезонные колебания метана. Данные за три марсианских года, что соответствует примерно шести земным, показали, что кратковременные пики в районе семи ppbv наблюдаются, когда в Северном полушарии заканчивается лето. Вебстер с коллегами сделали вывод, что небольшие локальные источники метана находятся под поверхностью, возможно, в кратере Гейла, где с 2012 года работает марсоход. Публикация 2018 года подтвердила эти результаты.
TGO не нашел метан. Вопрос закрыт?
В 2016 году начался первый этап европейской программы "ЭкзоМарс": на орбиту Красной планеты прибыл аппарат Trace Gas Orbiter, или просто TGO.
"На этой волне интереса к метану все, конечно, ждали запуска TGO, и вообще была необходимость в независимых чувствительных измерениях газов в атмосфере Марса. Например, следы каких-то тонких химических процессов или вулканических выбросов, которые показали бы, что это не совсем мертвая с геологической точки зрения планета. Исследование малых атмосферных составляющих — вот главная задача этого спутника. На борту ею занимаются два прибора из четырех. Это схожие по принципу работы спектрометры — российский ACS и бельгийский Nomad", — говорит Олег Кораблев.
Оба прибора измеряют спектры излучения молекул газов в атмосфере двумя способами: в отраженных от поверхности солнечных лучах и в исходящем от планеты тепловом излучении, а также во время затмений, то есть глядя прямо на Солнце, когда оно скрыто краем планеты.
"Орбита круговая, низкая — 400 километров, с достаточно коротким периодом. За земные сутки мы успеваем наблюдать 24 затмения: 12 восходов, 12 заходов. Это богатый материал для исследования", — объясняет он.
TGO фактически приступил к измерениям весной 2018 года.
"Для столь тяжелого спутника не так просто сформировать низкую круговую орбиту. Потребовалось больше года применять технологию аэроторможения. Первые затмения мы наблюдали 21 апреля. Данные с того момента и до октября 2018-го легли в основу публикации в Nature. Метан не обнаружили. Важно, что к этому результату пришли две независимые группы ученых, анализировавшие данные двух разных приборов", — подчеркивает ученый.
Исследователи провели большую работу по очистке данных от шумов, которые снижали точность результатов. Вычислили верхний предел концентрации метана: 50 частей на триллион. Это в десять раз меньше, чем его фоновое содержание в атмосфере, зафиксированное Curiosity.
Такая точность — заслуга российского прибора ACS. Его разрешающая способность в два раза выше, чем у бельгийского, и раз в двадцать, чем у PFS. Преимущество и в методе наблюдения в затмениях, и в увеличенной светосильности. Nomad же создан по образцу спектрометра SPICAV/SOIR миссии "Венера Экспресс", созданного, кстати, тоже российскими учеными в середине нулевых.
В модель не укладывается
"Мы не считаем, что в данных TLS есть ошибки. Это очень совершенный прибор, обладающий абсолютным спектральным разрешением. В отличие от него ACS и Nomad используют Солнце — некогерентный источник, белый для человеческого глаза. На самом деле он не такой ровный, там есть еще линии поглощения в атмосфере. Сначала спектрометр смотрит на чистое Солнце, потом на него через атмосферу, затем мы делим одно на другое и получаем чистый спектр атмосферы и огромный оптический путь", — объясняет тонкости Олег Кораблев.
Еще одна особенность орбитальных измерений — ослабление сигнала пылью и облаками. Причем облака на Марсе, как и на Земле, — из водяного льда.
"Если забыть о кислороде, который произвела миллиард лет назад биосфера Земли, и подняться на высоту около 20 километров, мы окажемся в очень похожих на марсианские условиях", — замечает ученый.
Орбитальные спектрометры измеряют профиль атмосферы начиная с высоты 200 километров и до нескольких километров над поверхностью, а TLS на Curiosity работает в кратере, расположенном почти на экваторе. Предположим, марсоходу невероятно повезло и он находится рядом с единственным источником метана на Марсе.
"Если выброс из этого источника произошел всего один раз, то его следы скоро исчезнут, поскольку у метана ограничено время жизни. С другой стороны, время распада — 300 лет. Тогда почему его концентрация заметно меняется? Атмосфера на Марсе перемешивается чуть медленнее, чем земная, но все равно за месяц даже самые застойные полярные области полностью перемешаются. А в районе экватора — за несколько дней. Если есть где-то источник периодических выбросов, метан постепенно накопится в атмосфере и за 20 лет его будет столько, что мы бы уже увидели. В общем, пока не получается склеить эти два источника данных, если не предположить непонятных еще механизмов, которые происходят в атмосфере", — говорит Кораблев.
В атмосфере Марса, кроме углекислого газа и кислорода, присутствуют — в очень небольших количествах — монооксид углерода (угарный газ), азот, аргон и другие соединения. Их жизненные циклы более-менее описываются моделями. Даже перекись водорода поддается расчетам. Метан же с его пиками и сезонными колебаниями не укладывается ни в одну из существующих физико-химических моделей атмосферы Марса.
"Каждые несколько месяцев выходит статья, где предлагают очередной механизм разрушения метана на основе лабораторных экспериментов, имитирующих марсианскую атмосферу. Чтобы описать происходящее в реальной атмосфере, нужно изменить модели, не трогая другие составляющие. Пока не получается", — отмечает Кораблев.
Снова выброс метана, видимый только США
Статья Олега Кораблева и его коллег, вышедшая в апреле 2019 года, вызвала большой резонанс. Особенно на фоне того, что накануне очередная публикация по данным PFS подтвердила один из старых всплесков метана, зарегистрированных с марсохода, на уровне 15,5 ppbv.
"Не хочется никого критиковать, но если к данным Curiosity есть доверие, потому что сам прибор измеряет метан очень хорошо, то измерения метана на PFS в таких количествах внушает сомнение. Это на грани его чувствительности", — указывает ученый.
PFS — это фурье-спектрометр, предназначенный для изучения поверхности Марса, составления температурных профилей атмосферы, определения состава аэрозолей по поглощению в отраженных солнечных лучах. Его спектральное разрешение гораздо ниже, чем у TLS, ACS и Nomad. Для таких чувствительных измерений, как концентрация метана, он не очень подходит. Хотя то, что спектрометр работает на орбите с 2003 года, делает честь его разработчикам.
"Это хороший прибор, но для своих целей. Спектрометр для TGO конструировался специально для регистрации метана, тогда как в 1990-х, когда делали PFS (а разрабатывали его первый вариант еще для советского аппарата "Марс-96"), никто не решался предложить искать метан на Марсе как признак жизни. Это было дурным тоном. Теперь парадигма поменялась", — добавляет Кораблев.
Уже 24 июня в NASA заявили, что Curiosity зарегистрировал огромный выброс метана в кратере Гейла — 21 ppbv, в три раза больший, чем выброс 2013 года. Вскоре выяснилось, что этот скоротечный "плюм" очень быстро растворился, низведя уровень метана до фонового. Ученые из России и ЕС перепроверили данные TGO за тот период, но следов выброса не нашли.
Критика скептиков
Как климатические скептики критикуют глобальное потепление, так группа метаноскептиков сомневается в присутствии метана на Марсе. Они считают это все рекламным ходом, а результаты — притянутыми за уши. Лидер этого направления Кевин Занле из Центра космических исследований и астробиологии Эймса NASA ниспровергает все астрономические наблюдения по метану, указывая на многочисленные противоречия в анализе данных PFS. С критикой выступает также Франк Лефевр из LATMOS (Франция), где создаются модели циркуляции атмосферы Марса. В одной из последних публикаций, принадлежащих ученым Кембриджа (Великобритания) и Университета Вашингтона, показано отсутствие сильной зависимости концентрации метана от сезонных циклов.
"Я сам начинал с искренней верой, что мы обнаружим метан", — признается Олег Кораблев и уточняет, что на данный момент наиболее достоверные данные по этому параметру дают только три инструмента: ACS и Nomad на TGO и TLS на Curiosity.
С ними не сравнятся ни данные наземных наблюдений, ни измерения PFS. Данные MENCA — анализатора нейтрального состава экзосферы Марса с метановым сенсором на борту индийского аппарата Mars Orbiter Mission — пока не опубликованы. В статье 2019 года о результатах наблюдений MENCA метан не упоминается. Робот-сейсмолог NASA InSite, который сейчас работает на поверхности, располагает только метеостанцией.
"Так что наши измерения метана на долгосрочную перспективу станут последним словом", — заключает ученый.
Есть ли жизнь на Марсе
В отличие от Земли, поверхность которой постоянно перестраивается, на Марсе недра спокойнее, поэтому есть выходы очень древних горных пород, в рельефе сохранились русла и озера. Считается, что в самом начале эволюции, более трех-четырех миллиардов лет назад, на Красной планете был непродолжительный теплый период, а на поверхности — жидкая вода.
"Мы не знаем, зарождалась жизнь на Земле или где-то еще, но то, что между внутренними планетами Солнечной системы происходил обмен веществом, это факт. На Земле есть метеориты с Марса — и, видимо, наоборот. Не исключено взаимное осеменение планет, а может быть, жизнь занесли тела не из нашей системы. Если уж она началась, уничтожить ее практически невозможно: жизнь приспосабливается к самым экстремальным условиям. Обнаруживают же микроорганизмы на большой глубине на Земле, почему бы и на Марсе им не быть? На глубине жидкая вода, скорее всего, есть", — рассуждает Олег Кораблев.
Исследовать грунт с глубины около двух метров позволит марсоход, который отправится на Красную планету в рамках совместного проекта "Роскосмоса" и ЕКА — "ЭкзоМарс-2020".
"Но мне кажется наиболее оптимальным решением вопроса возврат грунта с Марса на Землю. Есть множество признаков, по которым можно выбрать наиболее перспективные места для забора образцов, в том числе возраст, минералогический состав. Комплекс SAM на марсоходе способен датировать грунт. Лучше всего взять пробы с глубины. Вряд ли найдем что-то живое, но какие-то следы — вполне вероятно", — говорит он.
Задача эта очень сложная. Вернуть даже единственную капсулу с грунтом за одну экспедицию невозможно — не хватит топлива. Значит, нужно действовать поэтапно. Сначала доставить на поверхность марсоход для забора грунта. Именно это планирует NASA с помощью миссии "Ровер-2020".
Следующий этап — отправка модуля, который заберет образцы из ровера и доставит на орбиту. И заключительный шаг — аппарат принимает на орбите груз и летит на Землю. Чтобы все это сработало, нужно беспрецедентное объединение усилий ведущих космических игроков и немного удачи.

Александр Гольц: “Китай во всем превосходит Россию — и в вооружении тоже”
Китай занял второе место в мире по объёму производства и продажам вооружений, сместив Россию на третью позицию, на первом месте США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Эксперт отметил, что такая расстановка сил в рейтинге близка к реальной.
Военный эксперт Александр Гольц в комментарии “НИ” пояснил, что Китай вполне обоснованно занял вторую позицию в рейтинге:
“Китай нельзя назвать недооценённым. Уже во многих серьёзных исследованиях КНР называют второй по военной мощи страной в мире.
Собственно говоря, Китай во всем превосходит Россию, если не считать ядерного оружия, объем которого — в случае Китая — неизвестен. Так что это не новость.
Новость в том, что SIPRI использовали новую систему подсчета. Они взяли общие показатели ведущих китайских компаний и, основываясь на объеме производства, сделали вывод о размерах военного производства. Это представляется, как мне кажется, довольно искусственным. Потому что китайцы, как впрочем и Россия, ничего не сообщают об объемах своего военного производства.
Что касается Соединенных Штатов, то они значительно обходят Россию и Китай. Достаточно сказать, что военный бюджет США более, чем втрое, превосходит военный бюджет Китая и больше, чем в 10 раз, военный бюджет России.
Здесь надо, правда, иметь в виду несколько моментов. В Соединенных Штатах, если брать военное производство, очень дорого стоит рабочая сила, и это делает производство более дорогостоящим. Т.е. единица военной техники обходится Китаю, конечно, дешевле, чем Соединенным Штатам.
Есть объективные вещи — стоимость сырья, стоимость технологий, все это имеет усредненный показатель — при этом США производят гораздо больше военной техники, чем Китай и Россия”.

Владислав Шурыгин: “Китай на рынке вооружений давно наступал на пятки России”
Китай занял второе место в мире по объёму производства и продажам вооружений, сместив Россию на третью позицию, на первом месте США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Эксперт пояснил, что расширение торговли Китая ограничено только емкостью рынка.
Владислав Шурыгин, военный публицист, обозреватель, в комментарии “НИ” отметил, что китайская продукция оборонно-промышленного назначения крайне конкурентоспособна на рынке, благодаря низкой цене, однако в сфере вооружений страны предпочитают держаться за традиционное партнерство:
“То, что Китай наступал на пятки России не было большой тайной. КНР достаточно долго держал позицию на рынке обычных вооружений. Китайская техника, являясь фактически копией советской, была на порядок дешевле, чем российская техника. Техника модернизировалась, они эти модернизации выставляли на рынки.
Для стран, у которых бюджет достаточно скромный, и которые не могут покупать высококачественную российскую технику, но при этом отрезаны от поставок техники из США и НАТО, — Китай является очень притягательным, потому что то, что в России стоит, скажем, 50 млн долларов, в Китае можно купить за 10-15. Так они и вышли на второе место.
В определенной степени можно сказать, что они нас подвинули. Хотя наши традиционные рынки, и те, кто обычно у нас покупает и ориентирован на наши вооружения, они все также работают с нами.
При этом понятно, что масштабы промышленного производства в Китае, в том числе и вооружений, они громадны, и возможности у Китая громадны. Нужно понимать, что расширение торговли Китая ограничено только емкостью самого рынка, который сейчас достаточно жестко разделен на рынок, который контролируют американцы и близкие к ним союзники, на которых ориентируются страны НАТО и страны, близкие к ним, — и другие страны, которые в этом случае в силу своих финансовых возможностей совершенствуют свой военный потенциал”.

Павел Фельгенгауэр: “Китай резко наращивает мощности своего ОПК”
Китай занял второе место в мире по объёму производства и продажам вооружений, сместив Россию на третью позицию, на первом месте США, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Эксперт пояснил, что в военно-техническом плане Китай Россию догнал и во многом обошёл.
Павел Фельгенгауэр, журналист, военный обозреватель, в разговоре с “НИ” отметил, что Китай (находясь с РФ в равных условиях) в области ОПК по всем пунктам стремительно сокращает разрыв, а во многом уже обошел Россию:
“Во-первых, к тому, что публикует SIPRI нужно относиться с очень большой осторожностью, потому что все это имеет опосредованное отношение к реальности. Если внимательно читать их доклады, там всегда есть (они же научные исследователи) сноска, что те цифры, которые они приводят — это условные доллары, не имеющие к реальным сделкам по торговле вооружениями и производству прямого отношения. Это есть в сноске, они объясняют почему — потому что они начали все эти анализы печатать во времена Холодной войны, когда по советским, да и китайским соответствующим делам не было вообще никакой открытой информации. Поэтому они сами высчитывают, исходя из использования американских и европейских данных о стоимости. По количеству, по штукам SIPRI доверять можно, но их доллары — это не доллары, а условные единицы. Как поясняют в организации, для того, чтобы делать исторические анализы, сравнивать и строить графики, уходя далеко во времена 60-70-80-х, они не могут менять методику подсчета, поэтому они ее не меняют.
Так что то, что SIPRI пишет о торговле вооружениями, строится на предположении, что танк стоит одинаково — везде и любой. К реальным цифрам все это не имеет отношения, и кто какое место занимает, оттуда не следует.
Даже когда есть данные о сделках — о примерной стоимости, о том, что идет через кредит, что потом списывается или вообще поставляется бесплатно, им это все неважно, они используют свои условные доллары. Эти суммы, которые там обозначаются, надо тоже со сноской давать, что они носят относительный характер, что это условные единицы и к реальным деньгам прямого отношения не имеют.
Во-вторых. То, что Китай по реальной стоимости продает сейчас за границу больше вооружений и техники — я в этом, честно говоря, сомневаюсь. Китайские товары, как известно, обычно дешевле.
А вот то, что они резко наращивают мощности своего ОПК — это правда. Особенно в некоторых областях Китай далеко обошел Россию, задвинув ее на крайне невысокое место. В особенности, скажем, по военно-морским вооружениям, где они производят сейчас раз в пять-десять больше, чем Россия. Китай обогнал американский флот по числу вымпелов: десять фрегатов-эсминцев вводятся в состав флота каждый год, а в России эсминцев вообще не строили, начиная с 90-х годов, а фрегатов делают один или два. По общему тоннажу Китай, конечно, уступает США, и по подводной части они и нам уступают. А по надводной — превосходят значительно, КНР набрала серьезную скорость, у них для этого было выстроена мощная база гражданского судостроения, т.е. индустриальная база есть, а теперь перешли на массовое производство, причем очень современных кораблей. Да, они производят очень массово, в том числе и по качеству продукции они очень близки к России, отстают, конечно, от американцев.
Китай ещё с 89-го года находится под санкциями, поэтому у них если и есть кооперация, то с Россией и Израилем, все остальные страны — и Европейский союз, и Америка после Тянь-ань-Мэнь (89-й год) наложили санкции. Китай создал собственную компонентную базу, собственную военную индустрию, которая сейчас во многом самостоятельна, хотя, конечно, они покупают в том числе и у России. С помощью Израиля, например, они создали систему по производству неплохих уже беспилотников (у нас это никак не получается сделать).
Так что да — в военно-техническом плане Китай Россию догнал и по многим позициям обошел.
Хотя у России есть и преимущества: наши ядерные подводные лодки лучше пока, баллистические ракеты получше. Но китайцы и здесь стремительно сокращают разрыв, будучи не только страной массового промышленного производства, но и страной, которая сильна в электронике. Скажем, они запускают спутники со своими компонентами — они под санкциями очень давно (такими же, как те, под которыми сейчас находится Россия). В итоге у них своя индустрия космических компонентов, а у нас с этим беда. До Крыма закупали на западе, теперь многие проекты откладываются и откладываются”.

Идзуми Накамицу: СНВ-3 нужно продлить, а новое оружие обсуждать позже
В четверг стрелки так называемых часов Судного дня были переведены на 20 секунд вперед. Теперь от ядерного катаклизма мир отделяют всего 100 символических секунд. О стратегической стабильности после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, о перспективах продления Россией и США истекающего в следующем году договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), о ситуации с ядерным полигоном КНДР и об эффекте от появления гиперзвукового оружия в интервью корреспонденту РИА Новости Алану Булкаты рассказала заместитель Генерального секретаря ООН, высокий представитель по разоружению Идзуми Накамицу.
— В августе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности перестал существовать. Как это повлияло на глобальную стратегическую стабильность?
— Полагаю, это (развал ДРСМД – прим. ред.) было самым прискорбным. Как вы верно заметили, у этого были последствия. И сейчас об этом говорят на различных площадках. До последнего момента генеральный секретарь (ООН — прим. ред.) призывал обе стороны договора к прямому диалогу, призывал постараться уладить противоречия. К сожалению, этого не произошло.
Так что больше Договор не существует. И я вижу, что многие европейские государства выражают беспокойство. Очевидным образом эта ситуация оказывает самое прямое воздействие на европейскую безопасность. Ряд регионов — Азия, например, — начинают говорить о том, что сегодня вдобавок к тому, что исчез ДРСМД, рушатся многие из соглашений, которые поддерживали стабильность в мире. И на мировом уровне также выражаются опасения в связи с эрозией договоренностей.
Происходит нечто интересное… Не знаю, насколько слово "интересное" тут уместно. Но тот факт, что 2 августа ДРСМД прекратил существование, побудил многие страны – и США об этом заявляли, и Россия, и множество европейских государств – говорить о том, что, возможно, нам пора начать думать над новым видением в области контроля над вооружениями и разоружения.
Многое в мире сейчас меняется. Некоторые из платформ, соглашений и инструментов размываются. Нам необходимо подумать о том, какими будут новые подходы, каким может быть новое видение (или элементы нового видения) в нынешней обстановке в сфере безопасности. Это, если хотите, побочный эффект от того, что произошло в августе.
Но, в конце концов, мы все встревожены. Мы надеемся, что ни одно государство, включая США и Россию, не будет предпринимать опасные и дестабилизирующие шаги, не будет размещать вооружения, в том числе в Европе.
— Вы упомянули об обеспокоенности европейских стран, а также о вашей тревоге в связи с возможным размещением вооружений. В этой связи считаете ли вы полезным предложение президента РФ Владимира Путина европейским и американским партнерам подписать меморандум о неразмещении ракет средней и меньшей дальности?
— Я действительно не знаю всех подробностей этого конкретного предложения, но любая инициатива, которая бы отбивала охоту у государств к дестабилизирующим действиям, любое искреннее предложение, подобное этому, будут приветствоваться. Я действительно надеюсь, что после исчезновения ДРСМД страны всерьез задумаются над тем, какие меры должны быть приняты, чтобы сохранить стабильность в регионе.
Как я уже сказала, прекращение существования ДРСМД, конечно же, оказывает самое непосредственное влияние на Европу. Но это также вызвало беспокойство и во всем мире в отношении проблем разоружения и международной безопасности.
— Пока зарубежные партнеры Москвы скептически реагируют на предложение РФ. Вы не считаете, что именно страны НАТО должны были бы проявить больше внимания к российской инициативе?
— Я не знаю точно, какие дискуссии сейчас идут в НАТО. Но у меня есть чувство, что они наверняка обсуждают все эти вопросы. Крах ДРСМД наступил недавно, так что я уверена, что они оценивают, анализируют, думают о том, какие новые меры им следует рассмотреть. Любые предложения по предотвращению дестабилизирующих шагов должны приниматься всерьез. Речь не только о предложении президента Путина, деталей которого я не видела.
— Есть другой чрезвычайно важный договор, который пока не канул в Лету – СНВ-3. Он истекает в 2021 году. Вы считаете, что договор, который придет на смену СНВ-3, должен включать не только Россию и США, но и такие ядерные державы, как Китай, Франция, Великобритания?
— В конечном счете, если вы действительно серьезно относитесь к сокращению количества ядерных вооружений, было бы целесообразно, чтобы к нему (договору – прим. ред.) присоединились все государства, обладающие ядерным оружием. Но, к сожалению, пока мы к этому не пришли.
Первым шагом, к которому мы призываем (не только я — но и генеральный секретарь постоянно призывает к этому), является продление СНВ-3 Соединенными Штатами и Россией. Договор допускает возможность продления на пять лет. И мы хотим, чтобы это произошло.
Появившиеся недавно усилия, нацеленные на то, чтобы сделать такой договор многосторонним, являются сложной задачей. Этого не сделать в одночасье. Поэтому, наверное, не лучшая идея пытаться объединить решение чрезвычайно срочного вопроса продления договора и вопроса присоединения к нему Китая или еще каких-либо государств. Нам, вероятно, следует разделить эти вопросы, потому что мы хотим, чтобы договор успели продлить до того, как он перестанет действовать.
Но в конечном итоге, если мы действительно серьезно относимся к уничтожению ядерного оружия, конечно, все государства, обладающие таковым, должны быть вовлечены (в соглашение – прим. ред.). Все они несут ответственность. Тем не менее если вы обратите внимание лишь на число боеголовок, то по-прежнему США и Россия обладают примерно 90% всего арсенала. Так что мы думаем, что определенно они несут особенную ответственность за ядерное разоружение. Поэтому мы призываем оба государства обеспечить взаимодействие друг с другом с тем, чтобы они продлили СНВ-3.
— Но на определенном этапе в будущем было бы хорошо подключить другие ядерные державы к какому-то соглашению?
— Да, в конечном итоге к какому-то соглашению. Да.
— Планирует ли генеральный секретарь ООН лично встречаться с президентом Трампом и президентом Путиным, чтобы призвать их к продлению этого договора?
— Он проводит встречи с обоими лидерами в ходе саммитов. Он встречается с ними на регулярной основе. И когда они встречаются (это, конечно, уровень глав государств), то говорят не только о вопросах разоружения, но и о других всевозможных вызовах. Я думаю, что включают и этот вопрос в повестку обсуждения. Генсек говорит об этом и в публичных выступлениях, обращаясь к прессе, и лично президентам. Он призывал их работать над продлением СНВ-3.
— Есть ли планы в ближайшем будущем провести такую встречу с лидерами двух государств?
— О таких встречах обычно объявляют незадолго до самих переговоров. Так что я не знаю, когда в следующий раз пройдет такая встреча. Но я твердо убеждена, что генеральный секретарь не забывает об этом вопросе как об одном из наиболее приоритетных.
— Должен ли новый договор по стратегическим наступательным вооружениям учитывать новые российские вооружения, такие как "Кинжал", "Буревестник", "Посейдон", которые, по сути, не являются стратегическим оружием?
— И да, и нет. Давайте сосредоточимся на сохранении того, что у нас есть. К сожалению, с ДРСМД это не получилось. Но СНВ-3 еще действует, так что давайте попробуем сохранить то, что у нас есть, и продлим его, насколько это возможно – на пять лет.
На определенном этапе на эти новые системы вооружений, которые могли бы оказать влияние на стратегическом уровне, следует обратить внимание, обсуждение по ним должно пройти.
Примечательно в сегодняшней обстановке, что многие осознают, что вещи действительно меняются. Стратегическая обстановка очень изменилась. Это произошло частично из-за этих новых систем вооружения, частично из-за обычных вооружений, которые оказывают стратегический эффект. Так что эти вещи нужно будет пересмотреть, проанализировать, изучить комплексно. Так что да, я считаю, что военные ведомства больших держав должны будут обсудить и эти вещи.
Вещи, которые относятся, например, к последствиям развития науки и технологий – киберсфера, искусственный интеллект, открытый космос, они чрезвычайно важны. Гиперзвуковое оружие может быть снаряжено как ядерными боеголовками, так и обычным оснащением. И потенциально оно будет оказывать огромное воздействие на стратегическую безопасность. Так что сейчас на повестке много моментов, которые надо будет рассмотреть основательно.
— Но прежде всего необходимо продлить как таковой СНВ-3?
— Да, сохранить то, что у нас есть, потому что все осознают, что происходит масса изменений и нам нужно вырабатывать новое видение. Но этот процесс займет время. Между тем уничтожить то, что у нас было, а затем начинать обсуждать нечто новое весьма опасно. Было бы намного лучше, если бы мы сохранили, что у нас есть, и в это же время начали обсуждение по некоторым новым параметрам нового видения. Вот за что мы выступаем.
— У ООН есть достоверные данные о стратегических вооружениях КНДР?
— У МАГАТЭ, которое является специализированным агентством, но входит в большую семью ООН, был доступ в КНДР до 2009 года. Но с тех пор у них нет какого-либо доступа и они опираются на материалы открытых источников, такие, как снимки со спутников. Так что ответ – нет, у нас нет своей независимой развединформации о том, что происходит в КНДР.
— То есть на данный момент в ООН нет информации о том, какие шаги предпринимает КНДР с 2009 года?
— Верно. У ООН очень ограниченные возможности для того, чтобы оценить и понять, что происходит в КНДР.
— В 2018 году власти КНДР демонтировали ядерный полигон Пхунгери. Он уничтожен окончательно и без возможности на восстановление? Вы можете это подтвердить?
— Нам не предоставили доступ туда. Наблюдать пригласили ограниченное число журналистов. Чтобы подтвердить подобное (уничтожение ядерного полигона – прим. ред.), необходимы недюжинные технические знания. Так что, учитывая недостаток настоящих экспертов, которые там могли быть, мы не можем наверняка утверждать, что он был уничтожен без возможности восстановления.
— У вас есть какие-либо данные о том, действуют ли в КНДР сейчас какие-то другие ядерные полигоны?
— Мы не знаем. В Вене находится офис организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. У них есть международная система мониторинга. В случае, когда происходит подземное ядерное испытание, они могут зафиксировать колебания. Они остаются настоящим достоверным научным источником информации. За последнее время мы не слышали, чтобы были зафиксированы какие-либо новые испытания. Короткий ответ – мы не знаем. Пока мы не слышали о проведении каких-либо новых испытаний.
— Вы считаете, что у СВПД есть будущее?
C июля прошлого года Иран значительно сократил свои обязательства в рамках СВПД, касающиеся ядерной деятельности, в результате серии из пяти шагов. В итоге европейские страны передали этот вопрос в Совместную комиссию в рамках механизма разрешения споров.
Мы должны признать, что СВПД сталкивается с самой большой проблемой на сегодняшний день. На фоне недавней резкой эскалации напряженности на Ближнем Востоке легко вынести поспешное суждение о том, что у СВПД нет будущего. Однако запуск механизма разрешения споров не означает автоматического возврата всех предыдущих санкций ООН против Ирана или обращения в Совет Безопасности ООН.
Механизм разрешения споров — это серия шагов, которые позволяют сторонам обсуждать и решать вопросы, пока это не устроит все стороны. Представители европейских государств говорили лично мне, да и в разговорах с другими высокопоставленными должностными лицами ООН недавно отмечали, что процесс запуска механизма разрешения споров был частью их задачи. Цель в том, чтобы использовать любую возможную платформу для взаимодействия с Ираном и убедить его вернуться к полному соблюдению (СВПД). Иран также последовательно заявлял, что шаги по сокращению своих обязательств в рамках СВПД, которые они до сих пор принимали, являются обратимыми.
Сейчас необходимо использовать все возможности, чтобы найти выход из нынешнего тупика. Нам нужно найти способы вернуть Иран к полному соблюдению (обязательств в рамках СВПД) и обеспечить Тегерану ощутимые экономические выгоды. Сохранение СВПД важнее, чем когда бы то ни было.
— Как вы оцениваете отказ США и Израиля от участия в Конференции ООН по созданию зоны, свободной от всех видов оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке? Насколько такая позиция двух государств обостряет ситуацию в регионе?
— Я думаю, в этом контексте влияние на ситуацию минимальное. Но я бы хотела отметить по этому поводу, что первая встреча этой конференции прошла весьма успешно. Я думаю, она превзошла ожидания всех. Участвующие страны полностью привержены открытому и инклюзивному процессу. Процесс не закрыт для Израиля и США. На самом деле в своей политической декларации страны-участницы вновь подтвердили, что все государства региона приглашаются к тому, чтобы стать частью процесса. Так что мы весьма надеемся, что в итоге они — я имею в виду, в частности, Израиль — смогут принять участие, и мы приложим все усилия, чтобы так и произошло.
Я думаю, страны-участницы конференции смогли проявить сдержанность и дали понять, что конференция является полезной площадкой. Все страны-наблюдатели, которые в ней участвовали, включая РФ, Великобританию, Францию и Китай, все они казались весьма удовлетворенными итогами этой встречи. Так что, по нашему мнению, это были очень позитивные пять дней конференции.

Стабильность и перемены
Текст: Федор Лукьянов (профессор-исследователь НИУ "Высшая школа экономики")
На внешнем контуре российской политики без перемен. Министр иностранных дел, министр обороны и министр энергетики (последняя должность по объективным обстоятельствам сейчас в значительной степени нацелена вовне) сохранили посты. Это воспринято как должное - по общему мнению, и Сергей Лавров, и Сергей Шойгу, и Александр Новак очень профессионально выполняют порученную работу. Изменений в политической линии тоже не предполагается - она считается а) соответствующей складывающейся обстановке, б) эффективно реализуемой.
В недавнем Послании Федеральному Собранию президент расставил акценты. Развитие России и повышение качества и уровня жизни граждан становится ярко подчеркнутым приоритетом. А во внешней политике и в сфере безопасности обеспечен столь высокий уровень, что можно сосредоточиться на его поддержании. Это не означает, что в сфере действий России на международной арене не предвидится никаких перемен. Прежде всего по той причине, что быстро меняется сама эта арена.
На проходящем сейчас в Давосе юбилейном экономическом форуме (50 лет) заглавным гостем открытия был Дональд Трамп. Большую часть речи Трамп посвятил восхвалению своего президентства - как улучшилась жизнь американцев: экономический рост, занятость, налоги, доступность образования, медицины и пр. Президента США не смущало, что в зале собрались представители деловой и политической элиты всего мира, он обращался не к ним. Он в очередной раз объяснял американцам, почему осенью надо вновь проголосовать за него. Собственно аудитории были подарены последние пять минут, и Трамп решительно противопоставил себя общему настрою "прогрессивной общественности": хватит пугать концом света, алармисты всегда хотят одного - подчинить нас своей власти и диктовать, как жить. Люди сами разберутся.
Трамп последовательно проводит главную идею: Америка прежде всего. Но в смысле не мирового лидерства и диктата другим, а фиксации на собственных практических нуждах. Перефразируя давний лозунг - не спрашивай, что ты можешь сделать для мира, а спроси, что мир может сделать для тебя.
Резкий разворот США до сих пор вызывает во многих частях планеты недоумение и даже возмущение. Трамп откровенно эгоистичен, в то время как прежде политическая культура требовала камуфлировать собственные интересы и говорить о всеобщем благе. К новому курсу Америки постепенно привыкают, но по-прежнему слышны рассуждения, что, мол, пусть Вашингтон делает что хочет, остальной мир может вести себя в соответствии с правилами, которые США отвергают. Об этом любят говорить в Евросоюзе, охотно подхватывает и Китай.
Пропорция искренности и лукавства в подобных заявлениях может быть разной. Кто-то верит в возможность миропорядка вопреки желанию Соединенных Штатов, кто-то считает необходимым просто это провозглашать. Объективно говоря, страна, на долю которой приходится чуть ли не треть мировой экономики и которая обладает гигантской форой по большинству параметров силы, задает тон мировой политике, хочет она сама того или нет. Эгоистичный посыл Трампа ломает прежние правила и заставляет всех остальных фактически выбирать ту же позицию. То есть тоже поворачиваться к себе. Для России это новая ситуация. Не в том смысле, что прежде не приходило в голову заботиться о решении внутренних задач. Но все-таки долгий период после крушения СССР был временем восстановления международного статуса и возможностей. Внешние партнеры (не только на Западе, но и на Востоке) в какой-то момент почти списали Россию как значимого игрока, и усилия для того, чтобы опровергнуть это мнение, потребовались немалые. Да еще и психологическая реабилитация собственного общества, для которого важен вопрос об уважении к стране на мировой арене.
Подобная мотивация в качестве лейтмотива имела свои плюсы и минусы, однако была вполне понятной и логичной. Она реализована в той степени, в какой возможно - сверхдержавой Россия не стала и не станет, но никто сейчас не ставит под сомнение ее роль в мире. Однако наступает другой этап, импульсы к которому исходят и изнутри, и извне. Во все более фрагментированном и хаотически развивающемся мире выживание и повышение собственной устойчивости перед лицом множащихся вызовов становятся главной задачей. Вопросы чистого статуса или экспансии в классическом понимании не обеспечат необходимое развитие. А точность соотнесения целей и возможностей оказывается решающим фактором. Возвращаясь к министрам, есть образцовый пример грамотного применения военно-политических инструментов во благо экономического подъема при участии персонально их. Успешность российской политики в Сирии достигнута благодаря эффективному применению военной силы и дипломатическому мастерству. И именно это достижение позволило так изменить отношения с Саудовской Аравией, что с ней удалось заключить важные договоренности о регулировании нефтяного рынка. Ну а значение нефтяного рынка для российской экономики объяснять не надо. Впредь необходимость подобной комбинации умений и инструментов будет проявляться все чаще, а нелинейность противоречий, с которыми придется иметь дело, продолжит расти. Так что почивать на лаврах не светит, зато опыт международного "крыла" российского правительства позволяет не волноваться.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

























