Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Клинтон - это война
Михаил Делягин
Мы наблюдаем за нынешними американскими выборами, как за цирком. Действительно, это забавно, смешно, интересно, увлекательно. Но мы напрасно думаем, что мы здесь — зрители, что всё это нас, нашей жизни напрямую не касается. Касается — и ещё как! Поэтому главная претензия, которую я могу сегодня предъявить нашей внешней политике, — то, что мы не участвуем в этих выборах. В то же время все выборы в нашей стране — по крайней мере, начиная с 1995 года, — проходили с ощутимым влиянием со стороны США. И это естественно. Любое государство, которое можно разглядеть на карте без микроскопа, в условиях глобализации имеет не локальные, а глобальные интересы. Это может не нравиться, но это так. Потому что экономически обусловлено. И американцы жёстко отстаивают свои национальные интересы по всему миру — в том числе, вмешиваясь во внутренние дела РФ. Мы это вмешательство видим каждый раз, когда видим какого-нибудь либерала.
Почему же Россия не отстаивает свои национальные интересы "за лужей"? Ведь разница для нас между двумя главными кандидатами на роль 45-го президента США — республиканцем Дональдом Трампом и демократкой Хиллари Клинтон — принципиальна. Госпожу Клинтон можно обвинять в чём угодно в личном плане, но она — это, прежде всего, очень чёткая политика доминирующей части американской элиты, направленная на разрушение всего мира. Не потому что там все поголовно маньяки, нет. Но они очень чётко понимают, что Америка в её нынешнем сверхпривилегированном формате и они сами в их нынешнем сверхпривилегированном формате могут существовать только до тех пор, пока весь мир платит за их существование. Внося заработанные деньги в ничего не значащие государственные ценные бумаги США. Что значит заставить весь мир вкладывать под 2% в хорошем случае? Это значит, что весь мир нужно испугать до смерти. Как его напугать до смерти? Да очень просто. Показать расширяющуюся зону хаоса и показать, что США в этом безумном мире являются единственной "тихой гаванью".
Так что американский "экспорт хаоса" — следствие не какой-то особой ненависти к людям, а просто стратегия выживания паразитической "империи доллара". Это прагматичная и простая экономическая политика: умри ты сегодня, а я послезавтра. При этом расширение "зоны хаоса", которое началось с уничтожения Советского Союза и "социалистического лагеря" в Европе, продолжилось в Югославии, Афганистане и Ираке. Сейчас оно дошло до Украины, и мы видим попытки расширить эту "зону хаоса" на Турцию и снова на Россию. Это ещё и подрыв главных стратегических конкурентов Америки: подрыв Китая, подрыв Евросоюза, который "загружают" беженцами, "загружают" антироссийскими санкциями, "загружают" всем, чем только могут…
Госпожа Хиллари Клинтон является креатурой именно сторонников стратегии "управляемого хаоса". Поэтому, став 45-м президентом США, она будет расширять "зону хаоса". И в Сирии, и на Украине человечество уже дважды смотрело в лицо ядерному "game over", оказывалось у черты, когда могли взлететь ракеты и посыпаться бомбы. Да, Обама был компромиссом между силами, которые стоят за Хиллари Клинтон, и теми, кто им противостоит внутри США. Обама отступил, не стал разжигать костёр Третьей мировой войны, в которой могут сгореть все: и богатые, и бедные, и надсмотрщики концлагеря, и его заключённые. А вот "леди Вау" эту границу перейдёт легко, играючи, сама того не замечая, для неё этой границы нет.
Это всех пугает до такой степени, что мы увидели, как Обама начал поддерживать Трампа — не напрямую, конечно, но используя те возможности, которые у него есть как у действующего президента США.
Например, Обама очень вежливо даёт понять чете Клинтонов, что если с Трампом что-нибудь случится — например, если его внезапно убьют, — то они с гарантией "сядут" оба. И это было далеко не лишним жестом, потому что очень многие люди, которые переходили дорогу Хиллари Клинтон и её мужу, погибали при непонятных обстоятельствах. Это уже известно американистам и, естественно, всем, кто всерьёз занимается американской политикой.
Изначально у выборов-2016 был очень примитивный сценарий, когда Трамп и Клинтон представляли собой некоторые "полюса", а победить должен был в итоге сильный центрист, например, нынешний вице-президент Джозеф Байден. Это американская политическая классика. И Обама даже поддержал Байдена, но тот внезапно "передумал" выдвигать свою кандидатуру. Чуть позже в президентской гонке собрался было поучаствовать Майкл Блумберг, вообще беспроигрышная кандидатура. Он даже дал понять, что потратит на свою кампанию не 100 миллионов долларов личных денег, как Трамп, а миллиард. Это человек, который был мэром Нью-Йорка — причём таким, на которого всё "Большое Яблоко" молится до сих пор. И он даже стал учить испанский язык, чтобы приветствовать своих латиноамериканских избирателей на их родном языке… Но он тоже внезапно "передумал".
Извините, но на таком уровне таких совпадений не бывает. Это значит, что какая-то очень серьёзная глобальная структура сказала: "Нет, нам нужен Трамп. Нам нужен человек, который "закуклит" Америку, и сделает это сознательно и последовательно". Если кто не знает, по линии отца у Трампа — немецкие корни, а по линии матери — шотландские, и клановый аспект в его семье очень силён. Так что, могу предположить, что следы этой гипотетической пока структуры ведут в Старый Свет, в Великобританию и Германию…
Почему же сделана ставка на Трампа? Потому что глобальный бизнес по итогам операции в Сирии осознал, что гарантированной победы в Третьей мировой войне может и не быть. А потому играть с огнём гораздо опаснее, чем они думали раньше, соотношение прибыли к рискам неприемлемо. Значит, нужна другая стратегия — стратегия раздела нынешнего глобального рынка на макрорегионы с наименьшими потерями и наибольшими прибылями.
Для России Трамп будет очень неприятным и неудобным, говоря путинскими словами, "партнёром". Попробуйте вести переговоры с Ксюшей Собчак, которая придёт в глубоком декольте, а потом выяснится, что она сильно умнее вас. Трамп очень умён, и "декольте" он наденет любое, чтобы достичь своих целей.
Но при этом он будет с вами реально договариваться, причём договариваться исходя из вашего права на существование. Возможно, место, которое Трамп готов уделить России в своей картине мира, для нас абсолютно неприемлемо. Но то, что он признаёт саму возможность существования "чужих" интересов, уже является огромным подарком на фоне того, что исповедует госпожа Клинтон. Клинтон ненавидит не Путина. Клинтон ненавидит не Россию. Она ненавидит весь мир. Для того чтобы "империя доллара" продлила своё существование, она готова превратить в руины не Турцию и не Россию, и тем более не Сирию с Украиной. Она готова превратить в руины весь остальной мир. В руины в прямом смысле слова, чтобы капитал, который там есть, бросил свои заводы, из промышленного стал финансовым и прибежал спасаться в США.
Поэтому нам нужен Трамп. Плохой, неудобный, эпатажный, — но с ним есть о чём разговаривать, с ним есть о чём спорить, с ним можно ужиться на одной планете. А с госпожой Хиллари Клинтон это невозможно. С ней нам придётся только воевать, воевать за своё физическое, физиологическое выживание.
Нынешние президентские выборы в США дают нам альтернативу, которую нельзя не использовать. Некогда Андрей Андреевич Громыко, министр иностранных дел СССР, произнёс очень знаковую фразу: "Лучше десять лет вести переговоры, чем десять минут вести войну". Он был родом из Белоруссии, потерявшей в Великую Отечественную треть своего населения, так что очень хорошо знал, о чём говорит. Громыко, кстати, не был приверженцем концепции "лишь бы не было войны", при нём СССР вёл войны, в том числе и необъявленные, но "цену вопроса" обозначил точно.
Думаю, всем нам стоит прислушаться к этим словам, и я глубоко разочарован тем, что Российская Федерация, насколько я могу судить, не участвует в президентских выборах в США. Это нужно исправить.

Зеркало перемен
МВФ: есть ли еще время на реформы?
Мартин Гилман – профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Резюме Сохранится ли в XXI веке система многосторонних отношений, сложившаяся после Второй мировой войны? Или же она переродится в региональные альянсы, в каждом из которых будет свое членство и между которыми будет происходить конкуренция и взаимодействие?
В конце 2015 г. МВФ внес технические изменения в проводимую им политику – теперь деньги могут предоставляться той или иной стране под конкретную экономическую программу, даже если у нее имеется большая непогашенная задолженность перед официальными кредиторами. Это решение означало фактический отказ от одного из базовых постулатов, на которых зиждилась доктрина фонда. На протяжении нескольких десятилетий МВФ тесно сотрудничал с Парижским клубом кредиторов и занимал достаточно жесткую позицию относительно своевременного погашения долгов. Со странами-должниками подписывались соответствующие соглашения о графике выплат и их финансовых гарантиях перед МВФ.
Складывалось впечатление, что это решение стало следствием открытого политического вмешательства Соединенных Штатов (крупнейшего члена МВФ, влияние которого значительно превышает его долю в 16,1%) в интересах своего государства-клиента – Украины. Точно так же 20 годами ранее Вашингтон обвиняли в давлении на МВФ ради оказания помощи России.
На самом деле все не так просто. Из открытых источников становится понятно, что грубое вмешательство далеко не столь очевидно, если рассматривать его в исторической перспективе. В конце концов, у МВФ есть своя внутренняя логика, которую внешним наблюдателям не так просто понять. Фонд действительно поддерживает экономическую программу Украины. Но вполне возможно, что решение, объявленное 9 декабря, свидетельствует о серьезном сбое в системе управления международной валютной системой, главным стержнем которой является МВФ. И это может стать началом конца известного нам мира. Дальше будет что-то иное, и вовсе не обязательно оно окажется лучше.
Долговой спор между Украиной и Россией
30 апреля 2014 г. МВФ одобрил начальное соглашение о выделении Украине срочного кредита в рамках двухлетнего договора и перевел начальный транш в 3,2 млрд долларов. Затем 11 марта 2015 г. соглашение о срочном кредите заменено на договор о долговременной кредитной линии в 17,5 млрд долларов на 4 года, первый транш предполагался в размере около 5 млрд долларов. По стандартам МВФ размер помощи был непропорционально большим (900% от квоты Украины) и чрезвычайно рискованным.
Повторное рассмотрение программы, частью которой был договор о бюджете на 2016 г., приостановлено в октябре прошлого года. Одним из многих неразрешенных вопросов остается задолженность в 3 млрд долларов в виде евробондов перед Россией. Сумма выделена в декабре 2013 г., когда прежнее украинское правительство предпочло быстро получить пакет помощи на не слишком жестких условиях, в то время как поддержка Евросоюза оговаривалась множеством предварительных требований.
20 декабря 2015 г. наступил срок выплаты российского долга, но новые украинские власти попытались этого избежать. Сначала они заявили, что бонды относятся к частному сектору. МВФ с этим не согласился, постановив 16 декабря 2015 г., что облигации были государственными. В то же время, как отмечалось выше, 9 декабря 2015 г. фонд изменил главное положение своей политики кредитования, допустив возможность продолжения помощи стране, накопившей задолженность.
Понятно, что вопрос долговых обязательств между Украиной и Россией рассматривается в контексте более масштабных антагонистических отношений этих государств. Украинская сторона считает полученные 3 млрд долларов не более чем политической взяткой для поддержки фактически обанкротившегося режима Януковича. Москва же рассматривает эту сумму как законный заем стране, которую никто больше не был готов поддержать в трудное время.
МВФ оказался зажат между двумя членами фонда, находящимися в откровенно враждебных отношениях друг с другом. Исполнительный совет и эксперты ищут, как разрешить спор, чтобы ограничить эффект от поддержки стран с неурегулированными государственными долгами. С моей точки зрения, руководители фонда, вынужденные пойти на второй пересмотр украинской программы, тем не менее проявили проницательность и дальновидность. Ведь Казначейство США решительно настаивало на таком решении, которое допускало бы пересмотр условий и в дальнейшем. Сомневаюсь, что американцам понадобился серьезный нажим на руководство МВФ. Многие старшие администраторы фонда и без того сочувственно относятся к Украине и понимают, что ей нужно помочь. Поскольку штаб-квартира МВФ находится в Вашингтоне, его руководители вряд ли могли игнорировать аргументы и влияние ведущих средств массовой информации Запада, которые решительно поддерживают Украину.
С точки зрения кредитора этот диспут возмутителен, но споры о долгах в силу своей природы обычно довольно язвительны и желчны, независимо от подробностей. Посмотрите на недовольных частных кредиторов Аргентины, отказавшихся принять предложенный аргентинским правительством план действий после дефолта по их облигациям (бондам) в 2001 г. (хотя, может быть, лет через 15 они все же придут к соглашению). Вряд ли стоит ожидать, что украинский долг вообще будет погашен в полном объеме, тем более это относится к купленным Россией бондам.
Это неудивительно. В конце концов, на протяжении всей современной истории государственное кредитование, по крайней мере отчасти, преследует политические цели в отличие от частного кредитования на коммерческих условиях для получения прибыли. Когда Россия приобрела первый транш украинских облигаций на 3 млрд долларов, политика была, как мне кажется, главным фактором. Российское правительство должно было учитывать возможность или даже вероятность невыплаты задолженности, как минимум ему следовало из этого исходить. В любом случае Россия как член Парижского клуба кредиторов знает, что происходит с государственными, а тем более частными займами, когда у страны нет другого выбора, как только согласиться с программой МВФ, акцентирующего внимание на приемлемом уровне задолженности.
России не понаслышке известна и другая сторона медали, потому что с 1992 по 1999 гг. ей самой не раз реструктурировали долги. В то время заемщикам со средним уровнем доходов было гораздо труднее договариваться о реструктуризации, чем в наши дни. Но Россия выплатила весь государственный долг вместе с набежавшими процентами. Этого вряд ли можно ожидать от Украины, даже если обстоятельства сложатся сравнительно благоприятно.
Долговой спор между Украиной и Россией, вероятно, станет одним из многих неразрешенных вопросов, которые еще долго останутся камнем преткновения во взаимоотношениях двух стран.
Как насчет МВФ?
Скорее всего, даже искушенным наблюдателям этот долговой спор с участием МВФ покажется слишком скучным и бессмысленным. Однако он может стать поворотным моментом в развитии международной валютной системы, стержнем которой является фонд. МВФ в отличие от большинства других глобальных организаций использует непропорциональную систему голосования. На долю каждого из членов приходится определенная квота, более или менее соответствующая его относительному весу в мировой экономической системе, хотя на практике часто удается добиваться консенсуса и не прибегать к формальному голосованию.
Вряд ли кого-то удивит утверждение, что МВФ – политическая организация. Им действительно управляют люди, представляющие органы власти стран-членов, и интересы государств влияют на принимаемые решения. Много написано о конфликтах, связанных с назначением директоров-распорядителей. Хотя персонал фонда не связан напрямую с национальными правительствами, все программы одобряет исполнительный совет. Поскольку сотрудникам хорошо известны предпочтения совета, редко предлагаются программы, которые не получат одобрения.
Однако МВФ удавалось наладить эффективную работу не столько в силу приверженности группы активных членов во главе с США главным принципам организации (хотя они не всегда соглашаются с фактическим применением этих принципов), сколько в силу молчаливого согласия большинства с мнением ведущей группы. Руководство работой фонда со стороны политически значимых членов, с мнением которых все считаются, и готовность остальных принимать эти политические приоритеты как свои собственные и обеспечивает на практике в целом эффективную работу. Неудивительно, что персонал МВФ обычно с воодушевлением поддерживает общий консенсус, согласно которому всем необходимо следовать основным положениям: укрепление мирового валютного сотрудничества, обеспечение финансовой стабильности, облегчение международной торговли, стремление к максимальной занятости населения и устойчивому экономическому росту, а также сокращение бедности в мире. Я знаю это, потому что на протяжении своей долгой карьеры в МВФ был одним из тех, кто верит в эти принципы.
Это не значит, что разногласий или трений никогда не было. МВФ – не монолит. И даже при более компетентных и технократических директорах-распорядителях, таких как Ларозьер и Камдессю (стояли во главе с 1978 по 2000 гг.), во многих случаях между директорами фонда возникали острые разногласия. Они редко предавались широкой огласке. Одним из скандальных эпизодов был уход в отставку Дэвида Финча, руководителя легендарного политического департамента МВФ. Он покинул пост в 1987 г. в знак протеста против давления на него крупных акционеров, требовавших поддержать плохо проработанные программы для Египта и Польши.
С моей точки зрения, нельзя винить членов МВФ в стремлении использовать свое положение для достижения политических целей. Непрекращающиеся попытки влиять на политику фонда лишний раз подчеркивают его значимость, идет ли речь о включении китайской валюты в корзину специальных прав заимствования или о перераспределении квот для более справедливого отражения изменений в мировой экономике. Но обычно подобные дискуссии – чистая формальность, которая объясняется необходимостью широкого консенсуса, характером директора-распорядителя, ярко выраженными предпочтениями старшего звена управляющих и оценкой компромиссов по поводу сроков погашения кредитов.
Действительно ли речь шла об Украине?
Последствия усилий, прилагаемых МВФ для того, чтобы добиться невозможного и освободить Украину от немедленной выплаты долга, сводятся не столько к новому подходу к разрешению долговых споров, сколько к усиливающемуся разладу в практике многосторонних отношений. То, как был решен этот вопрос – яркое доказательство нарастающей раздробленности мирового порядка.
Пересмотр правил государственного кредитования был в повестке дня на уровне совета МВФ с 2013 г., еще до украинского кризиса. В докладной записке 2013 г. выражена озабоченность по поводу растущей роли и меняющейся структуры государственного кредитования. Ситуация требовала более четкого законодательства, в котором оговаривались бы условия участия государственного сектора, особенно в отношении кредиторов, не входящих в Парижский клуб. Хотя казалось, что МВФ первоначально намеревался пересмотреть свою политику только весной этого года, спор о трехмиллиардном российском займе Киеву ускорил процесс. Решение принято в декабре прошлого года, за несколько дней до наступления срока платежа по украинским облигациям, и, конечно, складывается впечатление, что оно было спонтанным.
Логика долгосрочной политики кредитования заключалась в том, что страну, накопившую задолженность, МВФ кредитует в соответствии с тем, насколько добросовестно она ведет переговоры с официальными кредиторами, такого рода добросовестность может служить гарантией договоренности по выплате долга и позволит продолжать финансирование программы. Отказ от подобного условия в случае с Украиной может стать нехорошим прецедентом и дать основание другим странам настаивать на аналогичном послаблении и не прилагать серьезных и искренних усилий для достижения соглашений с правительствами стран-кредиторов. Ирония в том, что, прежде чем стать членом Парижского клуба в 1997 г., Россия сталкивалась с серьезной дискриминацией в вопросе выплаты государственного долга.
У Украины может быть законная причина для отсрочки выплат, но, похоже, главное беспокойство вызывает то, что нетрадиционные кредиторы, такие как Китай, начали выдавать крупные займы развивающимся странам. Во многих случаях льготные условия этих кредитов не соответствовали стандартам МВФ и Всемирного банка, и, наверно, дело еще в том, что Китай не является членом Парижского клуба, где обычно обсуждается реструктуризация долга.
Так почему же совет МВФ и его старшие директора поддержали пересмотр условий, при котором ответственность за договоренность о выплате долга фактически перекладывается с должника на кредиторов? В конце концов, раньше, когда одно из государств-кредиторов, членов Парижского клуба, воздерживалось и блокировало обязательный консенсус, остальные члены Клуба и сотрудники МВФ в буквальном смысле не позволяли сторонам покинуть стол переговоров, пока не достигалось приемлемое для всех соглашение. Если реальной проблемой является Китай как потенциальный кредитор, почему бы не пригласить его присоединиться к клубу, как ранее была приглашена Россия? Что в действительности происходит?
Смещение тектонических плит геополитики
Ставки сегодня намного выше, чем просто долг, каким бы важным он ни был. Подход к принятию глобальных решений на основе консенсуса представляется нежизнеспособным. По сути вопрос в том, сохранится ли система многосторонних отношений, сложившаяся после Второй мировой войны, в середине или конце XXI века? Речь идет о нескольких центральных организациях, таких как МВФ, играющих ключевую роль и принимающих решения на основе консенсуса. Или же эта система медленно, а может, резко переродится в региональные альянсы, в каждом из которых будет свое членство и между которыми будет происходить конструктивная конкуренция и взаимодействие?
Главный вопрос – в вызове, который Китай, а также Россия, Индия и некоторые другие страны бросают устоявшемуся мировому порядку. В качестве примера можно привести китайские займы, выделяемые африканским государствам. Перечень озабоченностей крупных акционеров МВФ растет. И дело не только в недавних инициативах стран БРИКС по созданию того, что воспринимается как организации, конкурирующие с МВФ и Всемирным банком, а во все более напряженных отношениях и нежелании многих стран слепо следовать (как в прошлом) политике, предлагаемой крупными развитыми державами, прежде всего США. Первый звонок, свидетельствующий о зреющем несогласии с точкой зрения доминирующих акционеров, прозвучал в августе 2007 г., когда представитель России выдвинул кандидатуру бывшего председателя Центрального банка Чешской Республики Йозефа Тошовски на пост директора-распорядителя МВФ вместо кандидата-фаворита Доминика Стросс-Кана из Франции.
Вполне возможно, что МВФ, структуру многостороннюю и некогда стабильную, поразил (как и многие организации, вдохновляемые и руководимые развитыми экономиками) вирус демократических устремлений. Фонд испытывает все большее давление со стороны других стран и негосударственных игроков, требующих права голоса и более широкого представительства. Такую тенденцию к кажущейся анархии можно считать положительной, особенно если признать старую систему уютных и комфортных отношений слишком непредставительной и своекорыстной. Однако это означает, что системой труднее управлять, поскольку все сложнее договариваться хотя бы о минимальном общем знаменателе.
И, на мой взгляд, Соединенные Штаты не облегчают себе жизнь с точки зрения собственных долгосрочных интересов. Наверно, при более тонком и демократичном подходе они могли бы еще долгие десятилетия доминировать в глобальных организациях с центральным управлением, таких как МВФ. К сожалению для тех из нас, кто верит в благотворность либерального порядка, основанного на терпимости и политическом реализме, США становятся объектом справедливой или не очень критики других стран. Их обвиняют в том, что из благожелательного лидера они превратились на мировой арене в агрессивного гегемона, преследующего узкие и своекорыстные политические цели подобно тому, как это делают другие страны, и не только в МВФ.
Иными словами, нельзя больше считать само собой разумеющимся, что Соединенные Штаты первыми будут принимать на себя главный удар и что на них можно положиться как на спасителя, когда больше не на кого надеяться. Их действия почти во всех областях – от Транстихоокеанского партнерства до военных авантюр, от финансовых операций в разных регионах мира до шпионажа посредством контроля данных и т.д. – вызывают все большее неприятие, а то и негодование в мире, где остальные державы утверждают собственные ценности и приоритеты. Ирония в том, что повышение политической роли США в МВФ происходит в то время, когда другие члены, особенно недостаточно широко представленные в нем страны-кредиторы, все менее склонны мириться с американским доминированием. Несмотря на риторику президентской гонки 2016 г., в ходе которой звучат ностальгические призывы к лидирующей роли Соединенных Штатов в военной, экономической и нравственной сфере, в действительности наш мир становится все более раздробленным.
Мой коллега по НИУ «Высшая школа экономики» в Москве и редактор этого журнала Фёдор Лукьянов недавно написал, что в системе международных отношений уже пройден символический Рубикон, а мир дробится на более управляемые сегменты. В конце концов, в глобальной валютной системе не всегда существовал единый центр силы вроде США, которые играют сегодня столь важную роль в МВФ и мировой финансовой сфере. В золотом стандарте XIX и начала XX века участвовало много крупных игроков, даже если какое-то время самым важным участником была Великобритания.
Поскольку Соединенные Штаты и другие страны, контролирующие голосование в МВФ, вряд ли уступят принятие ключевых решений новым кредиторам (запоздалая ратификация Конгрессом США в конце прошлого года положения о перераспределении квот в фонде, одобренного пятью годами ранее, мало что меняет), тезис о фрагментации мирового порядка представляется обоснованным. Поэтому было бы странно, если бы кто-то посчитал упомянутую ратификацию важной вехой во взаимодействии Вашингтона с многосторонними организациями. Это решение фактически осталось незамеченным. Реформа с большим опозданием наделяет развивающиеся страны большими правами и весом при голосовании. Но изменение баланса, скорее всего, слишком незначительно, чтобы предотвратить расшатывание существующего устройства. Более вероятна эволюция в направлении мира, в котором нынешняя турбулентность и непостоянство трансформируются в новое, более многополярное, но вместе с тем глобальное равновесие.
Что касается МВФ, то, наверно, еще не ушло время для того, чтобы привести эту организацию в соответствие с нуждами времени и избежать ее распада. С одной стороны, даже крупные акционеры могут захотеть ослабить контроль над фондом, если мир столкнется с финансовыми и экономическими потрясениями, требующими скоординированной политики в глобальном масштабе. С другой, МВФ – не монолит, и в нем много глав представительств и ведущих управленцев из разных стран, которые категорически не приемлют политического давления. Это наглядно проявилось в случае с Украиной – могло быть намного хуже. Со своей стороны я не уверен, что можно сопротивляться силе тектонических сдвигов. Наверно, от Китая, который председательствует в «Большой двадцатке» ведущих экономик в 2016 г., резонно ожидать нестандартного мышления и подходов.

Анекдот? Или статья?
Михаил Делягин
Счётная палата Российской Федерации, по итогам проверки корпорации РОСНАНО, заявила о "финансовой недобросовестности" её руководства, включая Анатолия Чубайса.
Счётная палата посмотрела ролик, где самодовольный Чубайс перед камерой на всю страну хвастается, что у него денег — или, как выражаются российские "либералы", бабок, бабла, я уж не помню — вот сколько хочешь, столько и есть. Счётная палата проверила — и, да, удивительная вещь! — оказалось, что с именем Чубайса связан не новый сорт нанопива и не какое-нибудь нанорастение, открытое в российской тундре, а с именем Чубайса связана, вы не поверите, "финансовая недобросовестность".
Я даже не знаю, что может быть смешнее, чем очередные пережёвывания того, что вот Чубайсу опять доверили деньги, и с этими деньгами опять "что-то пошло не так"… Я понимаю, что можно один раз назначить педофила — причём не просто педофила, а ещё и эксгибициониста, который всё это делает публично, — директором детского садика. Но после того, как он всем всё показал, нужно ли делать его директором другого детского садика или начальной школы? Господа, "ваучеру" уже двадцать два года. А вы всё это время даёте деньги Чубайсу и всё время по-детски удивляетесь результату: "Ой!" Но с него всё — как с гуся вода. Вы с ним не в доле, случайно?
Правда, в этом случае "АнЧутка" (сокращение от "Анатолий Чубайс") по степени наглости действительно превзошёл сам себя. Мы знаем, что он руководит компанией РОСНАНО. И вот, вдруг выясняется, если я правильно понял, что в штате компании РОСНАНО значится один (?!) — один-единственный на всю Россию человек, а 270 с лишним сотрудников работают в безупречно частной управляющей компании РОСНАНО, которая управляет деятельностью государственной компании РОСНАНО, состоящей из 1 — прописью: ОДНОГО — человека. Понятно, да? Государственной компании РОСНАНО хотя бы теоретически нужно перед кем-то за что-то отчитываться, а управляющая компания РОСНАНО — частная лавочка, которая всех в гробу видала, у нас тут своя атмосфера, коммерческая тайна, отвяжитесь!
Когда эту управляющую компанию создавали, никто ничего не скрывал, все описывали внятно и конкретно, как это будет и что они будут делать. И вдруг: о, ужас! 8 миллиардов рублей бюджетных средств ушло на вознаграждение сотрудникам управляющей компании, чуть ли не по миллиону триста тысяч ежемесячно в среднем, извините, "на рыло". Когда по стране зарплата меньше 30 тысяч рублей, это как-то странно и непонятно — тем более что наногвардейцы Чубайса эти свои деньги получают не из прибылей от внедрения новых технологий, а просто из госбюджета, несмотря на десятки, если не сотни миллиардов рублей убытка от своей деятельности.
Всё это было бы очень смешным анекдотом, если бы эти деньги фирма Чубайса "Нанорога и нанокопыта" вытаскивала из воздуха. Но она их тащит из бюджета страны, и ради того, чтобы она могла получать "свои" миллиарды, у нас уничтожаются школы, закрываются больницы, у нас детям нечего есть — потому что у нас "нехватка бюджетных средств". Конечно, "нехватка" — и не потому, что Запад ввёл против нас санкции и нефть подешевела, а потому, что у нашего правительства два приоритета: накормить Чубайсов и вывести деньги за границу. Правительство, если судить по его бюджетной политике, считает своей главной задачей сделать так, чтобы в стране оставалось как можно меньше российских денег, а у тех государств, которые ведут против нас "гибридную войну" на уничтожение, у США и их сателлитов по ЕС и НАТО, было наших денег как можно больше.
Вице-премьер Дворкович даже сказал как-то: Россия должна платить за финансовую стабильность США. О больных детях и о детях, которые недоедают, правительство Медведева не говорит. Им Россия ничего не должна. Россия должна платить за финансовую стабильность США. И Россия должна платить, с точки зрения правительства Медведева, за таких людей, как Чубайс. Они — наше национальное достояние. И с их головы не должен упасть ни один волос, сколько бы они ни вытащили миллиардов из госбюджета. Каждая минута нахождения этих людей в должности означает не просто миллиарды, перекачанные в карманы наших врагов за рубежом и в карманы людей типа Чубайса здесь. Каждая минута, проведённая этими людьми во власти, с моей точки зрения, означает смерть российских граждан. В том числе — детей и стариков.

Путину не нужен хаос на Кавказе
Эдвард Джереджян – директор Института общественной политики Джеймса Бейкера при Университете Райса (США, штат Техас).
Ара Тадевосян - директор Медиамакс.
Резюме Искусство дипломатии заключается в следующем: создать такую политическую ситуацию, в которой каждой из конфликтующих сторон становится трудно сказать «нет» противоположной стороне.
Он один из самых авторитетных и опытных американских дипломатов, работал с администрациями восьми президентов США. Эдвард Джереджян сыграл ключевую роль в реализации арабо-израильского мирного процесса и урегулировании региональных конфликтов. Является автором книги «Риски и возможности. Путешествие американского посла по Ближнему Востоку».
Эдварду Джереджяну удалось выстроить хорошие личные отношения с президентом Сирии Хафезом Асадом. Есть некоторые свидетельства, что Асад-старший не скрывал, что большую роль в этом сыграло армянское происхождение американского посла.
В 1985 году посол Джереджян был назначен специальным помощником президента США и заместителем пресс-секретаря по внешнеполитическим вопросам. В 1981-1984 гг. Джереджян служил заместителем главы миссии США в Иорданском Королевстве. В 1988-1991 гг. был послом США в Сирийской Арабской Республике. В 1991-1993 гг. занимал должность заместителя госсекретаря США по вопросам Ближнего Востока. В 1993 г. был назначен послом США в Израиле.
Посол Джереджян специализируется также на СССР и России. В 1979-1981 гг. он работал в посольстве США в России. По некоторым сведениям, в 1990 году США решили назначить Джереджяна послом в СССР, однако Москв не дала агреман, опасаясь, что в условиях расширения Карабахского движения американский посол-армянин мог стать причиной определенных проблем.
По предложению госсекретаря Колина Пауэлла Джереджян руководил двухпартийной консультационной группой, созданной мандатом Конгресса, которая занималась вопросами общественной дипломатии в арабском и мусульманском мире. В качестве старшего консультанта был вовлечен также в Группу исследования Ирака (Iraq Study Group (ISG), которая представляла собой двухпартийную комиссию, созданную по мандату Конгресса для оценки ситуации в Ираке.
На минувшей неделе Эдвард Джереджян посетил Армению, где провел встречи с президентом Армении Сержем Саргсяном, Католикосом всех армян Гарегином Вторым, главой МИД Эдвардом Налбандяном.
Перед отлетом из Еревана Эдвард Джереджян дал эксклюзивное интервью Медиамакс.
- Вы приехали в Ереван в качестве гостя церемонии «Аврора». Соучредитель премии Рубен Варданян говорит, что одна из его целей – изменить образ мышления армян. Как по-Вашему, может ли эта инициатива внести изменения в психологию живущих в Армении и Диаспоре армян?
- Я верю, что может. Это событие [премия «Аврора»] было очень значимым и впечатляющим в плане объединения такого количества людей из разных уголков мира. Но самое главное, наверное, это предложенная Рубеном и его друзьями основная модель, которая в корне уводит нас от образа жертвы Геноцида. О Геноциде нужно помнить всегда, потому что, как стало очевидным во время церемонии «Аврора», геноциды продолжают происходить и в наши дни.
Невозможно отрицать прошлое. Отрицая прошлое, тем самым мы позволяем ему повториться в будущем. Это был важнейший посыл. Но, кроме того, один из уроков, который преподала нам «Аврора», это то, как пережившие Геноцид люди хранят память и, основываясь на ней, движутся вперед, продолжают жить, не только как отдельные личносьи, но и как общества и страны.
Думаю, это культурное, а не просто политическое, экономическое или социальное изменение. Я назвал бы премию «Аврора» моделью культурного движения, которое, несомненно, поможет армянскому народу. Идея вручать премию кандидату-иностранцу, который помогает жертвам геноцида, показывает, что армяне выходят за границы собственной трагической истории. Думаю, это изменение поможет изменить армянский менталитет, поможет армянам смотреть в будущее.
- Вы приехали в Армению в достаточно напряженный период, после «четырехдневной войны». Вы видите возможность возвращения к переговорам, или момент упущен и впереди нас ждут еще более тяжелые времена?
- Для переговоров никогда не бывает слишком поздно. Но вести переговоры прямо сейчас будет крайне сложно, потому что эти трагические военные действия отбросили переговорный процесс назад. У обеих сторон еще свежи эмоции.
Думаю, это очень опасно, потому что у Карабахского конфликта не может быть военного решения. Здесь возникает нравственный вопрос: сколько еще человек должны погибнуть или получить ранения, чтобы стороны сели за стол переговоров?
Минский процесс ОБСЕ стал скорее просто процессом, чем переговорами. С этим нужно что-то делать. Надеюсь, что последние столкновения привлекут внимание не только Азербайджана и Армении, но и Турции, России и всего мирового сообщества, в том числе - Соединенных Штатов и Франции к тому, что нужно усадить стороны за стол переговоров.
Но внешний мир не может навязать сторонам то или иное решение. Стороны должны самостоятельно прийти к соглашению. Народ Нагорного Карабаха, азербайджанцы и армяне должны прийти к соглашению. Хотя мировое сообщество тоже играет очень важную роль. Сейчас напряжение настолько велико, что буквально висит в воздухе.
Надеюсь, лидеры всех сторон будут действовать взвешенно, не давая воли чувствам и эмоциям, думая о процветании своих народов. В то же время, я надеюсь, что мировое сообщество осознает, что Карабахский конфликт на самом деле не является «замороженным». Он оттает и взорвется на наших глазах в самый неожиданный момент, в точности так, как это произошло некоторое время назад.
Мировое сообщество и стороны должны перейти от управления конфликтом (conflict management) к его урегулированию.
Управление конфликтом – это когда ты усмиряешь страсти, добиваешься прекращения огня и хотя бы временного затишья. Нагорный Карабах, азербайджанцы, армяне, турки, русские, сопредседатели Минской группы ОБСЕ – Франция, США и Россия, и вообще мировое сообщество, должны положить конец этому хрупкому положению и постараться усадить стороны за стол переговоров, обращая особое внимание на основные контуры урегулирования конфликта. Нужно постараться провести реалистичные переговоры.
- Вы упомянули основные контуры соглашения. Один из центральных элементов урегулирования – проведение референдума в Нагорном Карабахе. По-Вашему, признает ли когда-нибудь Азербайджан право народа Нагорного Карабаха самостоятельно распоряжаться своей судьбой?
- Я не могу говорить о намерениях азербайджанцев, но в случае с Карабахским конфликтом мы имеем дело с двумя важнейшими принципами – самоопределение народов и территориальная целостность. Оба эти вопроса лежат на столе переговоров. Армяне очень удачно заняли 7 районов вокруг Нагорного Карабаха, это дает им преимущество на переговорах. У них есть то, что нужно противнику, и это можно использовать в переговорах. Вы можете отказаться от этого, но взамен говорить о праве народа Нагорного Карабаха на самоопределение и о реализации этого права.
Если азербайджанцы собираются вести себя ответственно, то они должны принять эти общепризнанные принципы и сесть за стол переговоров. Именно так поступают ответственные страны.
Речь идет о политической воле двух стран, и, в частности, их лидеров. В конечном счете, многое зависит именно от лидеров, от их политической воли к разрешению конфликта, политической смелости, умения объединить свои народы вокруг приемлемого варианта урегулирования.
Как американский дипломат, участвовавший в арабо-израильских переговорах, я знаю, что, если позиции переговорщиков очень далеки от настроений общества, это еще более усложняет урегулирование.
Сторонам и мировому сообществу я бы предложил инструменты Track Two Diplomacy – общественной дипломатии, в рамках которой обществам Армении и Азербайджана будут открыто представлены проблемы и пути их решения. А пока лидеры ведут переговоры, в обществах будет строиться доверие. Это очень важно.
Когда нам не удалось сделать это в случае с арабо-израильским конфликтом, добиться урегулирования было очень сложно.
- Вы упомянули Россию и Турцию. Как Вы думаете, напряженность в российско-турецких отношениях отразилась на последнем обострении ситуации в Нагорном Карабахе или это просто спекуляции?
- Международная ситуация вокруг Нагорного Карабаха сегодня очень неблагоприятна. У Турции сегодня множество проблем: миграционный кризис, Рабочая партия Курдистана, внутренняя политика и т. д. Турция уже не в том положении, что 10 лет назад, когда могла выступать с более выгодных позиций в Карабахском конфликте.
Нужно быть честными и признать, что Азербайджан всегда давил на Турцию, заставляя занимать максимально жесткую позицию по Карабаху. Это усложняет положение Турции, но Турция, будучи влиятельной страной, играет важную роль на Кавказе, и, в частности, в принятии любого решения по Нагорному Карабаху. Таким образом, у Турции всегда будут требовать выполнения своей роли. Я надеюсь, это будет ответственная роль.
Азербайджану тоже следует играть разумную роль. Цены на нефть упали, финансовое положение азербайджанцев ухудшилось, но в прошлые годы Азербайджан скупил большое количество вооружения, которое теперь использует против Армении.
Чрезвычайно важна в этом регионе позиция России. Я бы сказал, что слово России на Южном Кавказе наиболее весомо. В Армении расположена российская военная база, Россия продает оружие как Армении, так и Азербайджану. Россия играет с обеих сторон. Я хочу сказать, что если Москва хочет действовать ответственно, то она может взять на себя активную роль, как в отдельности, так и в составе Минской группы ОБСЕ, чтобы привести стороны к столу переговоров. Я надеюсь, что это произойдет в рамках Минской группы ОБСЕ.
Не думаю, что возгорание войны на Южном Кавказе исходит из интересов России. Путин – умный игрок. Хаос и конфликт на Южном Кавказе не исходит из интересов Путина или России, поскольку это может привести к еще большей радикализации региона. Не представляю, что может в стратегическом плане выиграть Россия от очередной войны на Кавказе.
Что касается Соединенных Штатов, то я знаю, что госсекретарь участвует в этих процессах. Кстати, пока мы сегодня беседуем (26 апреля - Медиамакс), госсекретарь Керри выступает с важной речью о роли религии в политике в институте, которым я руковожу.
Я знаю, что он поддерживает связь с президентами Саргсяном и Алиевым, и Соединенные Штаты внимательнейшим образом следят за крайне нестабильной ситуацией. Знаю, что Керри общался с Лавровым, так что эта проблема находится в центре внимания. Как я уже говорил, важно, чтобы на карабахский вопрос действительно обратили внимание.
Четыре года назад я выступал перед армянской общиной Пасадены. Обычно я не соглашаюсь на такие выступления, но меня попросили родственники отца, которым я не мог отказать. Я не имел представления, в чем участвую. Уже в Пасадене я заметил, что на месте встречи припаркованы сотни машин. Когда я вышел из машины, меня окружили четверо телохранителей-армян. Я сказал: «Ради Бога, зачем все это? У меня не было телохранителей с тех пор, как я был послом США в Сирии. Что здесь происходит?»
Собрался огромный зал, около тысячи человек. Думаю, кто-то из организаторов понимал, что я собирался говорить, и знали, что среди собравшихся будут армяне, которым не понравится то, что я скажу. И все-таки я выступил.
В частности, я сказал, что являюсь сторонником армяно-турецкого сближения, потому что уверен, что настоящая стабильность в регионе наступит только тогда, когда армянское и турецкое государства начнут переговоры вокруг важнейших проблем, создающих между ними преграды.
В своем выступлении я сказал также, что вопрос Геноцида не может быть решен Диаспорой. Его должны решить государства - Армения и Турция. Именно в этом контексте, как и в контексте налаживания армяно-турецких отношений, по прошествии лет Турция признает Геноцид армян, но это произойдет только на фоне налаживания армяно-турецких отношений.
Потом я пошел еще дальше (смеется) и сказал по поводу Нагорного Карабаха, что Армения занимает выгодную полицию в переговорах, потому что победила в войне и заняла азербайджанские территории. На руках у Армении большой козырь в уравнении земля-мир-самоопределение народа Нагорного Карабаха. Используйте его, пока не поздно. Азербайджан заработает много денег благодаря своим запасам нефти и газа. Это позволит им усилить вооруженные силы и в следующей войне армяне могут уже оказаться в невыгодном положении, говорил я тогда.
Сейчас этот момент уже настал. Некоторые думали, что я сею панику, в то время как я был реалистом. А сегодня мы попали в подобную ситуацию. Не то чтобы мы не знаем, какие существуют проблемы, или нам нужно было предугадывать события. Дело в том, что мы не сумели коллективно, на международном уровне, в Армении и Азербайджане проявить политическую волю и продвинуть переговоры вперед.
Искусство дипломатии заключается в следующем: создать такую политическую ситуацию, в которой каждой из конфликтующих сторон становится трудно сказать «нет» противоположной стороне.
Мы сделали это во время Мадридской мирной конференции, когда я был послом США в Дамаске, а Хафез аль-Асад - президентом Сирии. Он не хотел вести прямые переговоры с Израилем. Он предпочитал, чтобы ООН выступил в роли буфера, поскольку считал, что Израиль намного сильнее, чем арабские страны, и без посредничества ООН арабы окажутся в невыгодном положении.
Усилиями президента Буша, госсекретаря Бейкера, наших специалистов, моих коллег, удалось добиться того, чтобы Асад начал прямые переговоры с Израилем. Это был огромный прорыв. Мы привлекли к переговорам Организацию освобождения Палестины, Израиль, Саудовскую Аравию, Иорданию, Египет. Для этого потребовались длительные переговоры. Кто-то говорит, что мы оказали давление на всех, но мы сделали то, о чем говорили: «Вот альтернативный сценарий. У вас есть гарантии США. Вы изначально знаете, что не собираетесь терять то, что считаете жизненно важным для своих интересов». Госсекретарь Бейкер передал письма-гарантии Израилю, Сирии, Иордании, Палестине и другим участникам переговоров.
Я привел этот пример, потому что думаю, что нечто подобное происходит и в Нагорном Карабахе. В настоящее время стороны находятся на противоположных полюсах, и никто не хочет переговоров. Но в конечном итоге они будут вынуждены сделать это. И чем раньше, тем лучше. Сейчас, вероятно, начнется период затишья, но не следует допускать, чтобы он длился слишком долго. Необходимо возобновить переговорный процесс.
Контуры урегулирования прекрасно известны всем. Могут быть некоторые изменения, дополнения, но в основном, как я сказал, это территориальная целостность для Азербайджана, самоопределение для Нагорного Карабаха, Лачинский коридор, поэтапный вывод армянских сил из некоторых районов в обмен на международные гарантии. Это базовые элементы.
У армян возникает легитимный вопрос: «Что произойдет, если мы освободим указанные территории в обмен на согласие Азербайджана на референдум, а он потом передумает?». Вот для этого и нужны международные гарантии, многонациональные силы, которые устроили бы все стороны. И, несомненно, должны применяться меры по установлению доверия. Это можно сделать.
- После апрельской войны звучало немало мнений о том, что Армения может пойти по пути Израиля: строительство хорошо организованного государства, где армия – не только гарант безопасности населения, но и движущая сила технологий, бизнеса и других сфер. Имея в виду Ваш опыт работы на Ближнем Востоке, как Вы считаете, может ли Армения повторить пример Израиля?
- Очень интересный вопрос. Думаю, есть некоторые параллели, хотя не совсем идентичные. Израиль, например, считает себя еврейским государством, а Армения - христианским.
Вы знаете славную христианскую историю Армении. Я только что вернулся из Эчмиадзина, где встречался с Верховным Патриархом. Очень сложно разделить армянское государство и церковь, это очень своеобразное сочетание. Что-то подобное существует и в Израиле. Иудейская вера и государство Израиль.
Израиль не богат природными ресурсами, и Армения – тоже, но в обеих странах живут чревычайно интеллектуальные люди. Способности к творчеству и предпринимательству очевидны как для армян, так и для евреев.
Так что, думаю, эти общие черты могут сделать Армению жизненно важным узлом, как на Кавказе, так и на пересечении Север-Юг-Запад-Восток. У вас уже развиты сферы высоких и информационных технологий. Это говорит об одаренности армянского народа. Вы можете стать торговым центром между Севером и Югом, Западом и Востоком. Возможности велики. Армянская культура, музыка, искусство, действительно могут сделать вас особенными, как это случилось в случае с Израилем. И все это вы делаете без нефти и газа.
Но Армения, впрочем, как и Азербайджан, должна сделать свое общество и правительство более прозрачными, искоренить коррупцию. Я понимаю, что есть некоторый прогресс в борьбе с низовой коррупцией, но коррупция мешает принимать лучшие для собственного народа решения. Это касается и Азербайджана, где коррупция носит системный характер. Это долгосрочное изменение, но оно должно идти изнутри, как в Армении, так и в Азербайджане.
Вот почему я считаю, что новые идеи, например те, что мы увидели в ходе церемонии «Аврора», меняют существующую модель, пытаются раскрыть социальные, культурные, экономические, инновационные, предпринимательские таланты народа. Думаю, мы становимся свидетелями этого. Это очень полезно для армянского народа.
В контексте Геноцида худшее, что может произойти с армянским народом, это, если он, уцелев как нация, не пойдет по пути мира и процветания, не построит сильное армянское государство, которое ознаменует победу армян над смертью.
- Вы отметили параллели межу Арменией и Израилем, но отношения между нашими странами не так уж развиты. Можно ли развить их, или этому мешают отношения Армении с Ираном и связи Израиля с Турцией?
- Примерно через месяц я собираюсь побывать в Израиле для участия в конференции. После этого я смогу лучше ответить на Ваш вопрос (смеется).
Думаю, израильтяне выбрали Азербайджан своим партнером, исходя из простых политических соображений, имея в виду фактор Ирана. Они считают Иран очень большой угрозой. Установив отношения с Азербайджаном, который граничит с Ираном, Израиль получает дополнительный рычаг воздействия на Иран. Думаю, в этом заключается основная причина.
К сожалению, существует также множество бизнес-интересов. У азербайджанцев много денег, и они заключают договоры в военной сфере. Они (Израиль - Медиамакс) продают азербайджанцам передовые военные технологии. Это, на мой взгляд, очень печально, потому что евреи, как и армяне, были жертвами геноцида, и эти сходства должны что-то означать, ведь Израиль считает себя государством, основанным на ценностях.
- В 1999 году Вы и Ваш коллега Питер Розенблатт посетили регион, чтобы обсудить некоторые идеи по карабахскому урегулированию. Вы можете сегодня раскрыть некоторые из них?
- Да, они уже не являются секретом. Мы вели переговоры в Баку и Ереване. Думаю, азербайджанцы очень удивились, увидев меня (смеется). Я поехал туда с сыном. Они действительно были очень удивлены.
Мы вели «челночную дипломатию», представляя азербайджанцам и армянам, какими могут быть общие положения переговоров.
Точки соприкосновения урегулирования были в основном те же, о которых мы говорили с вами сегодня. Мы постарались поощрить некоторые жесты доброй воли. К сожалению, мы добились немногого. Потом я больше не участвовал в этом, потому что ситуация была заморожена, и добиться реальных изменений было уже нельзя. Я не люблю что-то делать просто ради самого процесса.
Я верю, что для достижения мира нужно вступить в стратегический диалог с противником. Поэтому я поддерживаю президента Обаму в вопросе ядерной программы Ирана, потому что думаю, что это был наш лучший выбор.
У меня есть некоторые разногласия с администрацией США по политике на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, но думаю, то, что было сделано в Иране и Кубе, может свидетельствовать о том, что любые трудности преодолимы. Армянам и азербайджанцам необходимо увидеть это. Народ Нагорного Карабаха должен реализовать свое право на самоопределение. Каждая из сторон должна пойти на компромисс. Компромисс – часть жизни и дипломатии.
С Эдвардом Джереджяном беседовал Ара Тадевосян

Москва рассчитывает, что межсирийские переговоры в Женеве возобновятся в мае и в ходе них будут сформулированы направления дальнейшей дискуссии. Об этом, а также о согласовании перемирия в сирийском Алеппо, новых шагах Москвы для урегулирования нагорно-карабахского конфликта и выполнении контракта на поставку С-300 Ирану рассказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД также заверил, что Россия будет готова работать с любым будущим президентом США, и рассказал, как часто он общается с госсекретарем США Джоном Керри.
— Вчера состоялась ваша встреча со спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой. До этого с ним встречался Керри. Ведется активная дипломатическая работа. Известны ли следующие этапы, сроки новых встреч по Сирии в рамках женевских переговоров и Международной группы поддержки Сирии?
— Полагаю, что женевский раунд возобновится в этом месяце. По крайней мере, это планирует Стаффан де Мистура, и мы активно побуждаем его к этому.
После фактического срыва январского раунда оппозиция, сама себя называющая Высшим комитетом по переговорам (ВКП), хлопнула дверью, потому что не был выполнен ее ультиматум о заблаговременном решении об уходе президента Сирии Башара Асада.
Состоявшийся в апреле раунд также был подвержен испытанию со стороны той же самой непримиримой оппозиции в виде так называемого переговорного комитета. Они опять сказали, что им нечего обсуждать до тех пор, пока не будет ясно, через какое точно время уйдет Башар Асад.
Очень важно, что в этот раз спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура проявил выдержку, мудрость и не стал, как это произошло в январе, говорить, что раунд закрывается досрочно, и предлагать собраться позже. Он продолжил переговоры с оставшимися в Женеве сирийскими группами, которые ведут себя прилично, в отличие от упомянутых мною выше оппозиционеров, и провел полноценный переговорный раунд в установленные сроки.
Следующий раунд, как я уже сказал, ожидается в этом месяце. На нем будут рассмотрены сформулированные де Мистурой направления дальнейшей дискуссии. Он очень неплохо обобщил идеи, высказанные правительственной делегацией, делегацией оппозиционных групп, которые собирались в Москве, Каире, Астане, и так называемой внутренней оппозицией — группы из Хмеймима. Теперь он продолжит обобщать реакцию на свои выводы и вопросы в ходе следующего раунда. Наверное, это будет по-прежнему еще непрямой диалог, хотя ясно, что реально приступить к работе можно, только когда все сирийские стороны соберутся за одним столом переговоров. Пока условия для этого не созрели, прежде всего в силу того, что Высший комитет по переговорам, сам себя таковым провозгласивший, очень сильно капризничает под дурным влиянием внешних спонсоров, прежде всего Турции. Это совершенно очевидно, и все это знают. Турция в одиночку блокирует полноценное присоединение к переговорному процессу Партии демократического союза — одной из крупнейших курдских партий, борющейся с террористами и контролирующей большую территорию в Сирии.
Бессмысленно обсуждать без нее конституцию и даже какие-то шаги по формированию переходных структур из числа правительства и оппозиционеров, которые будут наделены полномочиями готовить такую конституцию. Турки в одиночку блокируют ее подключение к переговорам.
Я очень часто слышу, как наши американские партнеры через своих официальных представителей из Белого дома и Госдепартамента призывают нас активнее работать с Башаром Асадом. Но нам он, между прочим, не союзник. Мы поддерживаем его в борьбе с терроризмом и в сохранении сирийского государства, но он не является союзником России в том смысле, в каком Турция является союзником США. Что-что, а потребовать от своих союзников по НАТО выполнять принятые резолюции, в которых ясно сказано, что в переговорах должны участвовать все сегменты сирийского общества, вполне Вашингтону по силам. Так же, как ему должно быть вполне по силам выполнить давно обещанное, а именно: размежевание поддерживаемой США так называемой умеренной оппозиции и "Джебхат ан-Нусры" с ИГИЛ ("Исламское государство", террористическая организация запрещена в РФ — ред.), но прежде всего "Джебхат ан-Нусры", потому что эта организация занимает позиции, в частности вокруг Алеппо, в которые вкраплены отряды так называемой умеренной, "хорошей" оппозиции, опекаемой американцами.
У меня даже создается впечатление, что дело не столько в США, сколько в их союзниках в регионе — в той же Турции, которая печально прославила себя многочисленными фактами, говорящими о сомнительных связях Анкары с "Исламским государством" и "Джебхат ан-Нусрой". У меня складывается такое ощущение, и тому есть подтверждения в виде пока еще непроверенных сведений, что эти группировки специально остаются на позициях "Джебхат ан-Нусры", чтобы саму эту организацию не трогали. Если это так, то понятны постоянные оправдания американцев, почему они не могут сделать обещанное — вывести так называемых "хороших" оппозиционеров с позиций "Джебхат ан-Нусры".
Наверное, теми, кто поддерживает эту группировку, ставка делается на срыв перемирия и перевод ситуации в русло силового решения, что будет категорически неприемлемо. На это мы тоже будем обращать внимание теперь уже не только в рамках российско-американского диалога, но и в МГПС.
Полагаю, что в обозримые недели будет возможно собрать министерское заседание с одной главной целью: посмотреть кто и как выполняет предыдущие решения, одобренные в виде двух резолюций СБ ООН. Это "дорожная карта", охватывающая три направления: прекращение огня и боевых действий, гуманитарная помощь и политический процесс.
Я вам сказал о политическом процессе — необходимо, чтобы оппозиционеры, называющие себя ВКП, прекратили саботаж и строго руководствовались написанным в резолюции: сами сирийцы должны сесть за стол и определить судьбу своей страны. Должна вестись речь о политических реформах, о переходном периоде к новой конституции. Но все структуры политического переходного периода должны формироваться на основе взаимного согласия правительства САР и оппозиции. Это записано в решениях СБ ООН.
Поэтому когда кто-то начинает капризничать и говорить, что не собирается ни с кем разговаривать, пока Башар Асад не уйдет, значит, те, кто финансируют, содержат и покрывают этих оппозиционеров, должны либо заставить их выполнять то, о чем договорились, либо сами стать объектом очень жесткой критики и какого-то воздействия со стороны тех, кто может на них повлиять.
На гуманитарном треке есть существенное продвижение, хотя целый ряд населенных пунктов остаются заблокированными и правительственными войсками, но в основном оппозиционерами. Не помогает решению гуманитарных проблем сохраняющийся запрет Турции на использование пропускного пункта в районе города Камышлы, через который обычно шла гуманитарная помощь. Турки, несмотря на все призывы, отказываются разблокировать это пропускной пункт. Если говорить об общем состоянии, то сохраняется позитивная тенденция в расширении доступа гуманитарных грузов в различные районы Сирии.
Трек, который требовал срочных действий и связан с прекращением огня, дает результаты. Никто не ожидал, что будет настолько снижен уровень насилия. Мы удовлетворены совместной работой российских и американских военных. Ежедневно проходят видеоконференции между руководителем российского центра примирения в Хмеймиме и его американскими коллегами в столице Иордании. С сегодняшнего или завтрашнего дня в Женеве начинает функционировать Совместный центр оперативного реагирования на нарушения прекращения огня. Это уже будет постоянная работа "плечом к плечу" 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Американские и российские источники информации будут обеспечивать этот центр данными в режиме реального времени. Офицеры, которые будут работать в данном центре в Женеве, будут сразу же иметь объективную картину и, главное, единое видение ситуации.
Желающих сорвать перемирие немало. Я уже упоминал о том, какая игра ведется вокруг "Джебхат ан-Нусры". Упомяну и проблему турецкой границы, которая, в отличие от закрытого турками пропускного пункта для гуманитарной помощи, в остальной своей части является "дырявой" для транзита оружия, боевиков в сторону Сирии, контрабанды нефти, артефактов и прочих товаров из САР в Турцию.
После того, как наши ВКС начали работать по контрабандистам и вслед за нами американская коалиция стала наносить удары по тем, кто занимается контрабандой нефти, этот поток снизился, но все еще сохраняется, и за его счет идет подпитка террористов.
Повторю еще раз, прогресс есть на каждом из трех направлений. Он достаточно хрупкий, но мы делаем все, чтобы движение стало устойчивым на всех направлениях. Самое главное сейчас, когда мы соберемся на министерском уровне в рамках МГПС, потребовать от тех, кто делает явно недостаточно, срочно исправиться и принять необходимые меры, чтобы выполнялись резолюции СБ ООН и не выгораживались террористы.
— Известно ли, где пройдет эта встреча?
— Обычно мы встречаемся в Европе, но пока мы это не обсуждали.
— Вы упомянули ситуацию вокруг Алеппо, которая в течение многих месяцев остается самой напряженной, если брать общую картину боевых действий. Возможно ли там установление "режима тишины" по той схеме, по которой были достигнуты договоренности в других провинциях?
— Несколько дней действует "режим тишины" в Латакии и Восточной Гуте (пригород Дамаска). На трое суток там уже было согласовано прекращение огня. Надеюсь, что оно продлится и в итоге станет бессрочным. Буквально сегодня, как я надеялся, должно было быть объявлено прекращение огня в городе Алеппо. Но пока я не слышал такого объявления. Сирийское правительство заявило, что оппозиция продолжает стрелять. Мы проверим с нашими военными, которые, повторю, находятся на прямой связи с американским командованием их антитеррористической коалиции в столице Иордании Аммане. По крайней мере, мы должны сделать все для вступления этого перемирия в силу. Там все согласовано между российской стороной и коалицией. Сирийское правительство поддержало то, что было обговорено.
Интересный факт — в ходе согласования перемирия по Алеппо (параметры которого, повторю, определены, о чем договорились позавчера, и его нужно скорее вводить в силу) наши американские партнеры пытались определить границы "зоны тишины" таким образом, чтобы захватить значительную часть позиций, которые занимает "Джебхат ан-Нусра". Это было абсолютно неприемлемо, и в итоге удалось отбить. Но это опять наводит на мысли, что кто-то хочет использовать США (я не верю, что в их интересах выгораживать "Джебхат ан-Нусру") для того, чтобы вывести эту организацию из-под удара. В этой связи не могу не упомянуть об уже мною сказанном — об имеющихся сведениях о неблаговидных связях турецкого руководства с ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусрой".
— Вы много говорите о Турции. Нет ли сейчас опасности, что Турция или, например, Саудовская Аравия фактически захотят начать наземную операцию на севере Сирии? Активизация боевиков там очевидна. Возможно, что вывод части группировки российских ВКС мог создать некую иллюзию того, что у кого-то могут быть развязаны руки. Есть ли угроза того, что турецкие войска могут войти в Сирию?
— Российские ВКС работают в Сирии с конца сентября 2015 года по приглашению законного правительства в полном соответствии с международным правом. Задачи, которые были определены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным для них на первом этапе, касались поддержки сирийской армии с воздуха в борьбе с террористами и содействия в организации процесса перевода оппозиционных групп в разряд сторонников антитеррористической коалиции, которую мы создавали и продолжаем помогать создавать из числа правительства, курдских ополчений в Сирии и сирийских оппозиционеров, понимающих, что сейчас главным является недопущение захвата Сирии террористами и разрушение ее государственности.
Когда мы начинали эту помощь, "Джебхат ан-Нусра" и другие подобные террористические отряды практически стояли на пороге столицы Сирии. Сейчас они отброшены, им нанесен серьезнейший урон. Это послужило причиной изменения оперативной обстановки на земле, в соответствии с которой президент Путин принял решение частично вывести наш контингент ВКС. В Сирии остается достаточно серьезная авиационная группировка: база "Хмеймим", военно-морская база "Тартус", через которую идет снабжение этой группировки и содействие сирийской армии. Конечно, Верховный главнокомандующий России принял решение на основе оценки ситуации и сохранил контингент, который адекватен нынешним задачам.
Не думаю, что кто-то решится играть в опасные игры, устраивать какие-то провокации в связи с тем, что там находятся ВКС России. С одной провокацией мы уже столкнулись. Наша оценка абсолютно четкая: турецкое руководство совершило преступление и ошибку, что, как известно, бывает хуже, чем преступление. Сейчас такое уже невозможно, потому что приняты все меры для того, чтобы избежать любых случайностей, и турки об этом знают.
Вместе с тем, что касается позиций, занимаемых сирийскими силами, Турция не скрывает, что они регулярно обстреливают курдов, считая их террористами, тем самым в одиночку препятствуя подключению их к переговорам, говорят по-прежнему о различных "зонах безопасности". К большому сожалению, ЕС под шантажом Турции начинает тоже принимать как данность концепцию "зон безопасности". По крайней мере, президент США Барак Обама на пресс-конференции в Ганновере, когда канцлер Германии Ангела Меркель произнесла фразу, что "мы поддерживаем идею "зон безопасности", тут же публично от этого открестился, но это прозвучало симптоматично.
Конечно, звучат призывы к военному вторжению. Но для того, чтобы этого не допустить (это будет прямой агрессией), нужно воспитывать тех, кто пытается продвигать такой вариант. Не думаю, что у них есть хоть какое-то обоснование или предлог, потому что перемирие все-таки укрепляется.
В действиях Турции как главного зачинщика всех этих разговоров про "зоны безопасности", план Б и прочие агрессивные устремления можно усмотреть экспансионистские мотивы не только в отношении Сирии.
Турки по-прежнему находятся в Ираке, без согласия и вопреки требованиям законного иранского правительства имеют там военный контингент и при этом заявляют, что они ввели туда свои войска для того, чтобы укрепить суверенитет и территориальную целостность Ирака. Что тут можно сказать? Здесь даже комментировать нечего. Такие неоосманские устремления — распространять свое влияние, осваивать территории — проявляются достаточно сильно.
Вообще, это такое беспардонное поведение. Знаете, сколько раз турки в прошлом году нарушали воздушное пространство Греции? Где-то 1800 раз, только в апреле 2016 года — более 200 раз. Ни разу никто в Брюсселе, никакие командиры НАТО ни словом не обмолвились о том, почему один из членов Североатлантического альянса регулярно нарушает воздушное пространство другого члена этого альянса. Так что такое попустительство к подобному явно экспансионистскому поведению может до добра не довести.
— Слышат ли американцы эти наши сигналы? Насколько серьезно воспринимают Турцию как фактор, который способен еще более дестабилизировать ситуацию?
— Я думаю, что они все прекрасно понимают. Но "конечно, он сукин сын, но это наш сукин сын" — так они регулярно говорят о своих друзьях, которые не славятся хорошим поведением. Чувствуется, что сор из натовской избы им не очень хочется выносить, хотя это очень большая проблема.
— Президент РФ Владимир Путин, объявляя о своем решении частично вывести ВКС России из Сирии, сказал, что в любой момент они могут быть возвращены к прежнему уровню. Насколько вероятно, что это может произойти в случае, скажем, срыва перемирия?
— Во-первых, мы не хотим допускать срыва перемирия. Во-вторых, это гипотетический вопрос. Решение о нашем пребывании в Сирии принимается в зависимости от реальной обстановки на земле, которая сейчас значительно укрепилась и эволюционирует в правильном направлении. Хотя, повторю, есть желающие подвергнуть испытанию это перемирие.
— Вы говорили, что Россия поддержит любую форму государственного устройства, на которую согласится сирийский народ. В частности, вы не исключали возможности федерализации страны, в том числе предоставления автономии курдам. Кто еще, на ваш взгляд, мог бы на это претендовать?
— Вы говорите, что мы не исключаем возможности федерализации, автономии для курдов, но это не совсем так.
Наша позиция простая: мы поддерживаем все, о чем договорятся сирийцы. Такая же позиция у СБ ООН. Но когда нам задают вопрос, поддержим ли мы федерализацию, мы отвечаем, что если они сами договорятся об этом, то мы поддержим все, что будет согласовано. Поддержим ли мы автономию для курдов? Если об этом договорятся все сирийские стороны, то поддержим.
Можно в виде адресованных нам вопросов перечислять еще много элементов государственного устройства, но потом не нужно говорить, что мы поддержим любое решение, в частности федерализацию, автономию и так далее. Наша позиция завершается на фразе, что мы поддержим любое решение сирийских сторон. Они должны сами договариваться, и для этого есть очерченные СБ ООН рамки, есть опыт сосуществования сирийских этнических, политических и религиозных групп.
— Еще один острый конфликт, который вновь вспыхнул уже возле наших границ, — Нагорный Карабах. В эти дни прозвучали достаточно жесткие заявления с обеих сторон: со стороны Армении о возможности гипотетического признания Нагорно-Карабахской Республики, ответная реакция из Баку. Ситуация накаляется. Намерена ли Россия в ближайшее время принимать какие-то новые шаги для того, чтобы успокоить ситуацию?
— Мы находимся в постоянном контакте со сторонами, Владимир Путин лично включался в эту работу, когда произошла вспышка насилия. Я общался лично и несколько раз по телефону со своими коллегами. Мы говорили об этом с госсекретарем США Джоном Керри, поскольку Россия, США и Франция являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которая занимается урегулированием нагорно-карабахского конфликта. Мы обсуждали эту тему в Москве с Жан-Марком Эйро, министром иностранных дел Франции, являющейся частью этой "тройки".
Конечно, самое главное — избежать каких-либо новых жертв, пресечь любые нарушения перемирия, разработать для этого действенные меры и механизмы. Под этим подписались президенты Армении и Азербайджана еще пять лет назад, когда их собирал наш президент (в то время Дмитрий Медведев).
Они высказались в пользу создания механизма расследования инцидентов, укрепления доверия, поручили ОБСЕ заниматься этим. Представители ОБСЕ набросали такой проект с разными вариантами. Но, к сожалению, на том этапе, где-то в 2012 году, это дело дальше не пошло. Но сейчас мы хотим, чтобы стороны к этому вернулись.
Германское председательство в ОБСЕ хочет проявить активность, и мы поощряем это желание. Думаю, что как раз начатая в ОБСЕ работа в свое время с согласия президентов Армении и Азербайджана по разработке механизмов по расследованию инцидентов и укреплению мер доверия сейчас становится как никогда актуальной. Будем на этом сосредотачиваться.
Конечно, не нужно забывать и о политическом процессе. Наверное, страсти должны остыть — это понятно. Но политический процесс и урегулирование не имеют альтернативы. Есть известные идеи, которые обсуждались между сторонами. По-прежнему убежден, что их сложно, но можно оформить в документы, которые будут приемлемы для всех сторон.
Что касается обсуждения темы признания Нагорного Карабаха, то ведь это не Армения обсуждает — это предложение двух членов парламента. Правительство Армении по закону, как они всем объяснили, успокаивая страсти, должно подготовить заключение на этот законопроект. Не стану сейчас бить тревогу и паниковать.
Когда я был в Ереване, общался со своим коллегой министром иностранных дел Эдвардом Налбандяном по телефону, а потом в Москве, уже после событий начала апреля, мне была четко подтверждена приверженность Еревана к мирному урегулированию. Это означает, что статус Карабаха будет определен в контексте общей договоренности, а не в одностороннем порядке.
— Планируются ли в ближайшее время какие-то новые встречи?
— Планируем, потому что дело требует повышенного внимания. Скоро, думаю, согласуем ближайший контакт.
— То есть это могут быть трехсторонние контакты или только на двустороннем уровне?
— Естественно, с участием сопредседателей и сторон — ведь эта работа требует коллективного формата.
— Другая тема, которая весьма остро воспринимается в мире — это наше взаимодействие с Ираном, в частности военно-техническое сотрудничество. Недавно на параде в Иране были продемонстрированы элементы комплексов С-300. До сих пор не понятно, в каком количестве они были поставлены, сколько их еще будет поставлено в Иран и когда завершится срок выполнения этого контракта?
— Этот процесс занимает какое-то время. В строгом соответствии с контрактом количество абсолютно адекватно законным интересам безопасности Ирана для защиты его воздушного пространства. Поставка компонентов уже идет и наверняка завершится в течение этого года.
Что касается тревоги в мире, которую вы подметили в этой связи, то мир напрасно тревожится, потому что это чисто оборонительное оружие. Оно не запрещено резолюциями СБ ООН. Приостановка выполнения этого контракта была объявлена нами в качестве жеста доброй воли, чтобы оказать воздействие в позитивном направлении на иранское руководство, и оно пошло на компромиссы по разруливанию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Эта цель достигнута, заключено всеобъемлющее соглашение с Ираном, которое одобрено в СБ ООН. Поэтому воздействие на Тегеран уже сработало.
Когда США отменяют свои односторонние санкции против Ирана, а параллельно тревожатся, что мы отменили свои ограничения и возобновили поставку этого имущества — это, в общем-то, по-американски. Они считают, то, что дозволено Юпитеру, другим необязательно воспринимать как пример для подражания. Но у нас своя политика и свои оценки того, как и с кем мы должны сотрудничать, естественно, не нарушая при этом международное право.
Сейчас, кстати, запреты на определенные виды вооружений с Ираном (танки, бронетранспортеры, боевые самолеты) сняты и на пять лет переведены в режим разрешительных. Так что Иран может проявлять интерес к этим видам вооружения. Если будут обращения к нам, мы их, конечно, рассмотрим.
Но, повторю, комплексы С-300 ни под какие ограничения не подпадают, как и многие виды стрелкового и легкого оружия. Поэтому здесь у нас все возможности открыты. Что касается разрешительного порядка, который требует согласования в СБ ООН: если и когда Иран выскажет заинтересованность, чтобы что-то из этой номенклатуры закупить, соответствующие процедуры будут осуществлены.
— Нет ли информации по поводу отзыва иска, который Иран предъявлял нам в связи с непоставками С-300?
— По мере реализации контракта по поставкам С-300 иск будет отозван. Это уже согласовано.
— Вы очень часто общаетесь с госсекретарем США Джоном Керри, называете его своим другом. Не собираетесь ли вы в ближайшее время совершить официальный визит в Вашингтон? Он мог бы стать символическим моментом для российско-американских отношений. Керри уже приезжал в Москву, можно ли ожидать, что вы посетите США?
— Мы действительно часто встречаемся с госсекретарем США Джоном Керри. Он дважды за последние месяцы (в декабре 2015 года и марте 2016 года) приезжал в Москву, до этого весной 2015 года был в Сочи. Если брать этот год, то мы встречались уже четыре раза лично и минимум 25 раз говорили по телефону, в том числе трижды за последнюю неделю. Поэтому недостатка в общении нет, как, собственно, нет ощущения изоляции, о которой так любят говорить наши партнеры.
При такой частоте общения с нами американцы шепчут на ухо другим странам, чтобы они не ездили к нам. В информационное пространство прорвалась новость о том, что они отговаривали премьер-министра Японии Синдзо Абэ от визита в Россию.
Регулярно подобные вещи мы узнаем и от других наших партнеров, которые к нам приезжают и в ходе бесед сообщают, что им пришлось отказать американцам в просьбе отменить визит в Российскую Федерацию.
Мне очень часто приходится общаться с Джоном Керри. Но каких-то планов посещать Вашингтон, да еще и с официальным визитом у меня нет. Тем более что сейчас важна не официальность, а очень практическая, предметная работа, которую лучше все-таки проводить в ходе рабочих встреч, чем мы, собственно говоря, и занимаемся.
— Вы следите за внутренней ситуацией в США, где идет предвыборная гонка. Интересна ваша оценка возможности развития российско-американских отношений после того, как пройдут президентские выборы.
— Бесполезно даже делать какие-то прогнозы. Во-первых, это внутреннее дело американцев и американского народа — кого бы они ни выбрали, все равно это будет наш партнер в США.
Надеемся, что партнер будет договороспособный и более последовательный, что он не будет сочетать стремление сотрудничать с нами по многим международным проблемам, которые без нас не решить (и они это понимают), с одновременным стремлением выставлять нас как главную угрозу, создавать препятствия для нашего участия в международных финансовой и валютной системах, подзуживать другие страны следовать антироссийским курсом вслед за США.
В каком из вариантов российско-американские отношения выиграют или проиграют, вообще бесполезно гадать. Бывало у нас с демократическими и республиканскими администрациями и хорошо, и не очень. Так что сейчас нужно просто набраться терпения и дождаться исхода этой предвыборной кампании, которая весьма интересна по своей громоздкости, там вся система громоздкая. Например, "придумки" отцов-основателей: в каком-то штате сколько ты получил процентов голосов, столько ты и получаешь выборщиков, а в каком-то победитель получает все. Думаю, что можно написать диссертацию про американскую избирательную систему, и все равно не поймешь, как люди в итоге становятся президентами.
Не хочу вмешиваться во внутриамериканские дела. Как мне в свое время сказала бывший госсекретарь США Кондолиза Райс, когда я ей привел пример с Джорджем Бушем-младшим (он стал президентом, получив меньше голосов избирателей, чем Альберт Гор), "это плохо, но это наша проблема, вы не "загоняйтесь" на эту тему", говоря современным молодежным языком.
Нас иногда критикуют, говоря, что у нас столько фильтров, через которые не пролезешь, есть административные ресурсы и еще что-то. А у США один фильтр — деньги. Там если на две партии тратится меньше миллиарда долларов, то это считается уже как бы необычным и смешным. А если тратится даже один миллиард, то спонсоры на что-то рассчитывают, — это же не просто меценатство. Есть какая-то доля отчислений граждан от "чистого сердца", но огромная доля и корпоративных взносов. Потом это все, конечно, учитывается.
Будем ждать и будем готовы работать с любым лидером США в надежде на то, что он будет осознавать значение российско-американского взаимодействия для разруливания многих проблем, которых за последние восемь лет в мире не стало меньше.
— Одна из сложных проблем в отношениях с ЕС — это ситуация с поставками газа. После закрытия проекта "Южный поток" и ухудшения отношений с Турцией у нас возник некий вакуум в понимании того, что будет дальше с поставками на юго-западном направлении. Есть ли у нас какое-то видение того, будет ли что-то дальше с проектом "Южный поток"?
— "Южный поток" закрыла Еврокомиссия, которая оказала совершенно беспардонное давление на члена ЕС — Болгарию. Кстати, Турция была ни при чем, хотя на тот момент турки формально не выдали разрешения на использование своей исключительной экономической зоны, поскольку у них не было полноценного правительства. Но "Южный поток" закрыла Еврокомиссия. Сейчас это южное направление у нас не списано со счетов. В феврале 2016 года ПАО "Газпром" совместно с итальянской Edison и греческой компанией DEPA подписали меморандум о взаимопонимании в отношении поставок природного газа из России по дну Черного моря через третьи страны в Грецию и из Греции в Италию. Ясно, что должна быть третья сторона — Греция не выходит на Черное море. Если у наших партнеров эта заинтересованность подтвердится и обретет практические очертания, "Газпром" готов здесь работать.
Конечно, мы убеждены, что "Северный поток-2" также повысит энергообеспеченность и энергобезопасность Европы. Проект чисто коммерческий, который объединяет целый ряд западных компаний. Попытки его заблокировать носят исключительно политический характер. Этим тоже занимаются американцы, которые через своих особо близких друзей в НАТО пытаются создавать трудности. Но здесь, повторю, проект чисто коммерческий, о чем заявило и руководство Германии как страны, чьи компании заинтересованы в этом проекте. Shell, кстати сказать, в этой группе. "Северный поток-1" был признан приоритетным в свое время в Еврокомиссии. Поэтому здесь им будет очень трудно занимать иную позицию. На южном направлении предполагается задействовать интерконнектор между Грецией и Италией, а он тоже уже включен Еврокомиссией в список проектов национальных интересов. Так что здесь тоже будет трудно отвертеться, если вариант с южным направлением обретет практические очертания.
— А мы в инициативном плане беседуем с возможными третьими странами?
— Это уже дело "Газпрома". Прежде всего здесь важны чисто коммерческие аспекты и логистика, как это может наиболее эффективно выглядеть.
— Видите ли вы угрозу "Северному потоку" со стороны Еврокомиссии? Может ли она заблокировать "Северный поток-2"?
— Повторю еще раз, у них нет никаких аргументов, а по политическим соображениями их всегда можно найти.
У них в ЕС есть несколько ораторов, как и в НАТО, которые представляют собой русофобское меньшинство и которые сейчас требуют, чтобы к ним на территорию, на границу с Россией, ввели войска, и американцы собираются это сделать. Кстати, поговаривают, что и Германия согласилась ввести свои контингенты на границу с Российской Федерацией в прибалтийские страны, Польшу. Поэтому таковые всегда найдутся. Они будут изобретать небылицы, рассказывать о том, что Россия потом "перекроет вентиль", хотя такого не было никогда, за исключением ситуации с Украиной, когда она начинала воровать транзитный газ.
Так что дождемся. Думаю, что национальные интересы в европейских странах и интересы Европы должны возобладать так же, как в ситуации, когда Европа хочет сама доказать всем, что она в состоянии помочь урегулировать украинский кризис вместе с нашим участием без вмешательства из-за океана. Думаю, что и здесь Европа постепенно будет проявлять больше самостоятельности, как это происходит, между прочим, в переговорах о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве. Попытки под шумок это все оформить не удались, и под давлением общественности европейские лидеры вынуждены говорить, что нынешний вариант им не подходит. Посмотрим, будем полагаться на здравый смысл.

Черное золото каждый раз блестит по-своему
Почему нефть потекла вверх?
Николай Вардуль
Все смешалось на рынке нефти. Провал самоограничительных переговоров в Дохе грозил падением цен. Но нет, они пошли вверх. Забастовка в Кувейте, картину не проясняет. Как и следовало ожидать, забастовка быстро закончилась, а цены вниз так и не собрались. Почему?
Рыночные аналитики привычно тасуют одни и те же замусоленные карты. Оказывается, причина в публикации данных о запасах и добыче в США. Запасы за неделю выросли на 2,08 млн барр., что ниже ожиданий в 2,4 млн. В то же время добыча составила 8,953 млн барр. в сутки, что ниже прошлой недели — 8,957 млн.
Убеждает? Вряд ли. Ведь запасы все равно выросли, а цена барреля подпрыгнула с $43 до $46.
Раз сам нефтяной рынок вразумительного ответа не дает, следует расширить поиск.
Нефть — не просто икона российского бюджета. Она завсегдатай не исключительно товарного, но и финансового рынка. Цена нефти входит в зону особых интересов крупнейших банков.
Казалось бы, раз США — один из крупнейших импортеров нефти, низкие цены выгодны американской экономике. Так и есть, но есть и еще кое-что. А именно важное ограничение. Рынок балансирует потери от низких цен на нефть повышением курса доллара, валюты, в которой определяется цена нефти. А дорожающий в течение длительного времени доллар — это удар по американскому экспорту и по экономическому росту в целом. Тупик.
Владимир Рожанковский (ИК «Окей Брокер») описывает патовую ситуацию, в которой оказались крупнейшие инвестиционные банки и управляющие компании: «Заработать на фондовом рынке невозможно ввиду замедления экономики и падения прибылей, а на долговом рынке — ввиду продолжения периода сверхнизких ставок». А зарабатывать надо.
Версия о том, что к росту цены нефти приложили руку крупнейшие игроки на финансовом рынке, заслуживает внимания. Дорожающая нефть должна ослабить доллар, на что могут позитивно отозваться темпы роста экономики США, поднимется внутренний рост цен, у ФРС появятся основания для подъема ставки. Поле, где банки могут заработать, расширяется, не говоря уже о росте привлекательности активов на развивающихся рынках.
Другое дело, что рост нефтяных котировок может быть весьма ограниченным. Перегревать нефтяной рынок, значит идти на риск резкого отката нефтяных цен. На нефтяном рынке оснований для этого предостаточно. Собственно, именно поэтому цены 25 апреля пошли вниз.
Игры финансистов с нефтяниками в самом разгаре.

Соглашение по иранской ядерной программе: возможности и преграды для российско-американского сотрудничества
Андрей Баклицкий - Директор программы «Россия и ядерное нераспространение», ПИР-Центр, Россия
Ричард Вайц - Старший научный сотрудник, директор Центра военно-политического анализа, Институт Хадсона, США
Резюме 14 июля 2015 года США, Россия, Китай, Франция, Великобритания, Германия, ЕС и Иран договорились о Совместном всеобъемлющем плане действий (известном также как «иранское соглашение»), с целью положить конец противостоянию вокруг ядерной программы Тегерана.
В случае соблюдения договоренностей, СВПД может существенно ограничить возможность Ирана в кратчайшие сроки создать ядерное оружие.
Сотрудничество между США и Россией имеет первостепенное значение для успешного достижения этой цели.
Между тем, реализации СВПД может помешать ряд обстоятельств. «Иранское соглашение» не является обязывающей международной договоренностью – это лишь добровольный план действий. Его перспективы зависят от того, чем в приоритетном порядке будут руководствоваться участвующие в этом проекте стороны: своими собственными интересами или же неукоснительным соблюдением условий соглашения. Изменение международной или внутренней ситуации может побудить кого-то из участников выйти из СВПД. В частности, в скором времени произойдет смена лидеров в Иране и Соединенных Штатах, и их преемники могут придерживаться других точек зрения на эти договоренности.
Кроме того, западные лидеры и некоторые их союзники по-прежнему критически настроены в отношении внутренней и внешней политики иранского руководства. Россия не считает, что эта «озабоченность» может быть оправданием антииранских санкций: такие меры, по мнению Москвы, ставят под угрозу урегулирование более важной проблемы – ситуации вокруг ядерной программы Тегерана.
Геополитические проблемы, в частности, противостояние между ближневосточными державами, могут стать еще более серьезным вызовом для СВПД: именно там следует искать источники трений между Тегераном и Вашингтоном. Например, США продолжают применять санкции против Ирана по причинам, не связанным с ядерными разработками: в частности, из-за развития ракетной программы, что также может затруднить реализацию СВПД. Россия, в свою очередь, сомневается в оправданности размещения в Европе систем ПРО (якобы по причине угрозы иранских ракет).
СВПД предполагает «возвратный» механизм, позволяющий ООН восстановить все «ядерные» санкции, если Иран нарушит соглашение. Но воссоздать всю ту сложную паутину санкций, которой Иран был опутан прежде, практически невозможно.
Сотрудничество между Россией и США – необходимое условие для успешной реализации «иранского соглашения». У правительств двух стран имеется большой опыт взаимодействия в решении задач, связанных с ядерным нераспространением. Оба государства не заинтересованы в появлении у Ирана ядерного оружия. Более того, у Москвы есть коммерческий интерес, связанный с успешной реализацией иранского мирного атомного проекта, что само по себе подразумевает незаинтересованность России в нарушении Тегераном своих международных обязательств.
В свою очередь, сотрудничество в области безопасности между США и арабскими соседями Ирана снижает у этих стран желание обзавестись собственным ядерным оружием. Россия и США могут оказать важную поддержку Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) в обеспечении СВПД и в осуществлении других целей, связанных с ядерным нераспространением.
Успех ядерного соглашения с Ираном создаст сильный прецедент в деле нераспространения ядерного оружия и заложит основу для будущего международного сотрудничества в этой сфере.
Вступление
14 июля 2015 года в Вене Россия и Соединенные Штаты Америки, наряду с Китаем, Францией, Германией, Великобританией и Европейским Союзом (ЕС), согласовали с иранским правительством Совместный всеобъемлющий план действий [1].
Цель СВПД – поставить точку в противостоянии вокруг иранской ядерной программы, длившемся больше десяти лет.
Венским договоренностям предшествовал промежуточный Совместный план действий, принятый в ноябре 2013 года [2], а также диалог между Ираном и МАГАТЭ относительно неурегулированных вопросов, касающихся ядерной программы Тегерана.
СВПД стал возможным, благодаря сочетанию нескольких факторов. Это и давление на Тегеран посредством международных санкций, и избрание Хасана Рухани и Барака Обамы президентами Ирана и США (оба президента стремились к заключению ядерной сделки), и длительное сотрудничество между Россией и Западом по иранской ядерной проблематике, несмотря на серьезные разногласия по другим вопросам.
Основные условия
Реализация СВПД существенно снизит возможности Ирана по обогащению урана (уровень ограничивается 3,67 процентами). Сокращается число центрифуг, вводится потолок запасов тяжелой воды и снижение общего допустимого объема обогащенного урана. Подземный центр обогащения в Фордо перепрофилируется в центр ядерных исследований, а тяжеловодный реактор в Араке модифицируется в целях ограничения производства плутония.
Иран согласился на добровольной основе применять Дополнительный протокол (ДП) к соглашению о гарантиях МАГАТЭ (с прицелом на его ратификацию Меджлисом). ДП наделяет МАГАТЭ дополнительными возможностями мониторинга и доступа на атомные объекты страны. Кроме того, Иран принял модифицированный код 3.1 Дополнительных положений к соглашению о гарантиях, согласно которому он обязуется незамедлительно информировать МАГАТЭ в случае принятия решений о строительстве новых ядерных объектов. Иран также согласился сотрудничать с Агентством, внести ясность относительно прошлых и настоящих нерешенных вопросов, связанных с его ядерной программой, и регулярно информировать МАГАТЭ о своих запасах урана и количестве центрифуг.
На протяжении 15 лет Тегеран сможет импортировать продукцию для своей ядерной программы только с одобрения специально созданной Совместной комиссии. В течение этого времени страна не будет перерабатывать отработанное ядерное топливо из своих реакторов, располагать высокообогащенным ураном (ВОУ) или оружейным плутонием, а также ураном и плутонием в металлической форме. В течение 10 лет Иран ограничит исследования, связанные с обогащением урана, газоцентрифужной технологией, а также обязуется представлять МАГАТЭ ежегодный план деятельности, связанной с обогащением урана. Агентство, в свою очередь, будет следить за выполнением этих обязательств.
В ответ на эти шаги Совет Безопасности ООН принял Резолюцию №2231 [3], отменившую положения всех предыдущих резолюций СБ ООН по Ирану, связанных с его ядерной программой. Правда, в новом документе сохраняется перечень организаций и частных лиц, на которых все еще распространяются санкции [4].
ЕС полностью отменил все односторонние санкционные меры против Ирана, а администрация Обамы отказалась от санкций, наложенных по причине ядерной программы страны [5].
Важность плана
Иранская ядерная программа началась в рамках инициативы США «Атом для мира». В 1967 году Вашингтон организовал поставку Ирану 5-мегаватного исследовательского ядерного реактора [6].
В следующем году Тегеран подписал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и поставил свою ядерную программу под контроль МАГАТЭ. В 1970-х годах немецкая компания Kraftwerk Union начала строительство двух реакторов на легкой воде для атомной электростанции в Бушере, и Иран выкупил 10% акций Eurodif – европейского консорциума по обогащению урана. Однако Исламская революция 1979 года положила конец ядерному сотрудничеству с Западом. В 1980-е годы Тегеран возобновил ядерную программу и продолжал ее в 1990-е годы, несмотря на противодействие мирового сообщества, подозревавшего Иран в разработке ядерного оружия.
В 2002 году иранские диссиденты информировали мировое сообщество о строительстве незадекларированных ядерных объектов в Натанзе и Араке [7].
Позиция Тегерана заключалась в том, что в рамках своих международных обязательств страна не была обязана раскрывать местонахождение незавершенных ядерных объектов. Но информационные утечки вызывали озабоченность по поводу возможной военной составляющей иранской ядерной программы.
Последовавшие переговоры длились более десяти лет.
Поначалу в них участвовали Иран и три европейские страны – Германия, Франция и Великобритания. В 2006 г. к ним присоединились Китай, Россия и США, что привело к появлению формата 5+1. В ходе переговоров, сопровождавшихся многочисленными спорами и взаимными обвинениями, Иран и группа международных посредников неоднократно меняли свои позиции. Другие попытки достичь соглашения – в частности те, что были предприняты Бразилией и Турцией в 2010 году – окончились неудачей [8].
Россия и Китай также призывали к компромиссу, и Москва помогла Ирану закончить строительство АЭС в Бушере лишь после того, как Тегеран согласился получать российское ядерное топливо, а отработавшее возвращать обратно – в Россию [9].
Тем временем Иран неуклонно наращивал свои ядерные амбиции, овладевая современными технологиями обогащения урана и увеличивая количество действующих центрифуг. В Фордо был открыт укрепленный подземный центр по обогащению урана.
В ответ мировое сообщество усилило давление на Иран, а СБ ООН принял шесть резолюций, из которых четыре вводили режим санкций [10].
Односторонние санкции США и ЕС отрезали Иран от мировой финансовой системы и существенно ограничили экспорт нефти из этой страны. Далее последовал ряд загадочных убийств иранских ученых-ядерщиков, а также появление компьютерного вируса Stuxnet в Натанзе, который привел к выводу из строя около 1000 центрифуг. Президенты США Джордж У. Буш и (в меньшей степени) Барак Обама стояли на том, что ради недопущения появления у Ирана ядерного оружия нельзя исключать никакие варианты. В сентябре 2012 года израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с угрозой нанести удар по ядерным объектам Ирана в случае, если количество урана, обогащенного там до 19,75%, станет достаточным для изготовления бомбы [11].
На этом фоне в 2012 году начались тайные переговоры между Вашингтоном и Тегераном [12]. Они не смогли существенно продвинуться до августа 2013 года, когда новым президентом Ирана был избран Хассан Рухани. Новая иранская администрация сделала поиск решения ядерного вопроса главным внешнеполитическим приоритетом.
24 ноября 2013 года Иран и шесть стран-участников заключили промежуточное соглашение, известное как Совместный план действий, по которому смягчение санкций производилось в обмен на ограничение иранской ядерной программы. Сторонам потребовалось еще двадцать месяцев, чтобы согласовать все детали СВПД – в силу сложности проблемы, а также несогласия некоторых сил внутри Ирана и на международной арене с предложенным соглашением.
Представляется крайне важным, чтобы Соединенные Штаты Америки, Российская Федерация и другие страны эффективно сотрудничали для обеспечения успеха СВПД. Это соглашение стало первым случаем, когда санкции против страны, введенные согласно Главе VII Устава ООН, были сняты в результате переговоров, а не по итогам военных действий13.
Успешная реализация соглашения станет мощным аргументом для дальнейшего сотрудничества в сфере нераспространения, даже несмотря на разногласия между великими державами по другим вопросам. Кроме того, страны-участницы и ключевые многосторонние организации – МАГАТЭ и ООН, могут получить богатый опыт по преодолению других ядерных угроз, таких, например, как ядерная программа Корейской народной демократической республики (КНДР). [13]
Что бы ни говорили ближневосточные страны о том, что США, Россия и другие ядерные державы должны сами ускоренно разоружаться, их ядерная политика не оказывает непосредственного воздействия на принятие решений нынешних неядерных государств в отношении разработки или отказа от «немирного» атома. Но если Иран будет стремиться к производству ядерного оружия, это напрямую повлияет на такие решения.
В случае появления веских доказательств нарушения Тегераном условий СВПД – даже если речь не пойдет об исследованиях в области ядерных вооружений и их разработке, это может подтолкнуть ближневосточные государства к созданию атомного оружия в качестве защитной меры.
Что же касается Саудовской Аравии, то она наверняка захочет обзавестись ядерным потенциалом, чтобы не дать Ирану возможности утвердить свое превосходство в регионе с опорой на ядерные силы.
Сторонники сделки с Ираном надеются, что СВПД укажет путь КНДР и другим странам к отказу от ядерных амбиций. Верно и то, что широкое применение инспекций, проводимых в рамках СВПД, а также обязательное применение ДП увеличат возможности контроля и выявления нарушений ДНЯО другими государствами. Все это смогло бы минимизировать недовольство иранского руководства тем, что ограничения в области ядерных исследований накладываются исключительно на их страну. Но распространить подобный интрузивный режим контроля на другие государства будет сложно, учитывая противодействие со стороны многих неядерных стран, а также членов ядерной пятерки.
Как следует из Резолюции №2231 СБ ООН, «все положения, содержащиеся в СВПД, предназначены только для целей его выполнения между Е3/ЕС+3 и Ираном и не должны рассматриваться как создающие прецеденты в отношении любого другого государства или в отношении фундаментальных принципов международного права, а также прав и обязанностей, вытекающих из Договора о нераспространении ядерного оружия». Барак Обама верно подметил, что СВПД вводит «беспрецедентные меры контроля» [14], но было бы затруднительно считать их прецедентом для других стран.
Возможные проблемы
СВПД, как вытекает из его названия, это не договор, а план действий. Стороны не подписывали и не ратифицировали юридически обязывающее соглашение. Даже Резолюция 2231 СБ ООН, включающая текст СВПД, лишь «призывает все страны-участницы» поддержать согласованный план. Данная формулировка, а также отсутствие ссылок на Статью 41 Устава ООН, означает, что участники соглашения не обязаны выполнять свои обязательства в соответствии с нормами международного права. Следовательно, перспективы СВПД во многом зависят от того, будут ли и дальше участвующие стороны считать его отвечающим их интересам, независимо от событий на международной арене и внутри их стран, и будут ли они выполнять его условия.
1. Односторонний выход
Один из факторов, способных привести к преждевременной остановке СВПД – выход какой-либо из сторон из соглашения по внутриполитическим причинам, не связанным с выполнением договоренностей другими участниками.
США
Администрация Обамы решительно поддерживает СВПД. Белый Дом отменил указы исполнительной власти о санкциях против Ирана, приостановил санкции, введенные Конгрессом, а также мобилизовал группы в парламенте в поддержку этого честолюбивого проекта. Немногие президенты США готовы были бы вложить такой большой политический капитал в соглашение с Тегераном.
Однако приближающиеся президентские выборы могут поставить под угрозу приверженность США СВПД. Если Белый Дом останется за демократами, перспективы СВПД выглядят лучше, поскольку «иранское соглашение» поддерживают как Хилари Клинтон, так и Берни Сандерс. Хотя Клинтон может предпочесть более сильное давление на Иран, нежели сенатор Сандерс, вряд ли она без веских на то оснований откажется от знаковых достижений своего предшественника. Однако все кандидаты в президенты от Республиканской партии выражают недовольство иранской сделкой, и многие члены Конгресса от Республиканской партии присоединились к этой критике.
Многое будет зависеть от внутриполитической и внешнеполитической ситуации в начале 2017 года. Однако, как видно на примере Договора об ограничении систем противоракетной обороны от 1972 года, в случае возникновения угрозы национальной безопасности, новая администрация США может использовать право выйти даже из юридически обязывающего международного соглашения о контроле над вооружениями.
Даже если следующий президент США поддержит соглашение и будет стремиться к его реализации, противодействие со стороны Конгресса может представлять угрозу для СВПД. Предложенный Акт о пересмотре ядерного соглашения 2015 года обязал президента выставить документ на голосование в Конгрессе. Но хотя у Республиканской партии было большинство в обеих палатах, и она готовилась преодолеть президентское вето, демократическому меньшинству в Сенате удалось сорвать голосование.
Даже если Конгресс окажется под контролем республиканцев, они могут не суметь заблокировать СВПД, поскольку конгрессмены-демократы будут стремиться сохранить главное внешнеполитическое достижение демократической администрации. Даже ослабленная демократическая фракция в Сенате (выборы 2014 года обеспечили республиканцам наибольшее число мест с 1929 года) сумела заблокировать законодательный акт, поддерживаемый республиканцами. В 2016 году состоятся перевыборы 24 сенаторов-республиканцев и 10 сенаторов-демократов, и по их итогам демократы, скорее всего, укрепят свои позиции в верхней палате.
СВПД должен оставаться в силе более 10 лет, и на таком временном отрезке трудно спрогнозировать состав и действия Конгресса. Но, чем дольше Иран станет придерживаться СВПД, тем более сильное международное давление будет оказываться на любого президента США и Конгресс, чтобы не выходить из него.
Иран
В иранской политической системе, несмотря на значение роли избранного президента и парламента, Верховный руководитель страны (в настоящее время это аятолла Али Хаменеи) принимает окончательное решение по главным вопросам. По иранской конституции, Верховный руководитель – глава государства, обладающий эксклюзивными полномочиями, включая «принятие общего политического курса Исламской республики Иран» и «надзор за правильным выполнением этого курса» [15].
Иными словами, если того захочет Али Хаменеи, Тегеран может выйти из СВПД.
На практике нынешний духовный лидер Ирана редко вмешивается в процесс принятия решений государственными органами. Используя – для поддержания необходимого баланса – систему сдержек и противовесов, он устанавливает некие рамки, в пределах которых те или иные действующие лица вправе принимать собственные решения.
Эта тенденция просматривается и в переговорах по ядерной программе: Верховный руководитель Ирана поддерживал дипломатов, но принижал значение самих переговоров для будущего страны. Он обозначал красные линии для переговорщиков, и тем приходилось применять все свое умение, чтобы уместить в эти рамки желаемую суть переговоров. Существует мнение, что аятолла Хаменеи играл роль плохого полицейского для усиления позиций иранской стороны.
Например, в конце мая 2015 года Верховный руководитель спровоцировал острую дискуссию, заявив, что Иран не предоставит доступ к своим ядерным объектам и не потерпит «чрезвычайных мер контроля». Тем не менее, эти ключевые пункты вошли в текст СВПД. В конце концов, переговорщикам удалось оговорить условия посещения военных объектов и убедить иранскую общественность, что эти инспекции – неотъемлемая часть Дополнительного протокола, а, значит, их нельзя считать «чрезвычайными мерами».
После того, как иранский парламент одобрил СВПД, в своем письме президенту Рухани Али Хаменеи сообщал, что принимает этот план. Но с условием. «Любые новые санкции на любом уровне под любым предлогом (таким как неоднократные ложные обвинения в поддержке терроризма или нарушениях прав человека) … будут считаться нарушением СВПД», – писал Хаменеи. В этом случае Иран должен выйти из данного соглашения [16].
Когда 17 января 2016 года США наложили новые санкции на иранских физических и юридических лиц, участвующих в ракетной программе, Тегеран мог бы привести свою угрозу в действие и выйти из СВПД. Но Иран просто увеличил количество запусков и испытаний ракет.
Из этих примеров видно, что Верховный руководитель готов придерживаться СВПД, если при этом не пострадают стратегические интересы Ирана. Снятие санкций с Тегерана, вероятно, приведет к экономическому росту и повышению уровня благосостояния граждан. В этом случае Верховному руководителю будет труднее выйти из режима СВПД без веских на то оснований.
Один из непредсказуемых факторов – это возможная смена Верховного лидера Ирана. Он избирается пожизненно, но Али Хаменеи уже 76 лет; когда «он утратит возможность выполнять свои конституционные обязанности», Ассамблее экспертов придется выбирать его преемника. Итоги такого выбора непредсказуемы. Однако высоки и шансы на то, что решать этот вопрос будет нынешний состав Ассамблеи (2016–2024 гг). Между тем, прошедшие недавно выборы увеличили влияние умеренных сил, солидаризирующихся с президентом Рухани. Это может означать, что новый Верховный руководитель будет, по крайней мере, столь же лоялен к СВПД, как и аятолла Хаменеи.
2. Реализация СВПД
Одним из самых противоречивых моментов СВПД являются меры по обеспечению его выполнения. Критики утверждают, что Тегеран может отказаться соблюдать ограничения, наложенные на его ядерную программу, не станет пускать инспекторов МАГАТЭ и продолжит осуществлять закупку ядерных материалов. Он также может прибегнуть к другим незаконным действиям, обходным маневрам, увиливать от соблюдения положений СВПД (например, создавать мощности по производству ядерного оружия на незадекларированных объектах). Не исключен и выход из соглашения – по примеру Северной Кореи, которая отказалась от обязательств по нераспространению и начала форсированную реализацию ядерной программы.
Хотя до сих пор иранское правительство выполняло свои обязательства по СВПД, будущее правительство может отказаться от них по самым разным причинам. У Ирана имеется богатый опыт по части незаконной закупки ядерных материалов. Эта страна разработала одну из самых изощренных программ противодействия санкциям в истории. Министерство финансов США выявило десятки подставных компаний и других организаций, которые иранцы использовали в обход оказываемому на них давлению [17].
Эти организации получали технологии, материалы и средства, чтобы помогать ядерной и ракетной программам страны. Некоторые из этих структур могут сейчас быть неактивными, но их нетрудно реанимировать. А контролирующим международным организациям придется выявить не только эти структуры, но и те, что могут быть созданы в будущем.
Склонность Ирана к участию в новых незаконных закупках будет меняться в зависимости от целей режима, особенно от его оценки самой системы контроля, созданной в рамках СВПД, ее действенности и эффективности. В этих расчетах следует также учитывать возможную утрату экономических связей с Россией. Поэтому российско-иранская торговля и инвестиции, риск потерять которые могли бы усилить его заинтересованность Ирана в сохранении режима СВПД и снизить заинтересованность к обретению ядерного оружия по истечении срока действия этого соглашения.
Администрация Обамы старается облегчить иранским и иностранным компаниям использование долларов США в новых экономических сделках [18], но она по-прежнему поддерживает неядерные санкции (в качестве наказания за запуск баллистических ракет, а также по обвинению в поддержке терроризма и нарушении прав человека). Это закрывает для Ирана финансовую систему США [19].
Если Тегеран не добьется такого облегчения режима санкций, на которое он рассчитывал при подписании сделки, заинтересованность в выполнении соглашения снизится.
Влияние других сфер на реализацию СВПД
Некоторые события, не связанные с ядерной программой Ирана, также могут нарушить ход реализации СВПД. Например, США не сняли с Ирана свои «непрофильные» санкции – по обвинению в нарушении прав человека и поддержке терроризма [20].
Многие из таких мер направлены против Корпуса стражей революции – могущественного игрока в Иране, который может предпринимать действия, направленные против соглашения по ядерной программе.
Ракеты
Исследования Ирана в области разработки, создания и особенно испытаний межконтинентальных баллистических ракет могут иметь самые неприятные последствия. Они уже стали причиной введения американских санкций в отношении иранских организаций и частных лиц, участвующих в ракетной программе [21]. Разработки Ирана в этой области заставляют США и НАТО последовательно поддерживать программы противоракетной обороны, которые Россия воспринимает как угрозу своим возможностям ядерного сдерживания.
Продолжение испытаний иранских ракет может ослабить поддержку СВПД в США и привести к одностороннему выходу Вашингтона из этого соглашения, о чем уже говорилось выше. Второй, менее вероятный сценарий состоит в том, что испытания иранских ракет заставят США не только поддерживать, но и существенно усилить свою программу ПРО. В свою очередь, это подтолкнет Россию и Китай к ответным мерам, включая те, которые могут угрожать СВПД или их пассивную позицию в отношении нарушения Ираном соглашения.
Терроризм и права человека
Существует и другая алогичная динамика, связанная с терроризмом и правами человека. Критики СВПД говорят, что иранское правительство продолжает поддерживать международные террористические движения (по классификации правительства США)[22]. И хотя нынешнее иранское руководство проводит более умеренную ядерную политику, Тегеран по-прежнему претендует на роль регионального лидера, подчас угрожая другим странам, оказывает давление на свое население, не предоставляя иранцам важных политических и гражданских прав. Согласно докладу Государственного департамента США, «в 2014 году государственное спонсирование Ираном терроризма по всему миру оставалось на прежнем уровне. Это спонсирование осуществляется через Корпус стражей революции, Министерство безопасности Ирана и союзника Тегерана – организацию Хезболла, остающуюся серьезной угрозой для стабильности Ливана и всего региона» [23].
Если США введут новые санкции, связанные с поддержкой терроризма или подавлением гражданских свобод, иранское руководство способно реализовать свою угрозу и выйти из режима СВПД. В зависимости от конкретной ситуации, Москва может занять в этом споре, как сторону Тегерана, так и сторону Вашингтона.
Геополитика и борьба за власть на Ближнем Востоке
Россия и США могут разыграть иранскую карту друг против друга, сознательно усиливая напряженность в отношениях между Тегераном и другой стороной. При этом каждая из сторон будет стремиться использовать Тегеран в качестве своего доверенного лица для ослабления влияния друг друга в регионе. При этом в прошлом Исламская республика никак не выказывала намерения стать чьим-либо сателлитом и, скорее всего, будет придерживаться этой позиции в будущем.
Перспективы «иранского соглашения» вызвали беспокойство многих региональных игроков. После подписания СВПД премьер-министр Израиля Нетаньяху назвал сделку «исторической ошибкой» [24].
Саудовская Аравия – еще один ключевой союзник США в регионе – также выразила недовольство по поводу соглашения.
Когда СВПД получил одобрение в Конгрессе США и дошел до стадии имплементации, его критики переключили внимание на другие проблемы. Но региональный фактор остается потенциально опасным для судьбы «иранской сделки».
На Ближнем Востоке бушует ряд конфликтов: от Ирака до Йемена, в которых Иран участвует либо непосредственно, либо опосредованно. Когда улягутся страсти в Сирии, Иран и его союзники могут получить больше ресурсов для взаимодействия с другими странами и организациями региона. Если Хезболла будет более активно действовать на границе с Израилем, или ситуация в Йемене начнет представлять значительную угрозу для Саудовской Аравии, Тель-Авив или Эр-Рияд могут решиться на ответные действия. Один из вариантов – попытаться торпедировать СВПД через лоббирование своих интересов в Вашингтоне или другими средствами.
Рекомендации
Если СВПД будет выполняться надлежащим образом, Соединенным Штатам следует дать понять своим союзникам в регионе, что ядерное соглашение с Ираном делает Ближний Восток гораздо более безопасным, и потому СВДП следует оградить от возможной угрозы региональных кризисов. В интересах союзников США, чтобы Иран был стороной этих договоренностей – тогда его ядерная программа будет полностью прозрачной.
Если новый президент США решит выйти из СВПД из-за разногласий в Конгрессе между двумя ведущими партиями, другие члены СВПД должны использовать все свое влияние, чтобы убедить Вашингтон остаться. Россия едва ли сможет повлиять на этот процесс, но у нее есть возможность согласовывать свои действия с Китаем и европейскими участниками соглашения, к которым Вашингтон прислушивается как к союзникам по НАТО.
Даже если США выйдут из соглашения, это не будет конец СВПД. Политическая воля остальных участников могла бы компенсировать эту потерю. Снятие санкций ООН и ЕС может стать достаточно сильным стимулом для Ирана, чтобы продолжить выполнение своей части сделки, которая в этом случае может быть видоизменена. Если США снова введут односторонние санкции против иностранных компаний, работающих в Иране, Россия и другие стороны соглашения должны будут защитить свои компании. Хорошим примером в этом смысле может служить принятое Европейским союзом Постановление №2271/96, защищающее европейские компании от санкций США, связанных с Кубой.
Действия Ирана, противоречащие СВПД, должны тщательно расследоваться, и лишь после этого нужно предпринимать какие-то меры. Допустимые пределы запасов обогащенного урана и тяжелой воды могут быть слегка превышены из-за технических или логистических причин. Точно так же МАГАТЭ необходимо придерживаться принципов СВПД, согласно которым «количество просьб о предоставлении доступа [к иранским ядерным объектам] будет сведено к такому минимуму, который необходим для эффективного выполнения обязанностей по контролю в соответствии с настоящим СВПД». Члены Совместной Комиссии должны голосовать на основании данных углубленного анализа по каждому случаю, и не опираться на стереотипы, предвзятые мнения и традиционную склонность поддерживать союзников, независимо от сути вопроса. США следует тщательно взвесить цену ввода новых санкций против Ирана в качестве наказания за нарушения, не связанные с ядерной проблематикой – особенно в первые годы действия соглашения. Например, обратить внимание на то, что иранские ракеты сравнительно безвредны, если на них не установлены ядерные боеголовки.
В целом сторонам нужно поставить перед собой цель реализовать договоренности по СВПД без вмешательства СБ ООН. Обращение к Совету Безопасности в качестве последнего довода в механизме принуждения к выполнению плана действий может запустить процесс, в ходе которого любой из пяти постоянных членов СБ ООН будет иметь возможность завершить действие СВПД («возвратный» механизм), и тогда уже ничего нельзя будет исправить. Когда столько поставлено на карту, все, кроме грубых нарушений соглашения, должно разрешаться путем консультаций и приведения в действие механизмов разрешения конфликтов, предусмотренных в плане.
Сделка по иранской ядерной программе и последовавшее облегчение режима санкций усилило давление на другие ближневосточные страны, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ. Они обеспокоены поведением Ирана и задумываются о собственных ядерных программах. Один из факторов, который мог бы побудить ближневосточных соседей Ирана и другие правительства обзавестись собственным ядерным оружием,– это убеждение в том, что у США нет возможности или намерения защитить их.
И наоборот, если США будут по-прежнему делать заслуживающие доверия заявления о готовности защитить эти страны от прямой или косвенной агрессии, потенциальные обладатели ядерного оружия, дабы не лишиться благорасположения США, а также политических и экономических отношений с другими западными странами, вряд ли рискнут обрести этот статус в реальности. США и другие государства могут разубедить их в целесообразности разработки ядерной программы, предоставив им неядерные вооружения – системы противоракетной обороны, а также иную помощь в сфере укрепления безопасности.
Благодаря опыту иранского урегулирования, страны и международные организации существенно улучшили механизмы применения санкций в отношении потенциальных нарушителей договора о нераспространении ядерного оружия. Но и государства, против которых могут быть направлены санкции, увеличили свои возможности действовать в обход такого давления. Кроме того, многие страны, после принятия СВПД и Резолюции СБ ООН №2231, отказываются от применения санкционных мер.
В СВПД предусмотрен «возвратный» механизм, позволяющий ООН восстановить санкции, связанные с ядерной программой Ирана, в случае нарушения соглашения. Но восстановить чрезвычайно сложную санкционную паутину, которой мировое сообщество опутало Иран в прежние годы, вряд ли возможно. Потребовался не один год, чтобы сконструировать всеобъемлющее партнерство, способное оказать необходимое влияние на Иран с целью умерить его ядерные амбиции.
Шестерка посредников должна сохранить способность добиваться неукоснительного выполнения соглашения. Поскольку Россия и Китай не склонны вводить санкции, Министерству финансов США, скорее всего, придется взять на себя лидерство в поддержании «санкционного потенциала». Иранское руководство должно понимать, какую цену придется заплатить в случае «отклонения от курса». Россия и другие страны могут стать партнерами США в деле укрепления пограничного и экспортного контроля, особенно соседей Ирана, с целью ограничения возможной незаконной торговли ядерными компонентами. Российское правительство настроено на поддержание высокого уровня безопасности своих ядерных материалов и технологий, несмотря на прекращение помощи, оказываемой США в рамках программы Нанна-Лугара. У Москвы и Вашингтона накоплен хороший опыт сотрудничества в решении вопросов ядерной безопасности в третьих странах. В качестве примера можно привести их многолетние усилия по вывозу запасов высокообогащенного урана из исследовательских реакторов многих стран, и есть надежда на продолжение этого взаимодействия. Правительствам двух стран следует подумать о средствах усиления Инициативы по безопасности в борьбе с распространением оружия массового уничтожения, Резолюции 1540 СБ ООН, Глобальной инициативы по борьбе с актами ядерного терроризма и других механизмах противодействия терроризму и распространению ядерного оружия. Некоторые из этих инициатив застопорились из-за разногласий между Россией и Западом по другим вопросам.
России, США и другим странам нужно усилить содействие МАГАТЭ, которой требуется дополнительное финансирование и технологии, чтобы обеспечить выполнение Тегераном условий СВПД.
Следует принимать во внимание большую территорию Ирана, который имеет выход к морю и может воспользоваться морским транспортом – особенно в контексте богатой истории его участия в незаконных закупках ядерных компонентов и материалов. Другие страны также могут помочь МАГАТЭ финансами и другими средствами, чтобы обеспечить выполнение условий СВПД – и не только их [25].
Хотя формально процессом обеспечения безопасности иранской ядерной программы руководит ЕС, России также следует укреплять режим безопасности при поставках любых ядерных материалов и технологий Ирану, а также обучать иранских специалистов современным методам безопасного обращения с ними. Иранцы вряд ли допустят американских специалистов на свои ядерные объекты, но США могли бы помочь ЕС, России и другим странам в выстраивании правильных взаимоотношений с Тегераном в этой области. Хотя в Иране действует коммерческий ядерный реактор (в Бушере), Тегеран еще не подписал Конвенцию по ядерной безопасности [26]. Он не является стороной Конвенции по физической защите ядерных материалов [27] и Международной конвенции по борьбе с актами ядерного терроризма [28].
Москва может подтолкнуть Иран к подписанию этих соглашений, что пошло бы на пользу обеим странам и остальному мировому сообществу. У Москвы есть коммерческая заинтересованность в обеспечении безопасности ядерной программы Ирана и ее мирном характере. Крупная ядерная авария в Иране, ядерный теракт с использованием материалов, приобретенных у Тегерана, или крах СВПД сорвут планы Москвы по расширению иранской программы мирного использования атома.
Есть мнение, что Россия и другие члены ШОС в скором времени предоставят Ирану статус полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества. В прошлом организация отказывалась идти на такой шаг, поскольку в ШОС действует правило, согласно которому полноценное членство не может быть предоставлено стране, находящейся под санкциями ООН. ШОС следует сохранить этот регламент и быть готовой приостановить членство Ирана, если СБ ООН, где Россия может наложить вето на любую резолюцию, установит факт нарушения Тегераном обязательств в части нераспространения ядерного оружия.
Согласно СВПД, по окончании 10-летнего (и особенно – 15-летнего периода) истечет срок исключительных мер, ограничивающих действия Ирана в области ядерных исследований. После этого Тегеран, как и большинство других стран, имеющих потенциал для создания ядерных вооружений, будет подчиняться общим, менее жестким ограничениям, оговоренным в ДНЯО. Вместе с тем, усилия по установлению зоны, свободной от оружия массового уничтожения (ЗСОМУ) на Ближнем Востоке, тормозятся «арабской весной», разногласиями между Россией и США и другими факторами. Египет торпедирует усилия США, направленные на то, чтобы предлагаемая конференция по ЗСОМУ проходила на приемлемых для Израиля условиях. Как настаивает Каир, Израилю нужно отказаться от непрозрачной политики в области ядерных технологий, а это вряд ли произойдет даже в случае успешной реализации СВПД.
Возможно, странам придется подумать о расширении некоторых положений СВПД (таких как максимальный уровень обогащения урана в 3,5% и усиленный контроль посредством Дополнительного протокола), чтобы убедить другие ближневосточные страны в необходимости принятия аналогичных ограничений. Иранское правительство заявило, что не согласится с односторонними ограничениями – помимо тех, что оговорены в СВПД, но рассмотрит этот вопрос, если ограничения будут обязательны для других стран (то есть, если Иран не будет единственной мишенью для этих ограничений).
Если мы утратим бдительность, СВПД может создать плохой прецедент, побудив другие страны к развитию таких деликатных технологий, как обогащение урана и переработка ядерного топлива. Более надежным стандартом передачи ядерных технологий следует считать Соглашение 123 о сотрудничестве в области мирного использования атома между ОАЭ и США. По этому договору ОАЭ взяли на себя обязательство не развивать технологии регенерации ядерного топлива. Правительство США считает эту договоренность «золотым стандартом», которому должны последовать другие государства. Хотя Соединенным Штатам было трудно добиться консенсуса по этому вопросу в ДНЯО и в Группе ядерных поставщиков (ГЯП), Россия, Китай и США могут оценить возможность полного отказа от обогащения и переработки ядерного топлива в формате двустороннего сотрудничества по мирному атому.
Авторы записки работали над различными разделами текста и потому могут не разделять позиции, обозначенные в других разделах, в то же время авторы приветствуют возможность для дискуссии и экспертного диалога по спорным вопросам.
Данные тексты отражают личное мнение авторов, которое может не совпадать с позицией Клуба, если явно не указано иное.
Данный материал вышел в серии записок Валдайского клуба, публикуемых еженедельно в рамках научной деятельности Международного дискуссионного клуба Валдай. С другими записками можно ознакомиться по адресу http://valdaiclub.com/publications/valdai-papers/
[1] http://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa/.
[2] http://eeas.europa.eu/statements/docs/2013/131124_03_en.pdf.
[3] https://www.iaea.org/sites/default/files/unsc_resolution2231-2015.pdf.
[4] http://www.un.org/en/sc/2231/2231%20List_17%20Jan.pdf.
[5] Более подробное описание условий соглашения доступно по ссылке: https://www.armscontrol.org/reports/Solving-the-Iranian-Nuclear-Puzzle-The-Joint-Comprehensive-Plan-of-Action/2015/08/Appendix-A-Summary-of-the-Key%C2%ADComponents-of-the-JCPOA.
[6] https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20614/volume-614-I-8866-English.pdf.
[7] http://2001-2009.state.gov/r/pa/prs/ps/2003/20439.htm.
[8] http://www.theguardian.com/world/julian-borger-global-security-blog/2010/may/17/iran-brazil-turkey-nuclear.
[9] http://www.rosatom.ru/resources/03a10680462aa521b6ecf6d490c073ed/protocol_russia_iran_rus.pdf.
[10] https://www.iaea.org/newscenter/focus/iran/iaea-and-iran-un-security-council.
[11] http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43088.
[12] http://www.wsj.com/articles/iran-wish-list-led-to-u-s-talks-1435537004.
[13] http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/07/mohammad-javad-zarif-interview-post-deal-balconey.html.
[14] http://www.cnn.com/2015/07/14/politics/iran-nuclear-deal.
[15] http://www.iranonline.com/iran/iran-info/government/constitution.html.
[16] http://en.mfa.ir/index.aspx?siteid=3&fkeyid=&siteid=3&fkeyid=&siteid=3&pageid=1997&newsview=363361.
[17] https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Documents/irgc_ifsr.pdf
[18] www.npr.org/templates/transcript/transcript.php?storyId=473772642.
[19] http://www.cfr.org/united-states/why-us-economic-leadership-matters/p37731/
[20] http://bipartisanpolicy.org/blog/after-iran-deal-wrangling-over-hybrid-sanctions/?_cldee=d2VpdHpAaHVkc29uLm 9yZw%3d%3d&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Project%20Update%20%7C%20 Foreign%20Policy%20(Iran)
[21] https://www.rt.com/usa/329240-us-sanctions-iran-ballistic/.
[22] http://www.afpc.org/publication_listings/viewPolicyPaper/2926.
[23] http://www.state.gov/j/ct/rls/crt/2014/239407.htm.
[24] http://www.wsj.com/articles/netanyahu-calls-iran-deal-historic-mistake-1436866617.
[25] http://belfercenter.hks.harvard.edu/publication/26413/what_price_nuclear_governance_funding_the_international_ atomic_energy_agency.html?breadcrumb=%2Fpublication%2Fby_type%2Freport.
[26] http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/nuclearsafety_status.pdf.
[27] https://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cppnm_status.pdf.
[28] http://fas.org/wp-content/uploads/2013/04/iran_nuclear_odyssey.pdf.

Главная тема поездки президента США в Европу (Великобританию и Германию) — Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство TTIP), гиперпроект, который уничтожит Европу, какой мы ее знали. Все прочее — арабские беженцы, Сирия, Россия, Турция, выход Великобритании из Евросоюза — частности на пути к тотальному изменению мира.
Теме TTIP фактически был посвящен прошедший в понедельник Ганноверский саммит (США, Великобритания, Германия, Франция и Италия), тема эта прослеживается фактически в каждом, большом или маленьком, выступлении Барака Обамы на европейской территории.
Кольцо всевластия
Не следовало ожидать, что ганноверская пятерка издаст ясное заявление по поводу TTIP, хотя общих слов было сказано достаточно. Зато европейцы в целом получили полный заряд обамовской пропаганды насчет того, как это будет здорово, когда мир начнет существовать по новым правилам.
В США Обаму как самого талантливого оратора нашего времени воспринимать уже перестали, в Европе это пока не так. О светлом будущем атлантического партнерства он говорил хорошо. И еще бы ему было не стараться: наступил кульминационный момент всей американской внешней политики, проводившейся, по сути, не только обеими администрациями, но и силами, стоящими за их спинами.
Советую обратить внимание на авторскую колонку двух видных идеологов этой политики, Айво Даалдера и Роберта Кагана. Это, по сути, манифест, где сказано все. И о том, что США должны, могут и будут оставаться вечной и единственной сверхдержавой, и о том, что речь идет об "обновлении американского лидерства", и — поскольку материал написан для американской аудитории — что никто не выигрывает от этой политики так, как США (спасибо за откровенность).
В нынешней европейской поездке Обама обозначил последние, решающие шаги к этой цели. Текст соглашения по TTIP, по его словам, должен быть согласован до конца этого года и пойти на ратификацию. Одновременно точно такие же процессы должны пройти в Тихоокеанском регионе с соглашением-близнецом — TTP. Дальше тянуть нельзя, потому что сам Обама уходит из Белого дома 20 января (и еще неизвестно, кто туда придет), и одновременно будет пора переизбираться его единомышленникам — канцлеру Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Франсуа Олланду, участникам Ганноверского саммита.
Заметим активные попытки Обамы отговорить британцев голосовать на предстоящем летом референдуме за выход страны из ЕС. Вроде бы, в чем проблема? В том, что переговоры о TTIP идут в основном через механизмы ЕС, то есть на наднациональном уровне. Уйдут британцы — начнет разваливаться Евросоюз, возникнут "технические" проблемы.
Хотя на самом деле это уже не "техника". Можно даже сказать, особенно если присмотреться к статье Даалдера и Кагана, что дело для США выглядит так: сейчас или никогда.
Дело в том, что TTIP и TPP — далеко не только торговые соглашения. Достаточно сказать, что переговоры по ним идут в секрете даже от членов парламентов, в США и Европе (и в Азии). Помогли злодеи из WikiLeaks, рассекретившие некоторые документы.
Оказывается, если эта штука вступит в силу, то создастся группа стран, контролирующих больше половины мировой экономики. Вот только, если говорить о контроле, осуществлять его будут уже не правительства, а корпорации, наднациональная сила, которую некому будет остановить, переизбрать, проконтролировать. Государства и нации, в том числе и ЕС, потеряют значение, "кольцо всевластия" будет находиться даже не в Белом доме.
В последние годы мы все столько раз смеялись над свихнувшимися разоблачителями "заговора теневых структур", что когда все ими описанное начинает сбываться, поверить в это трудно. А придется.
Принуждение к двум блокам
Давайте вспомним, что происходило на рубеже тысячелетия, когда ЕС торжественно ввел в обращение евро и начал расширяться, втягивая в свои ряды всех, кого можно и нельзя. В СМИ царила не просто эйфория, это была не совсем нужная США эйфория, поскольку многие европейские аналитики тогда прямо говорили, что экономический — а за ним и политический — вес Европы может оказаться больше, чем у США.
Вспомним также, что, когда Америка начала в 2003 году войну в Ираке, европейские лидеры были, мягко говоря, не в восторге. Есть смысл перечитать не одну речь российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности (10 февраля 2007 года), а все речи на ней. Вы увидите, что Путин вполне вписался в общее настроение европейцев: что это такое, одна нация пытается диктовать правила игры всему миру!
Но уже к началу второго десятилетия нашего века оказалось, что "европейский проект" сдулся. "Помог", конечно, экономический кризис 2008 года, но далеко не только он. Робкие поначалу разговоры о том, что ЕС не имеет в мире никакого веса, стали общим местом.
Заметим, что произошло с идеей каких-то своих, практически отдельных от США европейских структур безопасности: нечто под названием Западноевропейского союза официально прекратило существование в 2011 году, после долгих десятилетий обсуждения.
Кстати, есть такая цифра — триллион долларов. Она фигурирует в конгрессе США во всяческих документах. Это расходы на военную инфраструктуру США в Европе на 30 лет — если с "кольцом всевластия" все получится.
Проекты Транстихоокеанского и Трансатлантического партнерства означают, по сути, что США увидели: уничтожение двухблоковой, биполярной структуры мира в 1990-е оказались для них никоим образом не победой. Подняли голову европейцы, возникли страны типа Китая, которые набирали экономический и политический вес. То, что вместо биполярного мира (Запад против СССР) возникает не всевластие сверхдержавы, а нечто многополярное, непредсказуемое и опасное, умные американские головы зафиксировали, видимо, еще в начале 2000-х.
И сейчас Америка, по сути, возвращает мир обратно, выстраивает заново два привычных блока. Условно, США с выводком подконтрольных союзников, и Китай со своей командой. (Напомним, что ни Китаю, ни России, ни нескольким близким им государствам в TTIP и TPP никто приглашений не посылал, и правильно делал).
И все было бы у воссоздателей прежнего мира хорошо, но выбранная ими тактика оказалась настолько экстремальной, что сегодня у приехавшего в Европу Барака Обамы возникла действительно острая ситуация.
Для начала: "торговые соглашения" не просто непопулярны у населения США и ЕС (а что вы хотите, если они секретные?). Они стойко теряют популярность, они нравятся, по разным опросам, уже максимум одной пятой респондентов.
Для продолжения: на Западе и Востоке используется слишком откровенная тактика того, как поссорить американских партнеров с Китаем и Россией. Москву и Пекин провоцируют на военные акции (Украина, Южно-Китайское море), и хотя на провокации они не поддаются, европейские и азиатские жертвы США оказываются в невыносимой ситуации, когда деваться некуда, только под крыло Вашингтона.
Добавим к этому ситуацию с беженцами в Европе и прочие неприятности: в целом картина такова, что кто-то в США перестарался. Даже европейцы не любят безвыходности. Поэтому у них набирают силу партии, раньше считавшиеся "несистемными".
В общем, Европа в ответ на откровенное ее уничтожение сильно задумалась — о собственном развале. Обаме надо торопиться.
И последнее. "Кольцо всевластия" — это плохо, но альтернативы могут оказаться едва ли не хуже. США, страна-банкрот, в аналогичной ситуации 75 лет назад активно провоцировала Вторую мировую войну на Востоке и Западе, и помнит, что у нее тогда все очень неплохо получилось.
Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

В предстоящую пятницу президент США впервые в истории посетит место американской бомбардировки Хиросимы — но извиняться там ни за что не намерен, в том числе потому, что у американцев, на политическом и бытовом уровне, есть принцип: не извиняться никогда.
А в начале недели Барак Обама побывал во Вьетнаме, где в результате американской агрессии погибло больше людей, чем в Хиросиме и Нагасаки, — около миллиона человек.
И опять не просил никого простить. Что наводит на разные, иногда неожиданные мысли.
Если они правы
Давайте посмотрим, в чем американцы правы. Особенно с учетом нашего собственного опыта, преимущественно 1990-х годов. Можно ведь всегда поучиться хорошему опыту, в том числе и у американцев, не правда ли? И состоит он в том, что ни одна нация не должна перманентно сгибаться под грузом исторической вины. Не должна, потому что не может, людям это невыносимо.
Представим себе, что лидеры США начнут каяться по поводу всех войн, которые Америка развязала за прошлое и начало нынешнего столетия, и вспоминать, сколько человек погибло в Ираке, сколько в Ливии, сколько в нескольких десятках прочих стран. И как будут себя чувствовать по этому поводу граждане страны, основная часть которых ко всему этому никак не причастна.
И почему мы говорим только о нашем времени, в основном о Второй мировой? Почему, например (навскидку), нынешним российским лидерам не начать извиняться за взятие Иваном Грозным Новгорода и Пскова в 1569 году? Тоже ведь зверство было грандиозное. Да мало ли кто и где еще зверствовал, в войнах между государствами или внутренних.
Индустрия призывов к извинениям в наше время процветает. Ту же Японию, жертву Хиросимы, регулярно призывают к покаянию за Вторую мировую (и ведь есть за что) наши китайские и корейские друзья, подсказывая японским премьерам правильные слова, которые надо при этом произносить. Россию только и склоняют, чтобы каялась за все и везде. Заметим, что в некоторых случаях это еще и бизнес, потому что тех, кто извиняется, очень хочется заставить заплатить компенсацию.
Причем особенно хорошо освоили эту индустрию как раз американцы. Они на долгие десятилетия превратили — методом морального давления — немцев и японцев в коллективно ответственных за то, что сделали их предки. Заметим, что в Восточной Германии СССР вел себя как-то по-другому, проводя различие между фашизмом и немецким народом.
Поэтому сейчас очень интересно читать идеологическое обоснование американского упорного нежелания извиняться в статье в New York Times трех ветеранов вьетнамской войны — госсекретаря Джона Керри, бывшего сенатора Боба Керри и самого, наверное, знаменитого ветерана той войны — сенатора Джона Маккейна. Они предлагают четыре принципа того, как следует мыслить в подобных ситуациях.
Первый: никогда не смешивать войну с военными. Американские ветераны заслуживают безусловного уважения… и т.д. Второй: начиная войну, не врать своему народу о том, зачем ее ведешь. Третий: понимать другие народы и культуры, если учиняешь против них войну, иначе будут неожиданности. Четвертый: потом, после войны, нет таких "расхождений", которые нельзя было бы преодолеть. То есть надо не каяться, а уметь перешагивать через прошлое.
Интересно же мыслят. Есть над чем подумать.
"Перешагнуть" и двинуться… куда?
Нынешняя азиатская поездка Барака Обамы (Вьетнам и Япония) почти случайно выглядит как возвращение на поля былых войн. На самом деле она посвящена войнам будущим — то есть силовой политике США в Азии. По сути, Вьетнаму и Японии предлагается перешагнуть через прошлое и активнее участвовать в попытках США сдержать рост Китая, а также России.
Кстати, речь не только о Вьетнаме и Японии, завершается поездка Обамы встречей "Группы семи" на японской территории. Заранее известно, как будет выглядеть итоговый документ этого клубного заседания. Там осудят Китай (видимо, не называя его) за старания утвердить свою точку зрения в территориальных спорах с соседями в Южно-Китайском море, осудят также Россию за Крым, подтвердят, что санкции не снимут (будто мы не знали), и заодно пройдутся по прочим мировым проблемам.
Японское агентство "Киодо", сообщая об этом, отмечает, что европейским членам "семерки" будет не по себе от необходимости критиковать Китай, вторую экономику, от которой Европа серьезно зависит. Примерно в том же положении находится Япония — да, кстати, и Вьетнам. Те самые две страны, которым предлагается, как уже сказано, "перешагнуть через прошлое" и двинуться дальше, к светлым перспективам сотрудничества с США в новых авантюрах.
Выгодно им это сотрудничество? С одной стороны — да. Вот, допустим, Вьетнам: его торговля с США превысила 40 миллиардов долларов в год, в эти визитные дни Обамы в американских СМИ можно увидеть подробные репортажи о том, как обувщики США постепенно переводят производство из Китая во Вьетнам (дешевле), и что будет, если заработает Транстихоокеанское торговое партнерство, антикитайский американский проект.
Вдобавок сенсацией стало снятие американского эмбарго на поставки вооружений Вьетнаму. Все это имеет отношение к упомянутой теме территориальных расхождений Ханоя и Пекина в Южно-Китайском море.
Но, с другой стороны, сотрудничать с США — одно дело, а оказываться инструментом давления на Пекин и Москву — другое. Заметим, что Вьетнам за последние месяцы сумел договориться с Китаем о том, чтобы не доводить конфликт до крайности. Вьетнам при этом не отказывается от китайского торгового проекта, аналогичного ТТП. Наконец, накануне переговоров с Обамой вьетнамский премьер Нгуен Суан Фук встречался с президентом Владимиром Путиным перед сочинским саммитом Россия—АСЕАН. Как, кстати, встречался с Путиным накануне визита Обамы и заседания "семерки" и специально прилетевший в Россию премьер Японии Синдзо Абэ. Есть сведения, что американская дипломатия пыталась эти визиты предотвратить, но не смогла. Кстати, японцы одновременно постарались начать серьезный разговор также с Китаем о необходимости смягчения противоречий.
По сути, все участники этой истории, кроме США, заняты налаживанием правильного баланса, стараются сделать так, чтобы не ссориться ни с кем и развивать отношения со всеми. Чтобы потом не пришлось думать об извинениях.
Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Обезьяна с атомным реактором
Михаил Делягин
Российская Федерация, как известно, отказалась от участия в международном саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне. Официальная причина вполне понятна и уважительна, потому что американцы решили использовать формат этого саммита для того, чтобы перехватить управление международными организациями. На сегодня главная структура, которая обеспечивает ядерную безопасность, — это МАГАТЭ, и американцы собрались под флагом этого саммита дать МАГАТЭ некоторые указания. Понятно, сегодня собрали пятьдесят руководителей государств, а завтра могут собрать "большую семёрку" или даже вдвоём с Порошенко организовать "международный саммит" и тоже давать указания, поскольку прецедент будет создан. То есть это явное разрушение принятых норм международной дипломатии, добивание международного права в одном из его политически значимых аспектов.
Так что в целом наша позиция по саммиту правильная, но в Кремле, как обычно, почему-то тактично умалчивают про то, что главная для нас проблема международной атомной безопасности не имеет отношения к выдвинутым на первый план в Вашингтоне темам Северной Кореи, Ирана и даже "Исламского государства". Наша главная проблема — это приход японо-американской корпорации "Тошиба-Вестингауз" (Toshiba-Westinghouse, TW) на украинский рынок атомного топлива. Впрочем, не только наша.
Дело в том, что украинские АЭС строились в советский период и предусматривали загрузку исключительно отечественных "сборок" тепловыделяющих элементов (ТВЭЛов). Но сразу после победы первого, "оранжевого" майдана американцы захотели войти на украинский рынок атомного топлива — всё-таки это более 600 млн. долл. ежегодно, а учитывая, с какой перегрузкой работают сейчас атомные электростанции Украины, то и гораздо большие деньги. Была ли Westinghouse одним из спонсоров двух государственных переворотов на Украине, названных "майданами"? Думаю, точный ответ на этот вопрос хорошо знают в управляющих центрах американской сети "неправительственных организаций", но то, с каким энтузиазмом и прошлые, и нынешние "майданные" власти занялись попытками "впихнуть невпихуемое", то есть американо-японские ТВЭЛы в советские реакторы, показывает: полностью исключить подобную возможность нельзя. К сожалению или к счастью, но "гранаты у них не той системы" — и за всё это время любые подобные эксперименты заканчивались, как правило, "нештатной ситуацией". Скажем, на Запорожской атомной электростанции (ЗаЭС) под новый 2015 год в результате установки сборки TW более чем в десять раз был превышен радиационный фон, но "охота пуще неволи" — уже официально объявлено, что новая попытка полноценной загрузки ЗаЭС "политически правильным", то есть "немоскальским" топливом состоится в мае месяце.
Украинские атомщики — они всё-таки квалифицированные специалисты — криком кричат о том, что политические "указивки" по "манёвру мощностями" АЭС могут привести к новому Чернобылю, поскольку нельзя по нескольку раз в день менять режим работы реакторов в соответствии с пиками нагрузки. Но украинский "мирный атом" — видимо, настолько "свидомый" и "незалежный", что может не обращать внимания на все эти технологические и прочие ограничения, как и 30 лет назад. На Южно-Украинской АЭС под Николаевом, правда, подобные эксперименты уже привели к закрытию — якобы на плановый ремонт — всех трёх энергоблоков. Но это ж "ватный" и "сепаратистский" Николаев, а не родина запорожских козаков! Правда, в конце марта пришлось остановить и один из энергоблоков Ровенской АЭС, но тут уж "слава героям!" В ситуации, когда нет угля из Донбасса, а газ идёт "реверсом" из Европы, единственный способ сохранить энергобаланс для Украины — это повышенная нагрузка на атомные электростанции. И в Киеве уже меняют стандарты безопасности для того, чтобы промышленная загрузка TW-сборок не была уголовно наказуемым деянием… До "второго Чернобыля" дело пока не дошло, но — лишь пока. И если он всё-таки состоится, под угрозой окажутся Украина, Россия и Европа, а вовсе не США.
Да, обезьяна с гранатой — это не так страшно. Гораздо страшнее — обезьяна с атомным реактором.

Алексей Лихачев: РФ готова к компромиссам в переговорах по безбарьерной зоне
О том, на каких условиях Россия готова вести переговоры о создании свободной экономической зоны от Лиссабона до Владивостока, чем грозит российской экономике заключение ЕС и США соглашения TTIP, как правильно следует считать ущерб от санкций и каким образом ведется работа над проектом "Северный поток-2", а также о том, каковы перспективы обращения в суд украинского правительства по вопросу, связанному с транзитом товаров через РФ, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель министра экономического развития РФ Алексей Лихачев. Беседовала Ангелина Тимофеева.
— Алексей Евгеньевич, вы заявили на конференции East Forum Berlin, что Россия готова к переговорам о создании безбарьерной зоны между Лиссабоном и Владивостоком. Каковы российские условия?
— Мы готовы к переговорам о создании среды без барьеров, без препон, без административных сложностей для экономического оборота товаров, услуг, капиталов, рабочей силы. Но такие переговоры подразумевают движение к компромиссу, к поиску баланса между интересами участников. И если такие переговоры будут организованы, это значит, что превентивно мы считаем, что мы будем сближать наши точки зрения и искать компромисс в интересах. К таким переговорам Россия, естественно, готова.
— Идея о "большой Европе от Лиссабона до Владивостока" существует в российской повестке с середины двухтысячных, почему в Брюсселе не спешили до 2014 года с конкретными шагами по ее реализации?
— На мой взгляд, возможно, это связано с политической неготовностью Евросоюза к такому ответственному и равноправному диалогу. Поэтому была сделана попытка формально отойти от этой повестки. Возможно, если бы украинский кризис не произошел, был бы придуман другой повод. Должен сказать, что европейский бизнес, и в частности германский, находится в недоумении, почему мы до сих пор не идем к этой безбарьерной среде.
— Насколько угрожает интересам России заключение трансатлантического соглашения TTIP о зоне свободной торговли между США и ЕС, это попытка изолировать Россию?
— Мы не понимаем это как попытку изоляции России. Две крупных экономики, ЕС и США, обоснованно говорят о создании подобного партнерского соглашения. Мы не видим в этом прямой угрозы, но продолжаем внимательно и тщательно следить за переговорами.
— Вы заявили сегодня на конференции, что суммарный ущерб от санкций, в случае их сохранения в течение пяти лет, может составить до триллиона долларов. Эта цифра отличается от официальных прогнозов ЕС.
— Европейцы оперируют цифрами прямых убытков. В реальности они могут быть занижены до 30 процентов. Мультиплицируя это на нынешние производственные цепочки, цифру можно вообще удвоить. Например, Австрия относительно мало экспортирует в РФ, но является контрагентом по огромному количеству контактов между РФ и ФРГ. В результате санкций страдают поставки между Австрией и Германией, но эти потери никто не учитывает, как и потери банков при кредитовании — это, вообще-то, упущенная выгода.
— По решению Москвы и Берлина принято решение о возобновлении встреч стратегической рабочей группы по сотрудничеству в области экономики и финансов. Сформирована ли повестка этого органа?
— Да, принято решение о проведении бизнес-платформы в июне, повестка есть, она носит традиционный характер и состоит из трех частей: общие установочные вопросы, далее — работа по продвижению конкретных проектов в условиях санкций и конкретные отраслевые темы. Например, мы будем обсуждать вопрос о подписании специнвестконтракта с компанией "Клаас".
— Будут ли обсуждаться вопросы энергетического сотрудничества, например по проекту "Северный поток-2"?
— Важнейший проект "Северный поток-2" всегда присутствует в повестке наших встреч, от формата к формату. Мы ведем обсуждение в разных аспектах, начиная от официальных регулятивных разрешений и заканчивая логистическими решениями, стыковкой участков наземной части, вопросами тендеров на поставку труб и оборудования.
— В пятницу Алексей Улюкаев встречается с главой ВТО Азеведо. Планируют ли стороны обсудить заявления украинской стороны о подаче исков за якобы закрытие Россией транзита для украинских товаров?
— Встреча готовится, ее официальный повод очень важен, это открытие новой штаб-квартиры России в ВТО и вручение нам документов о ратификации Россией соглашения об упрощении торговых процедур. Работа над этой ратификацией была сложной, но мы получили активную поддержку со стороны бизнес-сообщества. Что касается заявлений Украины, то мы пока оцениваем обращения Киева по транзиту как бесперспективные. Внесение Украины в список стран, которые ведут санкционную политику в отношении России, было обоснованным, полностью соответствующим действиям украинского руководства.

Встреча с президентом Всемирного еврейского конгресса Рональдом Лаудером.
Владимир Путин принял в Кремле президента Всемирного еврейского конгресса Рональда Лаудера.
В.Путин: Уважаемый господин Лаудер! Дорогие друзья! Позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве.
Мы с Вами в 2003 году уже встречались. Всемирный еврейский конгресс относится к очень известным и влиятельным международным общественным организациям, неправительственным.
Насколько я знаю, 80 лет вы уже существуете и проводите очень большую работу и религиозную, и светскую для поддержания евреев во всём мире.
Вы знаете, что мы в России поддерживаем очень тесные регулярные контакты с российскими еврейскими организациями, но и с европейскими в том числе. И российские еврейские организации вносят очень существенный вклад в дело внутриполитической стабилизации России, за что мы очень благодарны нашим друзьям.
Иудаизм относится к одной из наших четырёх традиционных религий и наравне с другими традиционными религиями, традиционными конфессиями пользуется постоянной поддержкой со стороны официальных властей.
Скоро, я знаю, у вас праздник – Песах (22-го, по моему), и позвольте в начале беседы всех вас поздравить с наступающим праздником.
Добро пожаловать!
Р.Лаудер (как переведено): Спасибо большое, я очень рад быть здесь.
Как Вы знаете, Всемирный еврейский конгресс представляет сто еврейских сообществ по всему миру и является зонтичной организацией для всех еврейских организаций.
Иногда мы забываем сказать «спасибо», но сегодня я хотел бы сказать Вам спасибо за всё то, что Вы делаете для еврейского народа. Когда мы в первый раз с Вами встречались, всё ещё была довольно сильная волна антисемитизма, были атаки на синагоги, был антисемитизм со стороны официальных лиц.
И мы с Вами это обсудили, и Вы меня заверили, что эту тенденцию Вы измените. И Вы выполнили то, что обещали. Насколько я понимаю, сейчас в России наблюдается минимальный уровень антисемитизма, и еврейское население живёт очень хорошо, и синагоги находятся в полном благополучии.
С Вашей помощью, при Ваших усилиях создан один из наилучших еврейских музеев во всём мире. Я вхожу в правление этого музея и хочу сказать, что я призываю всех посетить этот музей, и говорю всем, что это прекрасный музей.
И, насколько я понимаю господина Берла Лазара [главного раввина России], жизнь еврейского народа всё более и более улучшается, в то время как сейчас в Европе до сих пор очень сильно поднимает голову антисемитизм.
Поэтому ещё раз хочу сказать, я рад быть здесь и видеть всё то, что Вы сделали.

Начинающий на этой неделе целую серию зарубежных визитов президент США Барак Обама оказался объектом американской критики по части стиля своей дипломатии. И это как бы в порядке вещей. Но парой дней ранее в американском медийном поле (в основном в профильной по этой части Washington Post) произошел краткий обмен мнениями насчет того, какая внешняя политика нужна сегодня стране, и кто из кандидатов в президенты такой политике соответствует. Были высказаны умные и существенные мысли.
Нет друзей
Обама в своем турне начнет с трех ключевых стран — Великобритании, Германии и Саудовской Аравии. И первую, самую очевидную порцию критики он получил за то, что не способен поддерживать хорошие отношения с лидерами этих важных партнеров США. Не способен просто в силу своих человеческих странностей: неинтересны ему эти люди, да и вообще все зарубежное неинтересно.
Приговор в целом получается такой: в последние месяцы Обама обидел множество арабских лидеров Персидского залива, обвинил британского премьера Дэвида Кэмерона в том, что Ливия соскользнула в хаос… Да более того, а с кем из мировых лидеров у Обамы вообще сложились хорошие человеческие отношения? А ни с кем. Ему с ними скучно.
И это человек, который в начале своего правления (в Берлине в 2008 году) заявил следующее: "настоящее партнерство… нуждается в союзниках, которые слушают друг друга, учатся друг у друга и, более всего, доверяют друг другу". Честное слово, это ровно то, что годами говорили Западу российские лидеры.
Теперь посмотрим на более серьезный уровень дискуссии — в конце концов, проблемы Америки ведь не только в особенностях поведения ее нынешнего президента.
Вот мысль человека, которого я знаю, встречался с ним неоднократно: Джима Хоугленда, ныне отдыхающего от должности ответственного за страницу мнений в Washington Post. Мысль простая: Европа больна, как континент и как идея. "Вялая конфедерация", именуемая Евросоюзом, не способна решить никаких европейских проблем. В этой ситуации снисходительное пренебрежение, которое демонстрирует европейцам Обама, явно не то, что сейчас нужно.
Я бы сказал Джиму, что фактическое целенаправленное уничтожение Европы с помощью украинского и сирийского кризисов — это не совсем "снисходительное пренебрежение". Но тут уже частности.
Так или иначе, нынешняя дипломатическая вылазка американского президента считается прощальной, хотя Белый дом он покинет только в январе. И понятно, что если Обама во внешней политике делал все не так, то хочется знать, как же должен — в идеале — поступать следующий президент. И первое, что в состоявшемся обмене мнениями заметно — что очень трудно отделить "республиканскую" внешнюю политику от "демократической".
Лягается и кричит
Серьезная дискуссия предполагает, что никто из ее участников не принимает всерьез высказывания ведущих республиканских кандидатов в кандидаты, Дональда Трампа и Теда Круза. Построить стену на границе с Мексикой, не пускать в США мусульман, распустить торговые альянсы и НАТО (идеи Трампа) — это так, для публики. То же с предложением Круза подвергнуть ковровой бомбардировке территории (запрещенного в России) "Исламского государства".
Не забудем, что в США до сих пор обсуждают, удастся ли республиканцам убрать с дороги этих двух претендентов, и на партийном съезде летом выдвинуть кого-то менее эффектного, разумного, но способного победить Хиллари Клинтон, чьи позиции сейчас оценивают как довольно слабые.
Один из тех, кого называли таким "настоящим кандидатом", хотя он от этой чести твердо отказывается, — это глава палаты представителей конгресса Пол Райан. Который очень внятно высказался на темы внешней политики. И получилось, что, хотя Райан республиканец, у него ровно та же внешняя политика, что у Обамы, хотя с небольшими поправками.
Продолжать укреплять военную мощь — да, продвигать интересы США за рубежом — да. Но при этом быть реалистичными в своих ожиданиях и думать о том, что может произойти после очередной военной акции, во сколько обойдутся стране обязательства по наведению своего порядка в очередном разгромленном государстве.
"У нас бюджетные ограничения", напоминает Райан. У него вообще получается, что Обама все делает правильно, просто он чуть-чуть перебрал по части сдержанности и замедленности реакции.
А вот мнение человека, который работал министром обороны в администрациях и республиканской, и демократической — это Роберт Гейтс. Он тоже считает, что проблемы разве что в личных странностях Обамы, которого приходится "тащить силой в каждую новую внешнеполитическую ситуацию, а он лягается и кричит", и вообще решения по части дипломатии принимает от случая к случаю. В то время как большую политику надо планировать задолго и всерьез.
Самая интересная мысль Гейтса — в том, что ключевая опасность исходит не из слабой внешней политики (как у Обамы), а от ситуации, если следующий президент начнет пытаться исправить крен — и создаст совсем другой крен, перестарается по части жесткости.
Всем в Америке и за ее пределами понятно, о ком речь. Вовсе не о Трампе или Крузе, их по части внешней политики просто не воспринимают всерьез. Опасность — это Хиллари Клинтон, которая в своей предвыборной кампании не оставляет сомнений, что очень любит хорошую войну. Она только тем и занята, что обвиняет Обаму в том, что тот не воевал более активно в Ливии и не начал войну в Сирии. Она предлагала, а Обама каждый раз отвечал своей любимой поговоркой — "не сделать глупость".
Возвращаясь к ярким высказываниям Дональда Трампа, нетрудно заметить, что его идея распустить НАТО, члены которого не желают увеличивать военные расходы и тянут деньги из США, — это то же самое, что попытки Обамы (а до него и Джорджа Буша) высказать союзникам аналогичную мысль. Просто Трамп умеет сказать так, что мало не покажется, но суть та же.
Значит ли это, что Обама по части внешней политики — тайный республиканец и что победа Клинтон покажет, что настоящие поджигатели войны — это демократы? Но тут вспомним, что разговор вообще-то сводится к деньгам, которых у США на все не хватит, и это не просто республиканская, а очевидная мысль.
Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

20 апреля в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, впервые за два года после того, как альянс в одностороннем порядке заморозил взаимодействие с Россией после возвращения Крыма в РФ. И проблем меньше не стало. Свежие примеры — балтийские дуэли Су-24М и USS Donald Cook, перехват самолета-разведчика RC-135.
17 апреля Пентагон вновь обвинил РФ в "беспорядочных и агрессивных маневрах" вблизи RC-135. Россия вновь заявила о соблюдении всех правил безопасности и указала, что американские эсминец и разведывательный самолет слишком близко подошли к одной из российских военно-морских баз. Не навредит ли свежий ветер Балтики на встрече Россия-НАТО в Брюсселе 20 апреля?
С одной стороны, уколы "Фехтовальщика" — Су-24М в Балтийском море и перехваты иностранных самолетов в международном воздушном пространстве силами истребительной авиации ВКС — это будничная работа военных летчиков. С другой — количество "оскорбительных действий" может перейти в иное качество, тем вероятнее, что Калининградская область географически отделена от основной части России, находится между Литвой и Польшей, которые являются членами НАТО.
Полеты RC-135 без эмоций
Американцы считают, что перехват RC-135 российские военные летчики осуществили непрофессионально, опасно и очень агрессивно. Официальный представитель Европейского командования США Дэнни Эрнандес заявил: "Российский самолет совершал беспорядочные и агрессивные маневры на расстоянии 15 метров от тяжелого четырехмоторного RC-135… Российский Су-27 начал совершать фигуру "бочка", находясь слева от американского RC-135, а потом пролетел над ним и закончил фигуру уже справа от самолета".
Давайте разберемся без эмоций. Американский самолет-разведчик RC-135 имеет радиус действия свыше 4 тыс. км, способен создать радиолокационным способом цифровую картину воздушной, наземной и надводной обстановки — на глубину до 900 км, и в режиме реального времени передать ее боевым подразделениям во всех сферах. То есть, не нарушая границ РФ, RC-135 может рассмотреть в деталях группировку войск и сил РФ в Калининградской области, зафиксировать и передать точные координаты военных объектов (включая систему ПВО) для их возможного поражения.
Разве такой полет не выглядит провокационным? Между тем самолеты-разведчики RC-135 по заданию Пентагона часто летают в международном воздушном пространстве близ Калининграда, собирая данные о дислокации, перемещениях и радиопереговорах российских войск в этом регионе.
При этом заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу по-прежнему пытается пояснять России, какие действия НАТО считает недопустимыми. А иностранные СМИ активно освещают увеличение оборонных расходов Запада — под предлогом надуманной российской угрозы. В 2015 году европейские страны НАТО потратили на оборону 227 млрд долларов (Россия — 66,4 млрд долларов). И одна только Великобритания планирует в ближайшие годы вложить в перевооружение 250 млрд долларов, а также возобновляет боевое патрулирование подо льдами Арктики, которое было прервано в 2007 году. После обучения и тренировок подледные походы смогут осуществлять семь ударных субмарин. Причем на смену атомным многоцелевым атомным подводным лодкам класса Trafalgar приходят современные АПЛ класса Astute. Для чего США и НАТО вновь развертывают силы на востоке и севере Европы? Вероятно, альянс видит приоритетным наращивание передовых войск и сил, готовых к боевым действиям в первом эшелоне. И все же для дальнейшей милитаризации Европе не хватает консенсуса и финансовых средств. Организационные и финансовые проблемы НАТО нарастают.
Технологический предел
Политическое руководство США желает равного участия европейских союзников в расходах на оборону (равные доли в валовом национальном доходе). В 2014 году все члены альянса обещали вырастить свою долю до 2% к 2024 году. Сокращения оборонных бюджетов остановились, а перспективы увеличения невелики. Близок технологический предел эффективности и устойчивости громоздкой структуры НАТО.
На Варшавском саммите в июле Североатлантический альянс планирует предложить Грузии и Украине статус ассоциированных партнеров и черноморское сотрудничество "28+2" (с целью изоляции России на Черном море.). Это не заменит Тбилиси и Киеву дорожную карту по вступлению в альянс (MAP) и лишь увеличит список проблем НАТО.
Норвежское издание VG отмечает: "В краткосрочной перспективе НАТО решает острые проблемы безопасности, но в долгосрочной перспективе экономическая диспропорция будет разъедать альянс настолько сильно, что он вряд ли сможет удержаться от распада".
Французская Le Figaro пишет: "Если бы российские танки вошли завтра в Прибалтику, силы НАТО потерпели бы поражение за три дня: такой результат дала недавняя симуляция Rand Corporation с участием американских офицеров". Между тем общее число американских военных в Европе остается прежним: 62 тысячи. Сухопутные войска НАТО превосходят по численности российские в несколько раз.
Авторитетное американское издание The National Interest спрашивает: "Военная машина РФ и стратегия США Third Offset: кто кого?" — и отвечает: "На фоне происходящих событий армия США сомневается в соответствии принципов ее организации современным требованиям и задается вопросом, не обречены ли эти организационные принципы вообще на постоянное отставание. Не стоит забывать, что у российской армии неплохо получается появляться в срочном порядке практически без предупреждения".
The National Interest называет Россию самой мощной военной силой в Европе и отмечает: "Стремление РФ защитить свою позицию предпочтительного поставщика оружия в разные страны мира — веская причина для инвестиций в военно-промышленный комплекс страны и для демонстрации новых разработок в этой сфере. Если Россия найдет достаточно клиентов, она сможет обеспечить наращивание собственного военного потенциала и разрабатывать оружейные системы нового поколения". Технологические высоты ОПК тянут вверх другие отрасли российской экономики. В условиях санкций Запада Россия продолжает развиваться.
Неразрешимые противоречия
Американское издание Daily Signal констатирует: "Киев и Вашингтон сходятся во мнении: российская угроза сохраняется…
Война на Украине вступила в свой третий год, и руководители в Вашингтоне и Киеве ни исключают возможность того, что российская политика балансирования на грани войны станет новой нормой в Восточной Европе".
Военный бюджет США на 2017 год свидетельствует об усилении военного внимания к Европе. Белый дом в четыре раза увеличивает финансирование в рамках Инициативы по обеспечению европейской безопасности — с 789 миллионов до 3,4 миллиарда долларов.
В бюджетную заявку включена "нелетальная" военная помощь Украине в размере 335 миллионов долларов. Конгресс также выделил 75 миллионов долларов в совместный фонд Госдепартамента и министерства обороны для обучения украинских военнослужащих.
Накануне встречи в Брюсселе НАТО акцентировал непризнание Крыма российской территорией, силу решения о прекращении взаимодействия с РФ, и одновременно генсек альянса Йенс Столтенберг декларировал:" Эта встреча является продолжением нашего политического диалога".
10 апреля на встрече глав МИД стран "Большой семерки" министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил о возможном возвращении России в состав G8.
Таким образом, одной рукой Запад ведет активные военные приготовления, другой рукой приглашает к политическому диалогу. Противоречия налицо.
Относительно возвращения в состав G8 возникает вопрос о пользе западной иерархии для РФ. По сути, формат G8 не прошел проверку временем. Сегодня стали очевидными риски однополярной демократии и выгоды многополярного мироустройства. Россия может одинаково конструктивно сотрудничать со странами Запада и Востока в формате G20.
Александр Хроленко, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Шантаж на 750 миллиардов долларов. Комментарий Георгия Бовта
Саудовская Аравия грозит потрясением мировых финансовых рынков, грозя избавиться от своих активов, хранящихся в США на сумму 750 миллиардов долларов. Осуществить такую угрозу будет непросто, но поторговаться вокруг нее имеет смысл и Эр-Рияду, и Вашингтону
В канун визита президента США в Саудовскую Аравию Эр-Рияд решил предать огласке свою угрозу, доведенную до администрации США в ходе недавнего визита в Вашингтон главы МИД королевства Аделя аль-Джубейра. Саудовская Аравия продаст или выведет из США свои активы объемом 750 млрд долларов, если Конгресс примет закон, возлагающий на королевство как на государство ответственность за теракты 11 сентября 2001 года.
15 из 19 террористов были саудовскими подданными. В прошлом году в окружной суд Нью-Йорка был подан иск родственников жертв терактов. Однако судья Джордж Дэниэлс не нашел «достаточных доказательств», чтобы преодолеть суверенный иммунитет иностранного государства в данном случае, чтобы возложить на него компенсацию истцам.
Что любопытно, тот же судья недавно вынес вердикт, возлагающий такую ответственность на Иран, постановив, что с него причитается около 11 миллиардов долларов, именно за 11 сентября. Впрочем, исполнению этого приговора мешает закон 1976 года об иммунитете иностранных государств от исков в судах США. Вот его-то и собираются поправить законодатели в части, касающейся случаев государственной поддержки терроризма, когда речь идет о жертвах среди граждан США, нанесении ущерба их имуществу и в случае терактов, произошедших, начиная с 11 сентября 2001 года на территории самих США.
Законопроект был внесен в Сенат еще в позапрошлом году, но теперь, пользуясь значительной двухпартийной поддержкой, имеет шансы на прохождение в предвыборный год. Белый дом отчаянно лоббирует против.
Между США и Саудовским королевством давно установились особые отношения. Саудиты — важнейший союзник Америки на Ближнем Востоке. В американскую печать уже просачивалась информация о том, что администрация Буша в свое время сознательно скрыла факты, свидетельствовавшие о причастности Эр-Рияда к терактам. Так, якобы были проигнорированы показания свидетелей о связи между террористами и посольством Саудовской Аравии в Вашингтоне и консульством в Лос-Анджелесе. А также о финансовой поддержке террористов со стороны ряда так называемых благотворительных фондов, близких к правящей династии. В том числе, упоминался перевод 130 тысяч долларов одному из угонщиков самолетов от принца Бандара, тогдашнего посла в США.
28 страниц доклада комиссии Конгресса по расследованию терактов 11 сентября в 2002 году были засекречены. В Конгрессе выдвинута инициатива, призывающая Обаму, наконец, опубликовать их.
Среди мотивов «спускания на тормозах» расследования против Эр-Рияда, по утверждению некоторых, был не только военно-политический, но и масштабные финансовые связи США с королевством. В свое время даже писали о деловых контактах семьи Бушей с влиятельной в Саудовской Аравии семьей бен Ладенов, хотя не лично с Усамой, ушедшим из семьи.
Саудовская Аравия, в том числе, грозит избавиться от ценных бумаг казначейства США. Точный размер саудовской доли в них неизвестен. Как и доли дюжины других стран, в основном членов ОПЕК. Так заведено с начала 70-х, поры арабского нефтяного эмбарго. Казначейство с тех пор стесняется показывать конкретную долю столь деликатных партнеров, как Кувейт или Нигерия. Группа таких стран обозначена в отчетах казначейства как «нефтеэкспортеры». В феврале на нее приходилось 281 млрд долларов казначейских обязательств. Это на 12 млрд меньше, чем в январе.
Судя по всему, Эр-Рияд, чья доля в группе, видимо, около половины, а также другие нефтеэкспортеры уже приступили к распродаже долговых бумаг США с целью поправить ситуацию с бюджетом в условиях низких нефтяных цен. Остальная сумма из 750 саудовских миллиардов хранится в других ценных бумагах и на счетах в американских банках.
Осуществима ли такая угроза? В короткий срок провернуть такую сделку проблематично. Однако демонстративный вывод части активов и избавление от казначейских бумаг возможен. При этом саудиты, как говорится, выстрелят себе в ногу: их риал привязан к доллару, удар по доллару и американской финансовой системе подорвет и саудовскую валюту и финансы. Однако повышение ставок в игре со стороны Эр-Рияда понятно: в случае ареста активов они могут потерять гораздо больше. Особенно если сами знают, сколь обоснованы подозрения о причастности официальных лиц королевства к терактам, унесшим около трех тысяч жизней. Наиболее вероятно, впрочем, что Белый дом найдет способ либо заблокировать данный законопроект, либо смягчить его.

Россия поставила первую партию зенитно-ракетных комплексов С-300 в Иран. Историю вопроса, перспективы развития военно-технического сотрудничества двух стран и его влияние на обстановку в регионе комментирует военный эксперт, директор российского Центра стратегической конъюнктуры, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Иван Коновалов.
— Как происходила торговля вооружениями между Россией и Ираном? Всегда ли отношения были партнерскими?
— Для России Иран всегда был перспективным рынком. Однако в отношениях между странами было два серьёзных срыва.
В 1990-е годы Россия поставляла в Иран массу различных видов вооружений, но в 1995 году был подписан американо-российский меморандум "Гор — Черномырдин". Москва пошла навстречу требованиям США, практически свернув всё военно-техническое сотрудничество с Ираном. Тогда Россия потеряла примерно 2 млрд долларов, не говоря о серьёзных репутационных издержках.
Второй случай связан с поставками ЗРК С-300. В 2010 году тогдашний президент Дмитрий Медведев решил не поставлять 5 дивизионов, по которым уже был подписан контракт на 800 млн долларов, хотя в санкционный список СБ ООН комплексы не попадали. И это была вторая ошибка.
— Теперь ошибки исправляются?
— Да, и следует иметь в виду, что Иран перестал быть разменной монетой в американо-российских отношениях. Кроме того, Иран остается очень емким рынком вооружений — предположительно, это как минимум 15 миллиардов долларов.
В период санкций Иран поддерживал свои вооружённые силы исключительно самостоятельно при небольшой помощи Китая и Северной Кореи. Но теперь Иран нуждается в современных системах ПВО, авиации, танках и бронетехнике. Также ему требуется соответствующее материально-техническое обеспечение. Ни один из иранских танков не дотягивает до уровня Т-90.
Кроме того, российская помощь нужна и в плане перевооружения.
— Мы видим, что она уже начинает оказываться. Каков потенциал военно-технического сотрудничества России и Ирана?
— Я убежден, что диапазон этого сотрудничества в обозримом будущем станет ещё более обширным.
То же самое можно сказать о российско-иранском сотрудничестве в области освоения космоса, ядерной энергетики, строительстве железных дорог. Сейчас Тегеран, избавившись от санкций, стал большим открытым рынком, в котором многие заинтересованы.
Россия не в состоянии обеспечить все сегменты этого рынка, даже в плане поставок вооружений (например, беспилотная авиация, где у Ирана есть собственные разработки), однако может многое предложить. Те же ЗРК С-300 имеют очень высокий уровень эффективности. Это своего рода автомат Калашникова, только другого уровня, он очень надёжен и точно бьёт в цель. 5 дивизионов — это 40 пусковых установок. Это очень мощная сила.
— Что вы можете сказать о состоянии системы ПВО-ПРО Ирана на современном этапе?
— Нельзя сказать, что она идеальна. Однако даже в период санкций она была достаточно эффективной, а с получением комплексов С-300 стала более эшелонированной для обеспечения безопасности жизненно важных объектов страны.
При этом следует иметь в виду, что С-300 не усиливают наступательный потенциал Ирана, а только оборонный потенциал. А если страна в состоянии защититься от авиации и ракет противника, то это многое решает. В современной войне это обычно является одним из решающих факторов победы над противником.
— А кто противники Ирана? Как бы вы оценили его региональное положение сегодня?
— Несмотря на нынешнее участие Ирана практически во всех конфликтах на Ближнем Востоке, положение страны ныне существенно лучше, чем в период санкций.
Иран доказал, что прессинг санкций не слишком ослабил его, что произвело впечатление на региональных игроков. А выход из-под санкций существенно добавил Ирану политического веса как сильнейшей региональной державе.
Кризис в Сирии, где Иран и Россия действуют на одной стороне, и эта коалиция побеждает, добавляет очки Ирану. Иран будет строить свою политику таким образом, чтобы стать крупнейшей державой в регионе Ближнего Востока и Южной Азии.
В этой связи будет продолжаться противостояние Ирана с Саудовской Аравией, которая сейчас стала более активно действовать в спайке с Турцией.
— Что вы скажете про ирано-израильские отношения?
— Израиль всегда резко негативно относился к военному усилению Ирана. Но в свете нынешних событий в регионе он предпочитает занимать позицию стороннего наблюдателя, соблюдая своего рода вооружённый нейтралитет. Сейчас для Израиля важнее целостность и сохранность собственного государства.
— Возможно ли, на ваш взгляд, создание в Иране российской военной базы?
— Такую возможность нельзя исключать. Со стратегической точки зрения это было бы очень полезно. Маршрут через Каспийское море на базу на юге Ирана был бы весьма заманчивым, особенно в свете непростых отношений России с Турцией, контролирующей Босфор и Дарданеллы.
Конечно, это может вызвать очень серьёзную полемику в мировом сообществе. Но критикам есть и будет что возразить. У американцев 700 баз по всему миру.
— В свете этой возможности хотелось бы уточнить: а является ли Иран нашим союзником?
— Прежде всего, это — партнер России, а не союзник. У Ирана своё видение ситуации и тем более стратегических перспектив.
Сотрудничество России с Ираном в какой-то мере можно сравнить с российско-китайским сотрудничеством. Китай тоже партнёр России, но все прекрасно понимают, что он никогда не будет реальным союзником. Есть просто совпадающие интересы.

Федор Лукьянов: «В Кремле хорошо помнят уроки последней стадии Советского Союза»
Глеб ИВАНОВ
В минувшие выходные в Подмосковье собирался на ассамблею Совет по внешней и оборонной политике (СВОП) — клуб ведущих отечественных политологов. Именно здесь глава МИД Сергей Лавров сделал важнейшее заявление: готовится новая редакция Концепции внешней политики России. По итогам мероприятия председатель президиума СВОП Федор Лукьянов рассказал «Культуре», с какими вызовами наша страна столкнется в ближайшие годы.
культура: На ассамблее, в том числе в рамках обсуждения новой концепции, звучал такой тезис: страх перед применением ядерного оружия в мире слабеет — ведь уходит поколение, заставшее «холодную войну»…
Лукьянов: Действительно, порог снижается, опасения тоже. В этом плане, как ни странно, напоминание о том, что Россия в состоянии превратить США в «радиоактивный пепел», прозвучавшее два года назад по нашему телевидению, может быть и полезно. Обсуждаемое с пропагандистской точки зрения, оно служит заодно предупреждением и политическим элитам, и рядовым гражданам. Месседж, что риск тотального уничтожения сохраняется, — это, так сказать, не повредит.
Нашумевшее в феврале телешоу Би-би-си «Третья мировая война: в командном пункте», пошагово рассказывающее, как мог бы начаться ядерный конфликт с Россией, при всей провокационности сценария — в целом из той же категории. Нельзя забывать, как постепенно может раскручиваться спираль эскалации и насколько это опасно.
культура: В США генералы спокойно обсуждают применение маленьких ядерных зарядов для точечных операций, например для нейтрализации «топ-террористов». Скажем, в таких случаях, как охота на Усаму бен Ладена в пещерах Тора-Бора. Мол, оттуда радиация все равно никуда не выйдет. Или в каких-то ограниченных дозах правда можно?..
Лукьянов: Ни в коем случае. Падение табу чревато полной потерей контроля, это будет только начало. Если «оружие Судного дня» перейдет в категорию «обычное средство ведения войны», на планете сможет произойти все что угодно. Однако, я думаю, никакое правительство, включая Пакистан или Северную Корею, на это не отважится. Риск слишком велик. На ассамблее не случайно много рассуждали о необходимости оживления переговоров по контролю над арсеналами, о разоружении.
культура: Зато пресса постоянно нагнетает, что террористы становятся изобретательнее, число ядерных стран растет, радиоактивные материалы все более доступны и уж чего, а «грязную бомбу» в центре какого-нибудь мегаполиса смертники сумеют взорвать…
Лукьянов: Мне думается, это все-таки алармизм. Так пишут с 90-х под лозунгом «не если, а когда». Но в реальности контроль за ядерными арсеналами даже в проблемных странах, вроде Пакистана, весьма жесткий. Плюс у них, как правило, есть «внешний контур»: Соединенные Штаты подготовили планы на случай, если вдруг в Пакистане произойдет переворот и у власти окажутся «бородатые зайцы». Речь идет о немедленном захвате ядерных объектов, чтобы не допустить попадания оружия массового поражения в руки радикалов.
культура: Один из академиков на ассамблее заявил, что Россия втянулась в разорительную гонку. Он считает, нам достаточно поддерживать имеющийся ядерный щит, а мы пытаемся конкурировать с американцами по всему спектру вооружений, которые развивают за океаном. Хотя это слишком дорогое удовольствие: наступательные ядерные системы, ракеты, способные пробивать штатовскую ПРО, гиперзвуковое и высокоточное оружие…
Лукьянов: Это некоторое преувеличение. То, что он перечислил, правда. Но пока все лишь на этапе научных исследований, НИОКР, а главное, я не вижу признаков того, что российское руководство упускает из виду такую опасность. Наоборот, много говорится об этом, всегда изыскиваются возможности, чтобы давать минимально необходимые ответы на реальные угрозы. А на угрозы гипотетические? Следить за ними, однако, опять же, не втягиваться в симметричный обмен действиями. Все-таки выучены и уроки последней стадии Советского Союза, когда шла уже совершенно бессмысленная гонка вооружений, абсурдное наращивание средств уничтожения, которые оказывались заведомо не нужны, — из чисто спортивного интереса. Это существенно подорвало экономику, мы прекрасно помним.
культура: На ассамблее было сказано и о том, что агрессивность Запада может возрасти, поскольку средний класс, обычно заинтересованный в стабильности, там начинает сжиматься. Соответственно, меняются политические предпочтения общества, растет популярность политиков, предлагающих крайние средства.
Лукьянов: Средний класс на Западе понемногу раскалывается. Верхняя часть удерживается, но не растет, а нижняя — просто выбывает совсем на дно. Благодаря этому на подъеме сегодня в Евросоюзе ультраправые или ультралевые. В Америке, с одной стороны, Дональд Трамп, с другой, фантастического успеха добился Берни Сандерс, который, видимо, не выиграет номинацию от Демократической партии, однако до сих пор активно борется. Очевидное, в общем, свидетельство недовольства именно средних американцев — людей, привыкших думать, что их благосостояние гарантировано, но вдруг осознавших — это далеко не так. Плюс в развивающихся государствах «не-Запада», к которым с натяжкой можно отнести и Россию, наблюдается вроде как численное прибавление среднего класса. Однако и тут начинаются разного рода кризисы: мы видим это почти во всех странах БРИКС — Китае, Бразилии, Индии.
И снова: какова роль среднего класса? Мы всегда полагали, исходя из либеральных теорий: чем его больше, тем серьезнее запрос на демократию, гражданские и политические свободы. Это само собой трансформирует общество. Данная парадигма еще глубже укоренилась после «холодной войны», когда возникло много государств в транзитном состоянии. Сейчас вопрос, который особенно касается «незападного» мира: а так ли это? Действительно ли рост доходов среднего класса означает и повышение запроса на демократическую форму правления? Ответа пока нет. Я бы предположил, что и в России, и в Китае все может развиваться несколько иначе, не настолько линейно.
Вот в Поднебесной весьма озабочены проблемой, как, не имея западной электоральной системы, обеспечить меритократическое продвижение и обратную связь между партией и обществом? У нас в определенном смысле — тоже. В России процесс все более опирается на какие-то коммуникационные и политические технологии, в том числе соцопросы. Учет происходит, но он все время тактического плана. В Китае же с переменным успехом пытаются выстроить постоянно действующую систему такого оборота, однако без западных выборов.
культура: В России регулярно проходят гражданские волеизъявления. А как обратная связь работает в Поднебесной?
Лукьянов: Прежде всего с помощью постоянной ротации. Чтобы пробиться наверх, ты не можешь долго сидеть на одном месте. Если хочешь сделать большую карьеру, должен пройти все известные ступени — сперва потрудиться в мелком муниципалитете, затем на уровне города и так далее. Вот только из этих людей отбирают высшее руководство.
культура: Но то, что чиновник перемещается по кабинетам, еще не означает, что он своей деятельностью отражает чаяния обычных жителей.
Лукьянов: У него очень сильно расширяется горизонт, он учится понимать проблемы разного уровня. Китайцы считают такой опыт крайне важным. Если ты не прошел все ступени с самого низа, ты не сможешь быть наверху. Конфуцианские еще правила. В КНР исключен резкий рост карьеры.
А что касается обратной связи, то мощнейший идеологический аппарат спецслужб анализирует социальные сети и выявляет точки недовольства. Не доводить до того, чтобы ропот выплескивался в политическую сферу. Проще наказать конкретного чиновника на месте и доказать, что государство заботится о гражданах, чем ждать, когда недовольные, как говорится, начнут обобщать и делать выводы. Нынешняя масштабная кампания по борьбе с коррупцией, весьма обширная и репрессивная, — из этой категории. То есть партия показывает, что не ждет, пока поступят сигналы снизу, а начинает обновление сверху. Сработает или нет, второй вопрос, но в любом случае они сейчас здорово озабочены.
Нигде так глубоко и внимательно не изучали причины стремительного распада СССР, как в Китае. Если для Запада здесь имеет место академический интерес, то для КНР — это вопрос выживания. Наша катастрофа сильнее всего потрясла китайцев и до сих пор вызывает у них волнение: как вышло, что в КПСС, где было 19 миллионов членов, с наступлением кризиса никто почти не встал на защиту? Что прервалось и сломалось внутри? Почему не сработала обратная связь?..
культура: А насколько хорошо у нас теперь действует обратная связь в промежутках между выборами? Кроме пары-тройки партий в стране, все остальные — на самом деле карликовые. После Крыма общество заметно политизировалось. Однако при этом большинство россиян, в том числе средний класс, вовсе не спешат массово объединяться «по горизонтали»: с друзьями, соседями, единомышленниками и единоверцами. Никто массово никуда не вступает, не возникают новые профсоюзы. В храмах тоже народу больше не стало.
Лукьянов: Очевидно, что среднего класса в стране сейчас прибывает, например, за счет работников ВПК. Они долго были в загоне, а теперь с приходом политических изменений явно поднимаются и по доходам, и по статусу, и по самоощущению. Но это совсем другие люди. Вопреки либеральной догме, они не из тех, кто должен стремиться к большим свободам, к гражданскому обществу в их западном понимании. Они как раз попадают в средний класс благодаря государству. Так что тут интересный теоретический вопрос: как подобный рост будет влиять на политическую систему.
культура: Но возможно ли модернизировать страну без активности рядовых россиян?
Лукьянов: Невозможно. Взять все на себя и волочить — государство не в силах. Оно иногда в истории пыталось и даже достигало каких-то результатов, однако потом отстроенное начинало осыпаться без альтернативы. Мы и так ходим по одному кругу. Поэтому, думаю, активность населения совершенно необходима. Нужна и конкурентная — даже не политическая, а гражданская и предпринимательская — среда. Тенденция на огосударствление, взявшая у нас верх сколько-то лет назад, тоже имеет пределы. Главное, не перегнуть в сторону зацементированного «бюрократического рынка».
культура: После воссоединения с Крымом россияне остаются в некоем напряжении и готовности. Но при этом будто бы настроены ожидать инициативы только сверху…
Лукьянов: У нас создалась странная модель. Общество мобилизовано, это факт, — но оно никуда не движется. То есть люди встали на поддержку власти. А теперь от нее же и ждут: «Ну и? Дальше-то что?» Власть пока ничего не формулирует, потому что, скорее всего, сама не знает. Это не критика, просто в современном мире действительно трудно понять, куда двигаться. Но и нынешняя замороженная мобилизация достаточно противоестественна. Должен быть сформулирован наконец-то призыв и направление. Бесконечно держать массы «под ружьем» ради поддержки текущей политики, какая бы она ни была? Это очень исчерпаемо.
культура: Если ничего не изменится, начнется ползучая демобилизация?
Лукьянов: Да. Либо придется находить все новые поводы — хорошо, если не искусственные. Украину же не выдумали, это естественный кризис, который внезапно взорвался у нас под боком. Однако и ехать вперед на одних только поводах нельзя, нужна хоть какая-то цель.

иллиардер Дональд Трамп в последние месяцы является самой популярной фигурой в медийном пространстве США. В сущности, можно сказать, что тема предвыборной кампании в борьбе за пост президента пока сводится к вопросу: победит Трамп или кто-то другой? Мировое сообщество, похоже, задается иным вопросом: Who is Mr. Trump? Ответ на него лучше многих других знает президент Российско-Американской торговой палаты в США Сергей Миллиан, который работал вместе с Трампом. В интервью корреспонденту РИА Новости в Вашингтоне Дмитрию Злодореву он рассказал, почему, на его взгляд, Трамп пойдет на улучшение отношений с Россией, как бизнесмен относится к русским и насколько образ в телевизоре соответствует реальному человеку.
— Сергей, расскажите, пожалуйста, как вы познакомились с Трампом?
— Наши общие знакомые занимались организацией его поездки в Россию на "Ярмарку миллионеров" в 2007 году. Тогда Трамп пригласил меня как руководителя Российско-Американской торговой палаты (РАТП) на скачки на ипподроме "Гольфстрим" в Майами. Позднее мы встречались в его офисе в Нью-Йорке, где он познакомил меня со своей правой рукой — Майклом Коэном. Он — главный юрист Трампа, через которого проходят все контракты. После этого Trump Organization и Related Group — один из мощнейших застройщиков в США, владельцем которой является миллиардер Джордж Перес — подписали со мной эксклюзивный контракт на продвижение в России и СНГ их недвижимости. Можно сказать, я был их эксклюзивным брокером. Тогда, в 2007-2008 годах, россияне десятками покупали квартиры в домах Трампа в США. Но я бы не хотел разглашать конкретные суммы и имена.
— И насколько активно вы общаетесь с Трампом или его помощниками сейчас?
— Последний раз это было несколько дней назад.
— Вы знаете Трампа лично и видите его по ТВ. Насколько он в личном общении отличается от того образа, который мы видим на экране?
— Конечно, в телевизоре он выглядит немного иначе, как, наверное, и все люди. Я бы сказал, что в жизни он настроен больше по-отечески, по-деловому к тем, с кем общается. Могу сказать, что он очень подготовленный и очень вежливый человек. Например, когда нас знакомили, у него в комнате была бутылка знаменитого шампанского "Кристалл". Он сразу предложил мне фужер, хотя сам он вообще не пьет. Но он знал, что русские иногда любят выпить. Скажем так: он знает культуру других стран.
— Вы оценили шампанское миллиардера?
— Пригубил глоток для приличия.
— В своей предвыборной кампании, насколько можно судить по теледебатам и выступлениям, Трамп эпатирует публику и конкурентов и за словом в карман не полезет. Ощущения от личного общения такие же?
— Нет. Он деловой, проницательный человек, который знает, чего хочет. У него очень четкая структура мышления. В России некоторые сравнивают его с Жириновским. Я с этим не согласен. Хотя, возможно, это идет от того, что с Трампом я общался лично и знаю его лучше, чем другие люди, которые видят его только по ТВ. Правда, с Жириновским у меня такого близкого общения не было и я не могу сказать, каков он в обычной жизни. Но то, как Трамп позиционирует себя на публике, несколько отличается от того, что я видел в реальности.
— Может быть, это как раз следствие того, что он четко знает, чего хочет, и такая манера поведения является четко продуманной стратегией?
— Вполне возможно. Если он считает, что это нравится людям и приносит политические дивиденды, я думаю, мы не вправе судить его.
— Многие называют Трампа популистом. Это так?
— Поскольку я знаю его с деловой точки зрения, то и говорить буду об этом. Он — успешный бизнесмен. Популисты обычно говорят, но не делают. А этот джентльмен говорит, делает и достигает больших результатов. У него было несколько очень успешных проектов: отель "Командор", здание Trump International, Trump World Tower, Trump Tower, Trump Building на Манхэттене — все это очень успешные проекты. Правда, он потерял много денег на казино в Атлантик-сити, можно сказать, прогорел там.
— Не прогорит ли Америка, если Трамп станет президентом?
— Думаю, от него будет большая польза. Мне кажется, он сможет улучшить некоторые процессы в государстве, потому что они сейчас очень бюрократизированы. Например, это касается медицины. В США тебе хорошо улыбаются, но по уровню доступности и времени ожидания здесь здравоохранение уступает многим странам.
— Складывается впечатление, что на республиканских праймериз вместо фамилии Трамп в бюллетени можно смело ставить имя кандидата "против всех". Тот факт, что сначала в предвыборной гонке лидировал бывший нейрохирург Бен Карсон, а теперь бизнесмен Трамп, говорит о том, что люди просто устали от сложившейся в США политической системы, не так ли?
— Люди, конечно, устали, потому что в американской власти в последнее время идут кланы — Клинтоны, Буши. Учитывая то, что сейчас народ имеет гораздо больше информации, он хочет видеть новые лица во власти.
— Предположим, придет новое лицо — Дональд Трамп. Чего, на ваш взгляд, следует ожидать?
— Во-первых, улучшит отношения с Россией. Он человек практичный и деловой, и я точно знаю, что в России у него нет ни одного бизнес-конфликта. Для крупных предпринимателей, работавших с РФ, это редкость. Трамп в России ничего не построил, но свою торговую марку зарегистрировал там в 1993 году. Кстати, одним из направлений нашего сотрудничества с ним было изучение рынка Москвы. Мы высказали свое мнение, он — свое. Я не хочу озвучивать его позицию, но он держит Москву в поле зрения и ждет подходящего времени.
— Сейчас есть санкции, есть много негатива. Что будет делать Трамп со всем этим по отношению к России?
— Я думаю, он сможет договориться о том, как разрешить политические конфликты, договориться по Сирии и Украине. И это расчистит дорогу для того, чтобы американское общество, политический истеблишмент и деловые круги осознали, что пора снимать санкции и возобновлять полноценный диалог с Россией. Ведь если посмотреть с позиций истории, Путина ни в коем случае нельзя сравнивать со Сталиным, но даже при Сталине со стороны США не было такого негатива, как сейчас. Тогда в СССР приезжали американские инженеры, в Америке закупалось оборудование для советских заводов. Сейчас же, если сравнивать с периодом железного занавеса и холодной войны, нет таких трудностей, чтобы политики не могли их решить. На мой взгляд, нынешний спор очень сильно раздут со стороны власть имущих и от этого страдает средний класс. Я знаю многие американские компании, которые полностью свернули бизнес в РФ, и российские фирмы, прекратившие работу в США.
— Но что есть у Трампа и нет, например, у Обамы, из-за чего Обама не может или не хочет договориться с Россией, а Трамп — сможет и захочет?
— Во-первых, Обама из другой партии, у него совершенно иные политические соображения. Да, в целом республиканцы относятся к России более критично, чем демократы.
Но из всех республиканцев Трамп — единственный, кто говорил о ней более или менее позитивно. Правда, если посмотреть внимательно, чересчур положительных вещей на этот счет у него не было. Он не говорил, что все будет идеально. Но, в отличие от всех остальных, он трезво мыслит и знает, что отношения всегда развиваются по синусоиде. На мой взгляд, если Трамп станет президентом США, отношения с Россией будут идти по восходящей или, по крайней мере, не ухудшатся.
— Республиканская элита хочет торпедировать Трампа. Возможно ли это и как?
— У них есть задача "потопить" Трампа. Сначала с этим хорошо справлялся тандем сенаторов Теда Круза и Марко Рубио, теперь Круз неплохо справляется в одиночку. Из-за этого Трамп потерял очень много очков.
— Раньше Трамп несколько раз участвовал в предвыборных президентских гонках и выпадал из них на ранних стадиях. Что изменилось сейчас?
— Возможно, просто пришло его время. И ситуация в экономике, и настроения в обществе способствуют укреплению его позиций.
— Короля играет свита. Несколько месяцев назад вы говорили, что Трамп пойдет на улучшение отношений с Россией, но будет прислушиваться к лобби. Насколько он ему подвластен?
— Как и любой президент, он будет зависим от лобби — корпоративного сектора, военно-промышленного комплекса и спецслужб. Эти три направления влияют на экономические отношения. В целом же Трамп очень положительно относится к русским, потому что видит в них клиентов для своего бизнеса. Кстати, очень многие проекты он делал с представителями русскоязычной диаспоры. Например, Trump SoHo в Нью-Йорке — с миллиардером Тимуром Сапиром.
— Вы сказали, что он видит в русских своих клиентов. А не может ли быть, что в качестве президента Трамп будет видеть в России именно клиента, а не партнера?
— Мне кажется, партнерство основано на дружбе, взаимоуважении и взаимопонимании, а бизнес — на клиентских отношениях продавца и покупателя. Поскольку у меня с Трампом и его командой именно деловые, а не дружеские отношения, то я могу говорить только о чисто деловых моментах.
— Президент-бизнесмен для Америки это хорошо?
— А что в этом плохого? Рейган был актером, Эйзенхауэр — военным. Пусть теперь будет бизнесмен. Я надеюсь, он упорядочит американскую бюрократию, максимально упростит процедуры, необходимые для получения документов, и ускорит работу административного аппарата не только на федеральном уровне, но и в штатах, городах, муниципалитетах. Будем надеяться, что он перенесет на политическую площадку наиболее эффективные из своих бизнес-механизмов.
— Вы в ноябре будете голосовать за Трампа, если, конечно, его выберут кандидатом от Республиканской партии на съезде в июле?
— Я республиканец и буду голосовать за кандидата, которого предложит партия. Но за того, кто будет поддерживать хорошие отношения с Россией.

Россия как развивающаяся экономика выглядит интересно с точки зрения инвестирования. Мировой рынок нефти уже преодолел дно, что хорошо для таких стран, как РФ, а рублю в ближайшее время не грозит высокая волатильность. О том, как выглядит страна с точки зрения иностранных инвесторов и как будет развиваться мировая экономика в целом, в интервью РИА Новости рассказал управляющий директор швейцарской финансовой группы Credit Suisse Майкл О'Салливан. Беседовала Вероника Буклей.
— Давайте поговорим о перспективах глобальной экономики. Ключевые экономики держат ставки на исторически низких уровнях, рост в Китае замедляется. Значит ли это, что мировой экономике грозит рецессия?
— Я не думаю, что мы столкнулись с рецессией. Проблема в том, что рынки еще в феврале заложили рецессию в цену. Даже если мы посмотрим на банковский сектор, он и сейчас учитывает в ценах рецессионные условия. Однако это больше касается рынков и избегания риска.
Что касается глобальной экономики, в настоящий момент мы наблюдаем улучшение макроэкономических показателей в США и в Европе. США, Китай и Европа чувствуют себя нормально, и важно, что все они движутся в одном направлении. В течение последних восьми месяцев они были асинхронны. Развивающиеся рынки сжимались, США росли, Европа была где-то посередине. Такое разнонаправленное движение с трудом позволяло увидеть полную картину. У меня впечатление, что экономика Китая в некоторой степени восстанавливается, экономика США определенно восстанавливается, ситуация в Европе не такая ясная, но они все движутся в одном направлении. Поэтому я думаю, что разговоры о рецессии будут сняты с повестки на ближайшие шесть месяцев.
— Каков ваш взгляд на развивающиеся экономики, которые обычно считаются рискованными инвестициями? Какие из них сегодня выглядят многообещающими?
— Я думаю, Россия выглядит интересно. В целом развивающиеся рынки, как класс активов, выглядят интересно, поскольку они очень дешевы. Они были непопулярны среди инвесторов в последние четыре-пять лет. Я думаю, доллар может немного вырасти по сравнению с текущими уровнями (DXY = 94,5), а затем наступит период стабильности.
Цена на нефть (41 доллар за баррель марки Brent) также начинает стабилизироваться. Для таких стран, как Россия, это хорошо. В отдельных странах, например в Турции, по ряду причин сохранится состояние, близкое к кризисному. Бразилия находится в политическом кризисе. Я думаю, по мере ускорения роста нужно очень избирательно относиться к развивающимся рынкам. Например, из развивающихся рынков нам не нравится ЮАР.
— Почему?
— В этой стране существуют значительные политические, институциональные и валютные риски.
— Российская экономика во многом зависит от нефти. Каков ваш прогноз по ценам на нефть?
— Я думаю, что рынок нефти уже достиг дна, поскольку 27 долларов за баррель — это отметка, при которой производители испытывали огромные трудности и не хотели бы к ней вернуться. В корпоративном сегменте мы видели значительное сокращение инвестиций в нефть и нефтепереработку, а это означает, что в долгосрочной перспективе цены на нефть будут немного выше. Я думаю, что на встрече 17 апреля (в Дохе — ред.) будет предпринята попытка сохранить стабильность.
— Каковы ваши ожидания от этой встречи? Поможет ли она стабилизировать цены?
— В центре процесса — сложное созвездие стран, не так ли? Сейчас идет предпереговорный период. Я думаю, Россия заняла очень сильную позицию благодаря своему влиянию на Иран и операции в Сирии. В некотором отношении Россия является ключевым игроком. И это в интересах России — стабильная или более высокая цена на нефть.
— Вы упомянули, что доллар может немного подрасти. Может ли это стать фактором давления на рубль?
— Я думаю, что доллар стабилизируется. Возможно, до конца года он вырастет, это будет зависеть от статистики по инфляции в США, но я не считаю, что в связи с этим мы увидим резкое ослабление валют развивающихся рынков по отношению к доллару в течение следующих нескольких месяцев. Сейчас мы находимся в фазе стабильности.
— Есть ли у вас прогноз по курсу рубля?
— Я думаю, он достигнет 65 или 66 рублей за доллар, что недалеко от текущих уровней (67 рублей). В краткосрочном периоде.
— Будет ли рубль так же волатилен, как в прошлом году?
— Я не думаю, что он будет так же сильно волатилен. Решение отпустить рубль было правильным. Думаю, он был волатильным по нескольким причинам. Одна из них — это доллар, вторая и основная — это цена на нефть, третья — последствия геополитической напряженности.
— Можно ли сказать, что российская экономика находится на пути к восстановлению — ведь инфляция замедляется, а статистика производства улучшается?
— Я определенно думаю, что она восстанавливается. Для восстановления необходимо некоторое время. Следующий этап — это возобновить кредитование компаний банками. Компаниям необходимо чувство стабильности с точки зрения фискальной политики, правил ведения бизнеса и так далее. Люди не могут инвестировать, принимать решения, если не понимают, какова политика.
— Думаете ли вы, что участники рынка сохранят обеспокоенность по поводу Китая?
— Я думаю, да. Китайские власти очень стараются делать ясные заявления и не делать шагов, которые расшатали бы рынки. Они понимают, что, если коммуникация не будет налажена, им придется иметь дело с последствиями.
— Ряд центробанков, включая ЕЦБ, установил отрицательные процентные ставки. Считаете ли вы подобные меры адекватными и своевременными?
— Я думаю, что они носят скорее экспериментальный характер. В некоторых странах, например в Японии, они могут иметь все более негативные последствия, поскольку японские домохозяйства привыкли сберегать. Сейчас в Японии появится что-то вроде налога на сбережения, и не ясно, что люди будут делать с деньгами и что это будет означать для уровня зарплат. По-моему, это похоже на эксперимент и он позволяет выявить другие проблемы. Одна из них — это высокий уровень долга, другая — нежелание правительств активно проводить реформы.
— То есть это скорее крайние меры вроде попытки понять, помогут ли они?
— Да. Есть опасения, что центробанки, возможно, слишком полагаются на подобные эксперименты и оказывают недостаточное давление на правительства, чтобы они также включались в работу.
— Ряд западных банков недавно объявил о масштабных сокращениях. На ваш взгляд, это временные меры или это становится тенденцией?
— Я думаю, что банки все еще перестраиваются после докризисных лет (кризиса 2008 года — ред.), в которые они разрослись до огромных размеров. Теперь они уходят от этих масштабов. Этот процесс обусловлен изменениями в регулировании и необходимостью сокращать баланс. Таким образом, это лишь часть тренда, который существует уже семь-восемь лет.
— Это не связано с тем, что банки переживают не лучшие времена?
— Во многом эти процессы связаны с регулированием, многое продиктовано необходимостью сокращать баланс.
— Как вы оцениваете китайский проект "Один пояс, один путь"? Сможет ли он изменить экономическую картину мира?
— Это во многом зависит от политики, а также отношений между странами. Россия гораздо меньше торгует с Китаем, чем с Европой. Я действительно верю, что мир становится многополярным и менее глобализованным, определяются четкие полюса экономических отношений. Шелковый путь является частью этого процесса.
Если Россия хочет стимулировать экономику, лучшим способом является налаживание отношений с Европой. Реализация идеи Шелкового пути займет очень много времени.
Для России в этих странах существуют конкуренты в сфере нефти и газа, все они хотят продавать и увеличивать свою долю рынка в Китае.

Сдать следствию все документы, электронную переписку, исследовательские работы, наброски и черновики за период с 1997 по 2007 год. Такой приказ поступил от прокурора Виргинских островов (США) исследовательскому центру Competitive Enterprise Institute, который изучает мировую энергетику и ее влияние (а также отсутствие влияния) на перемены климата.
Что происходит? Лоббистская битва невиданного накала, которая просто не может не затрагивать внутреннюю российскую политику. Не убережемся от таких историй — будут и у нас арестовывать документацию исследовательских институтов за то, что они сделали неправильные открытия.
Явки, связи, финансирование
Следствие ищет связи научного центра с Exxon Mobil, одной из крупнейших нефтяных компаний даже не США, а мира. То есть речь о том, не подкупил ли нефтяной гигант ученых, чтобы повлиять на результаты их труда. Если найдут хоть обрывок документа о таких связях — для тех, кто считает, что есть глобальное потепление и виноваты в нем нефтяные, угольные, газовые и прочие компании, будет большая радость. Это примерно как раскрыть троцкистское подполье в СССР году этак в 1937-м.
Консервативное издание Daily Signal, рассказывающее об этой истории, говорит о заговоре судей и прокуроров против всех "отрицателей". То есть отрицать глобальное потепление и особенно то, что в нем виноваты вполне определенные компании, — это в США еще вчера пытались выдать как минимум за признак умственной отсталости и морального уродства. Сейчас такое "отрицание" становится постепенно уголовным преступлением.
А то, что прокурор, выписавший упомянутое постановление, состоит членом "объединения за чистую энергетику", связанного с партией демократов, — это как бы ничего. Если это и прочие объединения и компании финансируют науку, утверждающую, что потепление есть, — это тоже ничего. Это у них нормально. Потому что цель всей этой давней "кампании за спасение планеты" — заставить американцев, а также весь мир платить за "альтернативные" технологии производства энергии гораздо больше, чем они (мы) платим сейчас за обычную энергетику, типа электростанции на мазуте. Два лобби столкнулись в битве.
Масштабы битвы можно себе представить из еще одной подобной истории. Она про то, что теми же методами действует и противоположная сторона.
Созданный в 1950 году и финансируемый из федерального бюджета Национальный фонд науки распределяет гранты на исследования. Комиссия конгресса США (связанная скорее с республиканцами) ведет сейчас расследование насчет того, на какие проекты в последнее время расходуются эти деньги. Дело в том, что деньги поступали на миллионные суммы профессору Джагадишу Шукле — лидеру группы из 20 научных работников США, которые требуют от президента Барака Обамы преследовать тех, кто не верит в потепление, в уголовном порядке. Причем Шукла и его команда хотят, чтобы против ученых был применен акт, разработанный в свое время для борьбы с мафией, акт об организациях, находящихся под коррумпирующим влиянием (RICO).
Итак, два лобби, финансовая база демократов и республиканцев. Если вам непонятен накал страстей в нынешней президентской предвыборной кампании, следите за будущим "арестом троцкистов" в исследовательских центрах: дело-то дошло до крайней стадии. И, кстати, не только по части энергии и климата.
Теперь выводы
Что нам в этой истории важно, какие выводы было бы хорошо сделать? Для начала следует понять, что эколог сегодня — это человек специфической профессии в зоне риска (если, конечно, он касается в своей работе проблемы климата).
Борьба двух лобби идет не просто смертельная, а еще и глобальная. И очень полезно знать, чьи гранты получает та или иная скандальная группировка, работающая в России и "спасающая планету". Нам кажется, что иностранные агенты — это люди, вмешивающиеся в нашу внутреннюю политику. А экология (то есть энергетика) и еще несколько таких идущих в России американских лоббистских кампаний — это не политика. Так вот, это еще худшая политика, чем влияние на исход тех или иных выборов.
Надо учитывать, что в таких кампаниях применяется особо опасное оружие — бешеная и глобальная информационная обработка мозгов. Заметим, что американцы, первые ее жертвы, это уже поняли. Тот же ресурс Daily Signal напоминает, что, согласно последнему исследованию социологической службы Pew Research, 65% американцев не доверяют своим СМИ и переходят на альтернативные источники получения информации. Такого в истории страны еще не было.
И давайте честно скажем, что это вряд ли потому, что в этих СМИ американцам не так рассказывают об Украине, о России, Крыме или Сирии. По крайней мере Daily Signal утверждает, что население страны устало от лоббистской обработки умов по вопросам, более непосредственно затрагивающим повседневную жизнь американца.
Это и экология, и, добавим, борьба с сахаром, табаком и пальмовым маслом (вместо американского соевого), и многое другое. Во всех случаях используются одни и те же приемы психологического давления через СМИ. А именно, "спор на эту тему закончен", "97% ученых считают, что в потеплении виноват человек", и т.д.
И вот сейчас мы видим, что в США бывает с теми, кто пытается говорить очевидное, — что спор только начинается, и что о потеплении и прочем упомянутом на самом деле имеются и другие научные данные. У них тогда арестовывают документацию по статье "отрицатели" и "сомневающиеся". Daily Signal очень убедительно показывает, как ведущие СМИ вводят стандарты того, как положено писать на эти темы, чтобы уберечься от судебных исков.
От этой заразы Россию хорошо бы уберечь. От использования как науки, так и СМИ для обработки умов в пользу только одного из минимум двух конкурирующих лобби.
И последнее — из серии мировой политики. России выгодно, чтобы на президентских выборах победил республиканец (любой) как минимум потому, что все республиканские кандидаты напоминают, что идея насчет "потепления" наукой не доказана. А дальше, в случае прихода к власти республиканца, будет интересная история с тем, насколько быстро миру удастся избавиться от подписанных в прошлом году Парижских соглашений по климату.
Сегодняшняя Washington Post говорит, что эти соглашения (если вообще вступят в силу после ратификации необходимым минимумом государств) удастся демонтировать только в 2020 году. Ведь для того, чтобы это сделать, республиканцам сначала придется долго ограничивать всевластие "климатического" лобби в США. Дональд Трамп, скандальный республиканский кандидат, обещает это сделать, так ведь он много чего обещает.
Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Экономика России преодолела острую фазу кризиса и находится на пути к стабилизации — страна смогла адаптироваться к непростым условиям санкций и даже найти для себя новые возможности. В преддверии международной конференции по обеспечению роста инвестиций в России "ИнвестРос" президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Веронике Буклей о том, какие отрасли РФ выглядят привлекательными в новых условиях и какие меры могли бы поддержать бизнес.
— Официальная статистика РФ свидетельствует о первых признаках восстановления промышленности и замедления инфляции. Можно ли в связи с этим сказать, что появилась надежда на восстановление экономики и улучшение инвестиционного климата в стране?
— Да, я думаю, что стабилизация уже намечается. Уже некоторое время рубль стоит на месте или даже укрепляется, поэтому и резких действий какое-то время нет. Люди привыкают, как это теперь называют, к "новой нормальности", к тому, что теперь, в новых обстоятельствах, надо перестраиваться и жить дальше.
Мне кажется, большие, резкие антикризисные мероприятия уже позади и нужно жить в тех условиях, которые есть. И как я вижу, люди уже это делают — сжались, сэкономили и продолжают искать новые возможности.
В любом кризисе есть своя положительная сторона. При ослаблении рубля производство в России всему миру кажется гораздо более дешевым, поэтому Россия экспортирует теперь товары, которые раньше были неконкурентными по цене.
— То есть американские компании остаются в России и продолжают работать в рамках допустимого?
— Рамки допустимого (для американских компаний — ред.) достаточно широкие: что касается товаров, то ограничено меньше процента из того, чем торговали раньше. Наверное, самое обидное — это финансовые санкции, которые ограничивают доступ к кредитам. Однако если смотреть на крупные многонациональные компании с американскими корнями, то для них это не особенно большое ограничение. Если им нужно финансирование, они получают его в Нью-Йорке и переправляют тому филиалу, которому нужно, через свои, корпоративные, каналы.
Но когда экономика сжимается, стоит вопрос: зачем расширяться? Кто будет это покупать, если не будет экспорта? Кто-то экспортирует. Кроме того, компании, имеющие сложные, многострановые логистические цепочки, могут переориентировать свои потоки.
— Можно ли сказать, что в условиях "новой нормальности" именно экспортные отрасли стали наиболее привлекательными?
— Я бы не сказал наиболее, скорее — более. И здесь вопрос к правительству, поскольку с точки зрения экспорта из-за используемых здесь бюрократических процедур Россия — далеко не самая удобная страна. Эта тема поднималась на недавней встрече РСПП с президентом Владимиром Путиным, где я присутствовал. Президент согласился, что необходимо снять барьеры, мешающие нормальной работе экспортеров.
— Какие еще шаги власти РФ могли бы предпринять, чтобы облегчить жизнь бизнеса и повысить привлекательность экономики?
— Инициатива, которая прозвучала, — и очень интересно, как она наполнится содержанием, — это идея о том, что инспекция и контроль должны производиться на основании анализа рисков, то есть нужно сосредоточить внимание там, где нужен контроль и присутствуют риски. Это новая для России идея, но, мне кажется, очень перспективная. И мы приветствуем ее появление.
Есть ряд других вопросов, которые очевидны из индекса Doing Business Всемирного банка. Над ними тоже ведется работа. Мы поддерживаем проекты Агентства стратегических инициатив, которое через свою систему оценок инвестклимата в разных регионах России создает своего рода конкуренцию между регионами и дает возможность делиться лучшим опытом. Это действительно очень сильный инструмент, который уже дал большие результаты.
Американские компании работают в регионах, их тоже включают в опросы, и их ответы учитываются в общих оценках. И потом эти оценки очень внимательно рассматриваются губернаторами регионов и их администрациями.
— Какие меры, на ваш взгляд, могли бы помочь повысить интерес зарубежных инвесторов к проектам с компаниями малого и среднего бизнеса в России?
— Мы сами ведем большую работу с компаниями малого и среднего бизнеса и поддерживаем работу Минэкономразвития и теперь новой корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, основные кадры которой вышли из Минэкономразвития. Во-первых, это действительно важно, во-вторых, условия для работы малого и среднего бизнеса не самые легкие в России: здесь очень тяжелое административное бремя ложится на любого, кто осмеливается заявить о том, что он в бизнесе.
Мне кажется, важным подспорьем для малого бизнеса было бы упрощение процедуры отчетности. Кроме того, если будет реализована идея о проверках и контроле на основе оценки рисков, то здесь тоже очень многое можно было бы сделать, чтобы малый бизнес почувствовал себя получше.
Мы также получаем обращения по поводу правоприменительной практики в регулировании лизингового бизнеса. А лизинг — это наиболее перспективный способ финансирования малого бизнеса. Сфера для России относительно новая, хоть и очень перспективная, и законодательство пока не очень четкое. Как мы видим, судьи иногда выносят противоречивые решения. Причем в результате этих решений выигрывает даже не сам арендодержатель, который не смог платить за лизинг и ему пришлось вернуть оборудование, а какие-то лица, которые приобретают права требования и, раздувая дело, получают большие деньги от арендодателя.
Это приводит к тому, что какие-то компании, занимавшиеся лизингом, просто не выдержали и сошли со сцены, перестали предлагать эту услугу. Крупные компании, которые попали в такую ситуацию, думают о том, стоит ли и можно ли в России вести лизинговый бизнес. В любом случае такая практика приводит к повышению рисков и из-за этого — повышение стоимости. А повышение стоимости — это прямой удар по малому бизнесу в том числе, поэтому мы просим, чтобы эти законы были более четко написаны, чтобы не было такой практики, которая приводит к повышенным рискам.
— Летом мы говорили о том, что санкции могут быть сняты в обозримой перспективе, как сейчас выглядят эти перспективы?
— Я бы не сказал, что ситуация ухудшилась, но то, что она застыла — это факт. Будет очень важно следить за европейским разговором на эту тему, потому что европейцы в июне должны пересмотреть продление самых значимых санкций, то есть санкций, которые действуют на банковскую систему, и санкций, которые действуют на энергокомпании.
В США говорят, что пока ничего не сдвинулось в желаемую сторону и никаких поблажек быть не может, и только когда будет сделано все, что они считают нужным, тогда санкции будут сняты. У европейцев звучат разные голоса о том, что санкции к желаемому результату не привели и не приведут, а к нежелаемому результату уже привели и продолжают приводить.
Конечно, очевидных политических действий, которые говорили бы о том, что будет смягчение, я не вижу. С другой стороны, просто проходит время и происходит переосмысление того, нужно это кому-то или нет.

Выборы нового генерального секретаря ООН в очередной раз пройдут в 2016 году. Их основным отличием от предыдущих кампаний станет большая открытость и прозрачность. Предполагается, что теперь все 193 страны ООН смогут поближе познакомиться с кандидатами, задать им интересующие вопросы и определить лучшего для всех. Однако основное правило остается прежним — согласно Уставу ООН, генсек назначается Генеральной ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности.
Первый раунд неформальных дискуссий с кандидатами на пост генерального секретаря ООН пройдет с 12 по 14 апреля.
О том, что может изменить новая процедура избрания генсека для Совета Безопасности, кто может им стать и есть ли шансы на дальнейшие реформы ООН, в интервью руководителю представительства МИА "Россия сегодня" в Швейцарии Елизавете Исаковой рассказал исполнительный директор Всемирного движения федералистов — Института глобальной политики США, председатель совета коалиции Международных уголовных судов Уильям Пейс.
— Господин Пейс, в нынешнем году состоятся выборы генерального секретаря ООН уже по новой процедуре. Почему это может стать историческим процессом?
— В 2015 году Генеральная ассамблея ООН согласовала резолюцию, которая меняет процедуру назначения генерального секретаря ООН в 2016 году. Собственно, эта процедура будет впервые. В прошлые разы процесс был полностью секретным. Никакой номинации, никакой процедуры оценки выборного процесса. Это происходило секретно, в СБ ООН под полным контролем стран — постоянных представителей с возможностью вето.
И вот, благодаря резолюции ГА ООН, мы теперь можем получить самую прозрачную процедуру назначения генерального секретаря со времен окончания Второй мировой войны.
В 2016 году пройдет формальный процесс номинации. Будут слушания со всеми кандидатами, которые захотят в них участвовать. Будет вебсайт президентства, с биографиями кандидатов и их видеообращениями. В ходе слушаний кандидаты будут отвечать на вопросы, сами слушания будут транслироваться онлайн. Таким образом, граждане по всему миру, правительства и СМИ в ближайшие месяцы смогут посмотреть, что сказали кандидаты, что вообще они из себя представляют.
В дополнение к этому мы также надеемся, что кандидаты выскажут свое несогласие с тем, что страны-постоянные члены СБ ООН, а также другие влиятельные государства, будут номинировать только тех, кого они хотят для управления ООН.
Мы хотим, чтобы генеральный секретарь назначал высшее руководство ООН по аналогичному процессу, с объявлением о том, что такая-то позиция требует высококвалифицированного работника. И чтобы выбор отдельных личностей, которые руководят важными агентствами и программами в системе ООН был бы более прозрачен и одинаков для всех 193 стран-членов, а не в пользу постоянных членов СБ и нескольких других влиятельных держав.
— Но определенно это может тогда вызвать споры со стороны постоянных стран-членов ООН. Вы полагаете, этот опыт прозрачности будет успешным? Или в какой-то момент эти страны потребуют вернуться обратно к секретному голосованию?
— Есть два пункта в Уставе ООН, которые записаны одним предложением: генеральный секретарь ООН назначается Генеральной ассамблеей по рекомендации СБ ООН. И все. И Генеральная ассамблея решила теперь, что ей необходима более прозрачная процедура номинаций. Вопрос о том, как СБ ООН будет выполнять эту процедуру, выдвигая рекомендации для ГА, пока обсуждается. Но мы знаем, что некоторые из постоянных членов СБ ООН, а также некоторые избранные члены, хотят более прозрачную систему выборов в совбезе. К примеру, Великобритания хочет более прозрачный процесс.
Мы посмотрим, как Совет будет представлять свои рекомендации. Но я думаю, что существует страх того, что в конце концов Россия и США, возможно и Китай, захотят пересмотреть тот факт, что ГА заставляет их изменить процедуру, и все закончится той процедурой, которая была все эти годы, когда назначался слабый или, по крайней мере, тот генеральный секретарь, которым они могли управлять и который назначал на ключевые посты их людей.
Я думаю, нынешний год — первый, когда Генеральная ассамблея может сказать: такой процесс рекомендаций (генсека — ред.) для нас неприемлем. А затем пойти и сделать любое назначение, которое она хочет. Так что в 2016 году нас ждет самая интересная процедура (выбора генсека ООН — ред.).
— А что вы ждете от самого голосования? Там в списках четверо мужчин и четыре женщины. Каковы шансы, что генеральным секретарем ООН станет женщина?
— Я думаю, что 80-90% того, что новым генеральным секретарем станет женщина. Потому что, во-первых, были номинированы высокопрофессиональные кандидаты-женщины. И, во-вторых, еще никогда женщина не занимала этот пост. У нас также было очень мало женщин, которых вообще рассматривали как кандидатов за все эти годы.
Так что в этом году мы обязательно увидим огромное политическое давление. И я полагаю, что постпред США Саманта Пауэр поддержит кандидата-женщину. И Сергей Лавров, и русские также поддержат это.
Идея в том, чтобы получить высококвалифицированного кандидата, человека, который будет способен стать сильным генеральным секретарем. И это действительно меняет ситуацию для стран с правом вето. Если все будут знать, кто является кандидатом, и если там есть действительно сильные кандидаты, и если рекомендации СБ будут в отношении кого-то, кто не является лучшим кандидатом из номинантов, то, я думаю, будет давление, в особенности на США и на Россию, чтобы они применяли прошлые процедуры (рекомендаций для ГА — ред.).
— Как вы думаете, эта процедура прозрачных выборов может подтолкнуть ООН к более глубоким реформам? В частности в СБ ООН, потому что уже очень давно говорят в том числе о расширении постоянных членов СБ.
— Я думаю, что это непрямой путь, которым Генеральная ассамблея сигнализирует СБ, что его методы работы нуждаются в изменениях. Но это только один путь. Есть другие процессы в рамках ГА и СБ для реформы процедур совбеза.
Мое мнение заключается в том, что нужны новые процедуры или, что более важно, изменение состава СБ ООН. Но основные переговоры идут о расширении СБ. Есть по крайней мере от шести до десяти стран, которые хотят стать постоянными членами совбеза. Многие страны поддерживают дополнительных постоянных членов СБ, но есть и страны, которые противятся этому, потому что они выступают против тех стран, которые хотят стать постоянными.
Реальность заключается в том, что у пяти постоянных членов СБ есть право вето на любое изменение Устава. Так что шансы на то, что будут дополнительные члены в совбезе, крайне малы, а шансы на то, что кто-то из новых стран будет иметь право вето, стремятся к нулю или даже меньше.
Так что я думаю, практическая реформа в Совете должна касаться увеличения количества стран в Совете. Возможно, больше мест на более долгий период, возможно, места на пятилетний срок вместо двухлетнего. Или они могут увеличить количество стран с 15 до 25 или 27.
Я знаю, другие с этим не согласятся. Но впервые за 25-30 лет Совет Безопасности ООН встречается не раз или два в неделю или даже раз в месяц, а почти каждый день.
Работа Совета со времен холодной войны значительно активизировалась. И я думаю, что необходимо, чтобы больше стран принимали участие в работе Совета Безопасности и в принятии мер по построению мира и безопасности, которые согласовывает совбез.
Как я уже сказал, расширение — это важный вопрос. 188 стран, у которых нет права вето, должны встать перед Совбезом и сказать: "Нам нужны фундаментальные улучшения того, как создаются меры по безопасности и миру, нам в первую очередь необходимо реально начать предотвращать конфликты и преступления, а не просто существовать как организация, которая только реагирует на катастрофы. Мы должны опережать жуткие кризисы и предупреждать их".
И здесь Китай, Россия и США в первую очередь должны прийти к новому видению поддержания мира, которого не было за 70 лет существования Устава ООН.
— Если говорить о мире — в Женеве на этой неделе стартует очередной раунд непрямых межсирийских переговоров. ООН при этом говорит о необходимости того, чтобы все виновные в военных преступлениях и преступлениях против человечности, которые совершались за это время в Сирии, были наказаны. С вашей точки зрения, как председателя совета коалиции Международных уголовных судов, насколько реально создание в будущем подобного трибунала?
— Генеральная ассамблея создала Международный уголовный суд как независимый уголовный суд. Но это было сделано в качестве реакции на создание судов Советом Безопасности ООН по Руанде и Югославии. И ГА, создавая свой суд, следовала позиции, что, как и в женевских конвенциях, как и в других международных конвенциях, те, кто совершил преступление, независимо от того, кто это сделал, должны подпадать под международное законодательство.
За последнюю сотню лет Россия была очень большим защитником международного права, но, как и США, она была избирательна. Она поддерживала одни дела и выступала против других. Но гражданское общество во многих странах движется в сторону требования наказания любого, кто бы ни совершил преступление. И я думаю, что время, когда можно было совершать преступления и давать деньги в качестве откупа третьим странам, завершается, а эта дверь закрывается. И очень быстро.
Я также думаю, что период, когда ведущие державы могли себе позволить выбирать — искать политическое решение, предотвращать гражданскую войну или проводить военное вмешательство, — сейчас находится под большим вопросом. Как в Сирии, где СБ не мог согласовать никакое действие. И Генеральная ассамблея попросила бывшего генсека Кофи Аннана помочь быть посредником в урегулировании восстаний, которые там были, как и в других странах Ближнего Востока и Северной Африки.
Мне говорили, что в течение двух недель после этого США, Великобритания и Франция провели встречу "друзей Сирии", на которой приняли решение о смене режима. И я думаю, будет аккуратным сказать, что они не хотели политического решения конфликта между восставшим народом и правительством. Их аргументом было то, что восставшему населению удастся сместить Башара Асада в течение месяца. И вот мы тут, пять лет спустя. Невообразимый урон нанесен человеческим жизням, детям, институтам этой страны и региона, и теперь это распространяется на другие регионы мира.
Мне кажется, нужно серьезно рассмотреть те вопросы, когда мы пытаемся отложить политическое решение. Я думаю, что военное решение (конфликта — ред.) — это ошибка. И нам надо быть более осторожными в этой связи.

«Google удаляет пиратские сайты, а «Яндекс» посылает нас в суд»
Кто стоит за блокировкой крупнейших пиратских сайтов
Елена Малышева
За год борьба с литературным пиратством в рунете обернулась закрытием крупнейших пиратских сайтов и прецедентом уголовного преследования владельца онлайн-библиотеки. За громкими судами стоит Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ). В интервью «Газете.Ru» ее глава Максим Рябыко рассказал, почему сейчас борьба перемещается в соцсети, а Google оказался дружелюбнее «Яндекса» к отечественным правообладателям.
— АЗАПИ в последний год приобрела известность как активный борец с пиратством в области литературы, раньше это было менее заметно. Напомните, пожалуйста, когда создана ваша организация и чем занималась раньше?
— АЗАПИ создана три года назад издательством АСТ и издательством «Эксмо» — была патовая ситуация в пиратстве, борьбу вело в основном только «Эксмо» против пиратства в интернете. Требовалось более серьезно обратить внимание на эту проблему, объединить усилия с другими издательствами и создать специализированную организацию. Предполагалось вначале поддержать борьбу за авторские права, в том числе финансово, а в дальнейшем привлекать к этому и другие издательства.
— Сегодня АЗАПИ — это по факту внешний юридический отдел «Эксмо» или все-таки отдельная общественная организация?
— Я раньше возглавлял юридический отдел «Эксмо», до того как пришел в АЗАПИ, но ассоциация действует как самостоятельная структура и имеет контракты с такими издательствами, как «Манн, Иванов и Фербер», «Азбука-Аттикус» и другие, испытывающие потребность в защите своих прав.
— Вы работаете по контрактам, как коммерческая организация?
— Мы некоммерческая организация, но мы заключаем договоры об оказании услуг с издательствами, как у юридической компании, которая занимается защитой авторских прав. Членами АЗАПИ сейчас являются только «Эксмо» и АСТ, но недавно мы внесли изменения в учредительные документы, которые теперь позволяют включать в число членов другие издательства. Мы стремимся привлечь как можно больше участников, со временем, возможно, будем привлекать и авторов. Но у нас сейчас штат всего несколько человек, меньше десяти, и у нас нет цели зарабатывать. Позиция наших учредителей заключается в том, чтобы мы оставались некоммерческими.
— Ваша основная деятельность состоит из судов с пиратскими площадками?
— Еще мы выявляем нарушения, проводим мониторинг — у нас робот ходит по сайтам, следит, что удалено, что не удалено, затем мы самостоятельно рекомендуем издательствам обращаться в суд. Получается три основных направления: выявление, судебная защита и законодательная работа.
— Поправки в антипиратский сайт, касающиеся литературы, были внесены прошлой весной, и только с этого времени стало возможным блокировать сайты, а чем вы занимались раньше?
— У нас были успехи, мы добивались разделегирования домена — российские суды обязывали российских регистраторов лишать владельцев сайтов доменов. Кроме того, мы добивались компенсационных выплат. Но, поскольку мы не гнались за тем, чтобы заработать на этом, в первую очередь ставили себе цель добиться прекращения нарушений, удаления книг с пиратских сайтов.
В результате многие сайты стали закрываться настройками приватности и менять место «прописки» на иностранную. И это в том числе привело к принятию поправок к антипиратскому закону прошлого года.
— То есть сейчас главная проблема в том, что неизвестен владелец и непонятно, к кому предъявлять претензии?
— Да. Если раньше нам говорили: зачем вам поправки, идите в суд, то теперь возникает вопрос: к кому в суд идти? Такие случаи участились, и мы пока почти ничего с этим сделать не можем. Российский регистратор, к сожалению, не обязан уточнять данные лица, на которое регистрируется сайт, — многие представляют фальшивые документы.
— Изменения в законодательство обсуждаются в связи с этим?
— Правила взаимодействия с регистраторами и приобретателями доменов определяют независимые саморегуляторы. Государство пока не может установить регулирование в этой сфере, и мы пока считаем, что не нужно двигаться в сторону санкций в отношении добросовестных лиц. Но проблема в том, что, когда нарушение выявляется в отношении какого-то лица, выясняется, что копия паспорта была предоставлена поддельная.
— А регистраторы не проверяют?
— Да, они не проверяют.
В целом мы сейчас по интернету стоим на рубиконе, когда приватность остается защищаемой ценностью, но некоторые лица компрометируют эту ценность, и многие начинают задумываться.
В юриспруденции это не новая дилемма. Есть такое понятие «корпоративная вуаль», связанное с офшорами. И есть практика «прокалывание вуали» на случай злоупотреблений: если лицо не представляет открытых данных о себе, то оно поражается в определенных правах.
Я думаю, что и в интернете наступит такой момент. Тут Клименко (советник президента Герман Клименко. — «Газета.Ru») недавно высказывал идею, чтобы владельцы торрентов раскрывали информацию о пользователях, если они размещают контент. Тогда будет разделена ответственность владельцев, создающих сервис, и тех, кто заливает контент. Пока владельцы говорят, что нелегальный контент разместили пользователи, но при этом не выдают информацию о пользователях, и правообладатель не знает, кому предъявлять претензии.
— Пока судебная практика возлагает всю ответственность на владельцев сайтов?
— Владелец сайта несет ответственность, если не докажет, что является информационным посредником. Тогда он будет отвечать, только если он получил претензию и не отреагировал. Если он знал, что нарушаются права, и не удалил чужой контент.
— Сейчас мы видим определенные результаты борьбы за авторские права, в том числе по вашим судам с пиратскими площадками, но это такие «недорезультаты»: те же «Рутрекер», «Флибуста» продолжают работу на других доменах. Как вы оцениваете такие итоги? «Литмир» сменил владельца, но старая команда открыла новый сайт.
— Да, мы этот вопрос поднимали практически сразу, надо было в совокупности решать целый ряд проблем. Например, мы боремся с анонимными сайтами. В закон были внесены поправки о том, чтобы каждый сайт размещал информацию о своем владельце и о том, куда направлять претензии, но ответственности не появилось, и по факту это не везде есть.
Здесь мы решили попробовать пойти по опыту DMCA, американской системы, принятой во многих странах: правообладатель направляет претензию владельцу сайта, он блокирует, а если есть возражения со стороны пользователя, разместившего контент, то владелец сайта направляет его контакты правообладателю и дистанцируется. У них спор между собой. У нас все владельцы сайтов как скрывались, так и скрываются — и ситуация не сдвинулась.
Решение о вечной блокировке сайта сейчас принимается судом только после вступления первого решения о нарушении прав в силу. Получается, эти споры невозможно вести параллельно. Наверное, законодатель так пытался избежать злоупотреблений. Получается, что процесс длится несколько месяцев, а, пока сайт полностью не заблокирован, трафик можно перевести на другой домен.
Самый вопиющий пример мы наблюдали в прошлом году с «Литмиром» — там три домена работало. Пока принималось решение в отношении первого домена, litmir.net, уже к тому времени были созданы два других, и трафик вовсю переливался — litmir.me, litmir.co и другие. С «Флибустой» сейчас происходит то же самое.
— Чем отличается вечная, окончательная блокировка от первой блокировки в рамках обеспечительных мер?
— Роскомнадзор может блокировать спорный контент по ссылке, и если владелец сайта сообщает об удалении такого контента, то и блокировка снимается. И дальше суд просто обязывает этот сайт не создавать технических условий для размещения нелегальных книг. Сайт продолжает жить, наращивать трафик. Вечная блокировка — это постоянная блокировка домена, но сайт может уйти на другой домен.
— Самыми крупными заблокированными ресурсами в прошлом году стали «Литмир», «Рутрекер» и «Флибуста». Еще какие-то крупные сайты можете назвать, которые сильно мешают жить правообладателям?
— Есть такой старый сайт «Либрусек». Было несколько заявлений: правда, что «Либрусек» принимает взносы и делает отчисления правообладателям? Но из тех издательств, которые мы представляем, никто никаких отчислений не получал. Этот сайт оформлен на Илью Ларина, который сделал ресурс в Эквадоре и говорит, что законодательство не нарушает, а если решение суда будет, тогда исполнит его. Мы работаем в этом направлении, но о конкретике пока рано говорить.
Всего сейчас, наверное, около 15 сайтов в поле нашего зрения, с большим трафиком, немалым количеством нелегального контента. Мы периодически с ними судимся, удаляем книги и называем это борьбой с ветряными мельницами.
— Какие у вас сейчас результаты в судах, они вас устраивают?
— У нас есть несколько процессов в разных стадиях, в той или иной стадии.
По «Флибусте» на прошлой неделе вынесено решение о вечной блокировке по адресу flibusta.net, и принято первое решение по иску к зеркалам flibusta.is и flibusta.me — сейчас мы дождемся, когда оно вступит в силу, и будем инициировать следующие иски.
Есть также разбирательства в судах общей юрисдикции, гражданские иски о взыскании компенсаций.
— Существующий антипиратский закон, на ваш взгляд, результативен? Многие пишут сейчас, что толку от этих блокировок немного с учетом перемены доменов.
— Результат — это синергия. Мы развиваем иски о привлечении к ответственности отдельных лиц, развиваем некоторые уголовные кейсы, блокируем трафик более мелких игроков.
Успех блокировки зависит от объема трафика. Если это старики вроде «Рутрекера» и «Флибусты», им удается менять домены, поскольку достаточно объявить: теперь мы на новом месте. Но ресурсы поменьше набирают трафик за счет поисковых выдач в Google и «Яндексе», их названия пользователи не запоминают. И когда они исчезают из поисковых выдач, теряют весь трафик.
Мы видим результаты и по тому, как мелкие площадки активно обращаются к нашим партнерам, к тому же «Литресу»: давайте мы удалим весь спорный контент, поставим ссылки на вас и будем жить за счет рекламы.
С «Литресом» к этому моменту уже сотрудничает более 300 сайтов, которые раньше были пиратскими, это произошло лет за пять.
Теперь в поисковой выдаче человеку зачастую надо перебрать 30–40 вкладок, чтобы найти пиратский ресурс с нелегальными бесплатными книгами. Многое еще зависит от поисковика. В Google мы дошли до того, что там в поисковой выдаче по издательству «Манн, Иванов и Фербер» — 2,8% пиратского трафика. Остальное — партнеры. Мы бы хотели, чтобы на первых местах поисковой выдачи стояли рекомендательные сервисы типа Livelib, специализированные площадки, библиотеки, работающие по модели подписки. И тогда в последнюю очередь, на третьей-четвертой страницах, может, будут попадаться пираты.
— А вы ведете об этом какие-то переговоры с Google и «Яндексом»?
— Мы работаем и кое-каких результатов добились,
Google со временем удаляет пиратские сайты из выдачи, и легальные ресурсы идут вверх. «Яндекс» предлагает нам идти в суд.
Ну, хорошо, мы сходили в суд по «Рутрекеру», есть вступившее в силу решение о вечной блокировке. Но по многим популярным книгам заблокированный «Рутрекер» остается на третьем месте в поисковой выдаче, а легальный «Литрес» вынужден платить «Яндексу», чтобы находиться сверху. В Google «Литрес» находится сверху бесплатно. Поэтому мы сейчас разрабатываем соответствующие поправки, но пока Роскомнадзор их посчитал преждевременными, предложил посмотреть, как будет работать блокировка зеркал.
— Вы это обсуждаете в рабочей группе?
— Да, есть рабочая группа при Роскомнадзоре, где собираются правообладатели, операторы связи, потом инициативы выносятся на обсуждение. Сейчас наш законопроект о блокировке зеркал пошел в Минкомсвязи, и затем он будет опубликован для общественного обсуждения. В этот проект вошел также пункт об удалении из поисковой выдачи сайтов, заблокированных навечно по решению суда.
— Какие еще есть инициативы? Вы сообщали, что сейчас целых две рабочие группы при Роскомнадзоре прорабатывают поправки к антипиратскому закону.
— Да, одна из них занимается приложениями — тоже актуальная тема.
Мы сейчас столкнулись с ботом «Флибусты» в Telegram, и нас не устраивает схема работы. Они говорят, что работают по DMCA, но это не совсем так. На деле мы направляем претензию, а они направляют нас к другому лицу.
Если мы говорим про Google и Apple, они говорят: вот Telegram, разбирайтесь с ним. Но Telegram делает то же самое и направляет нас к разработчику конкретного приложения. И дальше нам с почты gmail пишет какое-то непонятное лицо и требует от нас предоставить правоустанавливающие документы на наш контент, а я даже не понимаю, кому я буду это отправлять, все наши договоры? Себя они не раскрывают и могут еще заявить, что этого недостаточно. На Западе такого нет: если есть требование, они удалили, и все.
Мы предлагаем следовать правилам DMCA: мы готовы раскрыть документы, но вы нам дайте контакты лица, с которым мы будем потом судиться. Но
пока Telegram продолжает вести ту риторику, которая была. Я думаю, что мы это будем стараться изменить либо потребуем от Apple и Google, чтобы они ввели более жесткие санкции против него: либо убрали из своих магазинов приложение, либо воздействовали на сам Telegram.
Мы направим в Apple и Google письмо, возможно, подключим к диалогу Роскомнадзор. Если нас не услышат, мы пойдем в Мосгорсуд. Теоретически мы можем их просить блокировать домены Telegram, но, скорее всего, мы просто будем просить их убрать приложение.
— Когда вы планируете завершить переговоры?
— В конце следующей недели, я думаю. В понедельник будет семинар при Роскомнадзоре об этих приложениях, как они взаимодействуют с правообладателями. Мы послушаем, дождемся ответа от Telegram и тогда уже примем решение.
(Пиратские) боты — это серьезная угроза, потому что создать бот может кто угодно, и даже непонятно, «Флибуста» ли это или просто бот собирает контент для раздачи отовсюду. Люди могут наживаться на популярности «Флибусты». Я не удивлюсь, если сейчас появятся различные боты якобы «Флибусты» и «Рутрекера», которые на самом деле к ним отношения не имеют, но за счет таких названий рано или поздно появятся в поисковой выдаче.
В принципе, боты — интересная вещь и могут быть очень полезными. Сейчас на многих сайтах стоят боты, которые помогают коммуницировать: там всплывает окно «могу ли я чем-то помочь?», которое на самом деле переадресовывает ваше сообщение оператору, и это удобно. Ту же VPN можно использовать в хороших вещах, а можно во зло.
Если не будет реакции на эти боты, которые раздают пиратский контент, то это пойдет развиваться.
— Еще обсуждалась инициатива, чтобы пользователи отвечали за нелегально размещенный контент?
— Мы считаем, что владельцы сайтов должны ориентироваться на одну из двух моделей: отвечать самостоятельно и защищать информацию пользователей либо предоставлять данные пользователей, на которых будет возлагаться ответственность. Сейчас некоторые сайты исповедуют смешанную модель: снимают с себя ответственность, но и данные пользователей не выдают и не блокируют их. Я думаю, что мы с соцсетями и сервисами придем в результате переговоров к тому, что они сами это отрегулируют так, чтобы не допускать повторного размещения нелегального контента.
— Но пока что-то не заметно, чтобы администраторы сайтов хотели это регулировать. Даже печально известный Степан Енцов, осужденный к условному сроку за пиратство на «Литмире», открыл новый сайт «Литлайф», и там в правилах написано, что ответственность за размещение нелегальных книг, если что, несут пользователи.
— Позиция понятная, они знают, какой контент охраняется, но если мы снова обнаружим там наши книги, то будем обращаться в суд, и они не смогут сказать, что они не осознавали своих поступков. Теперь они даже убирают название издательства из информации о книгах, чтобы затруднить поиск, но все равно найти можно. Кроме того, сайт создан в этом году, а у них есть книги, залитые в 2010 году, — получается, что это залили не пользователи, а сама администрация. Мы говорим про весь контент, который загрузили они сами как базу старого сайта.
— А ваши книги есть там сейчас в открытом доступе?
— Есть. Немного, они удалили около 8 тыс. наших книг. Но и сейчас там есть наши книги, те, по которым мы раньше не предъявляли претензий. И мы не исключаем новых исков, просто нам сейчас не до этого.
— А когда вы примете решение?
— Вероятно, к концу весны соберем компромат и отправим заявление, поскольку этот человек не одумался. Я думаю, они еще могут сами к тому времени закрыть сайт, поскольку поймут, что если контента мало, то и трафика много не будет. Мы хотим, чтобы Степан сам понял, что ошибался: популярность его сайта была заработана не самиздатом, а популярным топовым контентом.
— На новом сайте «Литлайф» старая команда написала, что «Литрес» и АЗАПИ отобрали у них старый «Литмир», который сейчас работает с новым руководством. Эта информация соответствует действительности?
— Это не так. Мы ничего не отбирали, в мировом соглашении Енцова с заявителем говорится о компенсации ущерба и о том, что он обязуется не нарушать наши права, о сайте там ничего нет. Я не знаю, с кем он что-то другое, может, подписывал, но не с нами. Возможно, у него были какие-то другие договоренности или он продал этот сайт.
— У вас к новой администрации «Литмира» претензий нет?
— Нет. Мы отправляем претензии, если видим наш контент, и все удаляется. Знаю, что к этому сайту подавало претензии издательство «Литсовет», и администрация их оспаривала. Но поскольку нынешний администратор предпочитает оставаться приватным, у него нет возможности открыто возражать. Полагаю,
со временем рынок себя отрегулирует, и владельцы сайтов постепенно будут себя раскрывать, если почувствуют свою правоту.
— А что касается претензий к соцсети «ВКонтакте» — как сейчас идет диалог?
— У нас ощущение, что они пока не понимают с технической точки зрения, как подступиться к этой проблеме. Мы сейчас обратились в Мосгорсуд, потому что видим, как файлы удаляются, и затем эта же ссылка опять работает. Возможно, они опасаются систематических блокировок, не желая отпугивать пользователей. Пока они не вводят публичных санкций и не обещают правообладателям наказывать пользователей за размещение чужой музыки, книг и другого контента.
— Чего вы сейчас добиваетесь от них?
— Первый вариант: принять соответствующие правила и ввести санкции против пользователей либо выдавать нам данные таких нарушителей, чтобы мы могли обращаться в суд. Второй вариант — с технической точки зрения сделать невозможным загрузить файл, не сверившись с нашим каталогом с помощью «электронных отпечатков». Также мы не хотим в пятый, десятый раз по одной книжке писать, что появилась новая ссылка нового пользователя на ту же книгу.
Следующее заседание в Мосгорсуде у нас 13 апреля. На предыдущем судья предложила договориться, и мы были не против, но пока никаких предложений от «ВКонтакте» не поступало. Пока мы направили свои претензии и согласие подписать мировое соглашение, с тем чтобы обозначить срок и этапы этой работы.
Если пользователь хочет быть приватным, он должен нести ответственность, может быть заблокирован за размещение чужого контента, либо он вообще не должен иметь возможности размещать контент, пока не идентифицирует себя. Таких правил игры мы хотим добиться.
— Правильно ли я понимаю, что сейчас закон и процедуры по защите авторских прав устроены таким образом, что это громоздкая тяжелая процедура и позволить себе ее могут только состоятельные издательства и писатели, которые могут нанять юристов?
— Отчасти согласен, мы об этом тоже думаем, хотя руки сейчас связаны большим количеством работы. Но у нас есть проект «Читай легально», и мы хотим сделать на сайте нечто вроде базы знаний, разместить образцы заявлений, пошаговую инструкцию, чтобы дать авторам эту информацию. Писатели сами могут направлять претензии, и отчасти та «движуха», которую мы создали, способствует тому, что владельцы сайтов начали реагировать.

«Отсутствие диалога России и НАТО – это ненормально»
Александр Грушко — постоянный представитель Российской Федерации при НАТО.
Юрий Зайнашев - обозреватель газеты ВЗГЛЯД.
Резюме «НАТО чувствует себя комфортно только тогда, когда само создает себе привычную обстановку – поиск «большого противника», – заявил постпред РФ в НАТО Александр Грушко, добавив, что мифология, которую выстраивали натовские идеологи, дает явные сбои.
«НАТО чувствует себя комфортно только тогда, когда само создает себе привычную обстановку – поиск «большого противника», – заявил газете ВЗГЛЯД постпред РФ в НАТО Александр Грушко, добавив, что мифология, которую выстраивали натовские идеологи, дает явные сбои. Так постпред откликнулся на заявления главкома НАТО в Европе Филипа Бридлава о российской угрозе. В Минобороны России отметили, что покидающий свой пост Бридлав пытается нанести максимальный ущерб отношениям между Россией и альянсом.
Американский генерал Филип Бридлав, покидающий пост главнокомандующего вооруженными силами НАТО в Европе, пытается нанести максимальный ущерб отношениям между Россией и альянсом, заявил в субботу в эфире радиостанции «Русская служба новостей» начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Сергей Кошелев.
Бридлав, которого весной 2016 года на посту главкома ОВС НАТО в Европе сменит генерал США Кертис Скапаротти, и до этого выступал с громкими антироссийскими заявлениями. Ему принадлежит высказывание, что США и их союзники готовы «сражаться и победить» Россию, если это будет необходимо.
По словам официального представителя российского военного ведомства, в России деятельность Бридлава давно рассматривается «в контексте «доктор–пациент».
На этом фоне союз НАТО все же решил отказаться от политики бойкота России и согласился возобновить переговоры с дипломатами из Москвы. В пятницу в его штаб-квартире было объявлено о первом за два года заседании совета Россия – НАТО (СРН).
Напомним, что альянс сам прервал диалог два года назад – с началом конфликта вокруг Украины. Впрочем, уже полгода назад западные дипломаты заговорили о необходимости прекращения бойкота – сперва в неофициальных беседах, а затем уже и публично.
Как рассказал в воскресенье газете ВЗГЛЯД источник в штаб-квартире альянса, провести заседание решено было еще в начале этого года, однако несколько месяцев ушло на споры о его повестке. По его словам, западные дипломаты собирались ограничиться лишь двумя вопросами – обстановкой на Юго-Востоке Украины и предотвращением инцидентов во время полетов российской боевой авиации вдоль границ стран НАТО. Однако Москва настаивала на внесении в повестку ситуации в Афганистане и Сирии.
Наконец, в минувшую пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе анонсировал первое за два года заседание СРН. В субботу, выступая в Подмосковье в кулуарах ассамблеи Совета по внешней и оборонной политике России, российский постоянный представитель при НАТО Александр Грушко уточнил, что заседание ожидается в ближайшие дни.
О том, чего он ждет от переговоров, Александр Грушко рассказал в интервью газете ВЗГЛЯД.
ВЗГЛЯД: Александр Викторович, почему, на ваш взгляд, главком НАТО в Европе генерал Филип Бридлав в последнее время делает такие странные для военачальника подобного уровня заявления? Вроде того, что это Россия направила потоки беженцев в Евросоюз, бомбардируя Сирию.
Александр Грушко: Одним из последних изысков, действительно, стала «вербанизация» миграции. Хотя общеизвестно, что еще до начала операции наших ВКС число беженцев в Евросоюзе превысило миллион человек. Происходит не «вербанизация миграции» – термин, который он и придумал – а вербанизация мозгов. К сожалению, мы видим, что определенные силы всю деятельность альянса пытаются сфокусировать на угрозе «большого противника», что еще раз доказывает, что НАТО остается в глубоком кризисе. НАТО на сегодня не обладает инструментами для борьбы с новыми угрозами. НАТО чувствует себя комфортно только тогда, когда само создает себе привычную обстановку – поиск «большого противника».
Мифология, которую выстраивали натовские идеологи, дает явные сбои. Им уже трудно использовать «угрозу на Украине» как драйвер атлантической солидарности. Поэтому некоторые пытаются в любой проблеме искать «руку Москвы», объясняют все свои беды происками, занимаются конспирологией.
ВЗГЛЯД: Вы уже договорились о повестке заседания, которое анонсировал Йенс Столтенберг?
А.Г.: Представители альянса на высоком уровне признают, что отсутствие диалога России и НАТО – это ненормально. Напомню, об этом не раз заявлял, в частности, глава МИД Германии Штайнмайер. Мы же никогда не отказывались от проведения советов. Кстати, последнее заседание состоялось два года назад как раз по нашей инициативе.
Действительно, мы уже согласовали повестку заседания, она затрагивает, в частности, кризис на Украине с точки зрения полного выполнения минских договоренностей. Мы также обсудим военную активность, натовское планирование, выстроенное на постулате о «сдерживании России». Оно не только само по себе ухудшает ситуацию с безопасностью, но и противоречит обязательствам о военной сдержанности, зафиксированным в Основополагающем акте Россия – НАТО 1997 года.
Мы обсудим и ситуацию в Афганистане, которая деградирует, и в целом вопросы борьбы с терроризмом.
ВЗГЛЯД: Неужели вы не обсудите и войну в Сирии?
А.Г.: Это все «борьба с терроризмом» в более широком смысле.
ВЗГЛЯД: По итогам уже этого заседания может начаться разморозка хотя бы совместного проекта России и НАТО в Афганистане?
А.Г.: Я не жду от заседания каких-то прорывов. Но мы рассчитываем на серьезный разговор, в том числе о причинах кризиса не только в отношениях России и НАТО, но и о причинах и первопричинах, которые привели к покушению на региональную и европейскую безопасность.
Когда НАТО два года назад прервало сотрудничество по всем проектам, это ухудшило ситуацию с безопасностью, причем не только государств, но обществ. Проект по борьбе с афганским наркотрафиком был самым крупным из тех, что шли по линии СРН. За несколько лет, пока он действовал, было подготовлено почти 4 тысячи офицеров для антинаркотических служб Пакистана, Афганистана и стран Средней Азии. Были очень эффективные и перспективные проекты в рамках борьбы с терроризмом. Мы тесно работали в рамках СРН над тем, чтобы обеспечить боеспособность ВВС армии Афганистана. Сегодня все это остановлено. Такое решение НАТО не только бьет по интересам безопасности, не только ослабляет усилия международного сообщества в борьбе с реальными угрозами, но и бьет по интересам самих рядовых европейцев.
ВЗГЛЯД: Столтенберг предупредил, что дела с Москвой не будут вестись «как обычно», пока та не начнет уважать международное право...
А.Г.: Действительно, дел «как обычно» быть не может, пока сам альянс не пересмотрит политику «сдерживания», не перестанет раздувать миф об угрозе со стороны России. Эта политика противоречит не только задачам совета, но и коренным интересам безопасности самих европейцев. Страны-члены заставляют увеличивать ассигнования на военные нужды. Как известно, на саммите в Уэльсе было решено поднять военные бюджеты до двух процентов ВВП. Под предлогом того, что США непропорционально много платят, усиливается давление на европейские страны, чтобы те активнее выполняли упомянутые валлийские решения.
Хотя на самом деле мифы о недостатке расходов под собой не имеют оснований. Страны НАТО на сегодня выделяют на оборону 51 процент от мировых расходов, а суммарные расходы только европейских стран достигают 350 млрд евро, что в разы больше, чем военный бюджет не России, но и, скажем, России и Китая совокупно.
ВЗГЛЯД: Какова вероятность, что заседания вновь станут регулярными?
А.Г.: Заседание должно пройти в ближайшие дни. После этого мы проанализируем его итоги и тогда определимся, будут ли они снова регулярными. Мы, кстати, обратили внимание на то, что Йенс Столтенберг анонсировал предстоящее заседание лишь в качестве генсека, хотя он формально до сих пор остается и председательствующим в СРН. Видимо, это и предопределило жанр анонса.

Международную премию Webby Awards называют "интернет-Оскаром". В разные годы ее удостаивались такие знаменитые сетевые ресурсы, как Google, BBC, CNN, Wikipedia, YouTube. В этом году в финал конкурса вышла команда социальных медиа телеканала RT. На вопросы РИА Новости ответили руководитель интернет-редакции RT Кирилл Карнович-Валуа и руководитель отдела продвижения социальных сетей RT Айвор Кротти.
— Вы стали финалистами международной премии Webby Awards в категории SOCIAL: News & Information. Webby Awards – самая престижная в мире премия в сфере Digital. Что для вас значит эта номинация?
Кирилл Карнович-Валуа: Получить номинацию на Webby – это космос. Это уже маленькая победа. Фактически это признание на самом высшем уровне: соцмедиа-команда RT одна из самых крутых в мире! То, что мы делаем, – это нестандартно, это необычно. Это уникально. Ежегодно в различных категориях на Webby соревнуются самые креативные кейсы, самые талантливые идеи и проекты. Чтобы попасть туда, ты должен сделать что-то по-настоящему особенное. Мы шли к этому несколько лет, и для нас это важная отсечка на нашем пути, своеобразная сверка карт: мы идём своей дорогой, и мы идём в правильном направлении. Хотя главным навигатором для команды современных разработок RT всегда была и будет наша онлайн-аудитория – за всё это время она непрерывно растёт на всех платформах.
— В чём уникальность вашей команды, вашей стратегии, которая даёт прирост по аудитории? Что вас так отличает от основных медиаконкурентов или, например, от прямых соперников в нынешней номинации? Ведь в финале Webby Awards RT поспорит за победу с BBC News, CBS News, NBC Nightly News, ABC и New York Times.
КК-В: Мы всегда ставили и ставим во главу угла две вещи: качественный контент и интересы аудитории. Наша задача – знать аудиторию и изучать её особенности на каждой платформе. И знать, какой контент она предпочитает "в данное время суток". Будь то YouTube, Twitter, Facebook, Periscope – у каждой из этих социальных сетей свой характер, своё предназначение, своя "фишка". И свои особенности потребления контента. Поэтому подход к стратегии в каждом из наших социальных медиа выверяется точечно, развивается в динамике, и, главное – он кросс-платформенный. Чтобы найти своего пользователя, сделать его лояльным фолловером (подписчиком – Ред.), должно быть чёткое понимание того, кто этот пользователь и как ты его можешь вовлечь, "подсадить" на свой контент. Одна из ключевых вещей, что, как мне кажется, принесла номинацию на Webby, – мы не боимся тестировать новые форматы, осваивать новые жанры и подходы в подаче контента.
Айвор Кротти: Нельзя просто присутствовать на той или иной платформе. И банально копировать то, что уже делают другие. Аккаунты в социальных сетях должны в итоге образовывать взаимосвязанную и уникальную экосистему. Просто каждый отстраивает свою экосистему по-разному. Я уверен, что у наших конкурентов также существует своё особенное видение. В любом случае – в номинации у RT крайне достойные соперники.
— Могли бы озвучить какие-то цифровые показатели по аудитории? Насколько большая команда работает у RT на социальных медиаплатформах?
АК: Что касается английского телеканала, у нас сейчас собрана очень перспективная и голодная до идейной реализации команда. В любые годы, на разных этапах в нашей команде социальных медиа работали люди, страстные к креативу. Среди тех, кому повезло быть её частью, никогда не было безразличных. Вот уже несколько лет RT является самой популярной новостной сетью во всём мире на YouTube. У нас уже более 3,3 миллиарда просмотров, и только в прошлом году мы добавили более 900 миллионов. Ранее, в 2013 году, наш английский YouTube канал стал первым в истории новостным телеканалом, кому покорилась отметка в миллиард просмотров. В прошлом году мы заключили стратегическое партнёрство с социальной сетью Twitter и сейчас активно расширяем сотрудничество, в том числе на платформе Periscope, где мы делаем много классных вещей. Например, сделали первый лайв стрим (прямое вещание — Ред) из зоны боевых действий в Сирии или из-за кулис президентской резиденции во время официальных переговоров. На Facebook количество лайков нашей сети страниц приближается к 15 миллионам.
КК-В: Какие бы последние показатели вы ни взяли, они все наглядно демонстрируют значительные тенденции роста. Так, по подсчетам Google Analytics, общее число просмотров страниц на всех языковых версиях сайта в домене RT.com в 2015 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось на треть и составило более 2,33 млрд. А по данным общедоступного портала SimilarWeb, число сессий на сайтах RT в марте 2016 года составило более 100 млн! Это почти в 8 раз больше, чем у сайта Euronews (12,2 млн.), в 5 раз – чем у Al-Jazeera (20,1 млн) и почти в 4 раза больше, чем у Deutsche Welle (25,5 млн). В онлайне у нас 6 языков, 6 молодых и классных команд, каждая из которых – эксперт на своём рынке.
— Насколько, по-вашему, рынок цифровых медиа изменился за последние несколько лет? Сейчас активно развиваются VR-технологии (виртуальная реальность) и RT среди тех, кто уже сегодня делает ставку на формат 360 (панорамное видео). Каким ещё трендам стоит уделить особое внимание?
КК-В: За последние годы динамика развития цифрового рынка достигла неведомых по стремительности масштабов. Это прямая взаимосвязь: чем доступнее становятся IT-технологии, тем больше игроков и идей на рынке. 360 для нас сейчас одно из ключевых онлайн-направлений. Мы первыми из новостных телеканалов запустили своё отдельное новостное приложение 360 и свою нишевую страницу исключительно с контентом 360. Сейчас мы стараемся оперативно снимать и публиковать видеоконтент в панорамном формате по большим новостным событиям (среди которых и теракты в Брюсселе, и катастрофа в Ростове-на-Дону). Уже к концу этого года мы ожидаем стремительного роста пользовательского интереса и доступа к VR и 360.
АК: Среди других трендовых направлений ещё выделю прямые трансляции через мобильные устройства. Уже сейчас это можно назвать бумом лайв стриминга (и Facebook Live, и Periscope, и грядущий YouTube Connect). Это и такие платформы, как Snapchat, которые пока ещё не успели получить широкого распространения в России.
Snapchat как раз характеризует то, насколько рынок поменялся за последние годы. Повзрослело и вышло на рынок поколение Emoji — поколение, которое фактически родилось в руках со смартфоном. Они совершенно иначе мыслят, у них другой язык общения в онлайне. И они и есть будущее рынка. И хочешь не хочешь, но на их языке необходимо учиться разговаривать. А их язык – это гаджеты, мобильные девайсы.
Эра десктопа понемногу сдает свои позиции. Так что мобильные просмотры – это еще один ключевой тренд сегодня.

«Американский Королёв» и «китайский Королёв»
Игорь ШУМЕЙКО
Исторический полет Гагарина сделал 12 апреля Всемирным днём авиации и космонавтики. К концу 2014 года свои искусственные спутники на орбите имели около 50 стран, однако «космическими державами» и членами «космического клуба», имеющими возможность самостоятельно их запускать считаются лишь 10 государств. Тут есть известная аналогия с термином: «члены ядерного клуба», а исторически связь этих двух «клубов» еще глубже: ядерное оружие и ракеты как средство его доставки развивались в тесной взаимосвязи; часто ядерные заряды доводили (по весу, объему) под существовавшие типы ракет и наоборот. Ситуация зимы 2015-16 гг., когда запуск северокорейского спутника дистанционного зондирования Земли рассматривался на Западе в разрезе угрозы ядерного нападения, только подчеркнула эту связь.
Утвердился за 55 лет космической эры и термин «космические сверхдержавы», применяемый к странам, которые имеют возможность запускать пилотируемые корабли или орбитальные станции. Таких на сегодня три - Россия, США и Китай.
Их соперничество-сотрудничество в области ракетно-космической техники является одним из важнейших измерений мировой истории примерно с начала 1940-х годов и по сегодняшний день. Ракетное оружие сыграло определенную роль в ходе Второй мировой войны, а в послевоенные годы его состояние и развитие стало практически главным элементом стратегического баланса сил и, как считает большинство экспертов, предотвратило новые мировые войны.
Состязание нескольких стран за звание «космической сверхдержавы» влияло на уровень развития науки, техники, а кроме того было фактором идеологического противоборства. Советскому Союзу, например, предъявляли обвинения в несамостоятельности разработок, в «заимствовании» атомных и ракетных секретов. В ракетно-космической сфере эти обвинения звучат нелепо.
К концу Второй мировой войны безусловным мировым лидером в ракетостроении была Германия. Первые поколения как советских, так и американских ракет отражают это влияние, многие узлы этих ракет копировали ФАУ-2. Однако как было поделено «германское наследство»? Советскому Союзу достались несколько экземпляров ФАУ-2, инженеры, причастные к их созданию, а вся уцелевшая документация, 1800 ученых, конструкторов и, наконец, главный конструктор и создатель первых баллистических ракет, штурмбанфюрер СС Вернер фон Браун работали на США.
Добиться такого «улова» американцам удалось благодаря операции «Скрепка» (Operation Paperclip), проведенной предшественником ЦРУ – Управлением стратегических служб США. Это была операция по вербовке и перемещению в Америку лучших научно-инженерных кадров Третьего рейха. Действуя в обход Ялтинских и Потсдамских соглашений, американцы фальсифицировали биографии ученых - членов НСДПА и СС (название «Скрепка» - от манипуляций с папками личных дел).
Решающую роль в успехе этой операции сыграло получение американцами так называемого «списка Озенберга». Вернер Озенберг, директор германской Ассоциации оборонительных исследований (Wehrforschungsgemeinschaft), составил каталог ведущих германских ученых и инженеров, занимавшихся разработкой новых видов оружия. По этому каталогу немцы собирали людей с фронта, со случайных мест неквалифицированной работы и даже из концлагерей. Хотя директору Ассоциации оборонительных исследований поручалось собирать только политически благонадёжных, было известно, что попадание в «номенклатуру Озенберга» спасало от преследований политической полиции. В частности, Вернер фон Браун, попавший за решётку по доносу, обвинявшему его в пораженческих разговорах», был выпущен на свободу и направлен на работу в Пенемюнде.
В хаосе лета 1945 года главной удачей англо-американских союзников стало то, «список Озенберга» попал в их руки. Отступление немцев происходило в такой спешке, что многие документы не успевали уничтожать. Ценный документ нашли в университете Бонна … затолканным в унитаз. Сначала «список Озенберга» прошёл через руки MI6, потом попал к американцам, став основой успешного «отлова» германских специалистов. Угодил в эту в сеть и «американский Королев» — Вернер фон Браун. Так что в некотором смысле американская космическая программа выплыла из немецкого унитаза (сообщаю эту подробность для тех, кто любит повторять, что «СССР выкрал секреты»). Ну а определение «американский Королев» появилось столь же объективно, в силу первенства СССР в разработке космического проекта, как и вошедшее во все языки мира слово sputnik.
Возвращаясь к трём «космическим сверхдержавам», мне хочется отметить некоторые особенности судьбы «китайского Королёва» - Цянь Сюэсэня (1911-2009). Об этом человеке я впервые услышал от космонавта, члена-корреспондента РАН, директора Института истории естествознания и техники РАН, в 1990-х помощника Президента России по национальной безопасности Юрия Михайловича Батурина, сделавшего невероятно много для развития российско-китайских связей.
Некоторое представление о нерядовой судьбе «китайского Королёва» даёт книга Ли Чэнчжи «Развитие китайских космических технологий», изданная в русском переводе в Москве в 2013 году под редакцией Юрия Батурина. Вот что говорится там о Цянь Сюэсэне: «Происходит из богатой китайской семьи. С 1935 года работал в США, был одним из основателей Лаборатории реактивного движения (1944). Полковник ВВС США, в 1945 году командирован в Германию, допрашивал сдавшегося американцам Вернера фон Брауна. Автор классического труда «Реактивное движение», который изучали все, кто занимался в Соединенных Штатах ракетной техникой. Профессор Массачусетского и Калифорнийского технологических институтов. Выдающийся ученый и организатор космической отрасли в КНР. В Китае ему установлен памятник при жизни».
Многие подробности жизни Цянь Сюэсэня остаются, видимо, вне поля зрения широкой публики, но один эпизод, касающийся его возвращения в Китай, представляется мне знаменательным.
В ходе начавшейся в США в 1950-е охоты на ведьм ФБР обвинило Цянь Сюэсэня в пособничестве коммунистам. В 1955 году он был отстранён от секретных работ по ракетной тематике и фактически посажен под домашний арест. Через две недели учёный объявил о своём намерении вернуться в Китай и обратился с письмом к Чжоу Эньлаю. Премьер Госсовета КНР дал указание предложить на китайско-американские переговорах в Женеве освободить 11 американских военнопленных летчиков, если США перестанут препятствовать возвращению Цянь Сюэсэня на родину… Переговоры прошли успешно, и 8 октября 1955 года учёный вернулся в Китай.
Откуда, однако, взялись 11 американских военнопленных летчиков? Дело в том, что китайская армия участвовала в Корейской войне 1950-1953 годов, а воздушное прикрытие осуществляли советские самолеты и зенитные ракеты. То есть получение «материала для обмена» на Цянь Сюэсэня тоже не обошлось без советской авиационной и ракетной техники!
И, наконец, фактом исторической значимости является прямое участие советских ученых и конструкторов в появлении на свет третьей «космической сверхдержавы» - Китайской Народной Республики.
(Окончание следует)

Кто-нибудь когда-нибудь видел "эгиду ООН"? Какая она — розовая, пушистая, симпатичная? Вообще-то ответ на этот вопрос есть, с учетом того что именно под этой самой эгидой возобновляются на следующей неделе переговоры по Сирии в Женеве. Более того, есть человек, который эти переговоры, а то и саму эгиду, олицетворяет. А по-настоящему интересные люди — это всегда увлекательно.
Мир, который нам нравится
Переговоры важны для России потому, что именно ради этого, в частности, Москва перебрасывала в Сирию свои так успешно выступившие там Воздушно-космические силы. Прежде всего, напомним, они оказались в Сирии потому, что некому больше оказалось противостоять угрозе "Исламского государства" (запрещенного в РФ).
На втором же по важности месте для нас стояло принципиальное соображение: в нашем мире лидеров не провозглашают легитимными или нелегитимными из-за пределов страны. Начатые же при участии внешних сил гражданские войны, особенно если они переходят в региональный конфликт, следует заканчивать в полном соответствии с международным правом. А именно — при ключевой роли ООН, поскольку международное право формируется прежде всего в этой организации.
То есть Россия хотела, чтобы в Сирии был создан прецедент юридически безупречного, правильного разрешения ситуации из числа тех, что в последнее время создаются слишком часто и разрешаются как угодно. Мы, по сути, пытаемся — иногда успешно — создать правильный мир вместо того, что есть.
И вот — Женева, где почти все стороны сирийского конфликта приступают к следующему этапу выработки документа по урегулированию. С предыдущего этапа они разошлись, имея на руках "двенадцать пунктов Стаффана де Мистура".
Фактический председатель переговоров, арбитр, организатор процесса — спецпосланник ООН по Сирии — составил список пунктов, по которым, на его взгляд, все участники прежнего раунда (начался 14 марта) уже согласились. Выдал эти пункты всем, делающим вид, что они друг с другом договариваются, для изучения.
А кто такой де Мистура, чтобы давать домашнее задание Дамаску и нескольким фракциям сирийской оппозиции? С одной стороны, они ему никак не подчиняются. Но с другой стороны, кто-то ведь должен стоять если не совсем над, то рядом со всеми договаривающимися сторонами и явочным порядком брать на себя роль арбитра в любых спорах. И при этом быть таким арбитром, чье мнение по каким-то причинам для всех собравшихся весьма важно. Важно просто потому, что такой человек должен быть. И вот он есть.
То есть мы говорим даже не только о личности, а о функции, роли надгосударственного дипломата высокого уровня, идеально нейтрального переговорщика, способного найти компромисс между людьми, которые только что стреляли друг в друга и до сих пор не садятся за один стол, а располагаются в разных комнатах одного и того же здания. Соберутся вместе — переругаются.
Каким надо быть человеком, чтобы играть подобную роль? Что за феномен этот Стаффан де Мистура?
Из породы разумных птиц
Алан Коул и Крис Банч, авторы космических боевиков из серии "Стэн", изобрели планету, населенную манаби — это не люди, а разумные птицы. Когда обитатели галактики хотят договориться между собой о мире или чем-то подобном, они приглашают организовать и провести переговоры кого-то из манаби, несмотря на заоблачные цены их услуг.
Манаби, генетические мастера дипломатии, имеют репутацию абсолютно нейтральных персонажей уже хотя бы потому, что они не люди.
Если вернуться на нашу землю, то Коул и Банч откуда-то ведь брали свою идею. Есть минимум две национальные школы дипломатии — египетская и итальянская, которые предоставляют иногда другим странам профессионалов для посредничества.
Стаффан де Мистура — не египтянин, у него сложная национальность. Он с двойным гражданством, сын шведки и итальянца, но не просто итальянца, а родившегося на территории современной Хорватии. Почти космополит. Но все-таки скорее итальянец, да еще и внешне похожий не только на разумную птицу, но на старого римлянина — героя фильма "Великая красота" Паоло Соррентино. И еще, что важно для его рода занятий, он маркиз. В дипломатии такие вещи помогают. Так же, как и знание, кроме двух родных языков, английского, немецкого, испанского и арабского. И возраст (69 лет), внушающий уважение.
Биография интересная. Кроме должности заместителя министра иностранных дел Италии, де Мистура в основном работал в ООН и прочих международных организациях. В том числе представлял Генерального секретаря ООН в Ливане, Ираке и Афганистане среди войн, конфликтов и развала государств.
Что интересно, очень трудно назвать какие-то ярко выраженные дипломатические "победы" де Мистуры. В том числе и потому, что в дипломатии понятие "победа" весьма сомнительное, здесь иногда важен просто сам факт идущих переговоров вместо войны. А где на самом деле лежат симпатии переговорщика, лучше не показывать вообще никогда. Или не иметь их.
При любом другом подходе наш герой не смог бы так, как он это делал накануне нынешнего раунда переговоров, объехать за последние пару недель все столицы, с их разным отношениям к сирийскому урегулированию — Дамаск, Тегеран, Эр-Рияд… И Москву.
В Москве к де Мистуре относятся с уважением, но прохладным. Дипломатические источники называют его "бюрократом", лишенным эмоций, и говорят, что с его предшественниками на посту переговорщиков по Сирии, вот хоть с бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном, было больше тепла и понимания.
Но не потому ли Кофи Аннан ушел с этого поста, пробыв на нем лишь несколько месяцев 2012 года, то есть попросту провалился? Дело в том, что сегодня, если ты нравишься кому-то в Москве или Пекине, то тебе не дадут работать люди из Вашингтона или Лондона. И, соответственно, не будет сирийского урегулирования.
Сейчас, кстати, начинается сложная процедура выбора нового Генерального секретаря ООН на место Пан Ги Муна. И стоит только одной державе обозначить свои симпатии к какому-то кандидату, как его подвергнет своему вето другая держава.
А это значит, что и ООН в итоге возглавит очередной манаби — прохладный "почти инопланетянин", вызывающий уважение своей биографией и аристократической отстраненностью от того, чем занят. Живое воплощение той самой "эгиды".
Еще это значит, что при хорошем повороте событий в мире успокаивать его и приводить в порядок будут вот такие люди, стоящие над схваткой, над нациями и идеологиями, зато верно служащие своей благородной профессии.
Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Добрая тетушка Джанет
Расставленные председателем ФРС ориентиры соответствуют интересам России
Николай Вардуль
Главное событие конца марта — выступление председателя ФРС Джанет Йеллен в Экономическом клубе Нью-Йорка, состоявшееся 29 марта. Оно, как и ожидалось, прояснило, какую политику будет проводить регулятор в ближайшее время — по-прежнему «голубиную» с неторопливо осторожным подъемом ставки или сменит ее на «ястребиную» и протрубит ставке подъем уже на ближайшем апрельском заседании.
Основания для того, чтобы ожидать разворот к решительным действиям ФРС, были. Например, 28 марта вышла статистика доходов и расходов домохозяйств США в феврале. С одной стороны, в них нет ничего экстраординарного. Доходы выросли на едва различимые 0,2%, расходы отозвались еще скромнее — ростом всего на 0,1%. Но есть другая сторона. Во-первых, рост расходов американцев на символические 0,1% происходит третий месяц подряд. Во-вторых, на долю потребительских расходов приходится почти 70% ВВП США. В-третьих, этот рост, как подчеркивает, например, Владимир Рожанковский, директор аналитического департамента ИК «Окей Брокер», происходит «в условиях стабильных уровней найма, низких цен на бензин, а также повышения цен на жилье». В-четвертых, есть индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures), который учитывает инфляцию, за исключением цен на продукты питания и топливо. Именно на него ориентируется Федрезерв при оценке рисков инфляции, а он медленно, но верно растет: в феврале он поднялся в годовом измерении на 1,7%. Это пока ниже пороговых 2%, но динамика вполне однозначная. Чем не основание для того, чтобы в очередной раз пусть демонстративно, но приподнять ставку?
К тому же есть группа аналитиков, которые считают, что, затягивая процесс увеличения ставки, ФРС может в принципе упустить возможности для проведения своей принципиальной политики. В результате ожидание выступления председателя ФРС Джанет Йеллен было не лишено определенного драматизма.
«Ястребом», однако, она так и не стала. 29 марта в своем выступлении она позитивно оценила как принципиальное направление политики ФРС — курс на рост ставки, так и темп движения к поставленной цели. «Снижение ожиданий рынка с декабря по будущему (росту. — Ред.) процентной ставки… помогло скомпенсировать менее благоприятное финансовое положение, оказывавшее влияние на сокращение и более медленный зарубежный (экономический. — Ред.) рост», — сказала она, добавив, что «этот механизм служит важным автоматическим стабилизатором для экономики».
Осторожной политика ФРС останется и впредь. «Я считаю уместным осторожное продолжение корректировки кредитно-денежной политики Федеральным комитетом по открытым рынкам (FOMC)», — заявила Йеллен.
Как уже писала «Финансовая газета», если в декабре прошлого года предполагалось, что в 2016 г. ставка ФРС будет подниматься 4 раза, то теперь эти ожидания снижены до двух ступенек. Но Йеллен специально подчеркнула, что речь идет о прогнозе, а не об обязательном к исполнению плане. Прогноз же такой: если сейчас ставка по федеральным фондам установлена в целевом диапазоне 0,25–0,50% годовых, то к концу 2016 г. она вырастет только до 0,9% (в декабре 2015 г. ожидалось, что этот показатель достигнет 1,4%), а к концу 2017 г. — до 1,9%.
Но когда конкретно ставка придет в движение, Йеллен, естественно, не сказала. Она этого не знает. Ее объяснение: «Например, никто не может предсказать, как быстро ослабнет влияние внешних сдерживающих факторов на экономику». «В мировой экономике выросли риски», — констатировала председатель ФРС. Среди основных экономических рисков Йеллен отметила ослабление подъема в Китае, а также некоторую неопределенность в отношении того, каким образом будет происходить сдвиг модели роста экономики КНР от экспорта к внутреннему потреблению. Серьезный риск, по ее словам, также несет в себе падение сырьевых рынков и особенно нефтяного рынка. Дальнейшее снижение цен на нефть может привести к неблагоприятным последствиям для мировой экономики.
По сути, главное, на мой взгляд, что изменилось в позиции ФРС с декабря прошлого года, когда ставка впервые за долгие восемь лет пошла вверх, состоит именно в оценке внешних рисков для экономики США. Был момент, когда они были сочтены несущественными, однако сегодня именно они в значительной мере сдерживают ФРС.
Можно ту же мысль выразить гораздо драматичнее. Согласна с этим Джанет Йеллен или нет, но именно ФРС своей многолетней политикой дешевого доллара, которая отражалась на его курсе, развязала «валютную войну» — ситуацию, когда многие национальные регуляторы проводят сознательную политику ослабления курса своей валюты, добиваясь тем самым преимуществ для своих экспортеров на «чужих» рынках, стимулируя тем самым свой экономический рост. Теперь ФРС понимает, что, если другие регуляторы не поддержат поворот к росту ставок и удорожанию денег, США, изменив денежную политику в гордом одиночестве, дает значительную фору своим конкурентам на рынках. Так что поворот оказался гораздо более рискованным, чем, возможно, думали в ФРС в декабре 2015 г.
По словам Йеллен, в марте рынки позитивно ответили на принятое ФРС решение затормозить темпы повышения ставок. Столь же позитивно отреагировали они и на осторожное выступление главы Федрезерва 29 марта. Индекс Dow Jones вырос на 0,31%, S&P 500 — на 0,3%, NASDAQ Composite — на 1,05%.
«Голубиная» политика ФРС соответствует интересам России. Курс доллара и доходность американских казначейских облигаций отозвались на выступление Джанет Йеллен падением, а цены на нефть и на золото пошли вверх. Как отмечает MarketWatch, следует ожидать дальнейшей реакции нефтяного рынка на замечание главы ФРС о том, что дальнейшее падение цен на нефть может негативно сказаться на темпах восстановления американской экономики. По ее словам, стоимость сырья достигла «уровня финансового перелома для некоторых стран и энергетических компаний».
Но, конечно, не следует впадать в эйфорию. Как отмечает Станислав Клещев, главный аналитик ВТБ24, «вроде бы все неплохо, за исключением одного — слова председателя ФРС определяют настроения спекулянтов, но не способны влиять на фундаментальные факторы. Замедление темпов роста мировой экономики игнорировать сложно».
С другой стороны, замедление каким было, таким и осталось, а цены на нефть Джанет Йеллен все-таки поддержала.

"Улюкаевщина"
Анатолий Вассерман
28 марта министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев посетил посольство США в Москве и провел 45-минутную беседу с послом Джоном Теффтом, в ходе которой, как сообщалось, "обсуждался широкий спектр торгово-экономических отношений и финансовых отношений России и США", в том числе — участие американских компаний в новом раунде приватизации российской госсобственности.
Сами по себе встречи высокопоставленных чиновников с иностранными послами — дело достаточно распространённое и в чистом виде, как сферический конь в вакууме, не несущие обязательного криминального подтекста. В конце концов, и Западу надо примерно представлять себе, что мы планируем делать, и нам надо представлять себе, что планирует Запад. В отличие от коллективных встреч вроде массированных сборищ лидеров внесистемной оппозиции у американского посла, когда ясно, что они ему ничего содержательного не смогут сказать, слишком уж их много, и поэтому речь идёт только о накачке и инструктировании, встречи один на один вполне могут быть цивилизованными и оправданными. По дипломатическому протоколу министры должны вести беседы именно с послами, а не с чиновниками рангом пониже. И в том, что Улюкаев встретился именно с Теффтом, а не с третьим ассистентом четвёртого советника, никакого злого умысла я не вижу. Злой умысел не в форме встречи, а в её содержании.
Сама тема встречи указывает на её опасность. Во-первых, приватизацию в нынешних условиях не я один считаю преступлением, а все сколько-нибудь грамотные деятели, хоть немного ориентирующиеся в экономике. Экономический смысл приватизации в РФ сейчас только один. Понимая, что в скором будущем либеральную теорию, на которую опирается экономический блок правительства, сменит какая–нибудь из разумных экономических теорий, либералы рассчитывают продвинуться по разрушительному для хозяйства пути как можно дальше, с тем, чтобы потом сложнее было возвращаться обратно, и последствия их политики ощущались как можно дольше.
Во-вторых, приватизация попросту не нужна. Ибо, несмотря на все усилия экономического блока правительства, бюджет у нас всё ещё профицитный. Как сообщила Счётная палата, в прошлом году триллион рублей, уже ассигнованный на различные государственные нужды, просто не был востребован, а суммы, выводимые из наших доходов в порядке так называемой стерилизации денежной массы, и подавно в несколько раз перекрывают всё, что экономический блок правительства пытается объявить дефицитом бюджета. Поэтому приватизация в принципе не нужна для покрытия бюджетных расходов.
Если же господин Улюкаев и прочие борцы за приватизацию утверждают, что государство не может так же эффективно управлять хозяйством, как это делают частные лица, то следует напомнить ему, что ни в стране, ни в мире практически нет крупных производств, которыми руководят непосредственно их владельцы. Руководят всегда наёмные специалисты, и если господин Улюкаев говорит, что государственным предприятием не удаётся управлять так же эффективно, как частным, это только значит, что лично он не исполняет свою прямую служебную обязанность, а именно — подбор руководителей для предприятий. И, соответственно, речь должна идти не о приватизации предприятия, а о приватизации господина Улюкаева, то есть изгнании его с государственной службы за полную профессиональную непригодность, и пусть себе живёт в качестве частного лица.
Кроме того, в теме разговора усматриваются признаки ещё одного государственного преступления, а именно — президент уже потребовал, чтобы приватизируемые предприятия уходили только к хозяйствующим субъектам РФ. Причём не через какие-либо офшоры и прочие механизмы ухода от финансовой ответственности, а только к тем, кто зарегистрирован и явным образом ведёт свой бизнес в РФ. В таком случае, возникает естественный вопрос а какова ожидаемая господином Улюкаевым роль американских посредников? Они что, лучше наших специалистов могут оценить наше производство и наши перспективы? Они что, лучше наших специалистов могут сказать, сколько стоит наше имущество? Они что, лучше наших специалистов могут подсказать нашим бизнесменам, что им делать? Если господин Улюкаев предлагает американским банкам посредничать в сделках между нашими хозяйствующими субъектами и нашим государством — это значит, что либо он не верит нашему бизнесу, что для человека, обязанного развивать наш бизнес, несколько странно, либо намерен обеспечить доступ иностранцев к информации, представляющей собой, по меньшей мере, коммерческую тайну, а то и ещё какую–нибудь тайну, не только коммерческую. Таким образом, следует признать, что господин Улюкаев не только заслуживает увольнения за неисполнение своих прямых служебных обязанностей, но его деятельность заслуживает расследования по подозрению в коммерческом шпионаже. Я не исключаю, что по ходу расследования выявятся ещё какие-то нарушения российских законов, но уж это-то нарушение видно невооружённым глазом и заслуживает немедленного открытия следствия.
Экономический блок правительства вот уже четверть века придерживается экономической теории, созданной в своё время специально для того, чтобы страны, ориентирующиеся на эту теорию, не имели возможности развиваться. Почему и каким образом нам эту теорию навязали — отдельный вопрос, но достаточно сказать, что МВФ и Всемирный банк требуют строгого следования этой теории от всех стран, которым дают кредиты. Соответственно, за то время, что мы сидели на международной валютной игле, из нашего правительства изгнаны все, кто был способен ориентироваться на вменяемые экономические теории. Поэтому и Кудрин, и Улюкаев совершенно искренне говорят убийственные для страны вещи, ибо действительно верят в то, что именно так и надо поступать. Это, пожалуй, не их вина, а их беда. Другое дело, что на основе этой же теории они совершают вещи, очевидным образом опасные, и вот за это уже заслуживают наказания.

Снятие международных санкций с Ирана позволит банкам этой страны вновь наладить сотрудничество с российскими коллегами. Однако если корреспондентские отношения возможно восстановить за короткое время, то полномасштабное сотрудничество потребует решения ряда вопросов. О том, что стоит на пути стран к расчетам в нацвалютах, как наладить сотрудничество с топ-10 российских банков, о партнерстве с ВЭБом по кредитной линии и будущем исламского банкинга рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор Мир Бизнес Банка Мохаммад Хаззар. Беседовала Вероника Буклей.
Единственным акционером и учредителем МБ Банка является Банк Мелли Иран (Национальный банк Ирана), который управляется правительством Ирана и является его собственностью. Это первый иранский банк, который был создан в 1927 году по приказу Меджлиса и с тех пор остается одним из самых влиятельных банков страны. Сейчас БМИ является крупнейшим коммерческим розничным банком в Иране и на Ближнем Востоке, у него более 3,6 тысячи филиалов и 46 тысяч сотрудников.
— Какие возможности снятие санкций откроет банковскому сектору в Иране и России?
— Наша основная миссия — это поддержка и создание возможностей для торговли между двумя странами — Россией и Ираном. Во время санкций наш банк вошел в санкционный список ЕС и США. В это время проходило много расчетов между Россией и Ираном, а также странами СНГ. После снятия санкций мы надеемся вновь войти в международный бизнес и сотрудничать с западными и восточными странами, иметь больше гибкости в проведении банковский операций.
К сожалению, большинство крупных российских банков, топ-10 банков, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие, разорвали отношения с нашим банком и другими банками Ирана из-за угрозы со стороны стран Запада.
Прежде всего, сейчас, после санкций, система SWIFT, которая была отключена, вновь начала работать. Это произошло в феврале этого года — с этого времени наш банк снова член сообщества SWIFT. Однако одной SWIFT недостаточно, чтобы сотрудничать с банками. Нам необходимо возобновить корреспондентские отношения с крупными банками, и сейчас этот процесс идет. Мы надеемся, что за короткий период времени мы вновь установим эти отношения. Это позволит нам проводить международные расчеты, чтобы поддерживать торговое финансирование бизнеса между двумя странами, включая аккредитивы, гарантийные письма и другие банковские инструменты.
— Будет ли возможно вновь установить корреспондентские отношения в 2016 году?
— Этот процесс сейчас идет. Мы надеемся, что в течение этого месяца мы возобновим их. Мы ведём переговоры с ВТБ, Внешэкономбанком, Газпромбанком, Сбербанком по возобновлению сотрудничества с нами.
— В связи с новыми возможностями рассматриваете ли вы новые сферы развития бизнеса в РФ?
— Конечно. Проблема в торговле между Россией и Ираном была в расчетах, поскольку объем экспорта из России в Иран гораздо больше, чем импорта из Ирана. Для расчетов нам прежде всего необходимы банковские инструменты и возможности.
Из-за санкций у нас не было возможности вовремя проводить расчеты. К сожалению, объем торговли из-за санкций постепенно снижался. В 2012 году он составлял 4,2 миллиарда долларов, а в прошлом году снизился до 1,7 миллиарда долларов. Наш банк будет играть ключевую роль в обслуживании торговых операций между странами.
— Планируете ли вы расширение в России?
— Вы знаете, что у нас есть офис в Астрахани. Его работа — хороший опыт для нас. Он был открыт в 2011 году, с этого времени до сегодняшнего дня действовали санкции и у нас не было больших возможностей для операционной деятельности. У нас появится возможность открыть офисы, возможно, в Казани, Махачкале, Санкт-Петербурге. В будущем, возможно, в других странах СНГ. Увеличение объемов торговли даст нам большую гибкость, мы готовы расширять нашу сеть и бизнес.
— ЦБ РФ сообщил, что в марте Центробанки России и Ирана, а также иранские и российские банки провели встречу и обсудили актуальные вопросы. Вы участвовали в этой встрече?
— Действительно, в заседании приняли участие ЦБ России и ЦБ Ирана и коммерческие банки двух стран. Самые важные вопросы — это в первую очередь вопрос установления корреспондентских отношений между банками, открытие счетов крупных российских банков, чего очень хотели иранские банки.
Также вопрос взаиморасчетов между банками, чтобы обеспечивать оплату всех контрактов между двумя странами.
Еще один вопрос — это курс валюты ЦБ Ирана. Договорились, что в скором времени вопрос с разницами курсов валют будет решен. Также обсуждался вопрос Union Card. Кроме того, обсуждался контракт между банком развития экспорта Ирана и РФК-Банком для обеспечения экспорта из Ирана в Россию. Уже подписали этот контракт для поддержки экспорта в России.
— Как девальвация рубля повлияла на ваш банк?
— Конечно, она повлияла на нас. Когда наши акционеры вносили средства в капитал банка, они делали это в долларах. Сначала это было 40 миллионов долларов, таким образом, девальвация повлияла на наш капитал. Мы работаем в России, и нам необходимо управлять им в текущей ситуации. Ситуация с нестабильностью рубля похожа на то, что было с иранским риалом. Девальвация риала, в особенности во время санкций, возможно, была больше, чем девальвация рубля. Нам необходимо управлять активами и капиталом в зависимости от текущей ситуации.
— Иран и Россия заинтересованы в проведении транзакций в риалах и рублях. На ваш взгляд, когда такие транзакции могут быть стать возможными в рамках вашего банка?
— Если страны хотят достичь этого и сделать их сбалансированными, это потребует времени, поскольку торговля между двумя странами не сбалансирована. Если она будет сбалансирована, появится возможность осуществлять торговые расчеты в национальных валютах.
Мы начали проводить торговые расчеты около двух лет назад. Когда российские компании импортируют в Иран, они платят своим коллегам в этой стране.
Мы получаем валюту — рубли, доллары, евро — от российских компаний, конвертируем их в риалы и проводим платеж в пользу иранской компании по рыночной цене. Сейчас объемы торговли растут ежедневно.
Осуществление платежей в национальных валютах возможно, но для этого необходимо договоренности между ЦБ Ирана и России.
— Каков ваш прогноз по развитию торговли на этот год?
— Это будет зависеть от ряда факторов. Существует много государственных проектов, где уже были подписаны контракты, но они еще не начались.
Некоторые из них уже запущены. Кроме того, частные компании также работают над проектами в Иране. По моей оценке, если все будет нормально, возможно, после Навруза (иранского Нового года) бизнес резко вырастет, и мы надеемся, что объем торговли увеличится как минимум на 50% по сравнению с прошлым годом.
— В Госдуме сейчас обсуждается закон об исламском банкинге. Какую роль МББ играет в развитии исламского банкинга в России?
— В рамках ЦБ существует рабочая группа, в которую входят некоторые российские банки, и мы участвуем в ней. Группа в ЦБ называется группой по развитию партнерского банкинга. Идея состоит в создании партнерского банка, ухода от процента и спекулятивных сделок, переходе к другой форме взаимодействия. РПЦ и некоторые бизнесмены выступили с предложением, может быть, запустить православный банкинг. Поэтому группа получила такое название.
Эта группа занимается работой над возможностями реализации принципов исламского банкинга в России. В ЦБ принято предложение от Татфондбанка попробовать реализовать пилотный проект в Казани на базе этого банка. 24 марта в Казани состоялось очередное заседание этой рабочей группы, где были рассмотрены практические шаги. Это не быстрый процесс, хотя это уже давно изучаемая тематика. На этой стадии наш банк может выступить в качестве консультативной организации, у которой есть опыт функционирования в Иране по законам шариата.
Я думаю, нам нужно будет дождаться результатов пилотного проекта, посмотреть, как он реализован. Я надеюсь, что он будет реализован, потому что он дает много для развития бизнеса и с точки зрения моральной стороны.
Мы рассматриваем возможность открытия исламского окна в нашем банке, если все пройдет хорошо.
— Вы говорили, что ведете переговоры с рядом российских банков. Обсуждаете ли вы новые проекты?
— Вы знаете, что власти двух стран ведут переговоры по кредитной линии в объеме 5 миллиардов долларов, средства которой пойдут на проекты в Иране, связанные с российским экспортом и услугами. ВЭБу поручено реализовывать этот проект. Трансферы и расчеты в рамках проекта будет проводить ВЭБ через наш банк. Возможно, мы создадим партнерство с ВЭБом по этой кредитной линии.
В настоящий момент большинство иранских компаний, которые работают с российскими, имеют счет в нашем банке. Мы помогаем им открывать счета, проводить трансферы в и из Ирана, проводить аккредитивы и так далее.

Несколько дней назад Москву посетил председатель подкомитета конгресса США по делам Европы, Евразии и новым вызовам Дана Рорабакер. РИА Новости публикует интервью конгрессмена, которое он дал после выступления в Международном дискуссионном клубе "Валдай".
— Россия и США сейчас ведут совместную борьбу с ИГ, Москва и Вашингтон разрабатывали план решения сирийского кризиса. Может ли этот опыт сотрудничества быть использован в других вопросах?
— Наша борьба против радикального исламского терроризма не завершена даже наполовину. И в ближайшее время эта проблема может принять опасный оборот. Нас ждет тяжелое испытание. И единственное, что поможет победить терроризм и закрыть эту страницу истории, — это сотрудничество между нашими странами.
Европа запустила на свою территорию толпы людей, чья культура и чьи взгляды сильно расходятся с европейскими. У Европы не хватает решимости защитить себя, и она просто так отдает свои государства мигрантам. Россия (наряду с США) является одной из немногих стран западной цивилизации, у которой хватает мужества противостоять этой угрозе и победить ее. Если мы будем поступать иначе, вся западная цивилизация в конце концов рухнет. И наши страны не должны допустить этого. Влияние этого огромного наплыва мусульманского населения в Западную Европу изменит картину мира.
— Но многие сейчас видят угрозу для Европы не в мигрантах, а в России. Как вы считаете, будет ли американская Инициатива по обеспечению европейской безопасности действительно способствовать стабильности в регионе? Должны ли США и НАТО разработать более жесткую доктрину, нацеленную на сдерживание России?
— Нет, Соединенные Штаты должны предоставить европейцам возможность самим решать проблемы по обеспечению собственной безопасности. Я не думаю, что существует реальная угроза военного вторжения России в Европу. Над ЕС сейчас нависла гораздо более серьезная опасность. Угроза исходит от радикального исламского терроризма, и мы должны бороться с ней совместно с Россией, не пытаясь выстраивать нашу политику на изоляции Москвы. Я не вижу никаких признаков того, что Россия стремится к военному нападению на Европу… И тот факт, что мы сейчас серьезно обсуждаем этот вопрос, говорит о том, насколько странными и оторванными от реальности являются политические курсы некоторых стран.
— Существует ли реальная возможность сотрудничества между Россией и США по вопросу сдерживания ядерных амбиций Северной Кореи?
— Я полагаю, что Северная Корея, которая управляется фанатиками и пытается разработать ядерное оружие, становится огромной проблемой для всех цивилизованных стран. И поскольку Россия и Соединенные Штаты являются самыми крупными и мощными державами цивилизованного мира, они должны обращать особое внимание на этот вопрос. Это как раз тот случай, когда мы должны работать вместе и искать наилучший подход для ее решения.
— И последний вопрос. Почему конгресс приостановил практически все парламентские контакты с Россией — это ведь отнюдь не способствует российско-американскому сотрудничеству…
— Да, этим запретом пытались показать, что Россия якобы скатилась до статуса государства, где невежественным народом манипулируют политики, которые при этом также не имеют ни малейшего представления о том, что происходит. Мы должны признать, что Россия — сильное современное государство. Когда президент России стремится защитить интересы своей страны, мы не должны рассматривать его действия как враждебность или угрозу для глобального миропорядка. Мы надеемся, что у нашей страны появится президент, который будет так же заботиться об интересах своей страны, как это делает российский лидер.

Провалы в памяти
Владислав Иноземцев о том, почему Россия не Америка
Практически любой россиянин, если ему придется сравнить свою страну с какой-нибудь другой, наверняка будет сравнивать ее не с Португалией (которую наш президент обещал догнать по показателю валового внутреннего продукта на душу населения в своей знаменитой статье в «Независимой газете» 30 декабря 1999 года) или с Саудовской Аравией (с которой мы являемся крупнейшими производителями / экспортерами энергоресурсов в мире), а, понятное дело, только с одной страной – Соединенными Штатами.
Конечно, при таком сравнении по большинству позиций (за исключением любимых нами, но не измеряемых количественно показателей духовности и справедливости) Россия проигрывает Америке, но интересен вопрос: почему это так? Одну из версий ответа и хочется предложить.
Экономист, скорее всего, объяснит американский успех незыблемостью частной собственности, гарантированной предпринимательской свободой и непрекращающимся притоком талантливых и энергичных людей из остального мира.
Политолог обратит внимание на разделение властей, правовое государство и приверженность демократическим принципам, что делает политическую систему стабильной, предсказуемой и подотчетной гражданам.
Социолог расскажет про American Creed и национальную мечту, мобилизующие людей, про толерантное отношение к богатству и успешности, про права человека и уважение к выбору каждого. И так далее. Однако мне хотелось бы обратить внимание на нечто иное — на отношение американцев к истории собственной страны и к тем, кто в разное время ее делал.
Если вглядеться в историю Америки, окажется, что ее нигде и ни в чем не нужно переписывать: все происходившее с этой страной за 240 лет ее существования, вполне может быть рассказано без утаек и «компромиссов». Да, в ней встречались страницы, которые сейчас вряд ли хотелось бы вспоминать: геноцид исконных жителей Северной Америки проводился подчас с неимоверной жестокостью, а рабство и позднейшее ограничение гражданских прав негров остается позорным пятном в истории страны.
Однако даже эти моменты не скрываются. Напротив, на вашингтонском Молле стоит Музей истории американских индейцев. Давайте представим себе в Москве музей, в котором были бы собраны свидетельства русских войн на Северном Кавказе в XIX веке или изгнания с родных мест чеченцев или крымских татар в 1944 году. А чуть дальше Молла воздвигнут памятник Мартину Лютеру Кингу, главному, говоря современным языком, правозащитнику в истории США. Опять-таки давайте вообразим монумент Андрею Сахарову на месте, скажем, храма Христа Спасителя.
Если еще немного погулять по окрестностям, можно увидеть, как мемориал в честь павших на атлантическом и тихоокеанском театрах военных действий во Второй мировой войне соседствует с памятниками солдатам, погибшим в Корее и Вьетнаме — войнах, участие Америки в которых выглядело и по сей день выглядит по меньшей мере неоднозначным. А есть ли у нас сопоставимые памятные комплексы, посвященные советским солдатам, сражавшимся ну хотя бы в Афганистане?
Но дело не только в монументах, а в памяти как феномене. В России в последнее время много говорится об уважении к тысячелетней истории нашей страны, но возникает масса вопросов о том, достойна ли она такового.
Если приехать в тот же Бостон, откуда в свое время был дан старт Войне за независимость Соединенных Штатов, то в самом центре города можно увидеть несколько кладбищ, на которых до сих пор покоятся останки не только пассажиров «Мейфлауэра», но и первых британских губернаторов Массачусетса, в том числе легендарного Джона Уинтропа. Захоронениям почти 400 лет, но ни одному мэру не подумалось закатать в бетон эти ценные куски городской земли и построить здесь пару новых небоскребов.
Москва как минимум вдвое старше Бостона, но можно ли отыскать тут (не считая царского некрополя) хотя бы одно кладбище с несколькими десятками захоронений XVII века, не говоря о более древних?
В Америке меньше говорят об истории, чем в России, но оберегают и сохраняют ее намного более тщательно, так как американцы не смешивают историю и идеологию.
И потому у них был и остается четкий стержень как у нации, в то время как история помимо «общегосударственного» имеет мощное личное начало, которое затрагивает в той или иной форме практически все рефлексирующее население страны. В России же история всегда дополняла и дополняет идеологию, а сегодня, когда последней de facto и вовсе не существует, а национальной идеей объявлен патриотизм (более странной комбинации сложно придумать), еще и подменяет ее, и потому становится брутальной и безличностной.
Конечно, было бы смешно утверждать, что в Америке история не используется для воспитания единства нации и поддержки в народе чувства причастности к уникальной, мощной и великой стране. Но и тут стоит сделать одно важное замечание. Возможно, это не слишком заметно, но в политической истории Соединенных Штатов практически не оказывается не только «отрицательных» персонажей, но и лиц, отношение к которым провоцировало бы общественную поляризацию.
Конечно, многие президенты уходили на покой не слишком популярными, а один вынужден был даже подать в отставку, но при этом практически за каждым признавались значительные достижения, никто не был предан анафеме, и, что особенно важно, никто не отличался жестокостью по отношению к соперникам.
Мы знаем, например, какая судьба постигла в годы Гражданской войны «правителя России» адмирала Александра Колчака (судя по всему, с ведома и санкции большевистского правительства в Москве). В то же время Джефферсон Дэвис, президент Конфедерации в годы Гражданской войны 1861–1865 годов, проведя в тюрьме два года, был подвергнут амнистии вместе с другими участниками войны и спокойно прожил в собственной стране более двадцати лет, будучи руководителем крупной страховой компании и успев выпустить книгу об истории Конфедерации.
Вполне понятно, что, когда исторические личности не считают своей главной задачей сведение счетов с предшественниками или противниками, не приходится и переписывать историю
А в России эта традиция была начата с прихода к власти (в значительной мере случайного) династии Романовых и с тех пор никогда не теряла своей актуальности. Между тем для того, чтобы уважать историю, в которой каждая глава неоднократно корректировалась по прихоти того или иного персонажа, возглавлявшего страну, по меньшей мере нужно не уважать самого себя. Напротив, в стране, где история не замалчивается и не извращается, она естественным образом становится поводом законной гордости каждого гражданина и фактором формирования единой национальной идентичности.
Стоит заметить и еще одно обстоятельство. Хотя в США вполне допустимо критиковать власти и президента, к людям, облеченным народным доверием, практикуется подчеркнуто уважительное отношение, нападок на бывших государственных деятелей в СМИ практически не заметно.
На многих правительственных и публичных зданиях указывается год постройки и имя президента, в это время руководившего страной (в российском случае такая практика была бы очень поучительной). Значительное число зданий и организаций получают имя того или иного государственного деятеля и/или крупного благотворителя, при этом такой чести политиков удостаивают вовсе не их друзья или соратники по партии.
В 1997 и 1998 годах, при президенте-демократе Билле Клинтоне, Интерконтинентальный аэропорт Хьюстона и Национальный аэропорт Вашингтона были названы в честь здравствовавших на тот момент бывших президентов Джорджа Буша-старшего и Рональда Рейгана. А теперь представим себе, как Борис Ельцин или Владимир Путин в торжественной обстановке, в присутствии чествуемого, отмечая вклад нобелевского лауреата в открытие России внешнему миру, присваивают аэропорту Шереметьево имя Михаила Горбачева. Представили? Если вам удалось это сделать, то, возможно, вы еще сможете проникнуться уважением к отечественной истории. Это было сделано в том числе и потому, что история страны — это такая священная книга, из которой нельзя вырывать страниц. Ни одной.
Конечно, в России не все в восторге от того, как власти обращаются с нашей историей. Возникают общественные инициативы типа «Забытого полка» или «Последнего адреса», открываются памятники тем, кого советская историография однозначно считала врагами, начинает увековечиваться память жертв репрессий, работают Фонд Горбачева и Ельцин-центр. Однако при всем уважении к усилиям тех, кто стоит за данными начинаниями, стоит признать, что все они — попытки общественности хотя бы немного отклониться от той новой версии «Общего курса…», который сегодня усиленно насаждается Кремлем. Всем этим мы пытаемся исправить нечто из давно или недавно ушедшего, но тем временем история продолжает писаться так же как всегда она писалась в России — в густом чёрно-белом цвете.
Собственно говоря, все изложенное выше — незамысловатые наблюдения дилетанта, в которых, возможно, много ошибочного и неглубокого. Но мне кажется, что Россия потому не является Америкой, что она не может найти в себе потенциала общественного согласия — согласия частей общества друг с другом и нынешних политических руководителей с предшествующими. Это отсутствие согласия порождает огромные социальные издержки недоверия, генерирует страх перед переменами, формирует нигилистическое отношение к праву, так как именно история страны лучше всего показывает власть предержащим, что потеря этой власти чревата потерей уважения, а также порой свободы и даже жизни.
Поэтому наши бедные чиновники «на черный день» создают себе миллиардные офшоры в Панаме, изо всех сил борются с демократическим волеизъявлением народа и придумывают мегапроекты, реализуя которые на бюджетные средства, обеспечивают безбедную заграничную жизнь поколениям своих потомков.
Они делают все это совершенно рационально, потому что не считают эту страну своей, понимая, что досталась она им — от Михаила Романова до Владимира Ленина и от Иосифа Сталина до Владимира Путина — по большей мере случайно. И собственно, я не собираюсь их в чем-то осуждать.
Я только хотел бы никогда не слышать от них ни о том, что Россия догонит Америку, ни о том, что следует с уважением относиться к истории той страны, образ которой они сами для себя создали…

«Вы теряете население, молодые уезжают из страны»
Конгрессмен Брайан Хиггинс о возможном снятии санкций с России
Александр Братерский
В Москве побывала делегация конгресса США во главе с республиканцем Даной Рорабакером. Конгрессмены приняли участие в дискуссии международного клуба «Валдай». Несмотря на то что члены делегации придерживаются разных взглядов на ситуацию в России, все они убеждены в необходимости улучшения контактов. О том, как он видит ситуацию в отношениях между Россией и США, «Газете.Ru» рассказал конгрессмен от штата Нью-Йорк Брайан Хиггинс.
— Президент США продлил режим санкций против России до 2017 года, до окончания своего срока. Ожидаете ли вы изменения санкционной политики в случае прихода к власти новой администрации?
— Необходимо понимать, почему санкции были введены. Санкции — это рычаг, которым вы можете воспользоваться, если хотите скорректировать чье-то неправильное поведение. Однако мы должны взглянуть на истоки возникновения санкций, причины, их породившие. Мы должны понять, как мы можем прийти к решению этой проблемы. Они будут сняты, когда проблема, породившая их, будет решена, то есть выполнены минские соглашения.
— Вопрос Крыма останется сложным. Как его решать?
— Мы считаем, что это был акт агрессии. И когда происходит акт агрессии, вы обязательно получите ответ.
Когда мир видит такой недружественный акт, то он рассматривает его как акт оккупации.
— Но многие в Крыму хотели быть с Россией.
— Решайте это вопрос дипломатическим путем. Военное же вмешательство вызывает озабоченность всего региона, и тогда эти страны обращаются за защитой к США.
— Как вы расцениваете вашу поездку в Москву?
— Эта поездка была очень познавательной в образовательном смысле и подтвердила мои представления о России. Ваша страна имеет потрясающую историю, внесла важный вклад в развитие человечества в том, что касается науки и культуры. Но сейчас я смотрю на вашу экономику и вижу тревожные признаки: проседание экономики на 4%, инфляция — 13%, у вас ожидаются проблемы с банками. Все это не предполагает причин для роста. Вы теряете население, молодые уезжают из страны. К примеру, сейчас более 1 миллиона русских евреев живет в Израиле. И почему они там? Потому что там идет экономический рост.
— Президент Путин недавно обратился к части российских евреев с предложением вернуться домой...
— Одно дело — просить кого-то вернуться, другое дело — создать условия для этого. Президент может сделать так, чтобы молодежь вернулась, но они не приедут, если не увидят реальных возможностей. У нас тоже есть подобные проблемы с отъездом молодых людей, правда, это происходит на региональном уровне (речь идет о миграции внутри США. — «Газета.Ru»).
Если хотите роста, инвестируйте в экономику, а диверсификация поможет внутренним и внешним инвестициям и новому поколению россиян.
— Как вы думаете, что отталкивает инвесторов от прихода в Россию в сегодняшних условиях?
— У вас есть неопределенность. Мы все участники глобальной экономики, и чем более уверенно мы двигаемся, тем больших результатов достигаем.
И если компании видят экономику страны, которая сильно ужалась, это не вселяет уверенность.
У вас 140 миллионов человек, много образованных и трудолюбивых. Но вам нужна диверсификация экономики и хорошее образование для молодых, чтобы удерживать их здесь.

Москва и Вашингтон никогда не сойдутся в вопросе относительно будущего президента Сирии Башара Асада, поскольку это не только противоречит внешнеполитической доктрине РФ, но и полностью лишает перспективы любой политический процесс. В этой связи в Москве предлагают отложить эту тему и дать сирийским сторонам самим определиться, когда ее можно будет поднять вновь. Об этом в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Татьяне Калмыковой рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Также он сообщил, что, вопреки многочисленным спекуляциям, вопрос обмена осужденной в РФ украинской летчицы Надежды Савченко не является предметом диалога с США, и рассказал, что у Москвы есть новые предложения по сотрудничеству с Вашингтоном.
— В последнее время в СМИ циркулирует информация о возможном обмене Савченко на осужденных в США российских граждан Бута и Ярошенко. Действительно ли ведутся с американцами подобные переговоры?
— Приговор Савченко вынесен. Мы исходим из того, что вопрос в отношении признания ее виновности полностью закрыт. Теперь речь идет о том, что ей надо отбывать срок назначенного наказания за совершенное преступление. Вопреки многочисленным спекуляциям о неких обменах или схемах, которые могут привести к ее освобождению, заявляю совершенно ответственно, что это не является предметом нашего диалога с США. В ходе последних контактов, в том числе на самом высоком уровне во время пребывания здесь госсекретаря США Джона Керри и в последующем, никакие варианты обмена Савченко на кого бы то ни было не обсуждались.
Мы видим, конечно, что в очень тяжелой ситуации продолжают оставаться российские граждане Бут и Ярошенко, приговоренные к длительным срокам заключения под надуманными предлогами и при весьма и весьма сомнительной доказательной базе, которая использовалась обвинением в их адрес. Мы уже много лет настаиваем на необходимости освобождения этих российских граждан. Механизмы для такого освобождения есть. Это, в частности, профильная конвенция Совета Европы (СЕ) о выдаче для отбывания наказания в стране гражданства. К этой конвенции США присоединились, несмотря на то, что они не входят в состав СЕ. В СЕ есть конвенции, позволяющие странам, не входящим в организацию, присоединяться. В рамках этой конвенции передача нам Ярошенко и Бута, на наш взгляд, вполне возможна. Есть два бывших российских военнослужащих, которые ожидают суда в Киеве, Александров и Ерофеев. Здесь то же самое: никакого обмена мнениями с американцами относительно освобождения Савченко под гарантии освобождения или передачи этих наших граждан не было. И, в принципе, мы считаем, что подобные спекуляции не помогают делу.
Мы продолжаем испытывать большую озабоченность в отношении неприемлемой практики Вашингтона, который, по сути дела, охотится за российскими гражданами, обвиняя многих из них в совершении разного рода преступлений и правонарушений. Американские правоохранители, следователи, прокуроры, правительство США не удосуживаются, как правило, действовать в соответствии с соглашениями в сфере взаимной правовой и консульской помощи. Они не уведомляют о фактах ареста по американским ордерам, добиваются от правительств других стран, на территории которых зачастую эти граждане задерживаются, выдачи российских граждан максимально быстро, чтобы у нас не было возможности предпринять надлежащие меры по защите их законных прав и интересов. Это одна их причин, по которой мы неоднократно официально предупреждали наших граждан, выезжающих за границу, о том, чтобы они правильно и тщательно оценивали риск подобных выездов с точки зрения наличия к ним возможных претензий со стороны американских правоохранительных органов в силу тех или иных причин. Американская следовательно-судебная розыскная машина не останавливается ни перед какими приемами, и люди, оказавшись затем на территории США, во многих случаях по сомнительным обвинениям, испытывают огромные трудности с возвращением на родину. Мы оказывали и будем им оказывать максимальное содействие, но реальность такова, что зачастую результат если и достигается, то через много лет, а ведь это людские судьбы. Это конкретные люди со своей жизнью, со своими семьями, со своими интересами. Поэтому здесь возникает серьезная проблема гуманитарного свойства, которой нам необходимо будет и дальше плотно заниматься. МИД, а также другие наши структуры, держат вопрос на постоянном контроле и уделяют этому первостепенное внимание. Мы рассчитываем, что в США признают исключительную серьезность этой проблемы. Но по Савченко, я повторяю, не было обсуждения обменов такого рода.
— Говоря о двустороннем сотрудничестве с США по Сирии, какие проблемы остаются на этом направлении? Нет ли запроса на расширение взаимодействия с одной или другой стороны?
— Мы хотели бы, чтобы взаимодействие с США, которое, надо отметить, за последнее время движется вперед и позволило обеспечить укрепление режима прекращения боевых действий, это взаимодействие стало более предметным и сфокусированным на практических делах в части подавления террористических структур, находящихся в Сирии и продолжающих свои операции. Пока с этим есть определенные трудности.
Политическая линия, включающая, с одной стороны, попытку представить позицию России применительно к сирийским делам как не во всем соответствующую интересам США и других участников возглавляемой США коалиции, продолжает определять поведение американских представителей, работающих со своими российскими коллегами. Это вызывает сожаление, потому что реалии на местах, "на земле" в Сирии таковы, что именно сейчас есть возможность нанести сокрушительный удар по террористическим структурам, прежде всего по ИГИЛ, помимо этого, по "Джабхат ан-Нусре" и по другим, которые там функционируют. Естественно, следствием подобного рода усиления прессинга на террористов может и, на наш взгляд, должно стать укрепление позиций законной власти в Дамаске. Это тоже не всех устраивает. Но мы продолжаем работу, в том числе на политическом уровне и на уровне представителей ведомств, которые находятся в постоянном контакте с американскими коллегами. Формирование разветвленной структуры взаимодействия по конкретным темам, сюжетам, возникающим в Сирии "на земле", стало одним из достижений последнего времени, позволяющим говорить, что в целом работа идет неплохо, но с учетом тех ограничителей, о которых я сказал
— Сейчас существуют проблемы с определением местонахождения террористов. Не ведутся ли с американскими партнерами какие-либо переговоры по упрощению экстрадиции террористов, созданию общих баз данных?
— Проблемы такого рода действительно есть. Однако мне сложно сказать что-либо в отношении экстрадиции террористов, этот вопрос слишком специализированный. Мы имеем соответствующие реестры, и мы согласовывали террористические списки с американцами. Мы занимаемся каждодневной работой с США в направлении уточнения и расширения ооновских списков, которые, как известно, ведутся много лет, и эта база данных уже достаточно обширна. Но что касается экстрадиции — это вопрос о том, кого экстрадировать конкретно и где эти люди могут находиться. У меня нет пока информации о том, что в практическом плане на подходе просматриваются те или иные решения в этой сфере.
— Контактировали ли с нами коллеги из Вашингтона по поводу возможного сотрудничества по Пальмире после ее освобождения?
— С сожалением констатирую, что особого энтузиазма и предметного заинтересованного подхода к возможному подключению к решению задач по гуманитарному разминированию, в чем уже напрямую задействовано профильное подразделение Минобороны России, мы не почувствовали с американской стороны. Конечно, американцам трудно оспорить, что освобождение Пальмиры стало очень значимым событием и, наверное, в значительной мере поменяло расстановку сил во внутрисирийском конфликте в целом. Сейчас стоят задачи гуманитарного свойства. Помимо разминирования — это помощь жителям этого района. Дальше идет вопрос о восстановлении историко-культурных памятников, где тоже, я уверен, есть место для вклада всех стран. Соответствующую работу мы развернули по линии ЮНЕСКО и на других направлениях. Мы будем этим заниматься в различных форматах. Однако, как и во многих ситуациях до Пальмиры, мы чувствуем, что курс Вашингтона зависит от определенных приоритетов и собственных предпочтений. Сохраняется непринятие законной власти в Дамаске в качестве легитимного партнера для тех или иных действий или решений. Поэтому, к сожалению, наши западные коллеги, и не только западные, зачастую доходят в своей сфокусированности на фигуре Башара Асада и на демонизации правительства Сирии до таких пределов, когда мы можем говорить, что они даже не в полном объеме выполняют требования соответствующих резолюций СБ ООН.
— Вы говорили, что на настоящий момент Москве удалось убедить партнеров, что тема будущего Асада должна быть отложена на данном этапе переговоров. Не могли бы вы прояснить данный вопрос?
— Все очень просто. Мы никогда не сойдемся с коллегами в Вашингтоне, да и в ряде других столиц, считающих, что камертоном всей работы должна быть пресловутая фраза "Асад должен уйти". По этому вопросу мы никогда не сойдемся, и не только потому, что это противоречит всей нашей внешнеполитической доктрине, включающей неприятие политики организации "цветных революций" по смене режимов, социального инжиниринга извне, но и по той причине, что требование такого рода полностью лишает перспективы любой политический процесс. Как можно ожидать от руководителя страны, что он будет через своих переговорщиков участвовать в некоем процессе в ситуации, когда ему, по сути дела, выдвинуто предварительное условие? Я понимаю, что для группы стран и для группы сирийских оппозиционеров реальность противоположна тому, что я сейчас сказал, и что они представляют себя настолько уверенными в своей правоте, что не готовы смириться с мыслью о том, что фигура Башара Асада будет находиться в центре сирийского политического поля еще неопределенное время. Какой из этого может быть сделан вывод, если не ставится задача сорвать переговоры и процесс нормализации ситуации? Вывод следующий: давайте сейчас отложим эту тему, и пусть сами сирийские стороны определятся, когда и на какой основе эта тема возникнет вновь. Сейчас там гораздо больше других неотложных дел. Если прочитать документы, которые принимались до нынешних раундов в Женеве по линии Международной группы поддержки Сирии (МГПС), начиная с российско-американского совместного коммюнике, принятого в Женеве 30 июня 2012 года, если ознакомиться с резолюциями СБ ООН, то легко убедиться, что никаких предписаний в первоочередном порядке заняться "вопросом о власти" в Сирии там нет.
Укрепление режима прекращения огня, нахождение формул организации структур, которые будут отвечать за нормализацию жизни в стране после этого ужасного конфликта, проведение выборов, разработка новой конституции — вот то, с чего надо начинать. Именно это носит неотложный и императивный характер. И уже дальше, по мере продвижения в решении этих вопросов, можно обращаться к другим темам. Но диктовать извне, кто, как, когда должен или не должен в чем-то участвовать, — это неприемлемый для нас подход. Переговорный процесс худо-бедно движется вперед, хотя и не без проблем, хотя и без участия курдов. Это, кстати, серьезнейший вопрос, и следующий раунд обязательно должен пройти с полноформатным подключением курдских представителей из Сирии. Иначе мы будем сами себе противоречить, заявляя что будущее Сирии — единой, светской, территориально целостной, независимой — должны определить жители этой страны. Если не сделать нужный шаг в направлении представительства курдов на переговорах, то мы данной цели не достигнем. Это должны понимать все, прежде всего в Анкаре, но не только. Это должны понимать в Вашингтоне. Важно, что сейчас ситуация с осознанием реальных, а не надуманных приоритетов несколько улучшилась по сравнению с тем, что было в прошлом году.
— Помимо подключения курдов к переговорам, какие у Москвы ожидания от предстоящего раунда межсирийских переговоров в Женеве?
— Ожидания такие, что будет сделан следующий шаг, а именно участники переговоров, проработав за время, прошедшее после окончания предыдущего раунда, у себя документ де Мистуры и обобщив то, что было услышано ими на предыдущем раунде, смогут сформулировать, что приемлемо из предложений спецпосланника генсека, а что требует корректировки, и в каком направлении. Таким образом, будет сделан следующий шаг и участники переговоров смогут отфиксировать прогресс. То есть что-то уже будет согласовано, а что-то будет намечено к согласованию в качестве ближайшей цели. Второе направление, по которому мы испытываем определенные ожидания и в пользу чего работаем в практическом плане, — это начало прямых контактов между сторонами. Ведь до сих пор переговоры шли через де Мистуру. Теперь настало время, когда стороны должны приступить к переговорам напрямую при содействии Мистуры и представителей стран, входящих в МГПС.
— Хотелось бы также уточнить по поводу предстоящих российско-американских консультаций по кибербезопасности. Какие здесь ожидания?
— Планируются комплексные межведомственные консультации на высоком уровне, и все структуры, которые занимаются этим вопросом, будут участвовать. Я хотел бы уточнить, что речь идет не о кибербезопсности в американском понимании данного термина, а о международной информационной безопасности, эта тема несколько шире. Она нами во многом под иным углом воспринимается и подается, чем американцами. Здесь тоже разговор предстоит трудный, но надо искать точки соприкосновения и двигаться вперед, а не просто воспроизводить позиции.
У нас есть, помимо этого, интерес и к другому вопросу, а именно к проведению с американцами рабочих практических консультаций по противодействию преступлениям в сфере интернета, электронным преступлениям разного рода. Этот интерес тоже есть, и мы рассчитываем, что американцы позитивно откликнутся на данную нашу идею.

Глава китайского государства Си Цзиньпин поначалу был единственным. Единственным из 50 глав государств на очередном саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, кто должен был иметь длительный и серьезный разговор с президентом США Бараком Обамой. Прочим, в том числе Эрдогану (Турция) и Порошенко (Украина), — отказали. Правда, затем возникла краткая двусторонняя встреча Обамы с президентом Франции и трехсторонняя с премьерами Японии и Южной Кореи. Но считается, что главное событие на полях саммита — все-таки разговор Обамы и Си. Это притом что отношения США и Китая хуже, чем со всеми остальными участниками саммита, и вряд ли улучшатся по итогам этого разговора.
Сели, поговорили
Для некоторых эта встреча выглядит даже более крупным событием, чем саммит. Его атмосферу New York Times определяет как "притихшую". Причин как минимум две. Во-первых, в Вашингтон не приехал Владимир Путин — глава второй после США ядерной державы. Во-вторых — как бы саммит такого рода не стал последним. Непонятно, будет ли кто-то проводить следующий, после ухода Обамы из Белого дома в январе 2017 года.
Встреча с Си Цзиньпином интересна именно своей бессобытийностью.
Как великое достижение Обамы подается уже данное ранее Китаем обещание подписать Парижское соглашение по климату. Просто сейчас появилась конкретная дата — 22 апреля. Все прочее не новость. А то, что Обама заявил: Америке необходим "сильный Китай" — это событие? Вовсе нет. Уже заявлял ровно то же.
А ожидалось от встречи следующее — если опираться на мнения людей, причастных к ее подготовке. Прежде всего намечался разговор насчет Северной Кореи, точнее о планах США выстроить в Южной Корее систему противоракетной обороны в непосредственной близости не только от Пхеньяна, но и Пекина. Разговор на эту тему был. Но до того состоялась упомянутая встреча Обамы с японским и южнокорейской коллегами. Так что Пекин просто проинформировали насчет достигнутых там соглашений по ПРО.
До того Китай подвергли информационному давлению насчет того, что он плохо выполняет санкции ООН против Северной Кореи, и она поэтому бросает всем вызов за вызовом.
То есть Пекин как бы делают ответственным за безответственное поведение Пхеньяна, который на днях опять занялся запусками ракет. Да, эту тему два лидера обсудили, но чтобы о чем-то договориться — и не надейтесь. "Мы координируем усилия", — признал Си. И добавил, что во многих вопросах они не соглашаются.
Ожидалось, что будет какой-то разговор насчет американской военно-морской деятельности в Южно-Китайском море — это далеко от берегов США, но близко к китайским берегам. И разговор такой был. Опять же без договоренностей. Более того, китайский лидер заявил, что его страна не примет никаких актов, который под предлогом "свободы навигации" нарушит китайский суверенитет. Это означает почти скандал.
На малом огне
Самое интересное — вот это "почти". То, что происходит между США и Китаем, похоже на имитацию нормальных отношений, и не более того.
США создают угрозу безопасности своему геополитическому конкуренту как минимум на двух направлениях по периметру китайских границ — юго-восточном и северо-восточном, постоянно поддерживая там на малом огне конфликты какого угодно характера. Хотя можно было бы упомянуть и западное, так же как и северо-западное направления.
То есть постоянные старания поссорить Китай с другим азиатским гигантом — Индией — и как-то использовать наличие джихадистского подполья в китайском Синьцзяне. Но эти два направления в последнее время для США складываются неудачно. А так, в целом Америка вредит Китаю по всему периметру его границ.
И не забудем идею Транстихоокеанского партнерства, которое делит Азию пополам — на американскую и китайскую зону и отнимает у Китая экономических партнеров. А еще не забудем информационный вброс лично против Си Цзиньпина насчет того, что в Китае якобы появилась оппозиция его "маоцзэдуновскому" (диктаторскому) стилю руководства. Нечто подобное, хотя и на другую тему, в эти же дни было устроено и против России.
Итак, открытый прессинг. Это не просто китайская политика США, это политика нынешней администрации. Как ни странно, при республиканцах (Джордже Буше) Америка ничего подобного не допускала, хотя уже в первые годы нынешнего столетия было ясно, что Китай стал — по совокупности параметров — второй державой мира и вот-вот станет первой.
Откровенно вредить Китаю где только можно — это курс администрации Обамы, а точнее это работа Хиллари Клинтон, когда она была на посту госсекретаря. Если станет президентом — наверняка продолжит.
Ну а лично Обама, если бы мог, вообще не занимался бы внешней политикой. А так он развлекается глобальными инициативами типа продвижения американских "зеленых" технологий ("борьба с переменами климата") или вот нынешней, по части ядерного нераспространения. Пекин же делает вид, что всегда готов подыграть Обаме с его любимыми игрушками.
Заметим, что Китай Америке не вредит, соседей на нее не натравливает. Другое дело, что Китай естественным образом стал эпицентром медленной, осторожной работы по изменению правил игры в нашем мире, прежде всего в финансах. Ведется эта китайская работа в рамках БРИКС, но не только там.
Если посмотреть, что сейчас происходит буквально в каждой стране БРИКС — особенно в Бразилии, но также и в Южной Африке и России, — то вы увидите одинаковую по методам и в сущности ту же политику Америки: вредит конкурентам США изнутри и снаружи, организовывает политические диверсии, экономические пакости, как минимум — ведет информационную войну без перерыва.
И вот феномен: враждебные действия Вашингтона против Китая ведутся в открытую, но две ядерные сверхдержавы слишком осторожны, чтобы малый огонь перевести в большой. Лидеры встречаются, разговаривают. Не упускают ни одного шанса показать — как на нынешней встрече, — что их все-таки многое связывает.
Здесь стоит напомнить любимую китайскую концепцию насчет необходимости организовать плавный переход от эпохи мирового господства США к какой-то другой эпохе (китайцы скромно не говорят, что она может оказаться китайской). Пекинские эксперты замечают, что подобные ситуации в мире всегда сопровождались разрушительными войнами, но хорошо бы в этот раз сделать все мирно и без потерь. Понятно, что у США своя концепция — любым путем не допустить ухода Америки на вторые роли. Повторим: любым путем.
Но китайские лидеры усвоили привычку не скандалить и не обижаться всерьез на Обаму и вообще на США — примерно как бессмысленно обижаться на волка за то, что он ест мясо. Можно произносить гневные речи, но зачем, если лучше улыбаться и заявлять, что отношения двух стран продвинулись на более высокий уровень.
Эта осторожность кажется чересчур китайской, но приходится согласиться, что это не худший способ управления миром в опаснейшую эпоху смены лидирующих сверхдержав.
Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Президент Сирии Башар Асад рассказал в эксклюзивном интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву об успехах российских ВКС в борьбе с террористами, возможности передачи Дамаску комплексов С-400 и поставках российского вооружения и возможном ответе Сирии на действия Турции и Саудовской Аравии, а также о своей оценке перемирия в стране и перспективе проведения досрочных президентских выборов.
— Идет разговор о необходимости досрочных президентских выборов в Сирии. Вы готовы пойти на досрочные президентские выборы?
— Конечно, это не выдвигалось как часть нынешнего политического процесса. Предлагается после (принятия — ред.) конституции провести парламентские выборы. Эти выборы покажут соотношение сил на политической арене. Затем будет сформировано новое правительство в соответствии с представительством политических сил в новом парламенте. Что касается президентских выборов, то это совсем другая тема.
Это зависит от позиции народа Сирии, есть ли народная воля к проведению досрочных президентских выборов. Если такая воля есть, то для меня это не проблема. Совершенно естественно откликаться на волю народа, а не некоторых оппозиционных сил. Этот вопрос касается каждого сирийского гражданина, потому что каждый гражданин голосует за этого президента. Но принципиально у меня нет никаких проблем с этим, потому что президент не может работать без народной поддержки. А если у президента есть народная поддержка, то он всегда должен быть готов к подобному шагу. Я могу сказать, что принципиально для нас это не проблема. Но чтобы пойти на такой шаг, нам нужно общественное мнение в Сирии, а не мнение правительства или президента.
— Вместе с тем, господин президент, для народа важно мнение его лидера. Поэтому я хочу спросить у вас, согласны ли вы на проведение выборов президента в парламенте, как это происходит в некоторых государствах? Согласитесь ли вы на участие в президентских выборах сирийцев, проживающих за рубежом? Об этом тоже много говорят. По какому пути вы пойдете? Какой путь, по вашему мнению, наиболее подходит для Сирии?
— Для нас в Сирии, как я полагаю, лучший вариант — это прямые выборы президента гражданами (а не через парламент), чтобы они были наиболее свободными от влияния различных политических сил и чтобы они зависели только от настроения народа в целом. С моей точки зрения, это самый лучший вариант. Что касается (участия — ред.) в выборах сирийцев, то чем шире будет участие сирийцев — каждого, у кого есть паспорт или сирийское удостоверение, тем сильнее будут эти выборы, подтверждая собой легитимность государства, президента и конституции, в соответствии с которой и идет этот процесс. Это касается каждого сирийца, проживает ли он в Сирии или за ее пределами. Но, конечно, процесс выборов за пределами Сирии — это процессуальный вопрос, он не обсуждается как политический принцип. Каждый сирийский гражданин в любой точке мира имеет право выбирать. Но как будут проходить эти выборы — эту тему мы еще не обсуждаем, потому что тема досрочных президентских выборов как таковая еще не выдвигалась. Но эта тема связана с процедурами, которые должны позволить всем прийти к урнам (для голосования — ред.), находящимся под контролем сирийского государства.
— Как вы оцениваете процесс примирения в Сирии? У вас появилось много союзников. Возможно, есть группировки, с которыми вы не готовы обсуждать будущее Сирии ни при каких условиях, что это за группировки? Я хочу вас также спросить о международных силах по поддержанию мира. Вы готовы принять международные миротворческие силы ООН, чтобы еще более укрепить примирение?
— Перемирие относительно удалось. То есть оно было лучше, чем ожидали многие. Ведь было ожидание, что перемирие провалится. Мы можем сказать, что успех перемирия можно оценить на "хорошо" или даже чуть больше, чем на "хорошо". Как вы знаете, прошли переговоры между российской и американской сторонами по определению террористических структур, полного взаимопонимания по этим группировкам не сложилось. Однако что касается нас и российской стороны, то мы не изменили свою оценку террористических организаций. Но есть такое предложение, чтобы исправить эту ситуацию: каждая организация или группировка, принимающая перемирие, соглашающаяся на диалог с российской ли стороной или с сирийским государством, такие группировки мы будем считать перешедшими от терроризма к политической деятельности. К этому мы стремимся, поэтому я считаю, что более важная задача, нежели классификация террористических организаций сейчас, — это ускорение процесса примирения, налаживание связей с боевиками, которые хотят сдать оружие или бороться с терроризмом совместно с сирийским государством и с друзьями, которые поддерживают сирийское государство, в первую очередь с Россией и Ираном. Для нас, как для государства, существует такой общий подход: мы готовы принять любого боевика, который хочет сложить оружие, чтобы вернуть ситуацию в нормальное русло и избежать дальнейшего кровопролития в Сирии.
— А что касается миротворческих сил ООН. Вы готовы принять их у себя, чтобы укрепить примирение?
— Это нереально, потому что такие силы, как правило, действуют на основании международных соглашений. Подобные соглашения должны получить одобрение государств. Каких государств? В данном случае других государств нет. Есть только сирийское государство как одна сторона. А другая сторона не является государством, это террористические группировки. Разве может ООН подписывать соглашение с террористическими группировками? Это совершенно нелогично.
Даже если они захотели бы пойти на это, то что это будут за силы? Это неизвестно и непонятно. Речь идет о группировках, которые появляются и исчезают, объединяются и распадаются. Ситуация неясная. В то же время с военной точки зрения должны быть две армии по обе стороны границ. Есть соглашение, четко определяющее позиции с точки зрения географии. Все это отсутствует. Если мы согласимся и привлечем эти силы, как они будут действовать? Поэтому я и говорю, что это невозможно.
— Как вы оцениваете тот военный успех, который одержала Россия и ее ВКС в войне с терроризмом в Сирии?
— Я люблю говорить так: факты находятся "на земле". Возможно, я говорю о том, что успех большой, а возможно, придет человек, который скажет, что успех небольшой. Разговор на эту тему отличается в зависимости от позиции тех или иных людей. Давайте проведем простое сравнение. Какова была ситуация до начала операции ВКС России в Сирии, когда созданная более полутора лет назад западная коалиция действовала "на земле"? Терроризм расширил свое присутствие, заняв большую часть территории Сирии и Ирака. Какой же стала ситуация спустя шесть месяцев с момента начала российской операции в Сирии? Силы террористов начали отступление, особенно ДАИШ (ИГ). Поэтому сама реальность доказывает тот факт, что русские, по нашему мнению, добились больших успехов, особенно в военной области, на поле сражения нанеся терроризму существенное поражение. Но в любом случае борьба с терроризмом еще не закончилась, она продолжается.
— Возвращаясь к вопросу о военных базах России в Сирии. Стаффан де Мистура включил в свой план, который он представил по итогам женевских переговоров, определенный пункт, который говорит о необходимости отсутствия дислокации иностранного контингента на территории Сирии. В этой связи как вы считаете, нуждается ли Сирия в авиабазе Хмеймим на постоянной основе?
— Во-первых, приглашение сил иностранного контингента на территорию какого-либо государства является правом любого государства. Это суверенное право, которое существует во многих государствах мира. Поэтому никто не может этого запретить за исключением случаев, непосредственно предусмотренных конституцией, которая гласит, что это государство не может пригласить силы иностранного контингента на свою территорию. Сейчас такой конституции нет. И я не думаю, что сирийское общественное мнение заинтересовано в том, чтобы поддержка России прекратилась сейчас или в будущем и, как следствие, российский контингент был бы выведен.
Второй пункт. При обстоятельствах, существующих в настоящее время, мы продолжаем находиться в самом сердце битвы, которая еще не закончилась. Ответ должен касаться авиабазы Хмеймим. Численность воинского контингента, дислоцированного там, должна быть пропорциональна и соответствовать тем задачам, которые выполняет этот контингент, а также уровню распространения терроризма в Сирии. Терроризм еще силен. Верно, что мы совместно с российскими силами достигли успехов в деле уменьшения масштабов терроризма. Тем не менее он еще силен: еще есть добровольцы, прибывающие из-за границы, Турция продолжает поддерживать терроризм, а также Саудовская Аравия и другие государства. Поэтому нельзя, чтобы численность дислоцированного там (на базе) контингента была меньше необходимой для борьбы с терроризмом. После того как мы полностью сокрушим терроризм, тогда будет другой разговор. Я считаю, что российское государство само сократит незадействованный ею контингент. Тогда будет другой разговор.
— Однако мы сократили численность своих сил… И вместе с тем у многих есть беспокойство по отношению к нахождению системы ПВО С-400 на базе Хмеймим. Как вы считаете, на какой срок останется эта система? Есть какие-то временные рамки? Вы попросили Россию поставить вам эту систему ПВО?
— Я считаю, что стороны, которые беспокоятся из-за российского присутствия, беспокоятся, поскольку российское присутствие борется с терроризмом. Вот если бы президент Путин решил направить свои силы на помощь террористам, они бы ему аплодировали. Вот это проблема со странами Запада… Есть также другая сторона: они не хотят, чтобы Россия присутствовала на международной арене ни в политическом, ни в военном, ни в экономическом отношении. Что бы ни делало российское государство, дает России ее истинное место великой державы высшего уровня, а не второстепенного, как хотели бы для России американцы. Любое подобное действие будет беспокоить Запад в целом. Это причина их беспокойства. Что касается присутствия российских сил в Сирии, то, как я вам сказал недавно, это связано сейчас с борьбой с терроризмом, а также с геополитической ситуацией в мире. Мы, как небольшое государство и как многие другие небольшие государства, чувствуем спокойствие и безопасность, когда существует международный баланс. И когда часть этого мирового баланса будет проявляться военной операцией или военными базами, мы приветствуем это, потому что это служит нам в политическом смысле. Это очень важная для нас тема, а также для многих стран мира.
— Значит, не идет речь о временных рамках для передачи С-400 сирийской армии?
— Нет, на данный момент не идет. Решение подобных вопросов никак не связано с российским присутствием в Латакии, такие дела могут решаться только на основе контрактов между Россией и сирийской армией. Контрактов покупки.
— Можете ли вы назвать сумму контрактов, по которым Россия поставляет вооружения в Сирию, и что это за оружие? Какие новые контракты подписаны?
— В этих условиях мы сосредотачиваемся на том оружии, в котором непосредственно нуждаемся для борьбы с террористами. Это могут быть средние и легкие виды вооружения в первую очередь. Поэтому в подобной ситуации и при подобных войнах мы не видим пока необходимости сосредотачиваться на стратегических вооружениях. Что касается того, чтобы мы рассказали об объемах контрактов в денежном выражении, то мы традиционно не раскрываем размеры этих контрактов. Это вопрос армий России и Сирии.
— Сейчас мы переходим к более мирной теме. Как проходит подготовка к выборам 13 апреля? Вы довольны тем, что сейчас происходит?
— Отрадно то, что после пяти лет войны и попыток разрушить сирийское государство, ударить по образованию, которое зиждется в основе своей на конституции, мы, несмотря на все это, способны провести конституционные процедуры. Все это подтверждает существование государства и страны в общем, несмотря на присутствие терроризма. С другой стороны, что более всего меня лично радует, это беспрецедентный процент участия в парламентских выборах в Сирии, большее число кандидатов, которое превышает в разы прошлые выборы. Причина, на мой взгляд, — это верность сирийцев конституции и их желание укрепить легитимность государства и их конституцию. Это очень сильный уровень народной поддержки. Поэтому что касается первого и второго факторов, то я могу сказать, что да, я доволен.
— Несмотря на это, политический процесс в Сирии происходит на фоне наземного вторжения в страну, возможно необъявленного. Турция постоянно обстреливает сирийскую территорию. Есть ли красная линия, после которой ваше терпение кончится и вы начнете реагировать на это как на прямую атаку? Есть ли такая красная линия, которую некоторые страны могут пересечь в своей интервенции в Сирию? Например, Турция или Саудовская Аравия чем могут вас подтолкнуть к более резким действиям?
— Что касается в первую очередь Турции, что касается Саудовской Аравии, они с первых недель, возможно, первых месяцев войны в Сирии переходили все возможные красные линии. Все, что они делали с самого начала, можно считать агрессией — агрессией в политическом плане, или в плане военном путем поддержки и вооружения террористов, или путем прямой агрессии с использованием артиллерийских установок, или военными нарушениями.
— А что делает Эрдоган?
— Во-первых, он напрямую поддерживает террористов. Он позволяет им перемещаться на турецкую территорию, совершать маневры с использованием танков. Это касается не только отдельных личностей, он финансирует их через Саудовскую Аравию, Катар и, конечно, через саму Турцию. Он торгует нефтью, которую ворует ИГ, в то же время он обстреливает из артиллерии, чтобы помочь террористам, сирийскую армию, когда она продвигается. Он отправлял турецких боевиков, чтобы они сражались в Сирии, это продолжается. Нападение на российский самолет в небе над Сирией — это также агрессия по отношению к Сирии, потому что самолет был в ее суверенном воздушном пространстве.
Этим всем он занимается с самого начала. Он также выступает с заявлениями, которые являются вмешательством во внутренние дела. Все, что делал Эрдоган, является агрессией во всех смыслах.
Мы можем сказать, что мы потеряли терпение, потеряли надежду еще давно, что этот человек изменится. Сегодня война против Эрдогана и против Саудовской Аравии выражается в борьбе с террористами. И турецкая армия, которая не турецкая, это армия Эрдогана, сегодня воюет в Сирии. Они террористы, и когда мы бьем по этим террористам в Сирии, это приведет напрямую к поражению Эрдогана. Наш ответ должен быть в первую очередь внутри страны, после этого, думаю, мы сможем победить терроризм. Турецкий народ не против Сирии и не настроен враждебно к Сирии. Отношения будут хорошими в случае, если Эрдоган не будет вмешиваться.
— Вы приезжали в Москву прошлой осенью для обсуждения различных вопросов. О чем вы тогда договорились с президентом Путиным? Были ли подписаны какие-либо документы? Какие были пункты письменных договоренностей? Или вы продолжаете консультации, основываясь на особых отношениях друг с другом, что вам позволяет не фиксировать это на бумаге?
— Этот визит проходил в особых условиях. Я приехал спустя менее чем две недели после того, как Россия начала поддерживать сирийские войска. Разумеется, этот вопрос оказался на повестке дня визита. Главной темой было общее видение — мое и президента Путина — следующего этапа борьбы с терроризмом и политической работы. Основное внимание во время визита уделялось этим темам. Никаких соглашений не было, а был процесс консультаций и диалога. Мы сосредоточились на двух пунктах: во-первых, на военной операции, начавшейся в то время, и, как следствие, необходимости нанесения удара по терроризму. Во-вторых, на том, как мы могли бы использовать военную операцию для поддержки политического процесса. Вопросы президента Путина были по тем же пунктам, по которым вы меня только что спрашивали. Это наше представление о политическом процессе, который должен был начаться в то время в Женеве или каком-либо другом месте. В ходе визита мы обсуждали только данные темы.
— Господин президент, я благодарен вам за эту откровенную беседу. Возможно, есть что-то, о чем я не спросил вас, а вы хотите что-то добавить?
— Во-первых, я благодарен вам, что вы приехали в Сирию именно в этот момент. Я хочу сказать, что я могу через ваше важное СМИ передать слова благодарности от каждого гражданина Сирии каждому гражданину России за ту поддержку, которую Россия оказала Сирии в этот кризис, будь то политическая поддержка, моральная, гуманитарная или как с недавнего времени военная. Поддержка каждого гражданина России стала основой при принятии президентом (Владимиром) Путиным этого решения. И сегодня мы, несмотря на сложные условия, испытываем радость от возвращения Пальмиры, которая отождествляет общее наследие всего человечества. Мы считаем, что, помимо сирийской армии, которая была решительно настроена на ее возвращение, Россия сыграла основную роль, а также Иран и другие силы, которые сражаются бок о бок с Сирией. Еще раз хотим через вас поблагодарить каждого гражданина России. Мы говорим, что то, чего мы добились за 60 лет (отношений — ред.), еще больше укрепилось, упрочилось. Мы надеемся на большую роль России на международной арене, а не только в Сирии, в борьбе с терроризмом, возвращении баланса в политике на международной арене.

В марте исполнилось восемь лет с момента ареста в Бангкоке в результате операции американских спецслужб российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего сейчас в США 25-летний срок по обвинению в подготовке сговора с целью продажи вооружений террористической организации. Российская сторона регулярно поднимает в разговорах с американскими партнерами вопросы о незаконности вывоза Виктора Бута в США из Таиланда, о несоразмерности вменяемого Буту преступления (намерения вступить в сговор) и срока наказания и о необходимости возвращения россиянина на Родину. Тема Виктора Бута упоминалась и на переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри, которые состоялись в Москве на прошлой неделе.
Корреспондент РИА Новости Евгений Беленький, который давно и близко знаком с Виктором Бутом, получил возможность задать ему по телефону несколько вопросов о его жизни в тюрьме.
— Виктор, добрый день!
— Привет, привет! Очень рад тебя слышать.
— Какая у вас там погода? Слышал, что было холодно.
— На прошлой неделе было тепло, до 20 градусов, а сейчас пошли дожди, температура 5-10 градусов тепла, иногда ниже. Отопление уже отключили в связи с приходом весны, так что несколько дней мы тут сильно мерзли – все же бетонное вокруг, в камере тоже, так что при падении температуры без отопления становится очень свежо… Ну, это все-таки какое-то разнообразие.
— Какие сейчас в тюрьме бытовые условия и как день складывается? Что изменилось с тех пор, как мы говорили с тобой об этом в позапрошлом году?
— Ну фактически то же самое, изменений особых нет. Помещение все то же, режим тот же. Вот прошлым летом тут немного обновили краску. Эти помещения построены в 1963 году, ремонта капитального с тех пор не было, так что, сам понимаешь, помещение находится в довольно плачевном состоянии, и они его пытаются как-то поддерживать.
Режим, в принципе, тот же, и тут все в твоих руках – хочешь, впадай в депрессию, хочешь – борись с ней. Ты живешь своей жизнью, условия которой располагают к депрессии. И они тут это очень любят, если впадаешь в депрессию – они тебе и таблеточки дадут, сейчас очень модно здесь стало принимать таблетки от депрессии, которые прописывают прямо здесь, в тюрьме. Альтернатива – это вариант "в здоровом теле здоровый дух", в поддержании физической формы – вся твоя поддержка, и физическая и моральная. Раз есть чем заниматься – поддержанием физической формы, – есть шанс сохранить физическое и психическое здоровье.
— А вот в плане духовной пищи, чем ты занимаешься сейчас больше – изучением языков, чтением, чем-то еще?
— Сейчас в основном чтением. С языками несколько застопорилось. Хорошо изучать, скажем, турецкий и персидский, но когда совсем нет общения с носителями языка и нет возможности добывать новые книги по языкам или на языках, это ограничивает возможности в изучении языка, останавливает тебя на определенном уровне, дальше которого пойти не получается.
Я получаю примерно одну новую книгу в год на турецком, и этим как-то поддерживаю уровень знания этого языка. Арабский тоже пытаюсь как-то практиковать. Тут бывают газеты на арабском, вот ими я и пользуюсь как пособиями для повторения изученного. Фарси (персидский) у меня сейчас в хорошей форме, занимаюсь постоянно.
В остальном – что? Йога по утрам, это, конечно, очень важно. Днем тоже занятия – High Intensity Interval Training (популярный в США комплекс упражнений, сочетающий перемежающиеся интенсивные и слабые нагрузки – ред.). Ну и по возможности немножечко порисовать, немножечко почитать что-то интересное, в особенности – о здоровье, здоровом образе жизни, о новых методах лечения. Продолжаю читать книги по истории. Мне тут один чудак из Ирландии прислал сразу много книг, в основном почему-то бразильских. Вот теперь изучаю историю Бразилии прошлого и нынешнего века. До этого не было возможности так глубоко залезать в бразильскую историю, вот теперь постигаю.
— Сколько у тебя времени в день на общение с обитателями соседних камер?
— Общаться-то можно много: как с утра двери камер открывают в шесть часов, так до десяти вечера они и остаются открытыми, общайся хоть до пены у рта. Дело в другом: мы тут как на подводной лодке в бесконечном автономном плавании, только экипаж подобран по случайному принципу, без учета психологической совместимости и других премудростей. Сильно ограниченное пространство, и в нем – плюс-минус сорок человек. Иногда хочется несколько дней ни с кем не общаться, ни с кем не говорить. Потом приходит желание пообщаться с людьми, выходишь из камеры и разговариваешь.
В тюрьмах общего режима в Америке есть регулярные и частые визиты родных, занятия командными видами спорта, другие коллективные мероприятия. У нас здесь ничего этого нет.
— А какие в основном темы для разговоров? Ведь контингент в тюрьме Мэрион довольно специфический, многие осуждены по "тяжелым" статьям.
— Есть очень интересные и хорошие люди, американцы, с которыми мы в приятельских отношениях, и с ними приятно общаться на самые разные темы – от истории и религии до более повседневных вещей. Анекдоты друг другу рассказываем, анекдоты здесь очень популярны. Например, я получаю "Российскую газету – Неделя", там всегда есть свежие анекдоты, вот все вместе и смеемся.
— А по каким обвинениям отбывают сроки наказания эти твои приятели-американцы?
— На этот вопрос я отвечать не могу по здешним правилам, так что ищи в интернете, там все есть, или посмотри недавно показанный History Channel фильм "Секретные тюрьмы Америки". Извини, но это во избежание очередного какого-нибудь замечания за то, что я что-то не то сказал по телефону, ну ты понимаешь, о чем речь.
А вот что могу сказать: по данным конгресса США, наше содержание в особых условиях блока коммуникационного контроля обходится американскому бюджету в 981 тысячу долларов на одного заключенного в год, в то время как в тюрьмах общего режима эта цифра равна 34 тысячам долларов в год. Представляешь себе, какая разница! Мы тут говорим между собой, что за такие деньги они могли бы нас содержать получше и кормить, как в хорошем ресторане, вместо того, что нам тут дают… И никто пока в Америке не расследовал, почему так получается, почему на тюрьмы, подобные нашей, тратятся такие огромные средства и на что они реально идут.
— Кстати, о питании: ты как-то говорил, что тебе как вегетарианцу добавили в рацион вареную свеклу. А какие еще есть изменения?
— Свеклу они мне давали один раз, именно в тот день, когда я это говорил. Почему – не знаю. То ли с испуга, то ли купили ее где-то, где больше нет, но с тех пор свеклы больше не было. Продукты остаются те же, как и раньше.
Утром, в шесть часов, на завтрак – хлопья с молоком, которые я не ем. Обед в десять утра, потом ужин в 16:30 – и все. Остальное, кому что надо, можно купить. Мне как вегетарианцу не могут предложить большой выбор продуктов питания ни в столовой, ни в тюремном магазине. И одуванчик сорвать и съесть тоже проблематично: у нас на всю тюрьму один малюсенький газончик у столовой, на единственном нашем участке "под открытым небом". Там вокруг высокие сплошные стены, и видно действительно только небо сверху. Так вот, мимо этого газончика можно только проходить. Там нельзя стоять или сидеть, на него нельзя наступать, а тем более что-то с него срывать. Зато в солнечные дни у этого газончика можно загорать.
— Картина, которую ты описываешь, вообще-то ужасна, но звучит все это у тебя как бодренькая комедия. Это только ирония или твое отношение к тому, что происходит?
— Все в наших руках. Среда нейтральна, даже в тюрьме строгого режима в блоке коммуникационного контроля. Мы сами ее делаем жестко негативной своим восприятием, и она начинает на нас давить. А если воспринимать ее как нейтральную, можно найти ресурсы для поддержания себя в тонусе. Знаешь, есть такое выражение: ад и рай — это не география, это психология. А мой лозунг – из каждого ада сделаем рай.
Когда каждое утро начинаешь с пары хороших анекдотов, йоги, когда занимаешься в течение дня, то постепенно начинаешь лучше понимать собственную психологию и появляется способность контролировать собственное мышление, в результате ты сам себе не позволяешь впадать в пессимизм и депрессию, а твой стакан с водой всегда остается наполовину полон, а не наполовину пуст.
— Что ты слышал про визит госсекретаря США Джона Керри в Москву, что дают об этом СМИ, которые доступны в тюрьме? Что сообщают по теме дальнейшей судьбы Надежды Савченко, осужденной российским судом на 22 года тюрьмы за убийство российских журналистов? В России многие высказывают предположения о вероятности обмена Савченко на российских граждан, находящихся в украинских и американских тюрьмах. Что об этом говорят в Америке?
— В тюрьме доступны только телевизионные новости американской версии CNN. Там прошел сюжет о визите Керри, даже упомянули, что речь шла и о судьбе Савченко, но никакого продолжения эта тема не получила, и комментариев по ней тоже особо не было, так что ничего, кроме этого, я по этой теме не знаю. Это обычная картина здесь. Когда что-то складывается не совсем в пользу США, основные американские СМИ как-то "уходят под воду", и никакой информации на такую тему, по крайней мере доступной здесь, в тюрьме, больше не бывает.

Президент США обвинил средства массовой информации в том, что они уделяют слишком много внимания Дональду Трампу, возможному кандидату в президенты от оппозиционной Республиканской партии. Это как-то до боли знакомо. Примерно как выступление в советские времена первого секретаря обкома с инструкциями для областных журналистов. Реакция на речь Обамы была предсказуемой: журналисты начали объяснять президенту, что не они "создали Трампа" и в чем "феномен Трампа".
Кто "породил Трампа"
Президенты США выступают на ужине для вашингтонских политических журналистов ежегодно. Это хорошая традиция. Но раньше в прессу никогда не попадали президентские оценки того, для чего нужны обществу собственно сами СМИ. На сей раз это произошло.
Барак Обама, конечно, не обижал собравшихся. Он всего лишь мягко высказал свое мнение о том, что журналисты обязаны "раскрывать правду". В данном случае, видимо, правду о том, что "кто-то" полностью отрывается от фактов, не заботится о том, чтобы отличать правду от лжи, дает обещания, которые никогда не сдержит.
Задача журналиста, указал президент, не в том, чтобы отдавать такому политику слишком много эфирного времени или газетного пространства, а в том, чтобы показать: такой кандидат вводит публику в заблуждение. В конце концов, добавил Обама, СМИ — это миллиарды долларов, и за них надо отчитываться.
Дональда Трампа президент по имени не называл. Наверное, потому, что речь шла не только о Трампе, но и о роли журналистов в обществе. Но всем и так было понятно, кто конкретно имелся в виду. Появилось несколько комментариев-ответов Обаме насчет того, что не надо пенять на зеркало (то есть СМИ), коли… ну, вы знаете продолжение этой фразы.
Вот один из таких ответов ветерана журналистики Юджина Робертсона, твердого демократа по убеждениям. Из этого текста всплывают очевидные и интересные факты.
Благодаря участию в течение нескольких лет в телешоу, миллиардер Трамп прекрасно понимает механизмы работы СМИ, отмечает Робертсон. И поэтому журналисты не могут не рассказывать о нем — иначе это сделают их конкуренты. Не СМИ, а сами зрители и читатели решили, что им нужно знать о Трампе как можно больше, утверждает автор колонки.
Как может телеканал не показать очередной митинг Трампа, если суть события — не речь самого кандидата в кандидаты, а собравшаяся его послушать огромная толпа? А сам факт того, что многочисленный республиканский электорат отдает предпочтение человеку, который никогда никуда не избирался и не работал ни в одной администрации — это ли не событие? И если СМИ в чем-то в данном случае и виноваты, то как раз в том, что их не интересует смысл выступлений Трампа.
Аналогичный случай был в России
В колонке Робертсона упоминается очевидный и хорошо известный американцам факт: те СМИ, о которых говорил и к которым обращался с речью Обама, минимально влияют на республиканских избирателей. Сами избиратели относятся к этим СМИ примерно как к вирусу Зика, замечает автор статьи.
А это важно для понимания главной темы, которую поднял Обама, — роль журналистов в обществе. Ведь ключевые газеты и телеканалы в США преимущественно демократические. То есть каналы влияния на публику, по сути, захвачены одной партией, подчинены одной идеологии, назовем ее для краткости либеральной. Но на республиканскую половину Америки это никак не влияет.
Десятки ключевых каналов и газет яростно агитируют за Хиллари Клинтон. А какие СМИ открыто поддерживают Трампа? Да почти никакие. У него сложные отношения даже с твердо республиканским Fox News. По сути этот человек бросает вызов не только демократам, но и самопровозглашенной "четвертой власти" с ее характерной и глобально распространяющейся идеологией. И Трамп побеждает благодаря тому, что хорошо знает рефлексы этой "власти", знает, когда та не сможет пройти мимо очередной его выходки. Было ли нечто такое в мировой истории последних лет? Было.
В России в 90-е годы, если кто-то еще помнит, практически все ключевые СМИ были "перенаселены" прозападными, либеральными журналистами. Шла прямая и поощрявшаяся "реформаторами" у власти агитация в пользу примерно того же, что продвигают СМИ американских демократов. В результате к концу 90-х наши либералы практически утратили электоральные перспективы.
Позже, в "протестный болотный сезон" 2011-2012 годов, ситуация повторилась, но в ослабленном виде. Тогда либеральной монополии в прессе уже не было, но в столице подобные СМИ были очень сильны. Результат оказался таким же, даже в столице.
Барак Обама в последние месяцы много говорит на темы дисфункции американской системы управления, нарастающей поляризации в обществе. Но о том, что в "свободных" СМИ тоже происходит что-то не то, он до сих пор не заявлял. Хотя говорить есть о чем. В России как раз в "болотные" дни звучали догадки, что журналисты, среди которых необычайно велик процент людей либерального мышления, по сути, развернули агитацию вместо того, чтобы спокойно анализировать происходящее.
То есть журналисты, причем во многих странах, превращаются в какую-то особую социальную группу с особым мышлением. Известны и мрачные размышления в англосаксонском мире по поводу феномена таблоидной журналистики — тема эта всплыла, когда выявились масштабы слежки репортеров за ньюсмейкерами. Всплыла и снова утонула.
В общем, говорить есть о чем. Но США сейчас захвачены лишь феноменом Трампа. Готовящийся покинуть свой пост президент говорит, что "тратит много времени на размышления о том, как вся эта система работает и как мы можем заставить ее работать". На отдыхе у него будет для этого еще больше времени.
Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Недавно известный деловой журнал Fortune включил в список 50 влиятельнейших людей мира российского космонавта Михаила Корниенко. Казалось бы — лишний повод для гордости россиян. Но нет — сообщение промелькнуло в новостях, и не то чтобы вызвало информационный ажиотаж. Как и то, что Михаил Корниенко в начале марта вернулся на Землю после почти годового пребывания на орбите.
Патриоты, ау! Где ваши перепосты в соцсетях, где гордость за страну и российскую науку, где восхищение настоящим Героем России?
Чуть подробнее про рейтинг американского журнала Fortune (основные его конкуренты — Forbes и BusinessWeek). В рейтинге влиятельнейших людей мира за 2016 год журнал отметил заслуги людей со всего мира в бизнесе, политике, филантропии и искусстве, "мужчин и женщин, которые изменяют мир и вдохновляют на это других". Российский космонавт Михаил Корниенко занял 22-е место, разделив эту позицию с американским коллегой Скоттом Келли, с которым провел на борту МКС более 11 месяцев.
Напомню: участники годовой миссии российский космонавт Михаил Корниенко, Скотт Келли (НАСА), а также Сергей Волков (Роскосмос), отработавший на орбите полгода, 2 марта вернулись на Землю с МКС. Келли и Корниенко работали на орбите 340 дней, это был рекорд для представителя США.
Всё это время астронавт Келли вел странички в соцсетях, в его "Инстаграме" — более миллиона фолловеров.
Но вот информация о том, что Михаил Корниенко вошел в список влиятельнейших людей мира, опубликованная на нашем сайте, вызвала, в частности, такие комментарии:
"А влияния на что?",
"Корниенко, конечно, человек заслуженный, но повлиять (сменить точку зрения или изменить свои намерения) он может на коллег, окружающих его людей и людей, уважающих космонавтов",
"С чего вдруг?",
"Вот я тоже не пойму с чего вдруг он влиятельный?",
"Я про этого самого влиятельного первый раз слышу, да и не только я"… и так далее.
Привлечь внимание российских СМИ и пользователей соцсетей к роли Михаила Корниенко и других российских специалистов в освоении космоса попытались школьники из Елабуги. На своем школьном видеоканале в YouTube они разместили ролик с призывом знать своих героев, героев нашего времени и нашей страны:
"Недавно в нелюбимой нами Америке (это был сарказм, конечно, — прим. Ред.) произошло очень яркое событие: с МКС вернулся астронавт Скотт Келли. Он был в центре внимания всей страны, его приглашали на вечерние ток-шоу, его "Инстаграм" "распух" от количества подписчиков и "лайков"… Для американцев он был настоящим героем, но ведь вместе с ним на орбите был россиянин Михаил Корниенко, он тоже провел в космосе целый год и недавно вернулся домой.
Но почему-то никаких радостных новостей о нем мы не слышали, никаких интервью, приглашений на телевидение, постов в Facebook. Пара-тройка статей в интернете — и на этом всё, никакой популярности среди простого населения. Из новостей мы слышим о том, как лихо мы побеждаем в Сирии и как всё плохо в Европе".
Дети призвали взрослых, наконец, обратить внимание на то, что российский космонавт Корниенко заслужил не меньшего интереса к его персоне, чем Скотт Келли, что когда-то увлечение космосом начиналось в школьные годы, что для советских подростков героями были именно космонавты. "Может, и сейчас стоит начать с нас? Мы не знаем, сколько человек посмотрят это видео, но, может быть, оно хоть что-то изменит в нашем отношении к космосу".
Если уж дети и подростки взялись за эту проблему, то действительно пора что-то менять — искать и популяризировать героев не только Великой Отечественной, воспитывать патриотические чувства у школьников не только на примерах военных подвигов.
Уж космос и балет всегда были поводами для гордости в том же Советском Союзе. И если о звездах балетного искусства мы хотя бы что-то знаем (и то с переменным успехом), то что мешает популяризировать достижения в космосе и науке?
Постараемся хоть немного восполнить этот пробел и расскажем хотя бы про летчика-космонавта Михаила Корниенко и его недавнюю экспедицию на МКС. Добавлю, что во время полета, помимо десятков, даже сотен экспериментов, он делал удивительные снимки с борта космической станции и проводил увлекательные экскурсии по МКС.
Что известно про Героя России Корниенко
Михаил Борисович Корниенко совершил космический полёт в качестве бортинженера корабля "Союз ТМА-18" и члена 23-го и 24-го долговременных экипажей МКС.
За два полёта Корниенко находился в космосе более 516 суток. Дважды выходил в открытый космос, суммарное время работы там — более 12 часов.
Михаил Корниенко родился в Сызрани (Самарская область), в школьные годы жил в городе Южноуральск (Челябинская область). Проходил срочную службу в Воздушно-десантных войсках, работал в Московской милиции, учился на вечернем отделении МАИ. С 1986 по 1991 год работал инженером в КБ общего машиностроения (КБ ОМ) в Москве и на Байконуре, затем директором производственно-технического отдела ООО "Трансвосток", генеральным директором ТОО "ЭСТЭ" (1993-1995). С апреля 1995 года до зачисления в отряд космонавтов работал инженером РКК "Энергия". Увлекается спортом.
В августе 2007 года Михаил Корниенко совершил восхождение на вершину Килиманджаро.
Отец, Борис Григорьевич, — военный летчик (сообщалось, что он погиб в авиакатастрофе). Говоря о том, что вдохновило Михаила Борисовича посвятить себя полетам в космос, он вспомнил о своих родителях. "Мой отец был пилотом на спасательном вертолете и работал в командах, которые оказывают реабилитационную поддержку экипажам во время приземления. Он работал вместе с другими во время приземлений Терешковой и Титова".
Основными целями недавних экспедиций Михаила Корниенко были: сбор данных о реакции человеческого организма на длительное пребывание в глубоком космосе, использование новейших методик адаптации при полётах к Луне, астероидам и в конечном итоге — к Марсу. Отличием этой миссии от более ранних стало наличие на МКС нового инструментария, который фиксировал физиологическое состояние Келли и Корниенко.
Недавно, уже после возвращения на Землю, Михаил Корниенко дал интервью РИА Новости. Вот некоторые из его ответов.
Про дружбу с астронавтом Скоттом Келли
У нас и до совместного полета были очень хорошие отношения. А сейчас мы дружим. Он прекрасный человек, он профи своего дела. С ним очень комфортно летать. Наши отношения и наша дружба после полета только укрепились.
Про Марс
Наверное, после определенной реабилитации, когда я отдохну и восстановлюсь, это было бы интересно. Но, конечно же, обязательно это должна быть экспедиция с возвратом. Я считаю, что те, кто пропагандирует полет на Марс в один конец, просто не понимают, что это и как это. А так — было бы, конечно, интересно.
Пожелания для последователей
Для тех, кто пойдет за мной, у меня есть не напутствие даже, а, скорее, пожелание — настраивайтесь на тяжелую, непростую работу в течение года.
Про постполетный этап
Спорт, позитивный настрой, помощь друзей, родных, близких — это очень важно. Не подумайте, что я хвастаюсь, но уже на следующий день после приземления я проплыл в бассейне 600 метров. Потому что это было нужно, ну и удовольствие от этого тоже получаешь, конечно. Сейчас я ежедневно проплываю по километру.
Про совместные российско-американские программы на МКС
Я выполнил немало американских и совместных российско-американских экспериментов, а Скотт Келли выполнял наши. Программы США и России в достаточной степени схожи.
Я могу сказать только одно — мы выполнили все задачи, которые перед нами стояли. И ученые довольны полученными результатами.
Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

«Трамп — это идея сильной авторитарной личности»
Автор книги о Дональде Трампе дала интервью «Газете.Ru»
Гвенда Блэр - американский писатель, автор книги «Трампы. Три поколения строителей и кандидат в президенты».
Александр Братерский - обозреватель Газеты.Ru
Резюме О том, кто такой Дональд Трамп и как его идеи и даже знаменитая прическа влияют на избирателей.
Завоевывая штат за штатом, позволяя себе грубые и унизительные высказывания в адрес противников, Дональд Трамп имеет все больше шансов стать кандидатом в президенты от Республиканской партии. О том, кто такой Дональд Трамп и как его идеи и даже знаменитая прическа влияют на избирателей, в интервью «Газете.Ru» рассказала американская писательница Гвенда Блэр, автор книги «Трампы. Три поколения строителей и кандидат в президенты».
— Вы написали несколько книг о Дональде Трампе и истории его семьи. Чем он вас привлек?
— Когда я начала писать о нем, он уже был очень хорошо известен в США как человек с большим эго. В то время он занимался созданием бренда «Трамп», который хотел представить как символ успеха. Меня же интересовало, как его эго трансформировалось в историю его успеха. Моя книга была посвящена тому, как он смог сделать удачную карьеру в бизнесе и стать международным символом успеха. А сегодня это трансформировалось и на политику.
Я начала изучать историю семьи Трампа, его отца, который был успешным бизнесменом в сфере строительства. Его дед, эмигрировавший в США из Германии в 1885 году, привил сыну дух предпринимательского капитализма, который был присущ многим эмигрантам из этой страны.
У каждого из Трампов — деда, отца и сына — был хорошо наметан глаз на то, где есть возможность заработать.
Я подумала, что исследование трех поколений одной семьи — это очень интересная история.
— Читая вашу книгу, я вспомнил о популярных у нас в стране романах Теодора Драйзера. Можно ли говорить, что Трампы похожи на его героев?
— Вероятнее всего, дед Трампа не читал Драйзера, возможно, это были романы Джека Лондона. Но если говорить о прототипах, то можно вспомнить и о героях Драйзера. Тот дух, который был отражен в его романах, в те времена витал в воздухе.
Год, когда дед Трампа прибыл в США, был пиком немецкой эмиграции в Америку. В нашей стране до сих пор самое большое количество людей, корни которых берут начало в Германии. Конечно, сегодня мало говорят о «германо-американцах», но в те времена, когда в Америку прибыл дед Дональда Трампа, Нью-Йорк был городом, где многие говорили по-немецки. Для немецкого юноши того времени оставаться в какой-нибудь деревушке, где главным занятием являлось виноделие, было скучным, и он решил испытать судьбу в Америке. У него была сестра в Нью-Йорке, и, оставив маме записку, он собрался прямо посреди ночи и начал свое путешествие в США.
— Кто больше повлиял на Дональда — дед или отец?
— Когда я говорила об этом с Трампом, он отвечал, что отец, и, я думаю, он говорил правду. Его отец построил огромное количество домов в Нью-Йорке — не на Манхэттене, но в других частях города, используя различные правительственные субсидии и налоговые послабления. Он был очень успешным предпринимателем и получил известность благодаря тому, что даже в последние минуты перед подписанием сделки добивался еще более выгодных условий.
Дональд, будучи молодым человеком, наблюдал за тем, как работает отец, и сам подрабатывал у него в летнее время. Его отец умел многое делать руками: лично построил гараж дома, один дом, другой дом. У него были инженерные навыки, и он знал, как все работает.
Отец Трампа был очень трудолюбивым, и именно он привил Дональду идею о том, что надо всегда побеждать, что победа — самое важное и останавливаться нельзя.
Правда, к семейной истории у самого Дональда особого интереса нет: когда я спросила его про деда, он не хотел о нем рассказывать. Его это не интересует. Он смотрит только вперед.
— Трамп — миллиардер, но выглядит как человек из народа и пытается создать такое впечатление. Можно ли говорить, что это привлекает к нему избирателей из числа американцев, которые особо не интересуются политикой?
— Да, он выглядит таким, как у нас говорят, «человеком не с Манхэттена». Он из района Квинс, и даже манера говорить и ходить у него как у парня из Квинс.
Он из тех, кто любит гамбургер с картошкой и молочным коктейлем, а не «Шато» и овощи на тарелочке. Он выглядит как такой типичный средний американец, который только что съел тарелку мясного рулета, и этот образ довольно привлекателен. Он не смотрит на людей сверху вниз, как сноб, несмотря на то что богат.
И в то же время его образ похож на карикатурный — со всеми его лимузинами, вертолетами, гигантскими пентхаусами. Все это символы, которые приобрел бы мужик с соседней улицы, если бы у него были такие деньги.
— Вы пишете, что многое он делает нарочито грубо, специально. Но не отталкивает ли такой образ?
— Трамп настроен на победу и уверен, что все политики в Вашингтоне — лузеры, которые не знают, что делают. Он думает, что может взять метлу и просто всех вычистить, используя свою стратегию «проиграл или победил». При этом он никому ничего не должен, так как сам финансирует свою кампанию. Он считает, что может оценить ситуацию без всяких предубеждений. Совсем недавно Трамп выступал перед одной из влиятельных еврейских организаций в Нью-Йорке и заявил, что будет на все смотреть объективно, в том числе на конфликт Израиля и Палестины.
Он не хочет говорить до самого последнего момента, кто его помощники и советники, потому что это лишит его возможности проявлять гибкость и не быть связанным какими-то соглашениями, которые заключены преждевременно.
Он считает, что зайдет в одну комнату с Путиным и выйдет из нее, получив то, что ему надо для США.
Конечно, хорошо действовать без всяких советников, дипломатов, но все это тоже образ из мультфильма, так же как и лимузины, гигантские пентхаусы и модели, сидящие на коленях. Быть большим боссом, быть главным — это тот образ, который он сформировал на протяжении десяти лет, когда был героем своего шоу «Кандидат» (популярное телевизионное шоу, в котором Трамп набирал помощников для своего бизнеса. — «Газета.Ru»).
Каждую неделю люди видели его в таком образе, и это помогло им свыкнуться с мыслью, что Трамп — парень, который может выиграть все и вся. И благодаря этому для многих американцев идея, что из главы компании он превратится в верховного главнокомандующего, выглядит так: «Да, конечно!»
— Насколько Трамп способен к президентству, ведь он никогда не занимал никаких политических должностей?
— Он не в первый раз становится кандидатом в президенты — это уже шестое его выдвижение. Он многие годы вынашивал эту идею, и, если посмотреть на его выступления, он выглядит очень конкурентоспособным. Он выходит, говорит что-то агрессивное — и вот уже завладевает сценой и становится центром всего. Если помните, перед своим выдвижением Трамп сказал: «Все, кто выдвигается на выборах, — это лузеры, они ничего не знают». Потом он говорит, что мексиканцы — это «гангстеры и насильники», и только после этого сообщает, что будет выдвигаться.
— В своих выступлениях Трамп говорит ужасные вещи. Почему же эти заявления все равно встречают на ура и ему все сходит с рук? Он сам верит в то, что говорит?
— Я думаю, он верит только в одну вещь: в победу. Вcе остальное неважно. Он увидел, что может оседлать волну ярости и недовольства на этих выборах. Он и Берни Сандерс — это те два кандидата, которые говорят: «Вы имеете право злиться». У Трампа есть большой список мишеней, которые можно обвинить во всех грехах: женщины, мексиканцы, мусульмане, Джон Маккейн. Он говорит ужасные вещи, чтобы показать: ничто и никто не может стоять на его пути. Он демонстрирует, что ни вежливость, ни уважение, ни политическая корректность и вообще что бы то ни было его не сдерживает, показывает, что именно он будет делать с целью бороться за тех людей, голоса которых хочет привлечь. Трамп полностью перевернул представления о том, как обычные люди ведут свои политические кампании.
Думаю, что он верит в победу и может победить.
— Но можно ли достичь победы любой ценой? Если он станет президентом, ему припомнят все, что он говорил?
— Он пытается обернуть это в такую оболочку, в которой люди это воспримут. И по моему мнению, это ему удается, потому что он сумел построить свой имидж в таком карикатурном виде. Например, возьмите его знаменитую прическу. Многие над этим смеются, а его прическа — это как красный нос клоуна, который дает возможность смеяться.
Когда клоун бьет кого-то бейсбольной битой или обливает водой из ведра, вы смеетесь, хотя это может быть очень неприятно. Но вы понимаете, что это все понарошку и никто не пострадает.
Прическа Трампа дает людям возможность над ним посмеяться, даже если он говорит что-то неприятное и обидное.
Поэтому люди не так сильно реагируют, когда он говорит невозможные вещи. Это открывает окно и впускает идею, которой в других обстоятельствах вы бы сказали «нет». Таким образом ужасные мысли приобретают легитимность, но это те идеи, которые есть у каждого и которые являются частью человеческой натуры.
Трамп может затрагивать эти чувства и говорить: «Это нормально». Это дает ему огромную силу. Интересна его манера говорить: он не говорит предложениями. Это какие-то отрывистые слова. Его предложения не выглядят законченными — это какое-то урчание. Незаконченные мысли, незаконченные предложения — какой-то поток сознания. Это напоминает внутренний голос, и, когда люди слушают, мне кажется, они прислушиваются к голосу внутри себя. Это выглядит очень реалистичным и аутентичным.
При этом сам Трамп — совсем не то, что он говорит. Его факты не соответствуют действительности, а волосы выглядят искусственными. Однако он выражается языком, на который люди реагируют, потому что это торговая марка успеха. Он очень умен, поскольку говорит вещи, которые люди хотят слышать.
И в то же время он создал вещи, которые можно потрогать, — построенные им башни выглядят вполне реальными. И когда вспоминаешь о Трампе, вспоминаешь о его небоскребах. Он не какой-то мужик, который пришел и сказал: «Я мог сделать». Он мужик, который пришел и сказал: «Я создал эти небоскребы, и я знаю, как делать».
— Вы встречались с ним, когда брали интервью для книги. Каков он в личном общении?
— Я встречалась с ним несколько раз, он был приятен в общении, вежлив. Мы разговаривали в его офисе, украшенном его многочисленными фотографиями, но, когда я с ним говорила, это было тяжело. Наш разговор трудно было назвать «диалогом», потому что он говорит как на дебатах, таким вот бурчащим стилем.
Он часто не отвечает на вопрос и переводит разговор на свои достижения, на то, как он добился первого, второго, третьего, и при этом не говорит ничего существенного.
И когда мы были вдвоем, я думала, что, может, неправильно задаю вопросы, потому что не получаю ответов. Но только потом я поняла: то, что я получаю, — это он сам, такой, какой есть.
— Сегодня в республиканском и демократическом истеблишменте существует большой страх по поводу президентства Трампа. Не слишком ли его демонизируют в СМИ?
— Трамп независим от Республиканской партии, и партия очень озабочена тем, что он не склонен подчиняться правилам. Что же касается демонизации, то Трамп очень хорошо понимает, как работают СМИ, и если он видит, что кто-то получает внимание, то делает очередное заявление или какой-то выходящий за рамки поступок. Он прекрасно понимает, как завладевать вниманием прессы. Это, конечно, заслуживает уважения, однако вопрос в том, используется ли это для того, чтобы решать важные вопросы, или же перед вами человек, который просто хочет внимания.
Его подход — это не какое-то видение социальных проблем или состояния общества. Это, по моему мнению, идея сильной авторитарной личности, которая решает все.
И ключевой элемент здесь — его постоянные уверения в том, что США находятся на грани разрушения и Обама все разрушил. По мнению Трампа, Америка стоит на коленях и скоро свалится в бездну. Экономика Америки идет вразнос, и страна скоро превратится в пыль. Но такая манера говорить очень опасна. США до сих пор самая большая экономика мира, у нее самые большие вооруженные силы, и, конечно, Америка не стоит на коленях. Но его слова — это сильное оружие, потому что они влияют на желание людей иметь сильного лидера. И Трамп может победить.
Газета.Ру

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала в интервью РИА Новости о том, что может побудить российскую группировку вернуться в Сирию, каковы перспективы взаимодействия России с США, будет ли скорректирован бюджет на 2016 год, а также своем отношении к возможным ограничениям выезда россиян за рубеж. Беседовала Мария Балынина-Урбан.
— Как вы оцениваете обстановку в Сирии и уровень террористической угрозы в регионе после вывода оттуда основной части российской воинской группировки?
— Сегодня можно твердо сказать: решение президента РФ о начале военной операции в Сирии, одобренное Советом Федерации, было правильным и своевременным. По сути, уже стоял вопрос о развале Сирии как государства. Бои шли вокруг Дамаска. Успешные действия наших воздушно-космических сил остановили дезинтеграцию Сирии как государства и кардинально изменили обстановку в стране. Если вспомнить, какой была обстановка до начала операции и какая она сейчас, после операции, то это небо и земля, разница огромная. По данным военных, освобождено более 400 населенных пунктов, около 10 тысяч квадратных километров территории. Поступают сообщения, что освобождена древняя Пальмира. Разумеется, эти успехи были бы невозможны без тесной координации действий с сирийской армией и патриотически настроенной оппозицией. Помимо этого, ВКС России серьезным образом ослабили ресурсное обеспечение боевиков ИГИЛ ("Исламское государство", организация запрещена в РФ — ред.) и других террористических организаций, уничтожив большую часть их складов оружия и самих боевиков. В том числе выходцев с территории бывшего Советского Союза, России. Тем самым мы обезопасили себя от возможного их возвращения, связанных с этим террористических актов и иных угроз. Это крайне важно.
Второе. Параллельно с этим шла работа по подготовке начала мирного процесса в Сирии. Договоренности, достигнутые Россией и США, совместное соглашение, одобренное Советом Безопасности ООН, создали условия для прекращения боевых действия, остановки огня.
Этот процесс продолжается. Он идет непросто. Есть нарушения режима прекращения огня, невыполнение рядом боевых отрядов резолюции Совета Безопасности ООН. Но главное — мирный процесс идет. Сирийцы увидели свет в конце тоннеля, они начали возвращаться в свои дома. Активно создаются общественные, народные объединения за мир и прекращение боевых действий. Жители начали организовываться, вытеснять боевиков из своих поселений, думать о будущем семей. Это важный итог действий ВКС России. Ведь наша страна с момента начала сирийского кризиса настойчиво выступала за политическое урегулирование, за мирный переговорный процесс, за налаживание внутрисирийского диалога всех сил, заинтересованных в сохранении государства и мира на сирийской земле. Наша позиция способствовала также продвижению женевских переговоров по выработке мирного процесса, реализации дорожной карты.
Появление надежды на стабильное будущее у самих сирийцев — это очень важно. Люди натерпелись такого горя, много людей погибло. На большей части Сирии разразилась настоящая гуманитарная катастрофа: у жителей не было воды, еды, медикаментов и так далее. Благодаря освобождению большой территории от боевиков удалось добиться перелома, наладить масштабную гуманитарную помощь.
Словом, миссия России в значительной мере исполнена: в целом соблюдается прекращение огня, запущен мирный процесс, началось обсуждение будущей конституции Сирии. Все это создает предпосылки сохранения Сирии как единого, целостного государства, для осуществления назревших политических преобразований. Мы считаем, что у сирийского народа появилась реальная возможность полностью самостоятельно определить свое будущее.
Определить без насилия, без применения оружия, а мирно, путем принятия конституции, проведения свободных выборов парламента и президента.
Процесс этот будет нелегким. Трубить в фанфары еще рано, потому что не все и в самой Сирии, и за ее пределами заинтересованы в таком развитии событий. Попытки сорвать прекращение огня, обострить ситуацию предпринимаются.
— Вы имеете в виду Турцию?
— В том числе и Турцию, которая изначально преследовала в Сирии свои геополитические интересы, продолжает вести огонь по курдскому населению, хотя достигнутыми соглашениями, резолюциями Совета Безопасности ООН это не допускается. Подоплека такой политики очевидна: кое-кто не может смириться с тем, что сократились объемы добычи и продажи нефти, чем в Турции активно занимались. Серьезно снизилось ресурсное обеспечение ИГИЛ и других международных террористических организаций, включая финансовые средства, поставки оружия. Вместе с тем говорить о полном подрыве боеспособности международного терроризма пока не приходится. Необходимо продолжать усилия по его разгрому. И Россия, и США, другие влиятельные государства в ближневосточном регионе это делают.
Мы считаем важным, чтобы при этом строго соблюдались соглашения о перемирии. Необходимо совместно добиваться того, чтобы все силы, имеющие влияние в Сирии, сели за стол переговоров в рамках женевского процесса, реализовывали принятую дорожную карту.
Есть еще одна вещь, которую на Западе предпочитают замалчивать. Я не склонна к пафосу, избыточному патриотизму. Тем приятнее, что есть все основания заявить: наше участие в событиях в Сирии, вокруг нее еще раз подтвердило роль России как мировой державы, без которой невозможно решить ни одну сколько-нибудь крупную международную проблему.
Я часто общаюсь с зарубежными коллегами. Подавляющее большинство их едино в том, что именно наша страна сыграла ключевую роль в прекращении войны и налаживании мирного процесса в Сирии. Понимание этого нарастает. Как растет и осознание того, что все попытки изолировать Россию от международного сообщества, нанести ущерб нашим национальным интересам, помешать развитию страны терпят неудачу. Санкции, как уже всем ясно, вряд ли что изменят. Они даже стимулировали нас к ускорению решения ряда задач.
Вернусь к Сирии, Ближнему Востоку. Мы нанесли значительный ущерб боевикам, ослабили их. Но до конца не победили, не уничтожили. Мы за продолжение нашего сотрудничества в этой сфере с Соединенными Штатами, другими странами и организациями. Вы видите, как много делает в этом плане президент России Владимир Путин. Практически каждый день он в диалоге с главами государств Ближнего Востока, других влиятельных государств с тем, чтобы наладить более эффективное сотрудничество по противодействию международному терроризму. И это удается. Продуктивные контакты налажены по линии оборонных ведомств, генеральных штабов, идет обмен информацией.
Полагаю, после кровавых и жестоких терактов в Брюсселе понимание необходимости совместных действий в противостоянии терроризму придет ко всем окончательно. Надо незамедлительно выстраивать эффективное, слаженное взаимодействие спецслужб, силовых структур, обмен информацией и опытом в этой сфере. Только так можно будет покончить с опаснейшим злом нашего времени. В противном случае угроза террористических актов, угроза жизням людей будет постоянно нависать. То, что террористическая вылазка состоялась в центре Европы, в административной столице Европейского союза, психологически давит на людей. Ни одно государство не вправе стоять в стороне от борьбы с терроризмом.
— И все-таки что должно произойти, чтобы российскому контингенту, ранее выведенному оттуда, пришлось вернуться в Сирию?
— Мы ведем мониторинг соблюдения договоренности о прекращении огня, но не ограничиваемся этим. Наши военные проявляют себя как замечательные переговорщики, дипломаты. Они ведут активную работу с руководителями различных оппозиционных движений, привлекая их к участию в мирном диалоге. Мы каждый день видим результаты такой работы, видим, как все больше сирийских граждан поддерживают эти усилия.
Меня радует, что люди возвращаются в свои дома. Мы поможем в их восстановлении, налаживании мирной жизни. И, конечно же, будем противодействовать попыткам террористов возобновить полномасштабную войну. Напомню, в Сирии у нас действуют две военные базы, работают специалисты, которые помогают налаживанию мирного процесса.
Если все же боевики ИГИЛ, других международных террористических организаций пойдут на эскалацию военных действий, теракты против мирного населения, то нельзя исключать, что военно-воздушная операция по уничтожению террористов может быть возобновлена в масштабах, соразмерных степени угрозы. Вывод основной части российского военного контингента — это демонстрация искренности наших намерений принести мир на сирийскую землю, дать дополнительный импульс процессу политического урегулирования. Мы тверды в этой нашей позиции.
— Каково, на ваш взгляд, политическое будущее президента Сирии Башара Асада?
— Глава российского государства не раз давал ответ на этот вопрос. Наша позиция здесь однозначная: это вопрос, который должен решать сам сирийский народ. Мы должны помочь в создании необходимых для этого условий.
Какие они? Это разработка и принятие новой конституции, определяющей государственное устройство Сирии. Это, возможно, предоставление национально-культурной автономии курдам, поскольку такой шаг будет способствовать объединению страны, ее развитию. Возможны и некоторые другие меры. Результаты президентских и парламентских выборов покажут, кому окажет поддержку сирийский народ. Это единственный способ сохранения и упрочения светского сирийского государства, прогресса страны. Не нам обсуждать судьбу Башара Асада. Его судьба — в руках сирийского народа.
— Какой вы можете дать прогноз развитию отношений России с Турцией, останутся ли они полностью замороженными на прежнем уровне?
— Российско-турецкие отношения, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Как вы знаете, охлаждение наступило не по нашей вине. Мы готовы их разморозить при условии, что руководство Турции признает свою ответственность за уничтожение российского самолета над территорией Сирии. Однако с турецкой стороны пока нет даже намеков на это.
Далее, Турция — единственная страна, которая блокирует участие курдов в межсирийском переговорном процессе в Женеве. Эта позиция идет вразрез с резолюцией ООН, но Анкара упорствует. Что, конечно же, препятствует развитию мирного процесса в Сирии, консолидации сил, выступающих против международного терроризма.
Такое впечатление, что сегодня какая-то часть турецких политиков обуреваема воспоминаниями о величии былой Османской империи. Но трезвые, ответственные политики должны знать и помнить историю своей страны целиком, а не только те ее фрагменты, которые вызывают ностальгию. Иначе велик риск вновь наступить на те же грабли.
— Как вы можете оценить нынешний уровень сотрудничества России с США, в том числе на парламентском уровне? Есть ли какие-то контакты, в частности, в рамках рабочей группы Совет Федерации — сенат США?
— Знаете, на мой взгляд, напряженность в отношениях России и Соединенных Штатов Америки это не просто столкновение интересов, расхождение мнений, оценок по текущим вопросам. Чем дальше, тем яснее видно, что у России и США существенно разные картины современного мира, разная политическая философия. У них различные цели, ценности, принципы.
В самом деле, в основу американского видения мира положено мировое лидерство, мировая гегемония Запада во главе с США. В основе российской политической философии — принципиальное неприятие доминирования какой-либо страны или группы стран над остальными. Наша цель — справедливый миропорядок. Мы понимаем его как систему полностью суверенных государств, связанных узами всестороннего, равноправного, взаимовыгодного сотрудничества. Только такой порядок открывает перспективу стабильного и динамичного развития всех стран и народов, гарантированной безопасности на планете. До такого мирового порядка еще далеко. И потому надо уметь жить, развиваться, отстаивать свои интересы, исходя из существующей реальности, а не иллюзий.
Вместе с тем времена меняются. Вашингтону все чаще приходится сталкиваться с тем, что его планы дают сбои. Явно провальной оказалась политика санкций: порвать в клочья российскую экономику не удалось. Далеко не все государства разделяют позицию и действия Вашингтона по Украине. Цветные революции в Северной Африке и на Ближнем Востоке обернулись острыми проблемами, решение которых США, их союзникам без участия России оказалось не под силу. Вашингтон вынужден был пойти на взаимодействие с Россией в противодействии международному терроризму, содействии мирному урегулированию внутрисирийского конфликта. Беда в том, что сделав шаг вперед, Вашингтон тут же делает два шага назад, выступая с необоснованными обвинениями, враждебными акциями в наш адрес.
Жесткость, непоследовательность в отношении нашей страны в полной мере свойственна и американскому парламенту. Правда, во время редких встреч — в прошлом году с представителями конгресса США не раз встречался председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев — ряд конгрессменов высказываются за возобновление полноформатных российско-американских парламентских связей. Однако в конкретные инициативы, реальные шаги эти заявления не выливаются.
Тем не менее считаю, американская сторона придет к возобновлению контактов с парламентом России. Это диктует сама жизнь, ведь от отношений между нашими странами зависит очень многое во всем мире.
А пока будем продолжать взаимодействовать с США там, где это отвечает нашим интересам, и давать отпор тем их акциям, которые недружественны в отношении России.
— Вы пригласили на сессию Межпарламентской ассамблеи СНГ, которая пройдет в Петербурге 19-20 мая, председателя ПАСЕ Педро Аграмунта. Достигнута также договоренность о посещении сессии президентом Межпарламентского союза Сабером Чоудхури. Кто еще получил от вас приглашения?
— Несколько дней назад я подписала приглашения принять участие в сессии Межпарламентской ассамблеи СНГ в Санкт-Петербурге руководителям различных международных межпарламентских структур и организаций. Их достаточно много — в их числе все европейские межпарламентские организации, включая Парламентскую ассамблею ОБСЕ, а также межпарламентские структуры Латинской Америки, Африки и других регионов.
Мы будем рады приветствовать в Таврическом дворце всех, кто сможет приехать на сессию.
Вы видите, какую активную позицию занимает российский парламент в межпарламентских структурах. Вчера в Замбии завершилась очередная ассамблея Межпарламентского союза — одной из старейших и авторитетнейших международных площадок, объединяющих более 160 государств мира.
Она показала, как уважительно относятся к России делегаты союза — вице-президентом этой структуры был избран председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. То, что коллеги поддержали именно российскую кандидатуру, нас очень вдохновляет.
Также на ассамблее Межпарламентского союза была поддержана инициатива России о выборе темы для подготовки доклада и резолюции "Роль парламентариев в предотвращении внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств". Было непросто выйти с такой темой, но нас поддержали, и мы надеемся, что на очередной сессии союза эта резолюция, подготовленная Россией, будет поддержана.
Таким образом, мы последовательно продвигаем приоритеты внешней политики России, в том числе и на международных парламентских площадках. В этом мы видим роль и миссию парламентской дипломатии.
— Миграционный поток в Европу не ослабевает. Как вы оцениваете ситуацию, есть ли угроза того, что с проблемой мигрантов с Ближнего Востока столкнется и наша страна?
— Произошла настоящая гуманитарная катастрофа. Она самая большая со времен окончания Второй мировой войны. По подсчетам Международной организации по миграции, на начало 2016 года общее количество беженцев, прибывших в Европу, составило около 1,4 миллиона человек. С начала 2016 года в Европу прибыло более 150 тысяч беженцев.
Истоки катастрофы — в действиях государств, политиков Запада. Они привели к дестабилизации обстановки в странах Северной Африки и Ближнего Востока, создали почву, на которой выросли, окрепли ИГИЛ и другие террористические организации.
Миграция создала странам Европы огромное количество правовых, финансовых, социальных, политических проблем. Притом не только властям, но и рядовым гражданам. Общественное мнение в вопросе о беженцах расколото. Среди государственных деятелей единства тоже нет. Обстановка в городах, местах нахождения мигрантов неспокойная. Европейцы сетуют на то, что программы помощи мигрантам ложатся ощутимым бременем на бюджет. Говорю обо всем этом без всякого злорадства. Ведь речь, повторю, о самой настоящей человеческой драме, о страданиях, лишениях более чем миллиона людей.
В то же время возникшая ситуация может создать вполне определенные риски, угрозы и для России. Сейчас государство принимает соответствующие меры, и оснований для беспокойства у нас нет. Но и расслабляться не следует. Выступая недавно на коллегии МВД России, президент Владимир Путин обратил внимание на необходимость для соответствующих органов, структур власти держать ситуацию в этой сфере под неослабным контролем.
Интересы российских граждан должны быть надежно защищены от угроз, связанных с миграционным кризисом в Европе.
Мы в Совете Федерации внимательно следим за происходящим, возможными последствиями для России растущего миграционного потока в Европу.
Считаю, что наше отечественное миграционное законодательство достаточно эффективно для того, чтобы удерживать ситуацию под контролем. Вместе с тем обстановка в этой сфере меняется быстро, и часто не в лучшую сторону. Нельзя исключать, что жизнь потребует внесения соответствующих корректив в нашу законодательную базу.
— Уже в прошлом году вы не исключали того, что бюджет этого года придется корректировать, если конъюнктура на мировых рынках будет по-прежнему негативной для российской экономики. Не пора ли пересматривать бюджет или хотя бы обсуждать такую необходимость? Сейчас планируется вновь принимать бюджет на три года, не преждевременно ли это, ведь рынки по-прежнему демонстрируют высокую волатильность?
— Повторю то, что уже не раз говорила. Конъюнктура на мировых рынках остается неблагоприятной для российской экономики. Кризисные явления в ряде секторов, отраслей хозяйства сохраняются. Бюджет-2016 сверстан из расчета цены на нефть в 50 долларов за баррель, сейчас она немногим выше 40 долларов. Это значит, что бюджетные расходы существенно превышают доходы и, скорее всего, без корректировки бюджета не обойтись.
Вместе с тем я уверена, что решать окончательно вопрос о том, нужна ли корректировка и если нужна, то какая, следует по окончании I квартала текущего года. С учетом его итогов, а также текущих мировых тенденций.
Выскажу некоторые мысли по этому поводу.
Корректировка — когда речь идет об оптимизации расходов — не должна затрагивать защищенные статьи расходов. Особенно связанные с выполнением социальных обязательств государства, поддержкой малообеспеченных слоев населения. Говорю об этом, поскольку в иных выступлениях, публикациях звучит мысль о том, что и здесь есть резервы экономии. В этом вопросе наша палата едина: мы заблокируем любые шаги в этом направлении, если таковые будут предприняты.
На мой взгляд, иные министерства, ведомства в своих предложениях чрезмерно увлекаются такими мерами, как повышение налоговой нагрузки на бизнес и население, увеличение тарифов ЖКХ, рост акцизов. Понять их можно: фискальные меры достаточно легко администрируются, дают быструю и зримую отдачу. Но у них есть и обратная сторона. Такие меры не способствуют росту экономики, привлечению инвестиций в страну, негативно сказываются на уровне жизни населения, его покупательной способности. Считаю, финансово-экономическому блоку надо меньше думать о том, как залезть в карман граждан, и больше о других способах восстановления экономического роста.
Я имею в виду повышение эффективности расходов бюджета. Здесь немалые резервы. Так, в 2015 году выявлены нарушения при использовании бюджетных средств на сумму 520 миллиардов рублей. Согласитесь, сумма огромная — примерно столько же потерял бюджет от снижения стоимости экспортируемой Россией нефти до 40 долларов за баррель. Мы ждем от правительства России конкретных мер по усилению контроля над уплатой акцизов на спирт и алкоголь. Поддерживаю тех, кто выступает за ужесточение наказания за подобные преступления. Бюджет недополучает миллиарды рублей, а ответственность за это — копеечная.
Очень важно, чтобы корректировка бюджета не сказалась негативно на инвестиционном климате. Без восстановления роста инвестиций нам не обеспечить и роста ВВП, реализации программ технологической модернизации, импортозамещения.
Как палата регионов, Совет Федерации будет рассматривать возможные поправки в федеральный бюджет под тем углом зрения, насколько в них учтены интересы субъектов. Мы за сохранение установленных объемов трансфертов регионам, мер поддержки их бюджетов, включая предоставление им бюджетных кредитов в размере 310 миллиардов рублей. Вместе с тем помощь регионам не должна ограничиваться лишь замещением коммерческих кредитов бюджетными кредитами. Стоит подумать об увеличении дотаций на сбалансированность бюджетов.
Что касается вопроса возвращения к трехлетнему планированию, напомню, что бюджет этого года впервые после длительного времени был принят на один, а не на три года, что было обусловлено высокой волатильностью на финансовых и сырьевых рынках. Сегодня бюджетная система в основном адаптировалась к новой экономической ситуации, поэтому мы считаем, что необходимо вернуться к трехлетнему бюджетному планированию, которое обеспечит предсказуемость в расходовании средств и возможность заключения долгосрочных контрактов.
При этом очевидно, что ситуация в экономике продолжает оставаться непростой, что диктует необходимость повышения эффективности бюджетных расходов, принятия новых бюджетных правил, которые позволили бы сохранить устойчивость бюджетной системы.
— В сентябре этого года пройдут выборы в Госдуму. Как может измениться состав нижней палаты парламента с точки зрения партийного и, может быть, персонального представительства?
— Законодательство, регулирующее выборы, у нас сегодня, бесспорно, оптимальное с точки зрения соответствия как реалиям страны, так и международным стандартам. Тем не менее это не делает задачу проведения выборов простой и легкой. Политическая конкуренция обещает быть острой. А значит, есть вероятность существенного обновления состава Думы.
Очень важно, чтобы выборы прошли в строго правовом, конституционном поле, а их результаты адекватно отразили волеизъявление россиян. Все условия для этого имеются. Дело за политической волей партий, общественных организаций, кандидатов в депутаты, организационной работой федеральных и региональных органов государственной власти, причастных к выборам.
Если говорить о том, какие изменения лично я хотела бы видеть в составе Государственной думы, то это увеличение представительства женщин в нижней палате парламента. Сегодня доля женщин в Совете Федерации достигла 17 процентов, в Государственной думе — немногим более 13 процентов.
По этим показателям мы отстаем от ряда других государств. Предстоящие выборы в Государственную думу дают возможность сделать еще один шаг вперед на этом направлении. Я не имею в виду введение квот для женщин. Не считаю эту практику успешной и справедливой. Речь о том, чтобы политические партии поставили перед собой задачу увеличения числа женщин в избирательных списках и одномандатных округах. Достойных этого женщин в России немало.
— Перед выборами в Госдуму в сентябре этого года сформирован новый состав ЦИК, состав комиссии поменялся очень серьезно. Нет ли опасений, что у членов ЦИК еще нет достаточного опыта для проведения парламентских выборов?
— Прежде всего, поскольку полномочия действующей Центральной избирательной комиссии завершены, в соответствии с законодательством проведено существенное обновление состава ЦИК, но при сохранении преемственности. В составе ЦИК остались те люди, которые имеют большой опыт организации выборов. Тем самым есть хорошее сочетание людей, которые имеют опыт, и той "новой крови", которая влилась.
В этот раз я могу сказать, что подбор кандидатур в состав ЦИК был очень открытым, прозрачным, демократичным. Совет Федерации как орган, который представлял кандидатуры трети состава ЦИК, запросил все субъекты Федерации. Из числа кандидатур отобрали 12 человек, получивших наибольшую поддержку. После этого было собеседование с каждым кандидатом и так далее. Мы осознанно выбрали этих пятерых человек в состав ЦИК, понимая, что именно эти люди достойны профессионально обеспечить предстоящую непростую выборную кампанию.
После десятилетнего перерыва выборы в Думу будут проходить по смешанной системе — по партийным спискам и одномандатным округам. Это означает, что политическая конкуренция очень серьезно вырастет. Уверена, что будет участвовать много кандидатов, много политических партий. Кстати, для участия политических партий в выборах созданы все условия — без каких-то бюрократических препон, сбора подписей и так далее.
И, конечно, проводить в этих условиях выборы будет гораздо труднее, чем это было раньше. Но я уверена, что, с учетом поставленной президентом задачи провести выборы максимально демократично и прозрачно, избирательная кампания пройдет честно, под контролем гражданского общества, результаты голосования продемонстрируют реальное волеизъявление граждан.
Совет Федерации, как делегировавший треть кандидатов в ЦИК, также несет свою меру ответственности за качество проведения, подведение итогов выборов.
Что касается руководства ЦИК, давайте дождемся 28 марта, когда, в соответствии с законодательством, состоится первое заседание ЦИК, будут открыто выбраны и председатель ЦИК, и секретарь, и заместители. Там есть из кого выбирать, там достаточно достойных людей, которые имеют опыт проведения выборов или участия в избирательной кампании. Уверена, что после завершения всех процедур начнется спокойная планомерная работа ЦИК.
Вы знаете, настолько важно поднять доверие населения к выборам, чтобы люди понимали, что от голоса каждого зависит результат, чтобы люди обязательно пришли на выборы. От этого в том числе зависит высокая легитимность избранной Государственной думы.
Мы прошли уже большой путь в становлении нашего демократического государства, в чем-то ошибались, что-то делали не так, но при этом набирались опыта. В последние годы шла серьезная работа по корректировке законодательства, совершенствованию избирательной системы в сторону ее либерализации, в сторону большей прозрачности. Никто не может обвинить власти в обратном. Введена смешанная система выборов, облегчен доступ партий к регистрации. Это подтверждает, что мы заинтересованы, чтобы в Государственной думе были представлены все силы, с разными точками зрения.
Но окончательный выбор будут делать избиратели. Только они выберут того, кому доверяют, кого считают достойным представлять их интересы.
— Какое будущее может ожидать Владимира Чурова, будет ли он востребован на федеральном уровне, например как сенатор?
— Владимир Евгеньевич Чуров — человек с большим опытом и государственной работы, и политической деятельности. Несомненно, его опыт будет востребован. Кадры, прошедшие такую школу, очень ценятся. Но пока рано его трудоустраивать. Я думаю, что он сам определится, где бы он хотел работать, где бы он хотел продолжить свою деятельность, используя тот полезный опыт, который он накопил.
— В начале марта стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова стала новым членом ЦИК по президентской квоте и покидает свой пост федерального омбудсмена, таким образом, эта должность станет вакантной. Воспользуется ли Совет Федерации своим правом предложить Госдуме кандидатуру на пост омбудсмена? Как вы относитесь к кандидатуре Владимира Лукина?
— Я знаю Владимира Лукина много лет и очень уважительно к нему отношусь. Считаю его очень порядочным, очень достойным человеком с безупречной биографией. На посту уполномоченного по правам человека в РФ, который он занимал два срока, Владимир Петрович сумел наладить диалог власти с обществом и правозащитниками, всегда был очень принципиальным и всегда смело высказывал свою точку зрения.
Я думаю, что кандидатура Владимира Лукина была бы очень достойной. Но готов ли он сам войти в ту же реку? Я вижу его, скорее, наставником в этой сфере. На пост уполномоченного надо продвигать более молодые кадры. Нам ведь надо формировать новую политическую элиту в России.
Пока Совет Федерации еще не обсуждал возможные кандидатуры на эту должность. Но мы будем думать, и если определим достойного, уважаемого в обществе человека, чья кандидатура была бы встречена позитивно, то не исключаю, что Совет Федерации тоже может воспользоваться своим правом и выступить с таким предложением.
Важно отметить, что процесс предложения кандидатур на должность уполномоченного должен сопровождаться широкой, я бы даже сказала общественной, дискуссией. В любом случае должен быть выбор, должна быть конкуренция. Также очень важно, чтобы этому человеку доверяло общество и правозащитники.
Надеюсь, что именно так и произойдет, и на пост уполномоченного по правам человека будет избран очень достойный кандидат, которого поддержат все заинтересованные в этом люди, структуры, органы власти и организации.
— Какими вы видите перспективы развития внутреннего туризма с учетом того, что самые популярные у россиян направления — Египет и Турция — стали недоступны? И как вы относитесь к предложениям по введению каких-либо ограничений по выезду россиян за рубеж?
— В современном мире туризм не только и не столько сектор экономики, сколько образ жизни сотен миллионов людей. Судите сами. Количество туристов, выезжающих в другие страны, увеличилось в мире с 25 миллионов человек в 1950 году до 1,2 миллиарда в 2015 году.
Наша страна, как теперь принято говорить, находится в тренде. По данным, озвученным на Всемирном экономическом форуме, в 2013 году Россия занимала 63 место в мире по конкурентоспособности турпродукта, в 2015 году — 45 место. Как видите, динамика неплохая. Но могла бы быть и значительно лучше, ведь нам есть, что показать. По количеству объектов всемирного природного наследия Россия находится на четвертом месте в мире, по объектам культурного наследия — на десятом месте.
При этом, к сожалению, внутренний туризм долгое время оставался не то чтобы в загоне, но на втором плане. Однако в последнее время ситуация начала меняться. Внутренний туризм быстро поднимается.
Считаю, что федеральная власть, регионы должны делать все, чтобы закрепить эту тенденцию. В этом году Совет Федерации одобрил федеральный закон, в котором конкретизированы полномочия в сфере туризма на федеральном и региональном уровнях.
Работа в этом направлении продолжается. Сенаторы внесли законопроект, направленный на введение налоговых льгот для работодателей, расходующих средства на организацию туризма и отдыха работников и членов их семей на территории России.
Другое, я бы сказала ключевое для туристской индустрии направление работы государства, бизнеса — это развитие инфраструктуры и повышение качества сервиса в этой сфере. Все упирается в привлечение инвестиций. Над решением этой задачи работают и федеральное правительство, и субъекты Российской Федерации.
Сейчас готовится проект федерального закона "О курортном регионе "Особо охраняемый эколого-курортный регион Кавказских Минеральных Вод"". В ряде регионов создаются туристские кластеры, особые экономические зоны туристско-рекреационного типа, территории, на которых инвесторам предоставляются налоговые льготы, другие преференции.
Стратегия развития туризма в России на период до 2020 года предусматривает развитие так называемого социального туризма. Создаются правовые, финансовые, организационные условия для того, чтобы могли путешествовать и отдыхать социально слабо защищенные группы населения. Хотела бы отметить продуктивную работу на этом направлении в Республике Башкортостан, Краснодарском, Ставропольском краях, Астраханской, Московской, Ростовской областях, в Москве и Санкт-Петербурге.
Что касается идей по ограничению выезда за рубеж россиян, то я их не поддерживаю. Они прямо противоречат конституции Российской Федерации. Другое дело, мы должны и предупреждаем наших граждан о том, где отдыхать небезопасно.

Азия с ее четырьмя миллиардами жителей уже добилась огромного успеха благодаря трудолюбию, но также и уму ее обитателей. Будущее Азии — в инновационном росте. Это ключевая мысль выступления китайского премьера Ли Кэцяна на завершающемся в эту пятницу ежегодном форуме Боао на Хайнани, и она же — ключевая тема самого форума.
Постарайтесь хорошо выглядеть у банкомата
Речь на форуме идет о том, что Китай хочет объединить усилия разных стран — соседей по части инновационного роста, да попросту возглавить процесс, стать технологическим лидером региона, а потом и мира. Тем более что экономическая стратегия страны предполагает переход от модели "Китай — мировой производственный цех" вот к тому самому, к росту при опоре на собственные хай-тек достижения.
Китайцы, как напоминают эксперты, еще в 2008 году (когда в Пекине была Олимпиада), озвучивали лозунг перехода от модели "Made in China" к "Designed in China". Наверное, здесь даже перевод не нужен.
Вот несколько фактов, взятых со страниц китайских СМИ в эти дни, недели или месяцы. Китай и Индонезия подписали, наконец, последние необходимые бумаги проекта по сооружению скоростной железной дороги между двумя ключевыми городами — Джакартой и Бандунгом. Этот проект интересен тем, что он — впервые — стопроцентно основывается на китайских технологиях. Ну и в эти же дни подписана аналогичная сделка в Шотландии.
Далее, китайские производители только что поставили Венесуэле три разработанных ими тренировочных реактивных самолета. Таковые продаются еще в семь стран. Помнится, в 1989 году Евросоюз подверг Китай эмбарго по части поставок туда вооружений, да оно, кажется, и сегодня не отменено. Вот только Китай стал третьим в мире продавцом вооружений после США и России…
Еще одна новость (декабрьская): следующий китайский авианосец будет полностью китайским и выгодно отличаться от "Ляонина" (бывшего "Варяга"). И последнее: в Китае создан первый в мире банкомат с функцией запоминания лица держателя карточки. Никому другому он денег не даст. Да и вам лучше хорошо выглядеть перед этим банкоматом, чтобы он вас узнал.
Переходя от частностей к общей картине, советую прочитать материал индийской "Нью-Дели таймс" насчет того, что Китай обогнал США и Евросоюз по части количества и качества выпускников высших учебных заведений (и Индия идет за ним следом, добавляет газета). Да, качества тоже — олимпиада, проводимая в рамках исследования ОЭСР, показала, что пятнадцатилетние математики из Китая победили своих ровесников из США.
И что же вы хотите, если Китай в среднем строит по новому университету в неделю, замечает газета. А что касается качества, то оно может вырасти из количества. Китайских выпускников стало численно больше, чем американских или европейских, и среди такого их количества всегда можно найти особо талантливых.
Азия не просто производит умных выпускников по цене меньшей, чем это делает Запад. 40% азиатских выпускников (из тех, кто фигурирует в исследовании ОЭСР), как выяснилось, выбирают точные науки, то есть те, что породят потом инновации; в США "технарей" в студенческих рядах вдвое меньше. Вывод: Западу следует готовиться принять вызов Азии в соревновании по части "экономики знаний".
Все скопировано и своровано
Западу точно надо готовиться, а как насчет России? Маленький пример из практики. Таиланд размышляет, какие танки ему закупить. Выбор идет между нашими Т-90 и китайскими VT-4.
В соседней Малайзии обсуждают создание своей атомной энергетики, и первый претендент на партнерство — Китай, Россия же вторая. Заметим, конкуренции со стороны какого-то там Запада не просматривается.
В наших технических кругах модно кривиться при разговорах о китайских технологиях. Стандартный набор патриотично самоутешающих слов в таком случае — что у китайцев все скопировано и своровано, никаких полностью самостоятельных разработок нет, все это не всерьез.
Здесь можно вспомнить, что пару поколений назад так же смеялись над японцами. Они якобы тоже все копировали и воровали. Потом смеяться перестали.
Кстати, следовало бы, наоборот, присмотреться к стратегии, скопированной (да-да) Китаем у Японии, Южной Кореи и прочих азиатов. Сначала они и правда вписываются в рынок с почти копиями, но более дешевыми, чем оригинал. Потом начинают незаметно, по мелочам улучшать исходную технологию. Одновременно, по мере того как накапливается критическая масса грамотных людей и денег, начинают делать что-то полностью свое. Мы это наблюдали на примере скоростных железных дорог, где когда-то была технологическая монополия японцев и европейцев. Ну и кто теперь выигрывает контракты, с полностью своими разработками? Смотри выше.
Технологический патриотизм — хорошая вещь, если он не превращается в словесное прикрытие неудач собственного курса на изобретение альтернативы велосипеду, причем с нуля.
Возникает вопрос: а что делать в ситуации, когда прежние поколения искренне думали, что инновации приходят только с Запада, а получается наоборот.
Ответ: радоваться, что с Китаем у нас иные отношения, чем с Западом, мы сделали политическую ставку на побеждающую лошадь. Но политика и экономика — не одно и то же. Никто не будет отдавать нам тендеры исходя из того, что в геополитике мы дружим. Надо учиться встраиваться в новую тенденцию (кстати, есть немало фактов российских инвестиций именно в китайский хай-тек, просто это не всем видно).
И, в конце концов, почему бы не прислушаться к тому, что сказал китайский премьер, открывая форум в Боао. Он ведь предложил соседям Китая, то есть и нам, совместно совершать переход в век технологического доминирования Азии. Это разумный подход, выгодный всем.
Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Не так страшен Трамп
Владислав Иноземцев о том, что можно противопоставить политическому популизму
Вот уже почти полгода самая влиятельная страна современного мира — Соединенные Штаты — с пристальнейшим вниманием следит за президентской избирательной кампанией. Причиной такого внимания стало явление неожиданного кандидата, по своим повадкам отличающегося от представителя американского истеблишмента, но при этом весьма похожего на массу лидеров стран «третьего» мира.
Дональд Трамп обещает всем слишком многое.
Смеется, когда его «ловят» на взаимоисключающих заявлениях, ни в малейшей мере не привержен политкорректности, хорошо улавливает настроения толпы и не формирует предпочтения избирателей, а угадывает их. Его главные принципы — отсутствие условностей, абсолютное приспособленчество и стремление выделиться из массы кандидатов — принесли ему впечатляющий успех: он имеет высокие шансы стать кандидатом от Республиканской партии на пост президента США.
Респектабельная Америка в ужасе. После победы Трампа уже в 19 праймериз и разгрома им Марко Рубио в его родной Флориде политический бомонд внутри «великой старой партии» консолидируется в попытке не допустить выдвижения неугодного кандидата.
За пределами партии его сравнивают с Гитлером, а предстоящие выборы — с германскими 1932 года.
Создаются движения его противников; все больше общественных деятелей призывают избирателей «не делать ошибок», а хакеры из Anonymous объявляют кандидату «тотальную войну». Складывается впечатление, что республиканцам грозит крах: либо верхушка партии пойдет против воли большинства избирателей, что расколет партию, либо Трамп будет номинирован, и в глазах значительной части общества консерваторы станут «нерукопожатной» политической силой.
Однако в такой ситуации хочется задать два вопроса: во-первых, так уж ли вредна победа (не важно, на праймериз, на съезде и даже на всеобщих выборах) г-на Трампа; и во-вторых, на какие изъяны современной политической системы указывает все происходящее.
Боюсь выразить отличную от общепринятой точку зрения, но мне кажется, что нынешние успехи Трампа и даже избрание его президентом 8 ноября можно только приветствовать.
Сегодняшняя Америка не находится в каком бы то ни было кризисе; ее политические институты прочны; активность ее граждан велика, как и готовность их отстаивать свои права. Президент Трамп, начни он реализовывать свои самые экзотические предвыборные обещания, столкнется с конгрессом 115-го созыва, в котором далеко не все республиканцы готовы будут поддержать своего «лидера» и где может сформироваться либерально-демократическое транспартийное большинство. Что само по себе важно, учитывая, что в последние десятилетия партийные позиции становились лишь более и более поляризованными.
Законодательная власть без особых проблем сумеет найти средства воспрепятствовать неадекватным шагам исполнительной. Более того, это будет хорошим испытанием для системы разделения властей, в рамках которой в США многие десятилетия не наблюдалось серьезных конфликтов. Кроме конгресса страна обладает и судебной системой, прекрасно защищающей конституционные права, и я думаю, что в случае победы Трампа еще до конца срока полномочий Обамы сенат утвердит любого предложенного нынешним президентом кандидата на вакантный пост члена Верховного суда, а новоизбранные конгрессмены создадут причудливые конфигурации, сдерживающие «первое лицо».
В системе, где достаточно противовесов, фигура безумного популиста во главе государства скорее хорошо, чем плохо, так как позволяет понять ценность правового, а не только демократического государства.
Кроме того, я думаю, что сам Трамп — пусть не самый успешный, но все же состоятельный бизнесмен, сделавший карьеру в рамках действующих в Америке правил и норм, — окажется намного более рациональным в поступках, чем в словах. Кроме того, он вынужден будет сформировать команду и правительство из профессионалов в тех или иных областях, а не таких же эксцентриков, каким выглядит сам, и потому, вполне вероятно, мы даже не увидим тех конфликтов между ветвями власти, о которых я говорил выше.
В любом случае, появление на вершине власти богатого популиста для Америки — в отличие от России, например, — несомненное благо, так как оно позволит проверить ее политическую систему на прочность. Как известно, «то, что не убивает нас, делает нас сильнее».
Напротив, те, кто сейчас ищут формальные уловки для недопущения Трапма в Белый дом, напоминают мне скорее функционеров «Единой России», стремящихся всякий раз проводить выборы по новой схеме, но с одним предсказуемым результатом.
И тот факт, что американцам эти игры надоели (а в пользу этого говорит успех не только Трампа, но и — на противоположном фланге — Сандерса), характеризует избирателей опять-таки скорее хорошо, чем плохо.
Однако испытания, подобные появлению Трампа на самом значимом из выборных постов в мире, по силам выдержать, наверное, только американской политической системе. Во всех остальных случаях победа популиста способна привести к параличу нормальной работы государственной машины и превращению формально демократического общества в полуавторитарную или авторитарную систему, ведущую экономику в тупик и уничтожающую элементы гражданского общества. От России и Белоруссии до Венесуэлы и Аргентины — в последние десятилетия такие примеры заметны на всех континентах.
Почему популизм как явление сегодня так распространен и что можно ему противопоставить?
На мой взгляд, мир пока привыкает к всеобщему избирательному праву — феномену, появившемуся даже в развитых странах всего несколько поколений назад. Система, в которой все взрослые граждане страны могут участвовать в выборах вне зависимости от уровня доходов, пола, образования или этнического происхождения, сложилась лишь к середине ХХ века.
Последние ограничения по этническому признаку были отменены в США в 1965-м, женщины в Швейцарии получили право голосовать на выборах всех уровней лишь в… 1990-м. Знаменитая британская демократия в XIX веке была демократией меньшинства: до принятия закона о реформе 1832 года избирательным правом располагало 1,8% взрослого населения; после его принятия эта цифра поднялась до 2,7%, в 1867-м она достигла 6,4%, а к 1885-му — 12,1%. В самих США в 1824 году, через полвека после обретения независимости, лишь 5% взрослых американцев могли принимать участие в выборах президента.
Стремительное расширение числа голосующих не может не быть основанием для распространения популизма по ряду оснований.
Прежде всего, по мере усложнения социальных процессов человеку необходимо быть более образованным для того, чтобы ориентироваться в политике. На выборах 2000 года в США около 90% американцев-мусульман голосовали за Дж. Буша, который стал потом считаться врагом ислама, начав войны на Ближнем Востоке. Причиной же, согласно опросам, было лишь то, что в команде А. Гора кандидатом в вице-президенты был еврей Дж. Либерман.
В нынешней кампании масса избирателей даже не задумывается о том, что в программе того же Трампа содержатся предложения, прямо противоречащие американской конституции. Я не говорю о возможностях пропаганды, которые хорошо известны — тем более в России. Поэтому стоит задуматься о том, отвечает ли всеобщее избирательное право потребностям нашего времени.
Не менее важным моментом является проблема сегментированности общества даже не столько по этническому, сколько по миграционному признаку.
Справедливо ли, что те, кто только что получил американский (немецкий, французский, русский) паспорт, сразу же обретают такие же избирательные права, как и люди, отдавшие всю свою жизнь развитию той или иной страны?
Ведь в данном случае практически предопределено, что они будут, скорее всего, голосовать за тех политиков, которые поддержат социальные программы, благоприятствующие мигрантам и малоимущим. Соответственно, реакцией на это практически в любом обществе когда-то неизбежно станут феномены, подобные Трампу.
Наконец, в обществах, где государство через бюджет перераспределяет от трети до половины валового продукта, не может не стоять вопрос о том, какой вклад вносит тот или иной человек в экономику страны. В Соединенных Штатах, где федеральный бюджет на 41% наполняется подоходным налогом, таковой вообще не платили в 2015 году 45,3% домохозяйств, а от менее чем 5% наиболее состоятельных граждан в бюджет поступало 90% налога. Можно ли предположить, что большинство обязательно поддержит кандидата с наиболее рациональной экономической программой? Ответ, на мой взгляд, очевиден.
Вопросы не ограничиваются только что поставленными — их в реальности намного больше. Все они, однако, так или иначе высвечивают одну и ту же проблему: насколько устойчиво в политическом отношении общество, в котором сегодня утвердилась прямая демократия с оттенками популизма?
Мы отдаем себе отчет, что 95% граждан, поддерживающих присоединение Крыма, это люди, откровенно пренебрегающие нормами международного права и, следовательно, закона как такового? Что успехи ультраправых в Европе — это подтверждение того, что в будущем нормы жизни в Старом Свете будут переписываться так, как этого захочет эмоционально неустойчивое большинство? Что выдающиеся экономические достижения последних десятилетий — ЕС, зона евро или НАФТА — могут оказаться заложниками популизма путинского или чавесовского «розлива»?
Фундаментальная проблема современной демократии заключается в том, что политики, идущие на выборы, должны доказать избирателям, что они достойны быть избранными — но в то же время самим гражданам не нужно доказывать кому-либо и чем-либо, что они достойны быть избирателями. И эта проблема наверняка даст о себе знать во многих частях мира уже в недалеком будущем.
Что можно предпринять в такой ситуации? Можно ли превратить демократические общества в меритократические, как многие мечтают? Ограничить число избирателей через образовательные или имущественные цензы, как это было в прошлом?
Я не знаю ответа на этот вопрос. Но я вспоминаю слова Даниела Белла, великого социального философа ХХ века, говорившего: «Я — не демократ. Я не верю в демократию. Я верю в свободу и права. Свобода предшествует демократии и предполагает наличие у человека неотчуждаемых прав — таких, как право на равенство перед законом, право собраний и выражения своего мнения, право знать, в чем тебя обвиняют, право на открытое и гласное судебное разбирательство и т.д. Эти права и гарантируют свободы человека, [в то время как] под внешне «спокойной гладью» демократии скрывается множество противоречий и линий напряженности, а упрощенное понимание демократии не решает существующих проблем, а лишь порождает новые»*.
И я не могу с этим не согласиться…
*Цитируется по изданию: Даниел Белл, Иноземцев Владислав. Эпоха разобщенности. Размышления о мире XXI века. Москва: Центр исследований постиндустриального общества, 2007. С. 122, 123.

Первое относительно связное внешнеполитическое выступление Дональда Трампа, кандидата в президенты США, рисует любопытную картину. Изберут Трампа президентом или нет, отдельный вопрос. Пока мы видим, что в США появляется альтернативная внешнеполитическая концепция, которая в конечном счете сделает страну менее уязвимой.
Надо ли России этому радоваться — вопрос интересный. Может быть, и надо, но в зависимости от того, куда США будут готовы приложить свои возможности, открывающиеся при сокращении расходов на зарубежные авантюры.
Доктрина "нет денег"
Российские СМИ довольно активно цитируют слова Трампа, касающиеся Украины и того, что европейские члены НАТО должны бы заняться Украиной сами. Почему мы тут должны все время лидировать, нарываясь на третью мировую с Россией?— спрашивает Трамп.
Но ведь он высказался не только по поводу НАТО и Украины. Впервые с начала избирательной кампании в США мы имеем связное и относительно подробное изложение Трампом того, что можно назвать его доктриной внешней политики. По всем азимутам, по ключевым мировым сюжетам. Доктрина сводится к мысли: "что же мы всюду лезем, если сидим по уши в долгах".
Трамп обычно высказывается так, будто до сих пор ведет свое юмористическое шоу: кратко, агрессивно, отрывочно, без всякой логики. С учетом "своего" электората (или аудитории комедийных шоу), этим и побеждает. Но все ждали момента, когда он начнет говорить всерьез по той или иной проблематике.
И вот шутки в сторону, Трамп поехал в Вашингтон, где и высказался на темы внешней политики. Он сделал это в редакции Washington Post, а также перед одним из влиятельных комитетов еврейской общины. Получилось как бы одно выступление, относительно связное и логичное (если Трамп вообще может говорить связно и логично).
В целом визит в столицу для Трампа — это начало его кампании по налаживанию контактов с лидерами Республиканской партии. Часть таковых его люто ненавидят (прежде всего, это партия в партии — неоконсерваторы), но прочие понимают, что устами Дональда вещает ключевая часть рядовых избирателей партии. Дальше можно ожидать каких-то компромиссов, выработки некоей приемлемой для партии "платформы Трампа". А пока мы имеем его внешнеполитические взгляды в чистом виде.
В Вашингтоне Трамп представил редакции Washington Post свою группу советников по внешней политике. Демократы уже успели ожидаемо назвать их "пугающей публикой" и "никому не известными экспертами", но вообще-то это бесспорно республиканцы и очевидно компетентные люди. Если кандидату удастся договориться с собственной партией, то будут и прочие советники.
Строить собственную нацию
Посмотрим, что говорит Трамп о ситуации в целом, не только по Украине. Он говорит: "Я действительно думаю, что сейчас вокруг нас другой мир, и я не думаю, что мы должны продолжать заниматься национальным строительством (за пределами США). Я думаю, что уже доказано — это не работает и у нас сейчас другая страна. У нас 19 триллионов долларов долга".
Никакого "национального строительства" Америка не должна вести не только на Украине, где союзники по НАТО не спешат увеличивать свою 25% долю расходов на содержание блока. Никакого "национального строительства" не должно быть также в странах типа Ирака.
Где, говорит Трамп, мы построили школу — а ее взорвали, мы построили ее заново — а нас снова взорвали. В результате мы не можем построить школу в Бруклине (эта речь, понятно, произносилась перед еврейским комитетом). Нам надо вместо всего этого заново отстраивать собственную нацию.
И не только в Ближнем Востоке дело. В прочей Азии, тихоокеанской, тот же подход (что в США, кстати, немедленно попало в заголовки). С одной стороны, Китай Трамп называет страной с невероятными амбициями, которая выкачала все ресурсы из США, и "если бы не мы", то китайцы не построили бы все эти грандиозные аэропорты и мосты. (Сомнительное утверждение, но неважно). С другой стороны, тот же Трамп заявляет, что мы все время посылаем в Азию корабли и самолеты, а азиатские союзники компенсируют нам лишь малую часть этих расходов. В результате, повторяет он, "мы очень мощная, очень богатая страна, и мы сейчас бедная страна. Мы страна-должник".
Многие, наверное, думали, что же это будет, когда кто-то в США признает очевидное: на глобальное безумие больше нет денег. Вот, оно происходит. Скорее всего, пока мы слышим лишь разговоры на эту тему. Но они вышли на достаточно высокий уровень (кандидат в президенты), чтобы быть просто так забытыми.
Это будет другой мир
Реакция внешнеполитических титанов мысли в Вашингтоне очевидна: этот клоун своими словами уничтожает внешнюю политику, которую страна вела 70 лет.
Но какова должна быть реакция России? Если не на внятную смену доктрины в США, то на признаки возможной подобной смены в будущем? Ясно, что соперники Трампа по предвыборной гонке уже сказали, что слова Трампа означают — "Путин победит". Но так ли это?
В России уже появились люди, которые морщатся от развивающейся у нас "трампомании". Они напоминают, что Трамп успел сказать многое из того, что нам не понравится, так же как и противоположные, вполне приятные россиянам вещи. А еще напоминают, что Трамп беспокоится об Америке, а не о России (что правда).
Но поскольку этот весьма искренний кандидат в президенты обозначил свой подход к внешней политике в целом ("надо заново отстраивать собственную нацию"), давайте посмотрим, как будет выглядеть мир "по Трампу".
Для начала, мы все (весь мир) знали, что Америка идет к катастрофе, не надо ей мешать, следует лишь уворачиваться от ударов хвоста агонизирующего гиганта. Что будет, если США начнут выздоравливать, на какие цели направят свою новую энергию — мы пока не успели подумать.
В нынешней ситуации в мире есть несколько крупных и много десятков некрупных стран, которые только и мечтают, чтобы ускорить падение гиганта, не пострадав при этом. Это — ресурс той внешней политики, которая обозначается словами "что плохо для США, хорошо для многих прочих".
Но если Америка перестанет вмешиваться в чужие дела и разрушать целые регионы, то у нее появится много друзей — новых и настоящих, а не "клиентов".
Что тогда будут делать Россия, Китай, множество прочих стран, будут ли они оставаться в трогательном согласии друг с другом — никто пока подумать не успел. А надо бы, даже если Трамп уже через 3-4 месяца будет вышвырнут из президентской гонки.
Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Рейтингуй, не рейтингуй — не все равно
Moody’s остается, остальные международные рейтинговые агентства уходят из России?
Николай Вардуль
Взаимодействие России с международными рейтинговыми агентствами сегодня развивается в двух плоскостях. Первая — традиционная. Агентства выставляют рейтинги, российские власти на них реагируют (или не реагируют). Значение этих рейтингов в условиях антироссийских санкций, в том числе и финансовых, правда, приобретает не столько практический, сколько теоретический смысл. Вторая плоскость — это приближение момента, когда международные рейтинговые агентства должны определиться со своей деятельностью в России по новому закону.
Россия в зеркале трех рейтинговых агентств
Международное рейтинговое агентство Moody’s в начале марта поставило суверенный кредитный рейтинг России на пересмотр с возможностью понижения. На данный момент этот рейтинг от Moody’s находится на спекулятивном уровне «Ва1» (с 21 февраля 2015 г.). Возможность его понижения связана с опасениями относительно возможности российских властей удержать дефицит бюджета 2016 г. в заявленных рамках 3% ВВП, учитывая прогнозы негативной динамики цен на нефть. Moody’s ожидает, что в 2016 и 2017 гг. они будут находиться на уровне $33 и $38 за баррель. Российские власти готовы корректировать бюджет исходя из среднегодовой цены на нефть в $40 за баррель в этом году и $35 за баррель в 2017 г. Агентство сохранит рейтинг на прежнем уровне, если правительство РФ найдет необходимый для покрытия дефицита бюджета источник финансирования.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в свою очередь в начале марта выпустило Мировой экономический прогноз (Global Economic Outlook, GEO). Если в декабре прошлого года Fitch предсказывало рост российского ВВП в 2016 г. на 0,5%, то теперь прогнозирует его падение на 1,5%. Агентство обосновывает свой ухудшившийся прогноз тем, что в России низкие цены на нефть сокращают прибыли корпораций и вызывают ужесточение бюджетной политики. Сообщается также, что высокие процентные ставки и сокращение реальной зарплаты давят на потребление населения.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг РФ в иностранной валюте на уровне «BB+" с «негативным» прогнозом еще 17 февраля. Средняя цена нефти марки Brent в 2016 г., как считают в S&P, составит 40 долл./барр., в 2018 г. она вырастет до 50 долл./барр. против предыдущей оценки в 55 долл./барр. в 2016 г. и 70 долл./барр. в 2018 г. «Мы не ожидаем, что договоренность от 16 февраля между Катаром, Россией, Саудовской Аравией и Венесуэлой по заморозке добычи нефти на уровне января 2016 г. окажет заметное влияние на наши прогнозы по ценам на углеводороды, — подчеркивают аналитики S&P. — Стоит отметить, что первая реакция нефтяного рынка на эти новости оказалась негативной».
Агентство понизило прогноз среднего роста ВВП России в 2016—2019 гг. до 0,5% в год. S&P также ожидает, что дефицит бюджета РФ в 2016—2019 гг. увеличится в среднем до 3,5% ВВП.
Оценки рейтингистов, как видим, разные. Они не остались в Москве без внимания. Министр финансов Антон Силуанов незамедлительно отреагировал на опасения Moody’s по поводу того, удастся ли свести бюджет 2016 с дефицитом в 3% ВВП. «Оценка агентства Moody’s показывает необходимость адаптации бюджетной системы к новой реальности на сырьевом рынке», — заявил Антон Силуанов. Министр увидел в Moody’s союзника в борьбе за сбалансированность бюджета.
По поводу собственно рейтингов Силуанов не сказал ничего.
История облигационного займа в $3 млрд
Скорее всего, Силуанов не упомянул рейтинги потому, что, какими бы они ни были, приоритет за политикой, т. е. санкциями. Но если так, зачем Минфин затевал выпуск евробондов на $3 млрд?
Ответ, казалось бы, на ладони. Именно он поможет удержать дефицит бюджета в искомых границах. Но как же санкции?
Формально санкции не запрещают ни американским, ни европейским банкам вкладываться в суверенные российские бумаги. Но на практике Госдеп выступил с недвусмысленными рекомендациями воздержаться, которые крупнейшими инвестиционными банками, в том числе и первоначально поддержавшими заем, были услышаны, — они отошли в сторону. Действительно, поддержка займа идет в противовес санкциям. «Зацепка» запретителей в том, что деньги пойдут в российский федеральный бюджет, откуда могут попасть на счета тех компаний и банков, которые находятся в санкционном списке.
По сути, евробонды, от идеи выпуска которых Минфин не отказался даже после отказа со стороны американских банков, — это таран, который должен пробить брешь в изоляции России от внешнего финансирования на западном рынке. Даже если заем состоится в усеченном виде и при привлечении ресурсов не из Нью-Йорка или Лондона, а из Сингапура или Гонконга, это будет брешью именно в западных санкциях, потому что тогда удержать западных банкиров от участия в последующих займах Москвы, а, по данным журнала Economist, уже в 2017 г. Минфин планирует привлечь за счет выпуска евробондов еще $6–8 млрд, что будет гораздо сложнее.
Зачем России международные рейтинговые агентства?
Если «рулит» политика, зачем тогда все эти рейтинги вместе с их производителями? И в самом деле взаимоотношения Москвы с мировыми рейтинговыми агентствами переживают не лучшие времена.
13 июля 2015 г. вступил в силу закон «О деятельности кредитных рейтинговых агентств…». Теперь, в частности, ЦБ ведет реестр рейтинговых агентств, а составлять рейтинги по национальной шкале могут только российские юрлица (а не филиалы зарубежных компаний). Это сделано для того, что рейтинги не выставлялись или отзывались по геополитическим соображениям.
Международные агентства должны создать российские дочки в 2017 г. Между ними раскол. 29 февраля глава аналитической службы Fitch Йена Линнелла рассказала Bloomberg, что Fitch, вероятно, не станет создавать дочернее предприятие в России. А это значит, что рейтингов по национальной шкале агентство присуждать не сможет, но сохранит активность на внешнем рынке. Standard & Poor’s пока выжидает, но наблюдатели склоняются к тому, что это агентство поступит так же как Fitch. В привилегированном положении оказывается Moody’s, у него уже есть в РФ дочернее агентство «Мудис Интерфакс». Возможно, именно поэтому Антон Силуанов отозвался именно на оценки Moody’s.
Передел рейтингового рынка в России задуман, естественно, для того, чтобы поднялись российские игроки. Однако пока они заняты внутренними разборками. «Эксперт РА» из-за конфликта учредителей ждет прихода Олега Дерипаски. В Национальном рейтинговом агентстве (НРА), как пишет «Коммерсантъ», дело дошло до возбуждения уголовного дела о мошенничестве и подделке подписей.
Но без рейтингов, как внешних, так и национальных, Россия, российские компании и банки не обойдутся. Рейтинговые агентства выполняют роль зеркала, в котором отражается рейтингуемый. И зеркала непростого, агентства должны показать потенциальным инвесторам не просто риски инвестиций, но и оценить их по понятной для инвестора шкале.
Проблема в том, что российским рейтинговым агентствам еще предстоит заслужить авторитет у инвесторов, это обязательное условие их деятельности. Иностранные инвесторы, а рано или поздно они вернутся в Россию, будут ориентироваться на оценки международной тройки, пусть два агентства из трех будут лишены возможности выставлять рейтинги по российской национальной шкале — востребованы будут и внешние рейтинги. Дело в том, что в технологию принятия решений об инвестициях, начиная с определенного уровня, в крупных акционерных компаниях, как правило, регламенитровано: для положительного решения необходимо, чтобы оценки компании, куда предполагается инвестировать, в двух из трех крупнейших международных рейтинговых агентств были не ниже определенного значения.
Конечно, всем памятны ошибки этих агентств, присвоивших замечательные рейтинги американским компаниям в 2008 г. буквально накануне кризиса. Министерство юстиции США проводило расследование деятельности Standard & Poor’s и Moody’s, которые подозревались в присвоении завышенного рейтинга сделкам по ипотечным кредитам. Так, S&P, первое по величине рейтинговое агентство, и Moody’s, второе, выставили рейтинг «ААА» сделкам под залог недвижимости, в результате чего даже консервативные инвесторы приобретали ценные бумаги, обеспеченные высокорискованными активами. Когда рухнул рынок недвижимости, потери по этим ценным бумагам, разошедшимся по всей стране, усугубили кризис и стоили инвесторам миллиарды долларов. Минюст США первоначально требовал от агентства S&P штрафов в порядке возмещения ущербов на сумму 5 млрд долл. Затем сумма претензий была снижена до 1,5 млрд долл.
Российским рейтинговым агентствам еще предстоит вписаться в регламенты принятия решений об инвестициях на российском рынке. И избегать «ошибок», которые чаще всего объясняются просто: рейтингуемая компания платит за выставление рейтинга рейтинговому агентству, однако, никак нельзя следовать правилу: кто платит, тот и заказывает музыку.
Пока наилучшие перспективы у Moody’s и «Мудис Интерфакс».
В общем, «друг мой, зеркальце, скажи, да всю правду расскажи…».
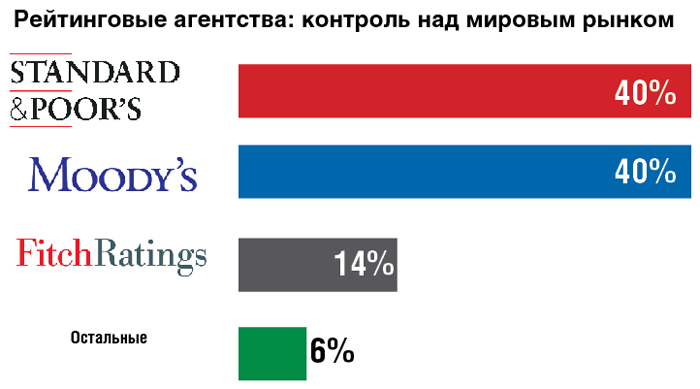

Томас Пикеринг: претензии отложим в сторону
Интервью с Томасом Пикерингом, бывшим заместителем госсекретаря США по политическим вопросам (1997—2000 гг.) и бывшим послом США в России (1993—1996 гг.)
Бывший заместитель госсекретаря США в феврале 2016 г. посетил Москву и поделился своими идеями о возможных направлениях сотрудничества между Россией и США и роли аналитических центров в нормализации отношений.
По каким направлениям возможно эффективное сотрудничество между Россией и США в краткосрочной (с администрацией Обамы) и среднесрочной (с новой администрацией) перспективе?
Иран, космос, Афганистан, поставки по «Северной распределительной сети», Арктика, терроризм, Сирия (с натяжкой), изменение климата.
Как Вам кажется, возможно ли сотрудничество, направленное на предотвращение негативного сценария развития отношений? Например, сотрудничество в целях снижения риска военных столкновений (между Россией и НАТО) или применения ядерного оружия, в том числе предотвращение несанкционированного и случайного использования ядерного оружия (между Россией и США)?
Прогноз по такому сценарию укрепления мер взаимного доверия не слишком оптимистичен ввиду прекращения действия договора по ПРО, расширения НАТО и разногласий по ДОВСЕ. Обе стороны должны быть заинтересованы в снижении числа происшествий, неверных оценок и просчетов в отношении ядерных средств сдерживания, однако представляется, что текущая позиция России заморозила такую возможность, несмотря на то, что она соответствует национальным интересам страны.
По Вашему мнению, стоит ли устанавливать ограниченный набор целей для отношений между Россией и США в период кризиса двусторонних отношений, таких как, например, формирование конкретных правил взаимодействия в условиях кризиса?
Это показалось бы логичным шагом, однако это непросто, может быть, даже сложнее, чем продолжать попытки расширения направлений возможного сотрудничества. Масштабные важные вопросы, возможно, затронуты не будут, однако в условиях кризиса взаимного доверия одним из способов улучшения двусторонних отношений может стать мониторинг успешного исполнения обеими сторонами взаимных соглашений и выработка договоренностей, отвечающих взаимным интересам, по важным для обеих стран направлениям.
Такая работа может оказаться менее полезной в долгосрочной перспективе, чем масштабные действия в сферах, представляющих явный взаимный интерес, однако если таких возможностей нет, мы должны работать там, где это возможно.
Какую роль в нормализации отношений между Россией и США могут играть НПО и аналитические центры двух стран?
Они могут продолжать свое взаимодействие по обмену идеями и выявлению тех сфер, в которых возможно улучшение двусторонних отношений. Первым шагом может стать решение воздерживаться от каких-либо комментариев, если сложно сказать что-то позитивное, и выявлять те области, в рамках которых можно открыто говорить об общих интересах. На этом этапе претензии лучше оставить для официальных дипломатических каналов.
Беседовала Наталья Евтихевич, программный менеджер РСМД

С 15 марта Россия начала вывод военного контингента с территории Сирии. Теперь дело за дипломатами. Если о политических предпосылках нынешней сирийской операции уже много сказано политическими и военными аналитиками, то история взаимоотношений России со странами Ближнего Востока по-прежнему малоизвестна для большинства наших соотечественников.
На днях вышел в свет мартовский номер музейного журнала "Живая история". Одна из ключевых тем номера — история военного присутствия СССР на Ближнем Востоке: оно началось в 50-е годы XX века. Ставшая мировой сенсацией отправка российских армейских подразделений в Сирию прошлой осенью — лишь новый эпизод этой долгой истории.
Участие России в сложном клубке международных конфликтов, связанных со статусом святых как для христиан, так и для мусульман мест в Палестине, а также положением христианских народов в Османской империи, получившем в историографии название "Восточного вопроса", можно проследить с XVII века. Тогда восстановившееся после Смутного времени Московское государство стало рассматриваться православными единоверцами как естественный защитник и покровитель. В середине XVII в. Антиохийский патриарх Макарий дважды посещал Россию, в том числе с целью сбора пожертвований на нужды православного населения Ближнего Востока.
В результате русско-турецких войн конца XVII — начала XIX столетий Россия получила исключительные права на вмешательство в турецкие дела для защиты православных подданных Османской империи.
Однако защита единоверцев порой приводила не только к войнам с Турцией, но и к конфликтам с другими европейскими державами. В начале 1850-х годов вопрос о том, кто именно — православное или католическое духовенство — будет контролировать церковь Рождества Христова и другие христианские святыни в Палестине, стал одной из причин столкновения России с европейскими государствами, что в итоге вылилось в крайне неудачную для Российской империи Крымскую войну 1853 — 1856 гг.
Неудачный для турок ход военных действий против России во время Первой мировой войны стал одной из причин геноцида христианского населения Османской империи — армян, ассирийцев, греков, которых турецкое правительство обвиняло в сочувствии русским единоверцам.
Союзники по Антанте — Россия, Англия и Франция — заключили в 1915 году тайное соглашение, предусматривавшее раздел ближневосточных владений Турции после победы в войне. Россия, согласно этим договоренностям, должна была получить контроль не только над столь желанным Константинополем, но и, самое главное, над западным и восточным побережьями Босфора и островами в Мраморном море, что позволило бы решить наконец вопрос с проливами, ведущими из Черного в Средиземное море. В то же время Англия и Франция собирались поделить между собой турецкие владения в Месопотамии. По англо-французскому соглашению Сайкса-Пико, названному так по фамилиям дипломатов, готовивших договор, Ливан, Западная Сирия, включая Алеппо и Дамаск, а также восток современной Турции, становились прямыми владениями Франции, восточная Сирия и северный Ирак попадали во французскую сферу влияния. Англичане же получали во владение весь южный Ирак с Багдадом и ключевые порты на восточном побережье Средиземного моря — Хайфу и Акку, а также центральный Ирак, Трансиорданию и большую часть Аравийского полуострова в качестве сферы влияния.
Характерно, что население этих территорий узнало о предназначенной им мировыми державами судьбе только благодаря большевикам, опубликовавшим текст соглашения в ноябре 1917 г.
Новый этап в долгой истории русского присутствия на Ближнем Востоке начался после окончания Второй мировой войны в 1950-е годы.
Сотрудничество с возникшими после распада колониальной системы странами Ближнего Востока было одним из ключевых направлений внешней политики СССР. Сам факт выбора получившими независимость арабскими государствами социалистического пути развития ограничивал западным противникам доступ к источникам сырья, рынкам сбыта и важным транспортным артериям.
Политическая обстановка благоприятствовала советскому проникновению в регион. На рубеже 1940-1950-х гг. арабские страны начали искать союзников, которые могли бы помочь им в создании полноценных вооруженных сил и строительстве независимой экономики. Египет и Сирия не стремились присоединиться к прозападным военным блокам и активно искали альтернативу.
Первоначально основным союзником СССР на Ближнем Востоке стал Египет, самая мощная и влиятельная арабская страна, чей лидер Гамаль Абдель Насер в 1956 г. договорился о военно-техническом сотрудничестве с Советским Союзом. Дипломатическая поддержка Египта со стороны советского руководства, а зачастую и угроза прямого военного вмешательства советских вооруженных сил не раз спасали арабских союзников от полного разгрома — как, например, во время Суэцкого кризиса 1956 г.
Крайне важным с точки зрения поддержания авторитета СССР в глазах арабских союзников было участие советских технических специалистов в создании промышленности и инфраструктуры в странах Ближнего Востока. Для их граждан СССР был великой страной, которая помогла остановить агрессию западных держав и Израиля, поставляла им современное вооружение, обучала армию, модернизировала экономику.
Вдохновлённая египетским примером, в августе 1957 г. подписала соглашение с Советским Союзом о военном и экономическом сотрудничестве и Сирийская Арабская Республика.
Как и сейчас, США и их региональные союзники, в первую очередь Турция, крайне болезненно отреагировали на такое изменение стратегического баланса на Ближнем Востоке и даже готовили интервенцию в Сирию. Отказаться от этих воинственных планов их заставила лишь высокая дипломатическая и военная активность Советского Союза, организовавшего в Закавказье и на Черном море масштабные маневры.
Прямое участие СССР в делах арабских государств было особенно важным, поскольку, несмотря на все поставки современных вооружений и постоянное присутствие советских военных специалистов, прямые столкновения с Израилем неизменно заканчивались для арабских армий болезненными и унизительными поражениями. Во время шестидневной войны 1967 г. израильские войска на юге оккупировали весь Синайский полуостров и вышли к Суэцкому каналу, на севере — угрожали столице Сирии Дамаску, а на востоке захватили весь Западный берег реки Иордан.
В этой ситуации советское участие помогло арабским странам избежать политического и стратегического краха. Только прямая угроза санкций и принятия мер военного характера со стороны СССР заставила Израиль прекратить боевые действия.
Еще раз Советскому Союзу пришлось спасать своих арабских союзников во время войны "судного дня" в 1973 г., когда наступление израильской армии на Синайском полуострове и Голанских высотах было остановлено только после приведения советских десантных дивизий в полную боевую готовность.
Несмотря на то, что СССР каждый раз помогал Сирии и Египту восстанавливать военный потенциал, советским военным часто приходилось самим негласно выполнять работу своих арабских коллег. Так было в Египте в 1969-1970 гг., когда наши зенитчики и летчики-истребители нанесли израильским ВВС неприемлемые потери. Так было и в 1982 г., когда после разгрома сирийских ПВО в ходе ливанского конфликта в Сирию были отправлены зенитные комплексы С-200 и несколько тысяч советских военнослужащих, которые обеспечивали функционирование новой системы.
При этом советско-арабские отношения никак нельзя назвать безоблачными. Вспомним хотя бы, как "отплатил" Советскому Союзу за помощь египетский президент Анвар Садат, который не только прекратил в 1977 г. советско-египетское сотрудничество, но и отправлял помощь афганским моджахедам.
После начала перестройки и последовавшего за ней краха СССР наши военные, экономические и дипломатические позиции на Ближнем Востоке постоянно ухудшались вместе со слабеющими внешнеполитическими "мускулами" России.
Полномасштабное возвращение утраченных позиций России на Ближнем Востоке началось лишь в 2013 году, когда усилиями российских дипломатов и лично президента РФ Владимира Путина удалось решить вопрос с сирийским химическим оружием. Проведенная при российском участии операция по вывозу химических арсеналов сирийской армии фактически лишила некоторых зарубежных "друзей Сирии" аргументов для организации полномасштабной иностранной интервенции в эту страну.
Ирина Великанова, генеральный директор Музея современной истории России, для МИА "Россия сегодня"

Высший комитет по переговорам оппозиции Сирии рассчитывает наладить хорошие отношения с Россией и хочет, чтобы Москва стала их партнером в борьбе с терроризмом. Официальный представитель ВКП Салем аль-Муслит заявил, что представители ВКП даже готовы приехать в Россию, если такое предложение поступит. Об этом, а также о том, чего ждет сирийская оппозиция от встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри, которая пройдет в Москве на следующей неделе, аль-Муслит рассказал в интервью РИА Новости.
— Что делегация ВКП ждет от предстоящей на следующей неделе в Москве встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри? Основной темой их дискуссий станет Сирия.
— После того позитивного шага, который предпринял господин Путин (начала вывода ВКС из Сирии — ред.), мы ожидаем увидеть позитивные решения. Мы ожидаем того, что действительно спасет сирийский народ от этого кошмара. Мы с нетерпением хотим увидеть больше действий от России по разрешению проблем в Сирии. Настало время уделить внимание политическому разрешению конфликта. Война никогда не решала проблем. Урон, который был нанесен сирийскому народу со стороны режима, должен быть остановлен. И единственная страна, которая может оказать давление на режим, это Россия.
— А какие именно шаги должна предпринять Россия?
— Мы хотим от России того, что она делала и до этого. А именно — поддерживала сирийский народ, а не режим. Поскольку режим наносит ущерб отношениям между сирийцами и россиянами. Мы не хотим, чтобы это продолжалось. Мы хотим хороших отношений с Россией. Мы хотим заново установить хорошие отношения с российским правительством, как только вместо поддержки правительства оно перейдет к поддержке сирийского народа.
— Будет ли готов ВКП координироваться с Россией или стать ее партнером в борьбе с терроризмом, в том числе в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство"?
— Наша цель в Сирии — установление переходного периода. Терроризм был привнесен в страну Асадом. В ту минуту, когда сирийцы избавятся от Асада, терроризм в Сирии закончится.
Наша Свободная сирийская армия — первая в борьбе с терроризмом. Мы также хотим, чтобы Россия была нашим партнером в борьбе с терроризмом, чтобы мирные жители не были их целью и Россия перестала поддерживать Асада.
— Вы сказали, что ВКП готов установить диалог с Россией. Означает ли это, что вы готовы приехать в Россию, если такое приглашение поступит?
— Если Россия прекратит поддержку Асада и мы получим приглашение, то мы приедем. И мы приветствуем любое приглашение, если они подтвердят, что они поддерживают сирийский народ, а не Асада. В конечном итоге мы хотим хороших отношений с российским правительством и российским народом. Для нас это важно. Мы готовы это делать, если это поможет нашим людям достичь решения и обрести свободу.
— Вы рассматриваете возможность начала непрямого диалога с Россией? Возможно, через других участников, третьи страны?
— Россия для нас не является сирийским режимом. С сирийским режимом мы начали непрямые переговоры. Но с Россией у нас нет нужды для непрямых переговоров, есть необходимость в прямых переговорах, если они подтвердят, что поддерживают сирийский народ. В действительности у нас уже идут контакты с РФ. У нас было много встреч с российскими дипломатами. Но это изменилось, когда Россия начала поддерживать Асада и целью ее ударов стали мирные жители. Как только это остановится, у нас исчезнут проблемы и мы можем сесть за стол переговоров и установить хорошие отношения.
— Какие предложения вы передали спецпосланнику ООН по Сирии Стаффану де Мистуре?
— Вы узнаете об этом позже. Нам необходимо сохранить некоторые вопросы вдали от СМИ, поскольку это может иметь влияние на успех переговоров.
Сейчас упор идет на установление переходного периода в Сирии, не на гуманитарных вопросах, поскольку сейчас это ответственность ООН и друзей сирийского народа. Дела продвигаются по этим вопросам сейчас хорошо, но мы хотим, чтобы они делали больше. Мы обсуждаем это на встречах со спецпосланником, есть целевые группы, которые на этом сконцентрированы.

Сергей Марков: «Планы организации госпереворота в России практически утверждены»
Татьяна МЕДВЕДЕВА
ЕС и Америка объявили о продлении санкций, в Киеве устраивают провокации против наших дипломатов, в стране в год думских выборов прогнозируется активизация «пятой колонны». Какой должна быть Россия, чтобы противостоять внешним и внутренним угрозам, в каких истоках черпать силу, — читателям «Культуры» рассказывает председатель недавно созданного «Византийского клуба» известный политолог Сергей Марков.
культура: Как мы должны реагировать на продление антироссийских санкций?
Марков: Западные санкции разноплановы и весьма ощутимы для нашей страны, причем они включают даже травлю спортсменов. Все это часть одной большой антироссийской кампании. Мы должны на каждое из таких проявлений находить адекватный ответ — вводить свои контрсанкции. Например, ограничить ввоз определенных видов продукции, произведенной в Евросоюзе. И делать это решительно — с перспективой ввести запрет на всю бытовую технику, на все автомобили. Действия должны быть продуманными. Не нужно вводить контрсанкции на те товары, которые трудно заместить. А если замена есть, мы должны это смелее делать. И двигаться в сторону расширения таких мер. Это покажет Евросоюзу, что путь продления санкций против нас не имеет перспектив, он будет означать ухудшение положения дел для самого Евросоюза.
культура: Запад понял, что военной силой нас не возьмешь. В год думских выборов они будут пытаться раскачивать внутреннюю ситуацию. Не случайно же в Литве прошел слет «болотных оппозиционеров». Что думаете?
Марков: Я думаю, что уже практически утверждены планы организации госпереворота по образцу киевского майдана и формирования российской хунты по типу киевской. И даже персональный состав этой хунты утвержден. Туда предполагается включить Навального, Ходорковского, Касьянова, а также двух-трех человек из нынешнего правительства, которые первыми предадут. Нужно эту опасность осознавать и противостоять ей. В том числе — называя вещи своими именами.
культура: 18 марта отмечается вторая годовщина присоединения Крыма. В чем значение этого события?
Марков: Российское общество консолидировалось после Крыма. Мы говорим: «Крым наш» — не с той точки зрения, что мы его «захватили». А с той, что мы ответственны за наших людей, за крымчан, которым угрожали массовые репрессии со стороны террористической и русофобской хунты, захватившей власть в Киеве. Мы их защитили от того кошмара, который продолжается на Украине.
культура: Совершаются провокации в отношении российского посольства в Киеве. Нас словно хотят втянуть в войну...
Марков: Киев стремится сорвать Минские соглашения и спровоцировать войну между Россией и Западом — уже на другом уровне. И они будут продолжать это делать — раскачивать ситуацию. Российские дипломаты сегодня, по сути, являются заложниками киевской хунты — группы людей, которая силой захватила власть и силой ее удерживает. Она незаконна, поскольку сформирована на основании сфальсифицированных выборов — и президентских, и парламентских. Эта власть базируется на терроре и пропаганде, на подавлении свободы слова. Мы не должны терпеть ситуации, при которой наши дипломаты стали заложниками. Чтобы, не дай Бог, их постигла судьба Александра Грибоедова? Или американского посла в Ливии? Мы должны немедленно потребовать от руководства США и Евросоюза, чьими марионетками являются киевские правители, гарантий жизни и безопасности российских дипломатов в Киеве. В противном случае, российский дипломатический корпус должен быть отозван.
культура: Неужели существует такая серьезная опасность?
Марков: А вы посмотрите, как раскручивается дело Савченко. Надо исходить из самых плохих прогнозов. Киевские боевики вполне могут повторить ливийский сценарий или иранский времен Грибоедова.
культура: Бывшие наши советские республики — Украина, прибалтийские государства — просто больны русофобией. Как их вылечить, как сделать так, чтобы они не видели в нас врагов?
Марков: Это очень сложный и емкий вопрос. Чтобы русофобии не стало в постсоветских государствах, она не должна быть государственной идеологией западных элит. Для них это часть большого проекта, суть которого — геополитический разгром России, ликвидация ее как мощной и независимой державы. По этому плану русский народ должен быть разделен на украинцев, белорусов, уральцев, кубанцев, сибиряков, казаков. Нашу страну хотят лишить ядерного потенциала, нефтегазовых ресурсов и независимого правительства — оно должно стать марионеточным. И русофобия является идеологическим фундаментом этого политического проекта. Чтобы не дать ему осуществиться, мы должны наращивать свой военный и экономический потенциал. Только мы сами можем себя защитить.
культура: Выработкой идеологии занимаются на таких интеллектуальных площадках, как Изборский и Зиновьевский клубы. А недавно был создан еще и «Византийский клуб», председателем которого Вы являетесь. В чем его особенность?
Марков: Он создан людьми, которые любят Византию, интересуются ее историей и считают очень важным знать и изучать ее. Византия — это великая восточнохристианская империя, которая существовала более тысячи лет и в Средние века являлась продолжением великой Римской империи. Это был один из ключевых этапов в развитии европейской цивилизации. Но изучение Византии в нынешней системе образования недостаточно полное. Оно должно быть более глубоким и обширным — и в средней школе, и в университетах. Причем не только в России, но и в других странах.
Именно от Византийской империи Россия получила православие и свой цивилизационный код, многие социокультурные паттерны в отношении государства, власти и личности. Все это присутствует в нас, современных людях. И до сих пор в этом смысле мы связаны с Византией. Нам нужно лучше осознать свой код. Определить свое место в европейской и мировой цивилизации. А это невозможно без глубокого изучения связей с Византийской империей.
культура: Византия оказала влияние не только на Россию, но и на страны Восточной Европы. Эту общность тоже нужно осмыслить?
Марков: Да, существует самобытная восточнохристианская ветвь европейской цивилизации. И мы должны ее осознать как таковую. Единство большой Европы должно предполагать не унификацию в соответствии с немецкими или британскими правилами. А сохранение уникальных особенностей православных стран, их отличие от католических и протестантских европейских государств, во многом уже, к сожалению, постхристианских. Изучение Византии, оживление византийских традиций — это работа по воссозданию единства большой европейской цивилизации. Убежден, что идея уважения и любви к Византии может объединить не только русских, но и другие народы. Существует поствизантийское содружество наций, которое должно стать более зримым и явственным.
культура: Важно помнить, что, когда Русь принимала Крещение, Византия была самым могущественным и процветающим государством той эпохи...
Марков: Да, для меня изучение тех связей очень важно с точки зрения преодоления «родовой травмы» нашей элиты, которая на протяжении столетий рассматривает Россию как неполноценную Европу, как «недоЕвропу». Почему-то у нас так повелось: мы вечно догоняем «настоящих европейцев», стремимся быть на них похожими. Это глубоко ошибочная позиция. Она возникла именно из-за недооценки Византии и ее роли для России. На самом деле, мы видим, что Западная и Восточная Европа развиваются неравномерно. То на первый план вырывается Восточная, то Западная. На протяжении тысячи лет существования византийской цивилизации преобладало лидерство Восточной Европы. Это продолжалось с середины IV до начала XIII века, когда Византия была захвачена и разграблена западноевропейскими рыцарями.
культура: Россия должна развиваться своим путем? И при этом всегда в каком-то смысле противостоять Западу, одновременно осознавая родство с ним...
Марков: Да, мы две ветви христианского мира. Но еще раз подчеркну: нам не надо воспринимать себя как «недоевропейцев». Из-за этого комплекса некоторые представители элиты призывают к полному подчинению России Западной Европе. И даже растворению в ее идентичности. Отсюда многие наши современные проблемы. Чтобы понять, кто мы, надо хорошо знать историю Византии. А здесь, как уже говорилось, огромные пробелы. В России не изучают великих византийских императоров, которые вершили судьбы европейской ойкумены. Зато подробно изучают королей и правителей мелких западных государств.

Российско-американские отношения: границы возможного
При всех различиях в оценках современного состояния отношений между Москвой и Вашингтоном вряд ли кто-то возьмется отрицать, что сегодня они переживают один из самых глубоких кризисов в современной истории. Конечно, российско-американское взаимодействие и раньше не было безоблачным. Однако нынешний кризис носит более фундаментальный и всеобъемлющий характер, чем периодический спад в отношениях, который мы видели немало за последние десятилетия. По всей видимости, он станет и самым длительным: очевидных путей выхода из нынешней ситуации в обозримом будущем не просматривается.
Вторая холодная война?
В последнее время стало модным говорить о начале нового издания холодной войны в мировой политике и проводить параллели между нынешним противостоянием Москвы и Вашингтона и советско-американской конфронтацией второй половины прошлого века. Такие параллели выглядят большой натяжкой: если в годы холодной войны отношения между Кремлем и Белым домом составляли главную ось мировой политики, то в ХХI веке они являются хотя и важным, но далеко не определяющим элементом глобальной международной системы. Мир перестал быть биполярным, и вернуть его к жесткой биполярности холодной войны невозможно.
Кроме того, в российско-американском противостоянии сегодня отсутствует тот идеологический фундамент (советский коммунизм против западной демократии), который предопределял тотальный характер противостояния эпохи холодной войны. Если в современном мире и существует антагонистический конфликт цивилизаций, то уж, конечно, не между США и Россией, а скорее между западным либерализмом и исламским фундаментализмом.
Наконец, Россия по своему потенциалу хоть и остается великой державой, но все же не может как Советский Союз на равных конкурировать с США по всем направлениям, особенно в сфере экономики и современных технологий. Ближайшим аналогом Советского Союза, с точки зрения экономического противостояния, для США становится Китай, но с той немаловажной поправкой, что между этими странами существует глубокая экономическая взаимозависимость, которой никогда не было между СССР и Америкой и которая неизбежно сдерживает американо-китайское соперничество в целом.
Означает ли сказанное выше, что нынешний кризис в российско-американских отношениях сегодня менее опасен, чем обстановка в годы холодной войны? Скорее наоборот. За десятилетия холодной войны Москва и Вашингтон смогли выработать и зафиксировать определенные «правила игры», позволявшие снижать риски неконтролируемой конфронтации. Совместными усилиями была создана плотная инфраструктура каналов коммуникаций, консультационных механизмов, двусторонних и многосторонних соглашений, призванных повысить предсказуемость и управляемость отношений. Сформировавшаяся в годы холодной войны уникальная архитектура двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном была в целом стабильной, что и позволяло ей оставаться практически в неизменном виде на протяжении достаточно длительного времени.
Нынешнее положение дел в отношениях между Россией и США стабильным никак не назовешь. Практически все каналы коммуникаций между странами заблокированы, договорно-правовая база отношений разрушается буквально на глазах, об общих «правилах игры» в мировой политике и говорить не приходится. Объективно растут риски возникновения конфликтов в результате случайностей, технических неполадок или неверно истолкованных действий противоположной стороны.
Неблагоприятно складывается общий международный фон: резко возросла нестабильность международной системы, терроризм приобретает глобальный характер, множатся региональные конфликты, растет угроза распространения оружия массового уничтожения (ОМУ) и т.д.
Дополнительным осложняющим фактором является президентская избирательная кампания в США, которая резко сужает горизонты внешнеполитического планирования для Белого дома и увеличивает факторы неопределенности для американских партнеров на мировой арене.
События самого последнего времени зародили надежду на то, что в Москве и Вашингтоне начинают осознавать масштабы нарастающих рисков и угроз международной безопасности: ведутся консультации по Украине, активизировались усилия по политическому урегулированию в Сирии, продолжается взаимодействие по ядерному досье Ирана, стороны придерживаются близких позиций по ядерной проблеме Корейского полуострова. Все это так, но говорить о стабилизации отношений более чем преждевременно.
Существующие риски перерастания конфронтации политической в военную по-прежнему нарастают, о новых «правилах игры» в двусторонних отношениях договориться пока не удается. Ненормальное состояние и негативная динамика отношений между Москвой и Вашингтоном становятся серьезной проблемой не только для наших двух стран, но и для международной системы в целом.
Возможна ли новая «перезагрузка»?
Отталкиваясь от известного афоризма Отто фон Бисмарка о том, что «политика есть искусство возможного», попробуем определить, что возможно и что невозможно в российско-американских отношениях на обозримую перспективу.
Судя по всему, сторонам будет весьма сложно добиться главного: восстановить доверие в отношениях друг с другом. Никакие встречи на высшем и высоком уровнях, никакие «вторые треки», никакие договоренности по частным — пусть и важным — вопросам не решают проблемы глубокой взаимной подозрительности, не снимают с повестки дня многочисленных взаимных претензий и обид. Доверие между Москвой и Вашингтоном подорвано основательно, и для его восстановления потребуется много времени, усилий, а главное — политической воли с обеих сторон.
У России и США отсутствует и вряд ли скоро возникнет единое видение основополагающих тенденций мирового развития, движущих сил этого развития, будущего мирового порядка, судьбы ведущих международных организаций, реформ международного права и т.д.
Между Кремлем и Белым домом — глубокое расхождение в понимании того, что является «законным», «справедливым», «этичным», «ответственным» в мировой политике. И в этом смысле можно констатировать «разрыв в ценностях» между российской и американской политическими элитами, что, в свою очередь, необязательно означает столь же глубокого разрыва в базовых ценностях между российским и американским обществами.
В силу отсутствия доверия и общего видения развития международных отношений в обозримой перспективе практически нереальным представляется сценарий повторной «перезагрузки» российско-американских отношений — независимо от того, кто придет в Белый дом в январе 2017 года и кто будет находиться в Кремле после выборов 2018 года.
«Перезагрузка» стала возможной при уникальном стечении исторических обстоятельств. И даже при этом она очень быстро исчерпала себя, не приведя к необратимому прорыву в отношениях, к переводу их в новое качество. Тот же Договор СНВ-3 при всем своем позитивном значении не выходит за рамки старой стратегической культуры периода холодной войны.
Что же тогда можно отнести к категории «возможного» в российско-американских отношениях?
Для ответа на этот вопрос стоит обратиться к тем сферам международных отношений, где роль России и США в обозримой перспективе будет оставаться значительной и где без их активного взаимодействия каждая из сторон будет сталкиваться с нарастающими проблемами.
Прежде всего, несмотря на различные представления о грядущем миропорядке, Россия и США не заинтересованы в обвальном разрушении миропорядка нынешнего. Обе державы остаются по преимуществу консервативными игроками, в целом ориентированными на удержание глобального статус-кво. В новом мировом порядке, какую бы форму он ни принял, роль Москвы и Вашингтона будет менее значимой, чем сейчас.
Очевидно также и то, что Россию и США объединяет и будет объединять общее желание избежать ядерного конфликта. При всем значении ядерных арсеналов третьих стран сегодня, как и в период холодной войны, существуют лишь две ядерные сверхдержавы. И такое положение сохранится на долгое время.
Российские и американские интересы совпадают и в том, что касается противодействия распространению ОМУ и борьбы с международным терроризмом. Не следует забывать, что усилия по разрешению ядерной проблемы Ирана и по ликвидации химического оружия в Сирии продолжались даже в самые острые моменты украинского кризиса. Конечно, отсутствие доверия будет ограничивать масштабы и глубину сотрудничества, но это сотрудничество неизбежно будет развиваться. Там и тогда, где и когда будут затрагиваться фундаментальные интересы национальной безопасности сторон.
С чего начинать?
Существует мнение, что прогресс в российско-американских отношениях возможен только после прихода к власти в США новой администрации, то есть не раньше января 2017 года. Фактически же с учетом времени, необходимого для формирования новой президентской команды, любые сколько-нибудь важные инициативы следует отложить до лета, а то и до осени следующего года.
Насколько оправдан такой выжидательный подход? Прежде всего не следует преувеличивать значение партийных разногласий во внешней политике США. Новая американская администрация может отличаться от своих предшественников по стилю, по тактическим решениям, но не по своему пониманию основополагающих национальных интересов. Перевернуть страницу и начать новую главу с «чистого листа» в отношениях между Москвой и Вашингтоном в любом случае не получится. Напротив, чем более существенный позитивный задел унаследует преемник действующего президента США, тем легче ему будет двигаться вперед.
Кроме того, стремительно меняющаяся международная обстановка делает любую паузу в российско-американском диалоге непозволительной роскошью. Исторический опыт показывает, что такие паузы лишь усугубляют кризисные ситуации в различных регионах мира, ведут к повышению рисков прямого военного столкновения России и США, к усилению позиций сторонников конфронтации в обеих странах.
Чтобы избежать худших сценариев в российско-американских отношениях, надо не выжидать «благоприятного» момента, который может и не представиться, а, не откладывая, начинать работать по конкретным направлениям.
Во-первых, необходимо восстанавливать разрушенные каналы российско-американского диалога. На разных уровнях и с разными участниками — от военных до парламентариев, от чиновников до представителей спецслужб. Диалог никогда не считался уступкой одной стороны другой и тем более одобрением политики другой стороны. Но отсутствие диалога неизбежно порождает недоверие, страхи, создает дополнительные риски.
Во-вторых, крайне важно приглушить враждебную риторику — прежде всего на официальном уровне. Ведь такая риторика влияет на общественное мнение, апеллирует к застарелым комплексам и темным инстинктам национального самосознания, приобретая собственную инерцию, которую будет все труднее остановить.
В-третьих, надо попытаться в максимальной степени оградить сохраняющиеся позитивные аспекты российско-американских отношений от негативного воздействия нынешнего кризиса. Это касается, например, двустороннего сотрудничества по проблемам Арктики, ряда приоритетных для обеих сторон научных проектов, университетских партнерств или взаимодействия по линии муниципалитетов. Конечно, полностью изолировать все эти аспекты от общего негативного политического фона вряд ли получится, но стремиться к этому нужно.
В-четвертых, высокий градус российско-американской конфронтации может быть понижен за счет участия обеих стран в работе многосторонних механизмов: ближневосточный «квартет», G-20, АТЭС, международные экономические и финансовые институты. Не случайно именно в многостороннем формате был достигнут прогресс в решении иранской ядерной проблемы, в многостороннем формате обсуждаются вопросы сирийского урегулирования, идут переговоры по ядерной проблеме КНДР и т.д. Такой формат позволяет сторонам демонстрировать большую гибкость, избегая при этом видимости односторонних уступок.
В-пятых, весьма актуальным, хотя и нелегким делом должно стать возрождение и развитие диалога по линии российского и американского гражданских обществ.
В-шестых, все более актуальной становится задача укрепления и развития русистики в США и американистики в России. Профессиональные сообщества в двух странах уже давно испытывают значительные финансовые трудности, а сегодня к ним добавляется еще и деформирующий политический контекст. Грань между экспертом и пропагандистом, между академической наукой и околонаучной публицистикой становится практически неразличимой. Снижение качества независимой экспертизы или малая востребованность такой экспертизы объективно уменьшают шансы на перевод российско-американского диалога в конструктивное русло.
Выход из текущего кризиса в российско-американских отношениях — перспектива не самого ближайшего времени. Ближайшей же задачей должно стать изменение динамики этого кризиса с негативной на позитивную. Это создаст необходимые предпосылки для постановки более амбициозных задач.
Игорь Иванов
Президент РСМД, министр иностранных дел России (1998-2004 гг.), профессор МГИМО МИД России, член-корреспондент РАН
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

























