Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Obama's Syria Speech: Read the Transcript
'Sometimes resolutions and statements of condemnation are simply not enough," the president said Tuesday night.
My fellow Americans, tonight I want to talk to you about Syria, why it matters and where we go from here.
Over the past two years, what began as a series of peaceful protests against the oppressive regime of Bashar al-Assad has turned into a brutal civil war. Over 100,000 people have been killed. Millions have fled the country. In that time, America’s worked with allies to provide humanitarian support, to help the moderate opposition, and to shape a political settlement, but I have resisted calls for military action because we cannot resolve someone else’s civil war through force, particularly after a decade of war in Iraq and Afghanistan.
The situation profoundly changed, though, on August 21st, when Assad’s government gassed to death over 1,000 people, including hundreds of children. The images from this massacre are sickening: men, women, children lying in rows, killed by poison gas, others foaming at the mouth, gasping for breath, a father clutching his dead children, imploring them to get up and walk.
On that terrible night, the world saw in gruesome detail the terrible nature of chemical weapons and why the overwhelming majority of humanity has declared them off-limits, a crime against humanity and a violation of the laws of war.
This was not always the case. In World War I, American G.I.s were among the many thousands killed by deadly gas in the trenches of Europe. In World War II, the Nazis used gas to inflict the horror of the Holocaust. Because these weapons can kill on a mass scale, with no distinction between soldier and infant, the civilized world has spent a century working to ban them. And in 1997, the United States Senate overwhelmingly approved an international agreement prohibiting the use of chemical weapons, now joined by 189 governments that represent 98 percent of humanity.
On August 21st, these basic rules were violated, along with our sense of common humanity. No one disputes that chemical weapons were used in Syria. The world saw thousands of videos, cell phone pictures, and social media accounts from the attack, and humanitarian organizations told stories of hospitals packed with people who had symptoms of poison gas.
Moreover, we know the Assad regime was responsible. In the days leading up to August 21st, we know that Assad’s chemical weapons personnel prepared for an attack near an area where they mix sarin gas. They distributed gas masks to their troops. Then they fired rockets from a regime-controlled area into 11 neighborhoods that the regime has been trying to wipe clear of opposition forces. Shortly after those rockets landed, the gas spread, and hospitals filled with the dying and the wounded.
We know senior figures in Assad’s military machine reviewed the results of the attack and the regime increased their shelling of the same neighborhoods in the days that followed. We’ve also studied samples of blood and hair from people at the site that tested positive for sarin.
When dictators commit atrocities, they depend upon the world to look the other way until those horrifying pictures fade from memory, but these things happened. The facts cannot be denied.
The question now is what the United States of America and the international community is prepared to do about it, because what happened to those people -- to those children -- is not only a violation of international law, it’s also a danger to our security. Let me explain why.
If we fail to act, the Assad regime will see no reason to stop using chemical weapons. As the ban against these weapons erodes, other tyrants will have no reason to think twice about acquiring poison gas and using them. Over time, our troops would again face the prospect of chemical warfare on the battlefield, and it could be easier for terrorist organizations to obtain these weapons and to use them to attack civilians.
If fighting spills beyond Syria’s borders, these weapons could threaten allies like Turkey, Jordan and Israel. And a failure to stand against the use of chemical weapons would weaken prohibitions against other weapons of mass destruction and embolden Assad’s ally, Iran, which must decide whether to ignore international law by building a nuclear weapon or to take a more peaceful path.
This is not a world we should accept. This is what’s at stake. And that is why, after careful deliberation, I determined that it is in the national security interests of the United States to respond to the Assad regime’s use of chemical weapons through a targeted military strike. The purpose of this strike would be to deter Assad from using chemical weapons, to degrade his regime’s ability to use them, and to make clear to the world that we will not tolerate their use.
That’s my judgment as commander-in-chief, but I’m also the president of the world’s oldest constitutional democracy. So even though I possess the authority to order military strikes, I believed it was right in the absence of a direct or imminent threat to our security to take this debate to Congress. I believe our democracy is stronger when the president acts with the support of Congress, and I believe that America acts more effectively abroad when we stand together. This is especially true after a decade that put more and more war-making power in the hands of the president and more and more burdens on the shoulders of our troops, while sidelining the people’s representatives from the critical decisions about when we use force.
Now, I know that after the terrible toll of Iraq and Afghanistan, the idea of any military action -- no matter how limited -- is not going to be popular. After all, I’ve spent four-and-a-half years working to end wars, not to start them. Our troops are out of Iraq. Our troops are coming home from Afghanistan. And I know Americans want all of us in Washington -- especially me -- to concentrate on the task of building our nation here at home, putting people back to work, educating our kids, growing our middle class. It’s no wonder then that you’re asking hard questions.
So let me answer some of the most important questions that I’ve heard from members of Congress and that I’ve read in letters that you’ve sent to me. First, many of you have asked, won’t this put us on a slippery slope to another war? One man wrote to me that we are still recovering from our involvement in Iraq. A veteran put it more bluntly: This nation is sick and tired of war.
My answer is simple. I will not put American boots on the ground in Syria. I will not pursue an open-ended action like Iraq or Afghanistan. I will not pursue a prolonged air campaign like Libya or Kosovo. This would be a targeted strike to achieve a clear objective, deterring the use of chemical weapons and degrading Assad’s capabilities.
Others have asked whether it’s worth acting if we don’t take out Assad. Now, some members of Congress have said there’s no point in simply doing a pinprick strike in Syria.
Let me make something clear: The United States military doesn’t do pinpricks. Even a limited strike will send a message to Assad that no other nation can deliver.
I don’t think we should remove another dictator with force. We learned from Iraq that doing so makes us responsible for all that comes next. But a targeted strike can makes Assad -- or any other dictator -- think twice before using chemical weapons.
Other questions involve the dangers of retaliation. We don’t dismiss any threats, but the Assad regime does not have the ability to seriously threaten our military. Any other -- any other retaliation they might seek is in line with threats that we face every day. Neither Assad nor his allies have any interest in escalation that would lead to his demise, and our ally, Israel, can defend itself with overwhelming force, as well as the unshakable support of the United States of America.
Many of you have asked a broader question: Why should we get involved at all in a place that’s so complicated and where, as one person wrote to me, those who come after Assad may be enemies of human rights?
It’s true that some of Assad’s opponents are extremists. But Al Qaida will only draw strength in a more chaotic Syria if people there see the world doing nothing to prevent innocent civilians from being gassed to death.
The majority of the Syrian people, and the Syrian opposition we work with, just want to live in peace, with dignity and freedom. And the day after any military action, we would redouble our efforts to achieve a political solution that strengthens those who reject the forces of tyranny and extremism.
Finally, many of you have asked, why not leave this to other countries or seek solutions short of force? As several people wrote to me, we should not be the world’s policemen.
I agree. And I have a deeply held preference for peaceful solutions. Over the last two years, my administration has tried diplomacy and sanctions, warnings and negotiations, but chemical weapons were still used by the Assad regime.
However, over the last few days, we’ve seen some encouraging signs, in part because of the credible threat of U.S. military action, as well as constructive talks that I had with President Putin. The Russian government has indicated a willingness to join with the international community in pushing Assad to give up his chemical weapons. The Assad regime has now admitting that it has these weapons and even said they’d join the Chemical Weapons Convention, which prohibits their use.
It’s too early to tell whether this offer will succeed, and any agreement must verify that the Assad regime keeps its commitments, but this initiative has the potential to remove the threat of chemical weapons without the use of force, particularly because Russia is one of Assad’s strongest allies.
I have therefore asked the leaders of Congress to postpone a vote to authorize the use of force while we pursue this diplomatic path. I’m sending Secretary of State John Kerry to meet his Russian counterpart on Thursday, and I will continue my own discussions with President Putin.
I’ve spoken to the leaders of two of our closest allies -- France and the United Kingdom -- and we will work together in consultation with Russia and China to put forward a resolution at the U.N. Security Council requiring Assad to give up his chemical weapons and to ultimately destroy them under international control.
We’ll also give U.N. inspectors the opportunity to report their findings about what happened on August 21st, and we will continue to rally support from allies from Europe to the Americas, from Asia to the Middle East, who agree on the need for action.
Meanwhile, I’ve ordered our military to maintain their current posture to keep the pressure on Assad and to be in a position to respond if diplomacy fails. And tonight I give thanks, again, to our military and their families for their incredible strength and sacrifices.
My fellow Americans, for nearly seven decades, the United States has been the anchor of global security. This has meant doing more than forging international agreements; it has meant enforcing them. The burdens of leadership are often heavy, but the world’s a better place because we have borne them.
And so to my friends on the right, I ask you to reconcile your commitment to America’s military might with the failure to act when a cause is so plainly just.
To my friends on the left, I ask you to reconcile your belief in freedom and dignity for all people with those images of children writhing in pain and going still on a cold hospital floor, for sometimes resolutions and statements of condemnation are simply not enough.
Indeed, I’d ask every member of Congress and those of you watching at home tonight to view those videos of the attack, and then ask, what kind of world will we live in if the United States of America sees a dictator brazenly violate international law with poison gas and we choose to look the other way?
Franklin Roosevelt once said, “Our national determination to keep free of foreign wars and foreign entanglements cannot prevent us from feeling deep concern when ideas and principles that we have cherished are challenged.”
Our ideals and principles, as well as our national security, are at stake in Syria, along with our leadership of a world where we seek to ensure that the worst weapons will never be used.
America is not the world’s policeman. Terrible things happen across the globe, and it is beyond our means to right every wrong, but when with modest effort and risk we can stop children from being gassed to death and thereby make our own children safer over the long run, I believe we should act.
That’s what makes America different. That’s what makes us exceptional. With humility, but with resolve, let us never lose sight of that essential truth.
Thank you, God bless you, and God bless the United States of America.

Заявление главы Пентагона Чака Хейгела относительно поставок в Сирию химоружия из РФ является откровенной ложью и даже с точки зрения информационной войны выглядит абсолютно непрофессионально, сообщил РИА Новости в среду член общественного совета при Минобороны РФ, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Министр обороны США на слушаниях в конгрессе в среду сказал, что Россия и другие страны снабжают режим президента Сирии Башара Асада химическим оружием.
"Заявление шефа Пентагона является откровенной ложью из разряда той самой пресловутой пробирки со спорами сибирской язвы из арсенала Саддама Хусейна, которой тряс в Совете безопасности тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл", - сказал Коротченко. По его словам, подобные заявления министра обороны США его дискредитируют как профессионала.
"США располагают сильными и эффективными спецслужбами, обратившись к которым, Хейгел мог получить исчерпывающую информацию о том, что РФ ни сейчас, ни в прошлом не поставляла оружие массового поражения кому бы то ни было и даже своим ближайшим союзникам", - сказал Коротченко.
Более того, отметил он, РФ завершает процесс уничтожения химоружия, которое ей досталось от СССР. Такой же процесс происходит и в США.
"Заявление главы Пентагона находится за гранью здравого смысла и вызывает сожаление, что он прибегнул к тем нецивилизованным методам, которые в конечном счете дискредитируют сами США", - добавил он.

Грядущий бум в Арктике
По мере таяния льдов она становится все более доступной и оживленной
Резюме: Благодаря качественному государственному управлению и благоприятному географическому положению такие города, как Анкоридж и Рейкъявик, в недалеком будущем могут стать крупнейшими перевалочными пунктами и финансовыми столицами – эквивалентом Сингапура и Дубая в северных широтах.
Никто не ожидал, что льды начнут таять так быстро. Хотя ученым-климатологам давно известно, что глобальное потепление приводит к сокращению площади ледового покрытия в Северном Ледовитом океане, немногие из них предвидели столь стремительное его сокращение. В 2007 г. Межправительственная комиссия по изменению климата сообщила, что, по ее оценкам, начиная с 2070 г. в летний период воды Арктики будут полностью освобождаться ото льда. Однако последние наблюдения со спутников приблизили дату, и таяние всего льда ожидается уже летом 2035 года. Еще более изощренные программы моделирования вынудили ученых вновь изменить прогноз и объявить, что летнее солнце растопит Арктику уже в 2020 году.
В конце прошлого лета площадь Северного Ледовитого океана, затянутая льдами, сократилась до наименьшего размера с 1979 г., когда начались наблюдения. По сравнению с предыдущим летом ледяное покрытие уменьшилось на 350 тыс. квадратных миль, что равноценно территории Венесуэлы. Всего за три десятилетия площадь льдов Северного Ледовитого океана уменьшилась вдвое, а их общая масса сократилась на три четверти.
Теплеет не только океан. В 2012 г. в Гренландии было зафиксировано самое теплое лето за 170 лет, и льда там растаяло в четыре с лишним раза больше, чем в среднем за год на протяжении трех предыдущих десятилетий. В том же году в восьми из десяти точек северной Аляски, где установлены станции слежения за вечной мерзлотой, зарегистрированы рекордные температуры, а в двух других местах повторен температурный рекорд. На хоккейных площадках в Северной Канаде даже начали устанавливать холодильные системы, чтобы не допустить таяния льда.
Неудивительно, что эти изменения ввергают хрупкие экосистемы региона в хаос. В то время как десятки тысяч моржей, лишенных дрейфующих льдин, выходят на берег северо-западной Аляски, субарктическая флора и фауна мигрируют на север. Промерзшая тундра становится болотистой местностью, какой она была 50 млн лет назад, а ураганы, зарождающиеся над вновь образовавшимися водами, размывают береговую линию, лишая тысячи семей коренных жителей домов, которые сползают в морскую пучину.
Какие бы рецепты борьбы с глобальным потеплением ни предлагались, факт остается фактом: оно действительно имеет место. Однако не все так плохо. То, что когда-то было непроходимыми арктическими льдами, окруженными пустынной территорией вечной мерзлоты, постепенно превращается в эпицентр промышленности и торговли наподобие Средиземного моря. Тающие льды и потепление прибрежных районов открывают доступ к богатым залежам полезных ископаемых, включая почти четверть всех имеющихся в мире запасов нефти и газа и гигантские месторождения ценных металлов и минералов. Летние морские пути через Арктику позволяют сократить на тысячи километров расстояния между Тихим и Атлантическим океанами. Региону предстоит стать главной трассой для мирового торгового флота, подобно тому как он уже превратился в один из магистральных воздушных коридоров для гражданской авиации.
Одна из причин, почему Арктика выглядит столь многообещающе, – относительно крепкие в финансовом отношении страны, расположенные на берегах северных морей. Кроме того, за исключением России, в этих государствах действуют предсказуемые законы, облегчающие предпринимательскую деятельность, и исповедуются демократические ценности, способствующие мирным отношениям между соседними государствами. По мере открытия данного региона для мировой экономики страны Арктики прилагают удивительно согласованные усилия для налаживания сотрудничества, избегая противостояния, мирно решая старые пограничные споры и признавая первенство международного права в выстраивании межгосударственных отношений. Благодаря качественному государственному управлению и благоприятному географическому положению такие города, как Анкоридж и Рейкъявик, в недалеком будущем могут стать крупнейшими перевалочными пунктами и финансовыми столицами – эквивалентом Сингапура и Дубая в северных широтах.
Хотя потепление в Арктике – свершившийся факт, это, конечно, не должно стать предлогом для бездумного и безответственного расхищения тамошних богатств. Арктические ресурсы, если их разрабатывать с умом, принесут колоссальную выгоду местным жителям и экономике арктических государств. Вот почему им следует продолжать сотрудничество, вместе разрабатывая планы устойчивого развития. По этой же причине Соединенные Штаты должны объявить данный регион приоритетом своей экономической и внешней политики, так же как это сделано в отношении Китая. Нравится это кому-то или нет, но Арктика открыта для бизнеса, и у правительств разных стран, а также у инвесторов имеются веские причины подключиться к процессу в самом начале.
Много шума из ничего
Всего пять лет тому назад борьба за Арктику могла привести к совершенно иным последствиям. В 2007 г. Россия установила свой флаг на морском дне в районе Северного полюса, и в последующие годы другие государства использовали все средства для достижения своих целей, наращивая военно-морские патрули и выдвигая далекоидущие претензии на суверенитет над разными северными территориями. Многие обозреватели, включая и меня, предсказывали, что погоня за полезными ископаемыми неизбежно приведет к конфликту, если не появится всеобъемлющий свод правил. «Арктические державы быстро приближаются к дипломатическому тупику, – писал я на страницах этого журнала в 2008 г., – и это может в конечном итоге привести их к балансированию на грани войны».
Но по пути к анархии в Арктике произошло нечто примечательное. Вместо ужесточения позиций арктические страны, напуганные возможным ростом напряженности, постарались мирно уладить разногласия. Общая заинтересованность в получении прибыли подавила инстинкт борьбы за территорию.
Посрамив пессимистов, страны Арктики прекратили бряцание оружием и наладили впечатляющее сотрудничество в разных областях. Они использовали Конвенцию ООН по морскому праву (1982) в качестве юридической базы для урегулирования пограничных споров на море и принятия стандартов безопасности в области торгового судоходства, даже несмотря на то что США так и не ратифицировали этот документ. И в 2008 г. пять стран, имеющих выход к Северному Ледовитому океану, – Канада, Дания, Норвегия, Россия и Соединенные Штаты – выпустили Илулиссатскую декларацию, в которой обязались урегулировать проблемы мирным путем, а также заявили о поддержке Конвенции ООН и Арктического совета – двух международных институтов, чрезвычайно важных для данного региона.
Арктические державы сдержали данное обещание. В 2010 г. Россия и Норвегия разрешили давние разногласия по поводу морской границы вблизи архипелага Шпицберген, а Канада и Дания в настоящее время изучают предложение о разделе необитаемого скалистого острова Ханс (Hans), принадлежность которого оспаривалась на протяжении нескольких десятилетий. В 2011 г. страны Арктики подписали Соглашение о поисково-спасательных работах под эгидой Арктического совета. В апреле нынешнего года началась работа над соглашением, регулирующим коммерческий промысел рыбы, а летом разработан окончательный вариант договоренностей по совместному реагированию на разливы нефти. Некоторые страны Арктики даже делятся друг с другом ледоколами для картографирования морского дна, поскольку это часть процесса по демаркации континентальных шельфов. Конечно, остаются нерешенные вопросы – например, Оттаве и Вашингтону предстоит договориться о статусе Северо-Западного прохода: следует ли считать его нейтральными водами или внутренними водами Канады и где именно пролегает граница в море Бофорта. Но самые болезненные разногласия улажены. Оставшиеся спорными участки и территории расположены далеко от берега, и их можно считать наименее привлекательными с экономической точки зрения частями Арктики.
Это сотрудничество не потребовало разработки нового и всеобъемлющего международного законодательства. Арктические государства ограничились двусторонними и многосторонними договоренностями, принятыми в рамках Арктического совета и Конвенции ООН по морскому праву. Добившись подписания временных, но устойчивых соглашений, арктические державы создали предпосылки для долговременного бума в Арктике.
Кладовая несметных богатств
Большинство картографических описаний не отражают огромных размеров Арктики. Аляска, которая на картах США обычно изображается рядом с побережьем Калифорнии в виде вынесенного прямоугольника суши, на самом деле в два с половиной раза больше, чем штат Техас, а ее береговая линия протяженнее, чем у всех расположенных южнее 48 штатов вместе взятых. Гренландия больше по размерам, чем вся Западная Европа. Площадь внутри Полярного круга составляет 8% поверхности Земли и 15% поверхности всей суши.
На этой территории сосредоточены огромные запасы нефти и газа – главная причина, по которой регион чрезвычайно перспективен в экономическом плане. Расположенные преимущественно в Западной Сибири и Прудо-Бей на Аляске, арктические месторождения обеспечивают 10,5% мировой добычи нефти и 25,5% мировой добычи газа. И вскоре эти цифры могут стремительно вырасти. Согласно начальным оценкам Геологической службы Соединенных Штатов, в Арктике может находиться 22% неоткрытых залежей нефти и газа. Эти богатства теперь стали гораздо доступнее и привлекательнее благодаря отступлению льда, удлинению летнего сезона бурения и новым технологиям разведки. Частные компании уже начали действовать. Несмотря на высокую себестоимость добычи и законодательные барьеры, Shell вложила 5 млрд долларов в разведку нефти в Чукотском море на Аляске, а шотландская компания Cairn Energy инвестировала миллиард в бурение разведочных скважин вблизи побережья Гренландии. «Газпром» и «Роснефть» планируют многомиллиардные инвестиции для разработки месторождений в российской части Арктики, где эти государственные компании работают в партнерстве с ConocoPhillips, ExxonMobil, Eni и Statoil с целью извлечения удаленных запасов. Бум, связанный с технологией гидроразрыва пластов, может в конечном итоге привести к снижению цен на нефть, но неизменным остается тот факт, что запасы в традиционных месторождениях Арктики исчисляются десятками миллиардов баррелей, что позволяет рассчитывать на рост предложения на мировом рынке. Более того, сланцевый бум добрался уже и до Крайнего Севера. На севере Аляски началась разведка нефти путем гидроразрыва, а весной этого года Shell и «Газпром» заключили важную сделку по разработке сланцевой нефти в российской части Арктики.
Имеются и другие полезные ископаемые. Более продолжительный летний период дает дополнительное время для геологической разведки, а отступающий лед позволяет создать новые глубоководные порты для экспорта полезных ископаемых. В Арктике расположены самые высокопроизводительные месторождения в мире – цинка (Red Dog на севере Аляски) и никеля близ Норильска.
В основном благодаря России в арктическом регионе добывается 40% мирового палладия, 20% алмазов, 15% платины, 11% кобальта, 10% никеля, 9% вольфрама и 8% цинка. На Аляске имеется свыше 150 перспективных месторождений редкоземельных металлов, и если бы штат был независимым государством, то оказался бы в первой десятке по запасам многих ценных металлов и минералов. И это лишь стартовые возможности, ведь в изучении Арктики делаются первые шаги. Есть веские основания предполагать (так часто бывает), что с началом разработки месторождений будут найдены новые богатства.
Грядущий арктический бум – это не только бурение скважин и добыча полезных ископаемых. Хвойные таежные леса региона – 8% мировых запасов древесины, а северные воды способны обеспечить 10% мирового рыбного промысла. С помощью переоборудованных танкеров можно доставлять питьевую воду из ледников на Аляске в Южную Азию и Африку.
Само по себе уникальное географическое положение Арктики – ценный актив. Если смотреть на вершину глобуса, данный регион связывает между собой наиболее успешные экономики мира. «Исландские авиалинии» уже осуществляют рейсы между Рейкъявиком, Анкориджем и Санкт-Петербургом через Северный полюс. По дну Северного Ледовитого океана планируется проложить телекоммуникационные кабели для связи между Северо-Восточной Азией, северо-востоком США и Европой. Высокие арктические широты – подходящее место для расширения имеющихся наземных станций, принимающих сигналы спутников на полярных орбитах. Мощные приливы, которыми славится Арктика, создают впечатляющий потенциал для гидроэнергетики, а ее геологические особенности скрывают колоссальные возможности получения геотермальной энергии. Это хорошо видно на примере алюминиевой промышленности Исландии, где заводы работают на геотермальных источниках.
Низкие температуры делают Арктику привлекательным местом для создания центров хранения данных наподобие того, который компания Facebook строит на севере Швеции. А под сводами хранилища, устроенного в прохладных скалах Шпицбергена, хранятся сотни тысяч семян растений.
По мере таяния льдов реальностью становятся короткие судоходные пути, о которых когда-то можно было только мечтать. Северо-Западный проход, пролегающий через Канадский архипелаг, пока затянут льдами. Но в 2010 г. впервые за всю историю мореплаваний четыре торговых судна переплыли из Северо-Западной Европы в Северо-Восточную Азию по Северному морскому пути, проходящему через Северный Ледовитый океан над Евразией. В 2011 г. число таких судов достигло 34, а во время прошлогоднего арктического лета этот путь проделало 46 торговых судов.
Хотя пройдет еще немало времени, прежде чем Северный морской путь (СМП) сможет стать одной из главных судоходных артерий мира наряду с Суэцким и Панамским каналами, он перестал быть лишь фантазией или мечтой мореплавателей. СМП становится все более актуальным и жизнеспособным морским путем для танкеров, которые не прочь «срезать» тысячи морских миль, отказавшись от традиционных путей через Малаккский и Гибралтарский проливы.
Открывается и новый экспортный канал для сбыта продукции сельхозугодий, образовавшихся благодаря потеплению, и продукции шахт, появляющихся вдоль северного побережья России, где некоторые из крупнейших рек страны впадают в Северный Ледовитый океан. Признавая перспективность новых морских путей, Министерство транспорта РФ создало Управление Северного морского пути, которое выдает разрешения на судоходство, следит за погодными условиями в северной акватории и устанавливает новое навигационное оборудование вдоль всего пути. По мере того как лед продолжает таять, открывается коридор через Северный полюс в обход российского побережья.
Финансовая состоятельность
Конечно, для экономической жизнеспособности региона одних полезных ископаемых и благоприятного географического положения недостаточно – посмотрите на Ближний Восток. Но в Арктике имеются и другие благоприятные факторы.
Во-первых, большинство стран, территория которых выходит за Полярный круг, имеют крепкую экономику и устойчивую финансовую систему. Соотношение государственного долга к ВВП у таких государств, как Дания, Норвегия, Финляндия и Швеция ниже 54%, а у России – менее 12%. Хотя долг США составляет 75% от ВВП, от высоких процентных ставок страну ограждает то, что американский доллар остается главной резервной валютой мира. Что же касается арктического штата Аляска, то у него большой профицит бюджета, а агентствоStandard & Poor's присвоило ему самый высокий кредитный рейтинг ААА. Еще выше соотношение долга и ВВП у Канады – 84%. В то же время она демонстрирует завидную стабильность. Банковская система Канады пятый год подряд оценивается Всемирным экономическим форумом как самая здоровая в мире. Исландия все еще борется с последствиями краха финансовой системы в 2008 г., но экономика восстанавливается рекордными темпами. В 2012 г. ВВП вырос на 2,7%, а безработица сократилась до 5,6%. В целом хорошее финансовое самочувствие арктических стран означает, что этот регион привлекателен для вложения частного капитала, особенно в сравнении с другими державами, богатыми природными ресурсами.
Несколько государств Арктики имеют большие фонды национального благосостояния, которые пополняются за счет экспортных пошлин на нефть и газ. Они могут использовать эти средства на осуществление важных инфраструктурных проектов для стимулирования дальнейшего развития. Норвегия занимает первое место в мире по размеру фонда национального благосостояния, который превышает 700 млрд долларов. В российском фонде национального благосостояния на сегодняшний день около 175 млрд долларов. Постоянный фонд Аляски оценивается в 45 млрд долл., что позволяет штату не взимать подоходный налог со своих жителей. Более того, каждый живущий на Аляске получает ежегодные дивиденды от продажи полезных ископаемых. Если правительства арктических государств будут мыслить стратегически, с помощью таких резервов можно было бы финансировать создание транспортно-энергетического скелета, на котором арктическая экономика могла бы быстро наращивать «мышечную массу», становясь все более зрелой.
За исключением России, во всех арктических странах также действует вполне предсказуемая судебно-правовая система и имеется четкое и ясно прописанное законодательство, что способствует притоку инвестиций. Соединенные Штаты, Дания, Норвегия, Исландия, Финляндия, Швеция и Канада входят в двадцатку стран, наиболее благоприятных для ведения бизнеса по версии Всемирного банка. Благодаря юридической и судебно-правовой определенности, которую обеспечивают качественные государственные институты, они не испытывают проблем с привлечением иностранного капитала. Инвесторы могут быть абсолютно уверены в том, что в отличие от других сырьевых экономик и государств, богатых природными ресурсами, североамериканские и скандинавские правительства не национализируют частные активы, не потребуют «откатов» и не допустят судебного произвола.
Охота за арктическим богатством
Ни один регион, настолько богатый ресурсами – как природными, так и созданными руками человека, – не может долго оставаться вне поля зрения Китая. Как будто по сигналу, Пекин начал целенаправленно совершать «набеги» на Арктику – особенно его интересует Исландия и ее наполовину независимый сосед Гренландия. При этом Китай преследует далекоидущие геополитические цели. В мае Арктический совет предоставил Китаю статус наблюдателя наряду с Индией, Италией, Японией, Сингапуром и Южной Кореей.
Пекин рассматривает Исландию как своего рода стратегические ворота в регион. Именно поэтому премьер-министр Вэнь Цзябао в прошлом году посетил эту страну с официальным визитом (направившись прежде в Копенгаген для обсуждения проектов в Гренландии). Государственное пароходство Китая изучает возможность долгосрочной аренды доков в Рейкъявике, а китайский миллиардер Хуан Нубо много лет пытается освоить участок земли на севере острова площадью 100 кв. миль. В апреле Исландия подписала с Китаем договор о свободной торговле, став первой европейской страной, заключившей с Пекином подобное соглашение. В то время как Соединенные Штаты закрыли свою военную базу времен холодной войны в Исландии в 2006 г., Китай расширяет там свое присутствие и строит самое большое посольство, постоянно направляя предпринимателей. В августе прошлого года в Рейкъявике официально пришвартовался ледокол «Сюэлун», или «Снежный дракон». Главная привлекательность Гренландии – ее недра. Помимо железной руды и нефти на острове обнаружены большие залежи редкоземельных металлов, а Китай как раз доминирует на мировом редкоземельном рынке. В Гренландии менее 60 тыс. жителей, но на остров зачастили делегации из Азии. В сентябре прошлого года тогдашний президент Южной Кореи Ли Мён Бак присутствовал при подписании соглашения между южнокорейской государственной горнодобывающей компанией и аналогичной компанией Гренландии. До него на острове побывал тогдашний министр земли и природных ресурсов Китая Сюй Шаоши, который также подписал соглашения о сотрудничестве.
До сих пор эти совместные предприятия договаривались об объединении усилий для разведки недр, но очень скоро на их базе могут вызреть мегапроекты, цель которых – поставки ценного сырья на жадные до ресурсов азиатские рынки. С тех пор как в 1979 г. Дания предоставила Гренландии право иметь собственную законодательную власть, провинция движется в направлении полной независимости и в 2009 г. взяла под контроль судебно-правовую систему и природные ресурсы. Местное правительство использовало эту свободу для установления торговых отношений с Китаем, Южной Кореей и другими странами. При сохранении нынешних темпов иностранных инвестиций в экономику острова доходы местного бюджета могут в один прекрасный день полностью заместить субсидию в 600 млн долл., которую Гренландия ежегодно получает от Копенгагена. Это позволит с полным правом требовать политической независимости. Избиратели, проживающие на острове, фактически проголосовали за независимость в марте, когда партия социал-демократов «Сиумут» («Вперед») получила большинство в парламенте. В то время как микроскопические экваториальные государства могут вскоре исчезнуть в поднимающихся водах Мирового океана, Гренландия имеет все шансы стать первой страной, порожденной изменением климата на планете.
Тем временем государства Арктики инвестируют в свои «ледовитые» окраины. Россия показала пример, приняв под энергичным президентским руководством ряд государственных программ, предусматривающих наращивание капиталовложений в инфраструктуру северного побережья. В Канаде правительства территории Юкон, Северо-Западных территорий, Нунавута и Квебека создали управления по развитию для привлечения инвестиций. В мае, когда Канада приняла председательство в Арктическом совете, она назначила старшим официальным представителем по Арктике главу Агентства по экономическому развитию северных территорий, наказав ему управлять политикой Арктического совета в интересах «развития народов Севера». На протяжении нескольких лет норвежские и российские компании создают совместные предприятия для разработки нефтегазовых месторождений в Баренцевом море. Аляска также пытается стимулировать экономический рост, снижая нефтегазовые налоги и продавая больше лицензий на участки, находящиеся в государственной собственности.
Однако Джуно (столице Аляски) приходится бороться с обструкционизмом федерального правительства, которое держит федеральные земли на замке и вынуждает старателей и разработчиков недр проходить обременительный процесс получения разрешений и терпеть постоянную неопределенность на законодательном поле. В данный момент власти Аляски предпочли бы просто убрать с дороги непокладистых федеральных чиновников.
Нежелание Вашингтона способствовать развитию северных территорий отражает его в целом пассивную политику в Арктике. В то время как остальной мир уже осознал растущее значение региона, Соединенные Штаты до сих пор не пробудились, оставляя это игровое поле более конкурентоспособным и целеустремленным соперникам.
Арктическое пробуждение
Но пока еще не поздно сыграть в «догонялки». Первый и наиболее очевидный шаг для США – присоединение к 164 странам, ратифицировавшим Конвенцию ООН по морскому праву. Ирония в том, что Вашингтон участвовал в составлении первоначального текста договора, но республиканцы в Сенате, выдвинув сбивающие с толку аргументы о мнимой угрозе, которую данный договор представляет для суверенитета Соединенных Штатов, ухитрились заблокировать его ратификацию на несколько десятилетий. В итоге нанесен ущерб национальным интересам США.
Конвенция ООН позволяет странам претендовать на исключительную юрисдикцию над теми частями континентального шельфа, длина которых превышает 200 морских миль, прописанных в договоре как зона исключительных экономических интересов той или иной страны. Это означает, что Соединенные Штаты приобрели бы специальные права на дополнительные 350 тыс. квадратных миль акватории океана, что составляет примерно половину площади штата Луизиана. Но поскольку страна не ратифицировала Конвенцию ООН, ее притязания на обширный континентальный шельф в Чукотском море, в море Бофорта и других местах не будут признаны другими государствами. Отсутствие четко оговоренных юридических прав собственности на эти площади не дает возможности частным компаниям начать разведку месторождений нефти и газа или бурение на морском дне. Отказ ратифицировать Конвенцию ООН по морскому праву также отодвинул Вашингтон на задний план в обсуждении и установлении правил поведения в Арктике.
В условиях наращивания судоходства через Берингов пролив у США нет инструмента влияния на законодательство, регламентирующее морские маршруты, а также защищающее рыболовные промыслы и хрупкую среду обитания. В договоре также закрепляется международный правовой принцип свободы мореплавания, на который опираются американские ВМС для проецирования силы в глобальном масштабе.
Неудивительно, что все, начиная с руководителя Торговой палаты Соединенных Штатов и президента Совета по природным ресурсам и кончая председателем Комитета начальников штабов (а также всеми ныне здравствующими бывшими государственными секретарями) доказывают целесообразность ратификации Конвенции ООН. Сенату давно пора последовать их совету. Скептически настроенные республиканцы мешают ратификации этого документа, утверждая, что он ограничит суверенитет США. Но это лишь отвлекающий маневр и пустые разговоры, поскольку Соединенные Штаты в любом случае выполняют все его положения, а фактическая ратификация даст новые права и увеличит влияние. Если бы президент решил сделать ратификацию политическим приоритетом, умеренные республиканцы, скорее всего, отдали бы голоса за этот международный договор, и он был бы принят.
Вашингтону нужно продолжить выработку последовательной политики в Арктике, как это сделали другие страны. В мае этого года Белый дом опубликовал Государственную стратегию в Арктическом регионе. Этот документ стал многообещающим началом, поскольку расширяет и во многом конкретизирует худосочную Президентскую директиву по национальной безопасности, которую издала администрация Джорджа Буша-младшего. Следует отдать должное администрации Обамы, которая разработала соответствующую стратегию и протянула руку помощи правительству Аляски и особенно коренным народам Севера, чей голос и опыт критически важны.
Но Соединенные Штаты с опозданием включаются в игру, и им предстоит проделать немалую работу, обдумывая государственный подход к освоению Арктики и расширяя возможности для проецирования силы здесь. Для начала США должны увеличить присутствие. Это потребует строительства ледоколов, поскольку ни один из ныне действующих кораблей ВМС не имеет достаточной мощи, чтобы преодолевать просторы Северного Ледовитого океана. И в этой области Соединенные Штаты также заметно отстают от соседей по Арктике: у России 30 ледоколов, некоторые из которых работают на атомной энергии, а у Канады их 13. Даже у Южной Кореи и Китая, которые не имеют выхода к Северному Ледовитому океану, есть новые ледоколы. У береговой охраны США лишь три таких корабля: один уже вышел из строя, другой спущен на воду в 1976 г. и доживает последние дни. Наконец, третий – это, скорее, плавучая научная лаборатория, чем боевой корабль.
Но даже если бы Конгресс выделил средства на строительство ледоколов, Закон о торговом флоте 1920 г. (известный также как Акт Джоунса) требует, чтобы корабли, курсирующие между американскими портами, строились в Соединенных Штатах. По оценкам Береговой охраны, отживающие век американские судоверфи будут строить новый ледокол не менее 10 лет. К тому времени лед в Арктике может полностью растаять и исчезнуть в летний период. Конгрессу США следует отменить действие протекционистского закона, чтобы дать возможность Береговой охране и ВМС закупить необходимые им корабли за рубежом или взять в аренду американские ледоколы, построенные частным бизнесом, заплатив лишь малую толику их общей стоимости.
У Соединенных Штатов нет глубоководных портов в Арктике и аэродромов для военной авиации. Отсутствует всеобъемлющая сеть мониторинга арктического судоходства, что необходимо в Беринговом проливе – узком 55-мильном горлышке между Тихим и Северным Ледовитым океаном. Федеральному правительству следует опираться на реальный прогресс штата Аляска, который самостоятельно и весьма успешно решает все эти проблемы в последние несколько лет.
Вашингтону не нужно вкладывать такие же огромные деньги, которые были в свое время потрачены на строительство каналов, мостов, плотин и дорог, открывших американский Запад, даже минимальные инвестиции позволят успешно конкурировать в Арктике.
Наконец, пора вдохнуть новую жизнь в арктическую дипломатию. Идя по стопам других стран региона (а также Японии и Сингапура), США должны назначить высокопоставленного дипломата послом в Арктике, чтобы он(а) представлял(а) интересы Соединенных Штатов на таких форумах, как Арктический совет.
Отправляя на совещания младших дипломатов, в то время как другие страны представлены там министрами иностранных дел, Вашингтон дает ясно понять, что регион его не слишком интересует. В мае госсекретарь Джон Керри посетил сессию Арктического совета, как это сделала до него Хиллари Клинтон, и эта практика должна продолжаться. Чтобы напомнить американцам, что они живут в арктическом государстве, президенту Бараку Обаме следует упомянуть о проблемах Арктики в обращении к Конгрессу. Именно это проделали канадский премьер-министр Стивен Харпер и президент России Владимир Путин, выступая перед своими законодательными собраниями.
Более активное участие в делах Арктики могло бы улучшить отношения между Вашингтоном и Москвой. По договору 1867 г. о продаже Российской империей Аляски Соединенным Штатам две страны «желали по возможности укреплять существующее между ними доброе взаимопонимание», и тогдашний государственный секретарь Уильям Сьюард надеялся, что продажа Аляски как раз и будет этому содействовать. Тем не менее США и России не удавалось наладить добрососедские отношения многие десятилетия после этого. Но сегодня Арктика могла бы стать тем источником и поводом для сотрудничества, о котором мечтал Сьюард. В Беринговом море у двух стран общие задачи и цели; открывается простор для сотрудничества в таких областях, как охрана правопорядка на море и недопущение несанкционированного рыбного промысла иностранными рыболовецкими траулерами, совместное реагирование на разлив нефти в море и совместная установка навигационного оборудования.
Новое развитие
Изменение климата превращает Арктику из геополитически вторичного региона в сказочно щедрый подарок предпринимателям нашего века. Странам следует и дальше сохранять приверженность мирным взаимоотношениям в Арктике, которых они до сих пор придерживались. Но политикам нужно серьезно подумать об общем видении использования богатейших ресурсов Арктики. Экономическое развитие не должно быть синонимом экологической катастрофы. На самом деле открытие Арктики – это уникальный шанс развивать устойчивую экономику приграничного взаимодействия.
Чтобы подобный подход к освоению арктических богатств стал нормой, странам Арктики необходимо найти правильный баланс между защитой окружающей среды и эксплуатацией природных ресурсов. Один из способов объединить капитализм с ценностями природоохраны – это начать воспринимать природу как своего рода капитал, а также включать расходы на сохранение и защиту окружающей среды в стратегии развития. Это уже сделано в программах управления рыбными промыслами путем распределения квот на вылов рыбы и в программах защиты лесов путем выпуска ценных бумаг, котирующихся на бирже.
Чтобы такая тактика работала в Арктике, нужно обеспечить полноценную отчетность по имеющимся ресурсам. Вот почему правительствам, негосударственным и общественным организациям арктических стран так важно провести всеобъемлющую перепись природных богатств и биологического разнообразия региона. При наличии качественных научно обоснованных ориентиров правительства могут принимать более взвешенные решения, уравновешивая риски для хрупкой среды обитания другими задачами в области экономики и национальной безопасности. Цель заключается в нахождении золотой середины между активистами движения в защиту природы и окружающей среды, которые хотят немедленно превратить Арктику в природный заповедник, и промышленниками, жаждущими бурить как можно больше скважин и нещадно эксплуатировать ценные и невосполнимые природные ресурсы.
В Аляске это означает, что каждый нефтегазовый проект следует рассматривать индивидуально и использовать прибыль от добычи нефти и газа для создания более диверсифицированной экономики. В противном случае штат рискует стать еще одной нефтяной колонией или сырьевым придатком со всеми вытекающими негативными последствиями для местного населения. Аляске следует инвестировать богатство в систему высшего образования, смелые инфраструктурные проекты, а также проводить политику привлечения талантливых иммигрантов, которых нужно воодушевлять на создание новых предприятий – например, в сфере возобновляемых источников энергии. Образцом для подражания может служить Норвегия, которая воспользовалась неожиданно высокими нефтяными доходами для финансирования прогрессивного государства и чтобы дать толчок индустрии возобновляемых источников энергии. Подобный подход полностью соответствует Конституции штата Аляска, в которой сказано, что Аляска должна «поощрять заселение своих земель и разработку недр таким образом, чтобы использование природных ресурсов отвечало общественным интересам и общему благу».
Арктика предоставляет исключительные возможности для того, чтобы переписать правила игры в развитии приграничного экономического освоения. Но этим следует вплотную заняться именно сейчас, пока очередной разлив нефти из глубоководной скважины не загрязнит Арктику и не снизит ее привлекательность. В связи с тем, что повышение температуры происходит быстрее, чем прогнозировалось, вопрос не в том, растает ли лед окончательно или нет, а в том, когда именно это произойдет и регион будет открыт для всестороннего освоения. Если правильно управлять процессом разработки арктических недр, Арктика могла бы одновременно стать тщательно охраняемой средой обитания и локомотивом экономического роста. Это сулит колоссальную выгоду как коренным жителям, так и пришельцам.
Скотт Борджерсон – управляющий директор CargoMetrics и один из основателей некоммерческой организации «Полярный круг».
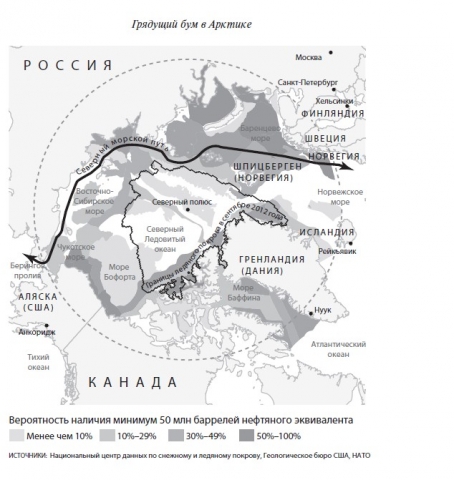

Югославская прелюдия
С чего начинались современные подходы к «мирному урегулированию»
Резюме: В большинстве горячих точек Запад изначально выбирает «правильную» сторону, которой и оказывается помощь – политическая, военная, дипломатическая – для победы над «неправым» неприятелем. Начиналось все с Югославии первой половины 1990-х годов.
Урегулирование международных кризисов, связанных с локальными войнами, испокон веку было одной из основных задач мировой дипломатии. Однако эпоха после холодной войны принесла новые веяния. Вместо того чтобы, занимая по возможности нейтральные позиции, подталкивать участников конфликта к миру, ведущие западные державы стали действовать иначе. В большинстве горячих точек изначально выбирается «правильная» сторона, good guys, которой и оказывается помощь – политическая, военная, дипломатическая – для победы над «неправым» неприятелем. Тот факт, что в междоусобицах, гражданских войнах правых и виноватых, как правило, не бывает, ответственность лежит на всех, игнорируется, исходя из текущих интересов больших стран. Примеров тому за последние годы можно насчитать немало, и интересно вспомнить, с чего все начиналось. С Югославии первой половины 1990-х годов.
Плата за внутриполитическую индульгенцию
На поле, расчищенном перестройкой от конфронтации, Борис Ельцин и Андрей Козырев в целом продолжили внешнюю политику Михаила Горбачёва. Прежним оставалось стремление вернуться в общий поток той цивилизации, из которого Россию вырвала Октябрьская революция. Идеологическое противостояние и холодная война больше этому не мешали. Был подтвержден приоритетный курс на сотрудничество с США и Западной Европой.
Во внешнеполитической повестке дня остался такой важный пункт, как сокращение вооружений, сделаны реальные шаги в этом направлении. Россия объявила себя правопреемницей Советского Союза и признана таковой, сохранив за собой место одного из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.
Стратегическая линия себя оправдывала. Но в практической политике со старта была допущена принципиальная ошибка: во главу угла поставили безоговорочное равнение на «цивилизованные» государства, в первую очередь Соединенные Штаты. Даже в ослабленном состоянии Россия могла претендовать на нечто большее, чем младший партнер США. В дело, однако, вступал такой фактор, как острая внутриполитическая борьба.
Если американцы давали Ельцину индульгенцию на действия внутри России (чего стоит один расстрел парламента), то в международных делах он должен был это отрабатывать. Здесь ни Джордж Буш-старший, ни сменивший его Билл Клинтон, ни их госсекретари особенно не церемонились. Кризис в Югославии – печальное тому подтверждение.
Вплотную я столкнулся с ним осенью 1992 г., вернувшись после службы в Италии в МИД в качестве первого замминистра. Вскоре события вокруг Югославии стали принимать суровый оборот. Чувствовалось, что идет психологическая подготовка силового вмешательства извне. Зачем это нужно американцам, поначалу было не очень понятно. Ранее они старались держаться от Балкан подальше и какое-то время выступали против дезинтеграции Югославии. Еще в декабре 1991 г. Соединенные Штаты не поддерживали идею признания Хорватии. К весне же следующего года они признали не только ее, но и Словению, и – что хуже всего – Боснию и Герцеговину (БиГ): там сейчас же вспыхнула война. Судя по всему, в Вашингтоне поняли, что на Балканах можно сорвать куш: одна только поддержка мусульман давала большие плюсы, как бы компенсируя союз с Израилем. Едва ли не решающее влияние оказал внутриполитический мотив – роль вершителя судеб на Балканах оказалась для Клинтона, лидера единственной оставшейся сверхдержавы весьма привлекательной. Линия на силовое подавление сербов была призвана облегчить последующее навязывание мира на американских условиях.
При таком раскладе задача России должна была бы заключаться в том, чтобы не допустить военного вмешательства, тем более что речь шла о гражданской войне, это в конце концов стали признавать и на Западе. Противопоставить силе политическое урегулирование при равном подходе к трем конфликтующим сторонам – сербам, хорватам и боснийцам. В принципе такой линии мы и следовали, но в ключевые моменты срывались, пасуя перед давлением со стороны США.
Первой серьезной ошибкой явилось голосование в мае 1992 г. за резолюцию Совета Безопасности, вводившую «жесткие и немедленные» санкции против Югославии. Говорю это не задним числом. Будучи послом в Риме, я писал в Москву: давайте не торопиться с санкциями против Сербии. Во всяком случае, подсчитаем, во сколько они нам обойдутся. Тем, кто нас торопит, наше нежелание всегда можно объяснить экономическим положением России. Может быть, даже спросить: чем вы нам компенсируете ущерб? Надо на Балканах играть свою игру, как это делает та же Германия. А для этого нельзя отталкивать традиционного союзника – Сербию. Слободан Милошевич и нынешние его «подвиги» забудутся, но если Россия предаст сербов, это останется в исторической памяти. (Моя телеграмма против санкций оказалась единственной среди депеш российских послов и наверх из МИДа не ушла. Ситуацию «поправил» кто-то из доброхотов, передав полный текст в правонационалистическую газету «День». По старым меркам за такую утечку надо было сажать.)
Позже Виталий Чуркин, ответственный тогда в министерстве за Югославию, рассказал мне, что ни один эксперт в МИДе не поддерживал санкции, но боялись, против не высказался никто. Объем санкций был беспрецедентно большим, мы же пошли на них скоропалительно. Для сербов и санкции, и позиция России стали настоящим шоком. А ведь могли использовать и такой аргумент, что китайцы ни на какие санкции не пошли, прямо заявив, что им это невыгодно. Милошевич до последнего верил, что Россия не даст его в обиду.
Понимаю, что в таких обстоятельствах, когда сербов клевали – и по делу – со всех сторон, трудно было не поддаться господствовавшим настроениям. Но Милошевичу активно помогали в разжигании конфликта и хорват Франьо Туджман, и боснийский президент Алия Изетбегович. Руководствоваться принципом справедливости хорошо тогда, когда и остальные ему следуют. Среди западных же стран пристрастность была в широком ходу. Действовало правило: если виноваты сербы, то только они; если виноват кто-то другой, виноваты все. Мы располагали ресурсами, чтобы играть более многоплановую игру. Наше длительное сопротивление силовым методам это продемонстрировало.
Твердо держались американец Сайрус Вэнс и англичанин Дэвид Оуэн – сопредседатели Исполнительного (его иногда называют Координационным) комитета, созданного Лондонской конференцией по урегулированию в бывшей Югославии. Генсек ООН Бутрос Гали и его представители на местах также долго были против вооруженных акций, ибо боялись за судьбу своего персонала. В январе 1993 г. Марти Ахтисаари, председатель рабочей группы по БиГ, публично заявил, что благодаря России сейчас на первый план выдвигаются политические, а не силовые методы.
Боюсь, однако, что Милошевича у нас помимо всего прочего относили вслед за американцами к разряду тех «коммуняк», с которыми боролись внутри России. Наше одобрение санкций в частном порядке было прокомментировано: решили, мол, эту шпану наказать. Внешняя политика превращалась из общегосударственной в партийную. Под сурдинку отказа от идеологии забывались различия, идущие из геополитики. Знамя достоинства страны отдавалось в руки национал-патриотов. А потом не шли даже на разумные шаги по той причине, что это была бы уступка правым.
Дискордия у нас внутри была немалая. Чего стоила одна только не реализованная, но всерьез предложенная идея выделить российские самолеты в американские эскадрильи, чтобы обойти категорическое неприятие Верховным Советом воздушных ударов по сербам.
«Это вам не Ирак!»
В январе 1993 г. министр точно сказал, что мы уже два месяца употребляем в Совете Безопасности скрытое вето против военного вмешательства. Не прошло, однако, много времени, как последовала новая атака. На этот раз начали французы, предложив силовое обеспечение бесполетной зоны, которой объявлялась БиГ. Их поддержали практически все. Эта мера должна была войти в качестве составной части мероприятий по осуществлению мирного плана Вэнса–Оуэна, если все к нему присоединятся. (Имеется в виду план мирного урегулирования в Боснии и Герцеговине, подготовленный в начале 1993 г., который Россия поддержала.) Налицо явное нарушение ранее достигнутых договоренностей.
Представитель России в ООН Юлий Михайлович Воронцов сообщил из Нью-Йорка, что вопрос о применении санкций в отношении тех, кто будет нарушать бесполетную зону, доложен министру (тот прилетел в Америку для подготовки встречи Ельцина с Клинтоном), проголосуем за французский проект. Мы знали, что Козырев с самого начала склонялся к поддержке этой резолюции, писал Ельцину, что хотя она внесена французами, это одна из личных идей Клинтона. Вслед за Бушем он повторил, что США готовы силой обеспечить запрет полетов.
Но вся эта затея с бесполетной зоной – чисто антисербская, у них одних там самолеты, их лишают этого преимущества. Что это, как не ослабление одной стороны в конфликте? Сухопутные войска, где перевес на стороне мусульман не трогают. Сербы отрицают нарушения, ссылаются на то, что ООН отслеживает все их действия. Но французы мне прямо говорят: вне зависимости от того, нарушают сербы или нет, общественное мнение настроено против них, мы не можем этого не учитывать. Дело не олько в сербах: впервые вводится узаконенное вмешательство из вне.
У нас с Сергеем Лавровым, ведшим в качестве замминистра ооновское направление, оставался единственный путь помешать этому – апеллировать к президенту. По соображениям лояльности к Козыреву мы все оттягивали этот ход. Этика была вознаграждена: Ельцин позвонил мне сам. Голосом с довольно характерными интонациями стал говорить: почему меня не информируют по принципиальным вопросам? Вы с Козыревым думаете, сами с усами, так я вас накажу, и очень легко это сделаю. И начал сладострастно объяснять, как накажет. Потом воскликнул: «Бомбить Югославию! (Правильно понял Борис Николаевич!) Это американцы хотят, а мы разве хотим? Это вам не Ирак. Немедленно сообщите Козыреву, чтобы голосовал против резолюции или в крайнем случае воздержался». Сказал на это: «Вы сами разрешили Козыреву голосовать за эту резолюцию». Ельцин ответил: «Не знаю, не знаю». Затем перезвонил: «Держу перед глазами записку по Югославии, никакого разрешения я не давал».
Надо пояснить, что Козырев действительно иногда «химичил». На этот раз наряду с запиской, подготовленной Лавровым специально по Югославии, в тот же день направил Ельцину записку о своих беседах в Вашингтоне. Ее никто кроме него и, видимо, замминистра Георгия Мамедова не видел. На 10-й или 11-й странице, то есть там, куда и в лучшие времена никто не заглядывал, а сейчас и подавно, был такой пассаж: если не удастся убедить французов сделать свое предложение частью общего комплекса мер, проголосовать за французский проект. Естественно, никто и не думал убеждать французов. В конце же этой длинной бумаги проект распоряжения – одобрить представленные соображения. Фактически президенту не объяснили, что это за французская резолюция. А она как раз и дает возможность наносить удары, причем не только по воздушным, но и по наземным целям.
Так что наша позиция изменилась в самый последний момент лишь благодаря вмешательству президента. Кто-то из помощников подсказал, дай ему Бог здоровья. К сожалению, Ельцин изменил позицию еще раз. Силовая резолюция сыграла впоследствии пагубную роль. Единственное, что сумели мы сделать – снять удары по земле. Для этого настояли на возвращение в текст резолюции ранее бывших там слов «в воздушном пространстве», которые успели под шумок вычеркнуть. Без той борьбы, которую мы устроили вокруг резолюции, не удалось бы добиться и этого.
Следует признать, что наши международно-правовые усилия пошли прахом: США и НАТО в итоге просто-напросто нарушили те решения, за которые проголосовали.
Очередной антисербский накат был приурочен к встрече Клинтона и Ельцина в Ванкувере (начало апреля 1993 года). Проект решения Совета Безопасности касался введения дополнительных, на этот раз финансовых санкций против СРЮ. Записку с согласием на новые санкции Козырев быстренько направил Ельцину, нам ничего не сказав. Это якобы соответствует нашей политической линии в югокризисе, как она изложена в заявлении президента от 9 марта о безальтернативности плана Вэнса–Оуэна. Нет там этого. Отказываемся от тех элементов самостоятельности, которые было появились в нашей позиции по Югославии.
Американцы, как и в случае с выводом наших войск из Прибалтики, не стеснялись увязывать международные проблемы с возможностями оказания нам помощи. И подумалось: если бы мы сами, по своей доброй воле, принимали решение о санкциях против Югославии и никто бы на нас не давил, разве мы бы пошли на них? Значит, все-таки дело во внешнем воздействии. А будь Россия не так слаба, разве на нас бы так давили? И будь у нас другое руководство, может быть, мы не поддались бы на нажим?
Вот что говорит Воронцову американская представительница в ООН: согласия с Россией по проекту резолюции о новых санкциях следует достичь до ванкуверской встречи на высшем уровне. Главный вопрос там – американская программа помощи России, и не дело президентов заниматься решениями ООН. Строб Тэлботт, второе лицо в американском Госдепе, в закрытой беседе с нашим послом в Вашингтоне Владимиром Лукиным, и Клаус Кинкель, немецкий министр иностранных дел, – публично связали и содействие нам, и вообще политику в отношении России с тем, как мы поведем себя в вопросе о санкциях. Не церемонятся ребята: делай так, как мы скажем, иначе останешься без помощи. По-хорошему, из-за одного этого стоило бы заветировать резолюцию.
Американцы жали на нас не только в Нью-Йорке и Вашингтоне. Кристофер звонил в Москву – замминистра Мамедову: «Мы хотели бы предостеречь Россию от использования права вето при голосовании резолюции в Совете Безопасности, поскольку это нанесет ущерб российско-американским отношениям. В частности, это может усложнить усилия американской администрации по обеспечению поддержки в Конгрессе вопроса об оказании помощи России». Помощи-то еще никакой нет, на одних обещаниях выбивают из нас все новые уступки.
Ельцин на присланной ему Козыревым записке начертал грамотную резолюцию: сначала разберемся на Совмине, о каких санкциях идет речь, соберем в МИДе мнения ведомств и только после этого примем решение. Недолго, однако, пришлось радоваться. 18 апреля прошла резолюция Совбеза об ужесточении санкций против Белграда. Подарок на Пасху православным сербам. Проясняется, что всю ночь Козырев и Воронцов были в контакте. В пять утра Воронцов получил указание воздержаться, а не ветировать.
Почему такая поспешность? Посреднические усилия до конца доведены не были – раз. Изучить, какие будут для нас последствия экономические, не дали – два. (Позже Козырев публично заявил, что финансовые потери, которые Россия несет от санкций, превышают все то, что она получает в виде иностранной помощи из всех источников.) Своим обещанием заветировать резолюцию, если она не ко времени, пренебрегли – три. Референдума, из-за которого мы весь сыр-бор затеяли (просили отсрочить голосование до даты плебисцита, 26 апреля), не дождались, более того, накануне получили подарок – четыре. Все кругом видят: надави на нас, и мы даем слабину – пять. И еще: какая будет нам вера, если мы говорим одно, а делаем другое?
Пытаюсь выяснить, каким образом возникло «воздержание». Получается, что в последний момент президент с подачи премьера скорректировал козыревское «да» (а первоначально-то вовсе было «нет», как предложил Воронцов) на «воздержаться». Ельцин давно хотел последовать примеру китайцев – те тоже воздержались. Но это означает пропустить резолюцию, то есть дать ход введению санкций, обязательных и для тебя.
США и некоторые другие западные страны не хотят мирного урегулирования на волне военных успехов сербов, затягивают политическое решение. Заговорили уже открыто: надо бить с воздуха по сербской тяжелой артиллерии, мостам и дорогам, по которым в Боснию поступает вооружение из Югославии. Когда сербов побьют и будет удовлетворено, наконец, общественное мнение, воспитанное на телевизионных передачах, показывающих, кстати сказать, подлинную жестокость, но жестокость только одной стороны; когда, наконец, удовлетворит все свои предвыборные нужды и утешит свое самолюбие Клинтон как решительный, хотя и молодой президент, тогда можно будет говорить и об урегулировании.
Близорукая позиция, что ни говори, ибо неизвестно, чем окончится эскалация против сербов. Кто гарантирует, что сербы, находясь в униженном и разбитом состоянии, пойдут на переговоры? Чувствуя настрой западников, албанцы в Косово готовы потрясти мечами после десятилетней летаргии. Крупная может быть заварушка.
Не подгоняю свои тогдашние записи под произошедшие события. Разве что не о близорукости шла речь, а о последовательной линии на ослабление сербов, которых помимо всего прочего считали главным проводником влияния России на Балканах. Самое интересное, что западники ошибались насчет Милошевича. Он был горазд просить нас, чтобы мы уменьшили нажим на него Запада. Но нас в свою игру фактически не пускал. Сербы не облегчали нам жизнь, потому что не верили ельцинской команде, голосовавшей за санкции. Ждали, что она сменится, различные эмиссары из Москвы им такими пророчествами все уши прожужжали. Считаю достижением МИДа, что смогли поломать приезд Караджича, лидера боснийских сербов, направлявшегося только для того, чтобы поговорить с Хасбулатовым и Руцким, другими словами с оппозицией.
Мы поддерживали сербов не из-за славянофильства, хотя историю тоже так просто не вычеркнешь. Важнее, что на югославских делах отрабатывался международный механизм навязывания мира в этнических конфликтах. Этот механизм оказался сугубо американским. Россия не смогла там найти свое самостоятельное место. Не случайно урегулирование на Балканах, достигнутое исключительно в интересах Запада и при вспомогательной роли России, преподносилось в качестве образца.
Но и о близорукости можно говорить: заигрывание с исламским фундаментализмом в Боснии не могло не привести к его общему усилению. Есть внушающие доверие данные, что не менее трех лиц, причастных к взрыву небоскребов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г., находили прибежище у боснийских мусульман (об этом писала International Herald Tribune в декабре 2012 г.).
Мишень – сербы
8 февраля 1994 года. Как же правильно боролись мы сотоварищи – и как же плохо, что пропустили – решение Совета Безопасности о силовом обеспечении зоны, запретной для полетов в Боснии и Герцеговине. Сегодня американские F-16сбили – так сказать, на «законных основаниях» – четыре сербских самолета. Это – первая боевая акция НАТО за все время существования блока. Одновременно серьезно обострилась общая обстановка. 5 февраля орудийный снаряд попал в заполненный людьми воскресный рынок в Сараево, убив 69 человек и ранив более двухсот. В этом тут же обвинили сербов, хотя последующее расследование указывало скорее на мусульман. НАТО предъявило ультиматум сербам – отвести от Сараево тяжелое вооружение. Их орудия, что ни говори, варварски обстреливали с окружающих гор беззащитный город. В случае невыполнения боснийским сербам пригрозили авиаударами.
Когда мы обсуждали ситуацию на утренней сходке у министра, я предложил, чтобы Россия включилась в происходящее, а именно: отмежевалась от ультиматума НАТО, который с нами согласован не был, и обратилась напрямую к сербам с просьбой отвести свое тяжелое вооружение. Не потому, что они испугались НАТО, а потому, что просит Россия, т.е. по собственной доброй воле. Причем обратиться на высшем уровне. Согласятся сербы – хорошо, не примут – наша совесть чиста: мы пытались отвести от них удар.
Козыреву идея понравилась и он оперативно провел ее через президента. Тот обратился со специальным посланием к Милошевичу и Караджичу. Свои слова мы подкрепили делами: перевели 400 «голубых касок», часть наших миротворцев, находившихся в соответствии с мандатом ООН в Хорватии, в районы вокруг Сараево, занятые сербами. Это давало сербам гарантии против возможного наступления босняков.
Наша комплексная акция – это признавали и европейцы (но не США!) – привела к положительному и для многих неожиданному результату: сербы (и мусульмане) стали отводить свое тяжелое вооружение, либо передавать его под контроль ООН.
Ельцин был очень доволен, в списке тех, кто был награжден месячным окладом за «высокий профессионализм при выполнении поручения президента по Боснии», была и моя фамилия. К сожалению, этот наш успех развития не получил.
На окровавленной сцене югославской трагедии главными протагонистами становились США и НАТО.
Усилиями американцев была прекращена война между хорватами и мусульманами, (она длилась до весны 1994 г.), и создана хорватско-мусульманская федерация в Боснии. США получили своего «good guy». Федерация стала усиленно вооружаться. Эмбарго на поставки оружия БиГ в части, касающейся мусульман, дырявое. Аналогично американцам вооружали Хорватию немцы. Международные посредники теряли влияние, ибо американцы сумели отстранить ООН от мирного процесса, передав его в Контактную группу пяти государств (Германия, Франция, Великобритания, США и Россия), где у Вашингтона больше рычагов, а у нас нет права вето.
К середине 1994 г. Контактная группа (КГ) выработала предложения по политическому урегулированию, близкие к тому, что задолго до этого предлагали Вэнс (потом его сменил норвежец Столтенберг) и Оуэн. Ключевым предложением КГ была карта раздела Боснии и Герцеговины в соотношении 51% – хорватско-мусульманской федерации и 49% – боснийским сербам, образовавшим Республику Сербскую (РС). Американцы поступили слегка (а может быть, не слегка) мошеннически. Они сперва согласовали предложения и карту с мусульманами, которых теперь поддерживали почти открыто, а затем передали «пятерке». Нам уготовили миссию уговорить сербов, чем мы и занялись.
Милошевич на американскую инициативу согласился: ему было обещано снятие или сокращение санкций, от которых задыхалась Югославия. Он даже сделал то, чего от него давно требовали западники – объявил 4 августа 1994 г. о разрыве отношений с Республикой Сербской и о закрытии границы с ней. Сыграв поначалу роль расширителя сербских пределов, он теперь мог выступить как вдохновитель мира. Но и Караджич претендовал на общесербское лидерство и не был склонен уступать его Милошевичу. Соперничество двух «королей» ослабило в конечном счете все три сербских образования – в СРЮ, в Боснии и в Хорватии. Разобщенность сербов, их просчеты и самонадеянность привели к тому, что их били поодиночке.
В начале августа 1994 г. министры иностранных дел пяти стран, входящих в Контактную группу, заявили на своем заседании в Женеве, что принятие боснийскими сербами предложений КГ (хорватско-мусульманская федерация их уже приняла) должно явиться первым шагом к возобновлению мирного процесса.
Это был плохо замаскированный ультиматум. Не без расчета он был и составлен так, чтобы затруднить боснийским сербам согласие на предложения КГ. Наверное, зря мы согласились на игру с выдвижением предварительных условий, тем более что она была продолжена и в дальнейшем. По вине американцев надолго останавливались переговоры в Контактной группе. Попытки с нашей стороны воздействовать на них носили стерильный характер. Затянувшаяся пауза вполне устраивала мусульман и хорватов, укрепивших при щедрой помощи извне боеготовность своих армий. Она явно работала в ущерб боснийским сербам, оставшимся к тому же без поддержки Белграда.
1 мая 1995 г. началось первое наступление хорватов с использованием танков, артиллерии и авиации. Они перерезали связи между хорватскими и боснийскими сербами, не остановившись ради этого перед нападением на миротворцев ООН. За пару дней все было кончено, 15 тысяч сербов Западной Славонии обращены в бегство с насиженных мест. Наступление хорватов синхронизировано с вылазкой мусульман в районе Пасавинского коридора. Без всякого зазрения совести немцы и американцы оказывали поддержку двум сторонам в конфликте – хорватам и мусульманам – против третьей.
А что Россия? Все, чего нам удалось добиться, это довольно беззубое заявление председателя Совета Безопасности. Наше требование наложить санкции на Хорватию удовлетворено не было.
В мае же НАТО нанесла воздушные удары по сербам в Боснии, не обращая внимания на наши возражения. Отбомбили даже Пале, столицу Республики Сербской. Гибнут мирные граждане и миротворцы ООН, их десятками и сотнями берут в заложники, причем и сербы, и мусульмане. Натовцы решили включить не только Горажде, но и остальные так называемые зоны безопасности в список районов, защищаемых альянсом. В случае, если они подвергаются нападению сербов, дается мощный ответ. А мусульмане постоянно провоцируют сербов, устраивая вылазки из этих районов, которые так никогда и не были демилитаризованы.
У Соединенных Штатов ясная цель – закончить войну за счет сербов в пользу мусульман и хорватов. Мы – неохотно и огрызаясь – поддерживаем антисербскую линию. Сила солому ломит. Нет физических возможностей помешать американцам делать то, что они хотят. Остается, как выражались в моем дворовом детстве, «брать на глотку». Можно было хотя бы драматическими жестами типа приостановки участия в Контактной группе привлечь внимание к обстановке. На худой конец отмежеваться как следует. Не сделали и этого.
4 августа 1995 г. стотысячная хорватская армия – Туджман готовил и вооружал ее три года – начала наступление по широкому фронту, и к 6 августа практически вся территория Сербской Краины, включая Книн, в ее руках. Все сербское население, а это 150 тыс. человек, изгнано с земель, где они жили в течение трехсот лет. Ни Милошевич, ни Караджич, ставший у себя в республике Верховным главнокомандующим, не вмешались. Западники вновь ограничились фарисейскими призывами к хорватам, в душе радуясь такому повороту событий. Мало кто вспомнил, что и Краина была объявлена территорией под международной защитой. Честь Запада, если можно так выразиться, спас Карл Бильдт, который не только подверг критике правительство Хорватии, но и упомянул ее президента Туджмана в контексте военных преступлений. За это Бильдт был объявлен персоной нон грата в Хорватии. Тысячи домов покинуты, разграблены и сожжены. Самая большая этническая чистка за время войны, гуманитарная катастрофа.
Хорватского генерала Готовину, устроившего бойню краинских сербов, Международный трибунал в Гааге смог заполучить лишь через два десятилетия после его преступлений. Много лет спустя на поверхность вышли сообщения о том, что американцы не только вооружили и обучили хорватскую армию. Они спланировали операцию против краинских сербов и предоставили разведывательную информацию, включая собранную беспилотными самолетами. Мнения разошлись лишь насчет того, были ли это отставные военные и частные фирмы или были задействованы ЦРУ и Пентагон.
Осенью 2012 г. ооновский суд в Гааге, специально созданный для осуждения военных преступников в бывшей Югославии, освободил генерала Готовину и его сообщников. Равное «милосердие» было проявлено по отношению к Рамушу Харадинаю, бывшему косовскому премьеру. Теперь среди осужденных этим трибуналом числятся почти исключительно сербы. Никто не ответил ни за этнические чистки в отношении сербов, ни за расправу над сербским населением Краины.
К этому времени миротворев ООН в Боснии больше не оставалось, и 60 самолетов НАТО (в качестве предлога был использован взрыв на рынке в Сараево, вину за который приписали сербам) нанесли сильнейший удар по позициям и коммуникациям боснийских сербов, потом еще и еще. На земле к ним присоединились англо-французские силы быстрого реагирования. Вот на какой предмет они были созданы. Козырева, которому говорили, что это миротворческие соединения, обманули в очередной раз. За разрешением на столь крупные силовые акции в Совет Безопасности ООН просто-напросто не обратились. Притянули за уши резолюцию СБ № 836 (голосовать за которую нам, кстати, не следовало) и не постеснялись сослаться на решения Североатлантического Совета, «одобренные Генсеком OOН». Вот так попиралось международное право.
После натовской артподготовки мусульмане силами в 120 тысяч человек плюс хорватские подразделения перешли в наступление. Мы вновь ограничились сотрясением воздуха и угрозой в одностороннем порядке снять санкции с СРЮ. Осуществить угрозу духа не хватило.
В те самые дни, когда бомбили боснийских сербов, Милошевич встретился в Белграде с представителем Клинтона на Балканах Ричардом Холбруком для «мирных переговоров». Так и пошло дальше по двойной колее: навязывание урегулирования и удары по боснийским сербам, причем по все более обширным по обхвату целям, включая мосты, дороги и другую инфраструктуру. Всей мощью Североатлантический альянс навалился на небольшой, от силы 1,3 миллиона, народец. Крылатые ракеты целили теперь практически по всем объектам боснийских сербов. НАТО уничтожило часть сербского ПВО, что весьма пригодилось альянсу в 1999 году. Всего же натовцы совершили 3 тыс. 400 боевых вылетов. Под натовским прикрытием объединенные силы мусульман и хорватов теснили сербов, что сопровождалось массовым бегством гражданского населения. Так день за днем менялась карта БиГ. В конце концов раздел ее территории в пропорции 51% к 49% приобрел географические очертания. Они были близки к тому, что можно было принять мирным путем осенью 1994 г. или даже раньше, избавив от ужасов войны сотни тысяч людей. Такой знающий инсайдер, как лорд Оуэн, прямо пишет, что затянули войну не только боснийские сербы, но и в большой мере Вашингтон.
Балканская одиссея быстро катилась к концу. В октябре 1995 г. американцы навязали враждующим сторонам прекращение огня. 1 ноября начались мирные переговоры в Дейтоне, где мы, да, присутствовали, но в качестве статистов. А подпись России под дейтонским миром, навязанным сербам, по выражению Оуэна, бесславным, лишь подчеркнула ее маргинальную роль.
Милошевич получил в Боснии меньше, чем то, на что сербы могли бы рассчитывать, ибо боялся вернуться в Белград с неснятыми санкциями. Вот сколько его продержали на крючке! Боснийские сербы покидали места, отходившие мусульманам и хорватам, сжигая дома и выкапывая могилы. 12 ноября Милошевич пошел на последнюю уступку Туджману, передав Хорватии Восточную Славонию. Хорватия стала самой этнически чистой из республик бывшей Югославии. 21 ноября президенты Боснии, Хорватии и Сербии парафировали мирные соглашения.
Недолго заставил себя ждать прогноз насчет того, как поступят с Милошевичем, чему он сам в значительной степени способствовал. Подавить сепаратистов в Косово силой ему не дали. То, что казалось немыслимым в 1995-м, стало зловещей реальностью в 1999 году. Начиная с апреля этого года авиация США и других стран НАТО три месяца била с большой высоты по Сербии, выпустив в общей сложности 40 тысяч бомб и ракет – без санкции Совета Безопасности ООН, в прямое нарушение Устава ООН. Члены альянса нарушили и свой собственный устав, ибо атаковали первыми государство, которое ничем не угрожало их безопасности. Нарушили они и Основополагающий акт Россия–НАТО, заключенный в 1997 году. Экономика страны – заводы и электростанции, нефтехранилища, мосты и дороги, системы связи – была покалечена. Погибли тысячи людей. Несмотря на это в определенный момент стало очевидным, что насилие бессильно. И тогда выступила Россия, но с какой миссией? Помочь американцам выйти из тупика, заставить Милошевича принять условия НАТО. В конце концов сломали границы уже в самой ослабленной Сербии – она потеряла часть своей территории Косово, историческую родину сербской нации.
Одно из незабываемых тяжелых впечатлений: вечером стоим с женой на террасе приморского отеля в Словении. Кругом курортная роскошь, а с неба часами доносится тяжелый гул – самолеты НАТО летят бомбить Белград и другие «объекты» в Сербии, прекрасно зная, что делают это в полной безнаказанности. К этому времени я, к счастью, оставил государственную службу, написав летом 1998 г. прошение об отставке.
* * *
Вместо постскриптума. Сложности, с которыми столкнулась российская внешняя политика в 1990-е гг., не были, естественно, обусловлены лишь субъективным, личностным подходом типа следования в фарватере одной определенной группы стран. Не стало мощного генератора воздействия на международные дела, каким служил Советский Союз. Его упразднили, и теперь вряд ли кто-нибудь определит, сколько он смог бы прожить как геополитическая реальность, если бы не Беловежье. Развалив СССР, получили слабую Россию. Предстояло пройти большой путь, прежде чем с нею стали считаться так, как считались с Союзом. Тем более, что российская правящая верхушка полагалась для удержания власти на поддержку извне. Ее шаткое внутриполитическое положение тоже было следствием дисквалификации Советского Союза. Последовавшее после декабря 1991 г. хаотическое ведение внешней политики довершило картину, приведя к тому, что Россия на какое-то время исключила себя из числа основных международных игроков. В ходе развития югокризиса это чувствовалось на каждом шагу.
Анатолий Адамишин – заместитель министра иностранных дел СССР (1986–1990), первый заместитель министра иностранных дел России (1993–1994), министр РФ по делам СНГ (1997–1998). Член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике».

Европа будущего
Движение к федеративному союзу
Резюме: В Европе решение долговой проблемы может стать основой зарождения политического союза, который позволит Европейскому союзу стать одним из мощных столпов геополитического порядка XXI века.
Евросоюз зародился на пепелище Второй мировой и в схватках холодной войны как проект поддержания мира и процветания на континенте. Чтобы выполнить эту миссию в XXI веке – стать чем-то большим, чем простая «защитная реакция на ужас», как выразился французский философ Андре Глюксманн, – сейчас необходимо двигаться к дальнейшей интеграции.
Получая Нобелевскую премию мира в декабре прошлого года, главы трех ключевых институтов ЕС – Еврокомиссии, Европейского совета и Европарламента – заострили внимание на неясности полномочий и отсутствии институциональной четкости, с которыми непосредственно связаны проблемы организации. Если эти институты не станут легитимными в глазах европейских граждан и не сумеют сделать Европейский союз по-настоящему федеративным, когда единая валюта дополнена общей фискальной и экономической политикой, Европу ждет не менее тревожное будущее, чем прошлое. Ее социальную модель будут трепать штормы, порождаемые глобальной экономикой, в которой обостряется конкуренция.
Первым шагом должна стать разработка стратегии экономического роста, которая поможет выбраться из нынешней долговой ловушки и создать пространство, жизненно необходимое для масштабного повышения конкурентоспособности. Как заявлял бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер, «структурные реформы заработают лишь во взаимодействии с траекторией роста». Затем, чтобы продолжить преобразования, ЕС необходимо обеспечить легитимность сильного, но связанного ограничениями европейского правительства, напоминающего нынешнюю федеративную республику в Швейцарии. Это предполагает создание исполнительного органа, напрямую подотчетного европейским гражданам (на базе существующей Еврокомиссии), укрепление Европарламента как нижней палаты законодательного органа и превращение Европейского совета (состоящего из лидеров стран-членов) в верхнюю палату законодательного органа. При этом Франции придется поступиться частью суверенитета больше, чем она считает для себя комфортным, а Германия будет вынуждена осознать, что в ее собственных интересах взять на себя тяготы разрешения нынешнего платежного дисбаланса в еврозоне.
Ключевым аспектом создания федеративной Европы с легитимными институтами управления является эффективное применение принципа, уже известного европейцам как «субсидиарность», когда органы управления более высокого уровня берут на себя только те функции и обязанности, которые не могут быть выполнены на низшем уровне. Институт Берггрюена по управленческому консультированию для будущего Европы проанализировал эти проблемы, собрав компактную группу наиболее видных и опытных европейских политиков, чтобы обсудить и предложить структуру институтов, которые смогут управлять федеративной Европой, а затем составить пошаговый план движения вперед. Эта статья – результат их дискуссий. (В группу вошли Марек Белка, Тони Блэр, Хуан Луис Себриан, Жак Делор, Мохаммед Эль-Эриан, Нил Фергюсон, Энтони Гидденс, Фелипе Гонсалес, Отмар Иссинг, Якоб Келленбергер, Ален Мэнк, Марио Монти, Роберт Манделл, Жан Пизани-Ферри, Романо Проди, Нуриэль Рубини, Герхард Шрёдер, Майкл Спенс, Джозеф Стиглиц, Питер Сазерленд, Матти Ванханен, Ги Верхофстадт, Франц Враницкий и Аксель Вебер.)
Проблема Германии
Сторонники федеративной Европы должны донести свою точку зрения до скептически настроенной европейской общественности. Внимание следует акцентировать не только на преимуществах объединенного континента с крупнейшим мировым рынком и свободным передвижением трудовых ресурсов и капиталов, но и на несоответствии существующих европейских структур требованиям современного глобального мира. Канцлер Германии Ангела Меркель предложила взглянуть на ситуацию как она есть: на долю Европы приходится 7% населения планеты, 25% мирового производства и 50% социальных расходов. Глобальная конкуренция обостряется, и без реформ будет сложно поддерживать государство всеобщего благосостояния, к щедротам которого привыкли европейцы. Европейская общественность, отмечает бывший польский премьер-министр Марек Белка, обычно рассматривает единую валюту как фактор, «усугубляющий недостатки глобализации», а не защиту от них, как будто из-за введения евро экономическая судьба европейцев оказалась в руках глобальных финансовых рынков, а их рабочие места – на балансе стран с дешевой рабочей силой, как в Китае. На самом деле, подчеркнул Белка, все наоборот: единственная возможность сделать Европу снова конкурентоспособной и воспользоваться преимуществами глобализации – перейти к созданию политического союза.
Провал евро навредит как ядру, так и периферии Европы, и немецкому среднему классу, вполне возможно, придется заплатить самую высокую цену. Сегодняшние успехи Германии как самого конкурентоспособного из европейских торговых партнеров были заложены структурными реформами, проведенными несколько лет назад, они включали повышение пенсионного возраста и снижение стоимости рабочей силы. При этом увеличивались капиталовложения в подготовку персонала и НИОКР. Это способствовало сохранению здоровых показателей промышленного производства – 24% от общего объема экономики страны. Однако в Германии, кажется, никогда не обсуждалась перспектива обвала евро и угроза, которую он несет для индустриальной основы немецкого процветания. В этом случае Германии придется вернуться к марке, стоимость ее валюты резко устремится вверх, а конкурентоспособность обрабатывающей промышленности упадет. Немецкие транснациональные компании, не теряя времени, перенесут производство в другие страны, чтобы воспользоваться преимуществами дешевой рабочей силы, глобального распространения технологий и сетями поставок, которые обеспечивают качественное производство в других местах. Исследования и разработки могут остаться дома, но производство и сборка, которые ассоциируются с обилием рабочих мест среднего уровня дохода, будут выведены за рубеж. При таком сценарии больше всего проиграют представители среднего класса, поэтому можно сказать, что евро для Германии – это в определенном смысле классовый вопрос.
Однако именно благодаря традиционно сильной промышленной базе Германия меньше других стран ориентирована на финансовые рынки, в результате немецкая политическая элита менее чувствительна к тому, как фискальная политика, предлагаемая Берлином, воздействует на глобальный рынок ценных бумаг. Однако именно эти рынки диктуют, выживет ли евро и какие затраты понесет немецкий средний класс. Если Германия хочет остаться в глобальном мире процветающей державой и справедливым обществом, вся надежда только на возможность сделать это внутри стабильной еврозоны – и для этого потребуется создать для начала банковский, затем фискальный и, наконец, федеративный политический союз.
Кроме того, крах евро поставит под удар и финансовый сектор, и всю экономику Германии в целом. Эффект домино от дефолтов на периферии Европы в конечном итоге ударит и по немецким банкам и вкладчикам, поскольку они являются основными кредиторами, владеющими проблемными долгами (с учетом гигантских займов на сумму 300 млрд евро, выданных в 2012 г. Греции, Ирландии, Италии, Португалии и Испании). Если провал в еврозоне произойдет из-за нерешительности Берлина, вина за крах Европы целиком ляжет на Германию, а этого не хочет ни немецкая общественность, ни элита.
Итак, у Берлина множество убедительных аргументов в пользу сохранения евро, но для этого он должен помочь скорректировать дестабилизирующий дисбаланс платежей, согласившись на уменьшение положительного сальдо. На самом деле при уменьшении положительного сальдо платежного баланса необходимость в так называемом трансферном союзе, против которого выступают многие немцы, – постоянные субсидии более слабым периферийным государствам – сама собой отпадет. Однако при сохранении значительного положительного сальдо такой союз станет неизбежным, так как только в этом случае другие европейцы получат возможность покупать немецкие товары. Таким образом, главная проблема для Германии сегодня заключается не в том, чтобы выручить остальных, а в том, чтобы спасти себя, пока не стало слишком поздно.
Союз сегодня
В истории можно найти лишь несколько примеров успешных политических федераций. В период конфедерации в 1780-х гг. Соединенные Штаты представляли собой группу малонаселенных молодых штатов с общей культурой и языком, поэтому этот пример недостаточно применим к сегодняшней Европе. Опыт Швейцарии предлагает больше полезных уроков, в том числе медленное созревание. «Федерации нужно время», – говорит бывший швейцарский дипломат Якоб Келленбергер. «Людям, живущим в швейцарских кантонах, потребовались столетия, чтобы узнать друг друга, затем в течение длительного периода существовала конфедерация, и, наконец, в 1848 г. был сделан шаг к федерации. Этому переходу предшествовал период серьезных трений между либералами и консерваторами, протестантами и католиками». Федерация в Швейцарии состоялась, отмечает он, только потому, что центр с уважением относился к автономии кантонов (которые никогда не имели большого желания уступать свою власть) и не злоупотреблял полномочиями. Более того, все полномочия, не делегированные особым образом федеральному правительству, в соответствии с Конституцией Швейцарии остались у кантонов. Пройдя многолетний путь постепенной интеграции, а также учитывая ускорение всех мировых процессов, Европа должна завершить переход к полноценному политическому союзу в ближайшие годы и десятилетия, а не столетия, но тем не менее швейцарская модель может оказаться очень полезной.
Отвечая как-то на вопрос, почему скандинавские страны процветают, несмотря на высокие налоги, экономист Милтон Фридман отметил, что консенсус обеспечивают их общая идентичность и однородная культура. Свободные рынки, подчеркнул он, важны именно потому, что позволяют людям кооперироваться, несмотря на отсутствие общей идентичности и даже на взаимную ненависть. По той же схеме процесс интеграции до сих пор успешно работал в Европе, но для обеспечения прибыли и взаимодействия институтам необходимо продвигаться вслед за рынками. Европейские институты должны сосредоточиться на обеспечении общедоступных товаров и услуг в интересах всего сообщества, избегая при этом излишнего вмешательства в автономную жизнь членов союза. Иными словами, Европе, по примеру Швейцарии, необходимо сильное, но связанное ограничениями центральное правительство, которое способствовало бы максимальному многообразию на местном уровне. Как и везде, это вопрос сбалансированности приоритетов. Управление наиболее эффективно (благодаря тому что оно становится более легитимным и ответственным), когда масштаб невелик; рынки же достигают своего наивысшего расцвета благодаря крупным масштабам.
Одна из сфер, где, безусловно, необходимо централизованное регулирование и институциональные рамки – это финансы. Как отмечал бывший испанский премьер Фелипе Гонсалес, «нелепо, когда страны-члены придерживаются разных правил в общем, интегрированном пространстве, где свободно действуют финансовые институты. Отсутствие единых норм регулирования станет причиной нового финансового кризиса и будет препятствовать развитию Европы в ближайшие десятилетия на фоне новых конкурентных вызовов глобальной экономики». Европейские страны также должны согласовать единые требования к платежному балансу и гармонизировать минимальное налогообложение, чтобы финансировать европейский бюджет. Подобные меры будут способствовать глубоким структурным реформам в странах-членах, включая повышение гибкости рынков труда, что послужит стимулом к повышению конкурентоспособности.
Некоторые считают, что выравниванием европейских государств по таким параметрам, как уровень зарплат, социальный контракт и налоговые ставки, должна заниматься Еврокомиссия, в которой представлены все 27 стран-членов, а не межправительственные соглашения, в переговорах по которым неизбежно доминируют Франция и в особенности Германия. Разумно, но, чтобы взять на себя такую роль, Еврокомиссии потребуется дополнительная легитимность.
Иными словами, чтобы стать лицом политического объединения на континенте, председатель Еврокомиссии должен избираться гражданами Европы напрямую. Европарламенту и Европейскому совету нужна возможность вносить законопроекты (сейчас такими полномочиями обладает только Еврокомиссия). Также имеет смысл распределять места в Европарламенте в более точном соответствии с численностью населения стран-членов. Кроме того, следует ввести пост еврокомиссара по сбережениям, который будет следить за выполнением странами-членами своих обязательств в финансовой и бюджетной сферах.
Бывший глава МИД Германии Йошка Фишер предложил использовать нынешнюю легитимность национальных государств для более эффективной единой европейской бюджетной политики. «Поскольку фискальный союз невозможен без единой бюджетной политики, – отметил он, – ни одно решение не может быть принято без национальных парламентов. Это означает, что есть необходимость в “Европейской палате”, состоящей из лидеров национальных парламентов. Подобная палата поначалу может функционировать как консультативный орган, а национальные парламенты сохранят свою компетенцию; позже, на базе межправительственного договора, она должна превратиться в реальный орган парламентского контроля и принятия решений, в который войдут делегированные члены национальных парламентов». (В том же духе высказывался немецкий философ Юрген Хабермас, предлагая объединить национальный и европейский суверенитет, так чтобы «некоторые члены Европарламента одновременно являлись депутатами своих национальных парламентов».)
Хотя Европейская федерация должна быть открыта для всех членов ЕС, движению в этом направлении не должна препятствовать неготовность отдельных государств, но и навязывание сверху тоже недопустимо. Демократическая общественность каждой из стран должна определиться, насколько глубоко ее желание войти в состав федерации или выйти из нее. Было бы заблуждением считать, что сильный политический союз можно построить на основе недоработанных договоров. В его основу должно быть положено всенародное волеизъявление. Подходящей площадкой для дискуссий, как предложил Шрёдер и многие другие, мог бы стать полномасштабный европейский форум. Бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт, немецкий политик Даниэль Кон-Бендит (оба члены Европарламента) и другие предложили превратить выборы в Европарламент-2014 в избрание учредительного собрания, которое обсудит проект новой Конституции Европы с учетом всех этих идей.
В чем специфика функционирования политического союза в Европе? Предполагается, что Европарламент проголосует за избрание главы Еврокомиссии, который затем сформирует кабинет министров из представителей крупнейших партий в Европарламенте – включая министра финансов, наделенного правом взимать налоги и составлять бюджет Европы. Главной заботой министра финансов явилась бы макроэкономическая координация, а не микроэкономический менеджмент. Другие позиции в кабинете будут распределяться в соответствии с распределением общественных услуг на наднациональном уровне (оборона, внешняя политика, энергетика, инфраструктура и т.д.), оставляя в компетенции отдельных национальных правительств федерации как можно большее число прочих вопросов. Европейский суд мог бы выступать в качестве арбитра в случае возникновения претензий на суверенитет между Еврокомиссией и странами-членами.
Поскольку избрание главы исполнительной власти союза усилит позиции Европарламента, имело бы смысл проводить парламентские выборы по общеевропейским, а не национальным партийным спискам. Многое предстоит определять на выборах, поэтому острота дискуссий и активность избирателей возрастет, что, в свою очередь, повысит легитимность результатов голосования и институтов в целом. Партии, получившие менее 10 или 15% голосов на общеевропейских выборах, будут участвовать в дебатах, но не смогут голосовать. Такой порядок работы способствует компромиссной, центристской политике и позволит избегать тупиковых ситуаций из-за права вето мелких партий в коалиции.
Существующий в нынешнем виде Европейский совет, соответственно, преобразуется в верхнюю палату законодательного органа власти федерации. Членство будет определяться национальными государствами со сдвигом по времени, при этом срок полномочий следует установить дольше минимального избирательного цикла депутатов нижней палаты парламента. Так возможно обеспечить управление на долгосрочный период. В отличие от нижней палаты, которая сосредоточится преимущественно на краткосрочных интересах стран-членов, верхняя палата станет совещательным органом и займется более общими и долгосрочными вопросами. Представительство – на пропорциональной системе в соответствии с численностью населения стран-членов.
Чтобы сохранились такие качества нынешней Еврокомиссии, как внепартийность и приверженность принципам меритократии, каждый министр кабинета в комиссии должен иметь в качестве напарника постоянного секретаря из Европейской гражданской службы в соответствующей сфере компетенции. Как и в идеальной «Вестминстерской системе» формирование бюджета останется в руках Еврокомиссии, а не Европарламента. Комиссия будет выносить бюджет на голосование в парламент; «конструктивный вотум недоверия» позволяет парламенту отвергнуть направления политики, выбранные комиссией. В этом случае формируется новое правительство. (Конструктивный вотум недоверия – это механизм достижения консенсуса, состоящий в том, что вотум недоверия может быть вынесен, только если уже обеспечена поддержка новой, альтернативной правящей коалиции.) Налоги и законы должны быть одобрены большинством обеих палат.
Когда, если не теперь?
На пути к подобному политическому союзу, безусловно, возникнет огромное число спорных моментов. Новые институты и их нормы в идеале должны быть выстроены снизу доверху на учредительной ассамблее, а не посредством изменения договоров. Но как запустить реальный процесс союзного строительства? Крупным партиям, которые получат большинство мест в Европарламенте, придется искать компромисс и вырабатывать общую повестку дня, чтобы обеспечить управление – но что если они не справятся? И самое главное, можно ли действительно построить политический союз, если этому не будет предшествовать строительство нации в масштабах всего континента, нацеленное на создание смотрящей в будущее общей идентичности? Однако сейчас самое важное – признать, что существующая система не работает и более тесная, а не свободная интеграция является наиболее разумным и привлекательным решением.
В 1789 г. Александр Гамильтон, занимавший пост министра финансов США, предложил сильную федеральную систему управления, которая возьмет на себя долги штатов, возникшие в период Американской революции, гарантировав стабильную прибыль в будущем, а в дальнейшем будет проводить единую фискальную политику, в значительной степени сохранив местный суверенитет по нефедеральным вопросам. Это был первый шаг в становлении США как континентальной, а в конечном итоге глобальной державы. Поэтому решение долговой проблемы в ЕС тоже может стать основой зарождения политического союза, который позволит Европе стать одним из мощных столпов геополитического порядка XXI века. Единственный ответ на нынешние европейские вызовы, который могут дать лидеры и общественность Евросоюзе – взять в конце концов обязательства и начать преобразования, преодолев нерешительность.
Николас Берггрюен – основатель и президент Berggruen Holdings, председатель Института Берггрюена по управленческому консультированию для будущего Европы.
Натан Гарделс – старший советник Института Берггрюена, редактор ежеквартального издания «Новые перспективы» (New Perspectives Quarterly).

Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор Facebook, объявил о запуске проекта Internet.org, призванного обеспечить интернет-доступом еще 5 млрд человек на планете."Задача Facebook - прежде всего, открывать людям возможность общаться друг с другом, - сказал Цукерберг. - Тем не менее, для развивающихся стран доступ к сети и участие в экономике знаний остаются проблематичными. Объединив усилия и экспертизу, партнеры проекта Internet.org смогут внести вклад в преодоление этих трудностей и обеспечении интернет-доступом всех, кто пока лишен такой возможности>.
На сегодняшний день только 2,7 млрд человек - чуть более одной трети населения мира - имеют доступ к интернету. Уровень глобального интернет-проникновения ежегодно увеличивается менее чем на 9%. Поэтому основная цель Internet.org - сделать интернет доступным для оставшихся двух третей жителей планеты.
В рамках инициативы Internet.org его основные партнеры - компании Facebook, Ericsson, Mediatek, Nokia, Opera, Qualcomm и Samsung - будут работать над совместными проектами, обмениваться знаниями и сотрудничать с представителями различных государств, чтобы весь мир был на связи. Важную роль в этом процессе будут играть мобильные операторы, а также научное сообщество и эксперты в области связи. На данный момент Ericsson является единственным вендором в проекте Internet.org.
В рамках поставленной задачи участники Internet.org будут сосредоточены на решении трех ключевых проблем, с которыми сталкиваются, в первую очередь, развивающиеся страны: обеспечение интернет-доступа, эффективное использование данных и развитие новых бизнес-моделей, связанных с преимуществами, которые дает подключение к Сети.
<Вот уже более 100 лет Ericsson делает коммуникации более доступными, и сегодня более шести миллиардов человек имеют возможность пользоваться услугами мобильной связи, - говорит Ханс Вестберг, президент и генеральный директор Ericsson. - Мы стремимся к созданию мира, в котором каждый человек и любое устройство будет подключено к Сети постоянно благодаря развитию технологий, соединяющие общество. Мы верим, что доступ к интернету меняет жизнь людей к лучшему и способствует более эффективному развитию. Именно поэтому мы с радостью принимаем участие в инициативе Internet.org ".

ВМЕСТЕ В ШКОЛУ
Евгений Моисеев, e.moiseev@mn.ru
1 сентября учебный год начинается не только в школах и вузах, но и в интернете
К учебному году готовятся не только школы и вузы - более сотни новых, абсолютно бесплатных курсов во всех отраслях знания предлагают и онлайновые образовательные проекты. Все, что нужно для обучения, - знание английского языка и желание учиться. "МН" выбрали самые интересные курсы из числа тех, что не требуют специальной подготовки.
ПОДУМАЙТЕ ЕЩЕ: КАК РАССУЖДАТЬ И СПОРИТЬ
Где: www.coursera.org/course/thinkagain Кто учит: профессора философии Уолтер Синотт-Армстронг и Рам Нета из Университета Дьюка Когда: с 26 августа Сколько: 12 недель по 5-6 часов в неделю Что нужно знать: никаких специальных знаний не требуется, достаточно знания английского языка Зачем: чтобы не давать вешать лапшу на уши. В течение курса организаторы обещают научить простым, но важным правилам размышления на любые темы. Лекторы научат выявлять, анализировать и оценивать аргументы других людей, в том числе политиков, продавцов и учителей, научат выстраивать собственную аргументацию. Ценность таких навыков в повседневной жизни сложно переоценить. Этот курс уже был на сoursera, и пользователи оценили его на твердую "четверку". Сложность - средняя. Темп курса невысок, что неплохо для тех, кто не владеет английским языком как родным
УЧИМСЯ ПРОГРАММИРОВАТЬ: ОСНОВЫ
Где: www.coursera.org/course/programming1 Кто учит: старшие лекторы факультета вычислительной техники Университета Торонто Дженнифер Кэмпбэлл и Пол Гриз Когда: с 19 августа Сколько: 7 недель по 6-8 часов в неделю Что нужно знать: курс рассчитан на тех, кто не умеет программировать вообще, но знание школьного курса математики необходимо Зачем: чтобы понять основы программирования. Умение программировать хотя бы на базовом уровне необходимо, если есть желание быстро реализовывать свои идеи в интернете и превратить их в работающие проекты. Сейчас есть довольно много онлайн- проектов, обучающих программированию, но этот курс, по свидетельству тех, кто его прошел, - один из лучших вариантов для тех, кто вообще никогда не имел никакого отношения к компьютерному коду. Как обещают организаторы, к концу курса вы сможете написать свою собственную программу для обработки данных из интернета и создания интерактивных текстовых игр. Сложность курса невысока, оценка пользователей - "пять с минусом"
ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Где: www.coursera.org/course/maththink Кто учит: сооснователь и исполнительный директор H-STAR institute Стэнфордского университета доктор Кит Девлин Когда: со 2 сентября Сколько: 10 недель по 8-10 часов в неделю Что нужно знать: школьный курс математики Зачем: чтобы развить способность думать так, как мыслят математики. Решать школьные уравнения и мыслить как математики - это совсем не одно и то же. В школе учат решать типовые задачи, мыслить шаблонами, тогда как сами математики применяют свои навыки нешаблонного мышления для решения любых задач в жизни или науке. И это крайне важная способность в нашем меняющемся мире. Пользователи, уже освоившие этот курс, оценили его на твердую "пятерку". Сложность довольно высока, но и результат, судя по отзывам, превосходен
ВВЕДЕНИЕ В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Где: www.coursera.org/course/sustain Кто учит: заместитель директора Школы земли, общества и окружающей среды Университета Иллинойса Джонатан Томкин Когда: с 26 августа Сколько: 8 недель по 8-10 часов в неделю Что нужно знать: никаких специальных знаний не требуется, достаточно знания английского языка Зачем: чтобы глубже понимать, как функционирует и как должно функционировать человечество в условиях глобальных изменений, деградации экосистем и ограниченности ресурсов. Курс посвящен ключевым областям знания теории и практики устойчивого развития: население, экосистемы, глобальные изменения, энергетика, сельское хозяйство, вода, экологическая экономика и политика, этика и история культуры. Сложность курса - средняя, пользователи оценили курс на "четверку"
ИСТОРИЯ РОКА, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Где: www.coursera.org/course/historyofrock1 Кто учит: профессор музыки Университета Рочестера Джон Ковач Когда: со 2 сентября Сколько: 7 недель по 2-4 часа в неделю Что нужно знать: умения музицировать не требуется Зачем: чтобы понимать, откуда "растут ноги" современной гитарной музыки. Первая из двух частей посвящена времени с середины 50-х до конца 60-х годов прошлого столетия. В этом курсе разбирается влияние на музыку в частности и культуру в целом творчества Элвиса Пресли, Чака Берри, Боба Дилана, "Битлз", "Роллинг Стоунз" и других "монстров рока". По отзывам, курс не слишком сложный, но очень интересный
ОНЛАЙНОВЫЕ ИГРЫ: ЛИТЕРАТУРА, НОВЫЕ МЕДИА И НАРРАТИВ
Где: www.coursera.org/course/onlinegames Кто учит: профессор Университета Вандербильта Джей Клейтон Когда: с 9 сентября Сколько: 7 недель по 2-4 часа в неделю Что нужно знать: для обучения на этом курсе быть геймером необязательно, но тем, кто играет, будет интереснее Зачем: чтобы понять, как меняется история, рассказанная в книгах, при переносе на большой экран, в фильм длительностью несколько часов, а затем еще дальше - в многопользовательскую онлайн-игру на месяцы и годы. В ходе курса на примере ММО The Lord of the Rings Online будут изучаться теории нарратива и игр, можно узнать, как стихи Спенсера, Кольриджа, Китса, книги Толкиена и искусство со времен прерафаэлитов повлияли на неосредневековье в фэнтези книгах и играх. Этот курс читается на сoursera впервые, поэтому отзывов о нем пока нет
ПРИВИВКИ
Где: www.coursera.org/course/vaccines Кто учит: профессор Университета Пенсильвании, доктор медицинских наук Пол Оффит Когда: с 3 сентября Сколько: 9 недель по 2 часа в неделю Что нужно знать: специальной медицинской подготовки не требуется Зачем: чтобы разобраться, как работают прививки и что опаснее - сами прививки или их отсутствие. Курс рассчитан на тех, кто не имеет профессионального медицинского образования - молодых родителей, например, которые хотят понять, нужно ли прививать ребенка. В течение курса слушатели узнают о истории развития вакцинации в мире, опасностях и пользе прививок, смогут получить ответы на основные вопросы по вакцинации. Курс легкий, но пользователи оценили его как полезный
СЕТЕВАЯ ЖИЗНЬ
Где: www.coursera.org/course/networks Кто учит: профессор Университета Пенсильвании Майкл Кернс Когда: с 3 сентября Сколько: 7 недель Что нужно знать: специальных знаний не требуется Зачем: чтобы разобраться, как работают социальные сети в широком смысле слова. Во время курса слушателям придется разобраться, как связан наш мир социально, стратегически и технологически и почему это важно. Исследования социальных сетей идут на стыке ряда научных дисциплин - физики, психологии, социологии, математики, экономики, финансов и компьютерных наук. Курс не слишком сложный, но, по отзывам, первая часть курса, когда закладываются основы, слишком теоретическая и сложная для понимания нематематиков. Но ради второй половины стоит приложить усилия и пройти первую. Оценка пользователей - твердая "четверка"
ТВОРЧЕСТВО, ИННОВАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯ
Где: www.coursera.org/course/cic Кто учит: профессора Государственного университета Пенсильвании Джек Мэтсон и Даррел Велегол Когда: с 1 сентября Сколько: 8 недель по 6-8 часов в неделю Что нужно знать: специальных знаний не требуется Зачем: чтобы улучшить качество жизни и развить креативность. Основатели обещают, что участники по итогам курса смогут получить инструментарий для изменения и улучшения бизнеса, общественных проектов и личной жизни, а также ответы на вопросы о том, как генерировать идеи, их оценивать, собрать команду для реализации. Этот курс читается впервые, поэтому отзывов о нем пока нет
ЭНЕРГИЯ 101
Где: www.edx.org/course/utaustin/ut-1-01x/ energy-101/667 Кто учит: заместитель директора Энергетического института Университета Остина Майкл Веббер Когда: с 15 сентября Сколько: данных пока нет Что нужно знать: специальных знаний не требуется Зачем: чтобы понять, какую запредельно важную роль играют в жизни человечества энергоресурсы и почему. Как добываются разные виды топлива, как можно получать электроэнергию и как это все влияет на окружающую среду? А еще можно узнать, как энергия влияет на культуру, экономику, войны и международные отношения. Курс читается впервые, поэтому отзывов о нем пока нет
ДИНО 101: ПАЛЕОБИОЛОГИЯ ДИНОЗАВРОВ
Где: www.coursera.org/course/dino101 Кто учит: профессор Филипп Джон Карри и магистрант Бетси Крук из Университета Альберты Когда: с 4 сентября Сколько: 12 недель по 3-10 часов в неделю Что нужно знать: специальных знаний не требуется. Как пишут создатели, нужны только интернет-соединение и любовь к приключениям Зачем: потому что динозавры! Это как поучаствовать в создании "Парка Юрского периода" и выяснить все об этих огромных (и не только) рептилиях: как они появились, как исчезли, как выглядели. Что ели, как охотились и как размножались? Что общего между человеком и тиранозавром? Основатели курса обещают лекции из палеонтологических музеев и мест раскопок динозавров. Плюс будет возможность, не отходя от компьютера, собрать скелет динозавра. Курс читается впервые, поэтому отзывов о нем пока нет
МИРОВАЯ ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ:
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Где: www.edx.org/course/mit/4-605x/ global-history-architecture-part/884 Кто учит: профессор истории и теории архитектуры Массачусетского технологического института Марк Ярзомбек и историк и урбанист Викрам Пракаш Когда: с 17 сентября Сколько: 13 недель, минимум 5 часов в неделю Что нужно знать: специальных знаний не требуется Зачем: чтобы лучше понимать, почему здания вокруг нас выглядят именно так, а не иначе. Первая часть курса охватывает период от первобытных людей до XV века нашей эры. Можно будет узнать, как появление железа в IX веке до н.э. повлияло на развитие архитектуры, как буддизм и индуизм в Азии поменяли внешний вид поселений, как в XIV веке нашей эры на архитектуру севера Италии повлиял политический ландшафт. Курс читается впервые, поэтому отзывов о нем пока нет

Первоиерарх Иларион
«Спасение России в ее праведниках»
Интервью Первоиерарха Русской Православной Церкви за границей Илариона, митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского, архиепископа Сиднейского и Австралийско-Новозеландского.
– Владыка Иларион, расскажите немного о себе. Вы ведь тоже из семьи эмигрантов – в 1929 году Ваши родители с Волыни иммигрировали в Канаду. Как складывалась их и Ваша судьба?
Митрополит Иларион: – Мои родители жили на территории бывшей Российской империи, в Польше, – из-за того, что менялись политические границы (сегодня это Украина). В конце 20-х годов прошлого века они решили уехать с Волыни. Так я родился в Канаде. Но я никогда не забывал о своих корнях. Мои родители были широкомыслящие люди, они не считали, что если мы – украинцы, то должны враждовать с русскими; они учили меня, что мы – часть единого великого народа, просто принадлежим к разным ветвям его. И я с детства ощущал эту принадлежность к исторической России, а с другой стороны, – к Канаде, стране, где я родился. Лишь много позже я получил возможность посетить свою историческую родину и прикоснуться к ее истокам.
– У Вас очень хороший руский язык. На каком языке Вы говорили в семье?
Митр. Иларион: – По-украински. Мать научила меня читать по-украински. Родители иногда читали друг другу вслух русские газеты. А я русский учил практически с нуля уже в семинарии, в Джорданвилле.
– А кто были Ваши родители?
Митр. Иларион: – Они были простые люди. Родились на Волыни, но уехали очень молодыми, сразу, как поженились, им было по 19 лет. В Канаде эмигрантам можно было получить землю. Наши родственники к тому времени уже переселились в Канаду, написали, что хорошо устроились, – и мои родители поехали. Конечно, все оказалось не так легко, как мечталось. Но начинать жизнь в эмиграции всегда нелегко.
– Когда Вы решили пойти в семинарию?
Митр. Иларион: – В очень раннем возрасте. Мне нравилось быть в церкви, почитал духовенство. Начал читать духовную литературу на английском и на украинском языках. Позднее, когда в 19-летнем возрасте я собирался ехать в семинарию в Свято-Троицкий монастырь в Джорданвилле, наш Владыка Савва, епископ Эдмонтонский, дал мне некоторые книги на русском языке. Это стало началом моего изучения русского языка. Он дал мне «Душеполезные поучения» прп. Аввы Дорофея – я понимал примерно половину, ведь русский очень похож на украинский, и церковные выражения – они общие. Вторая книга – «Невидимая брань» прп. Никодима Святогорца. И третья – свт. Игнатия Брянчанинова «О монашестве». С этими книгами я и приехал в семинарию. И удивился, что могу понимать русский язык.
– После семинарии Вы служили здесь, в Нью-Йорке, потом в Австралии, видели все русское православное рассеяние. Старая русская эмиграция объединялась задачей сохранения единой веры, традиций, русского языка. Она сосредоточивалась вокруг Церкви, которая ее и вела по этому пути. Что, собственно, и формировало единую Зарубежную Россию. Нынешнюю диаспору что-то объединяет?
Митр. Иларион: – Прежде всего, еще живы те люди, которые, вслед за своими родителями, сохраняют традиции Русской Православной Церкви и культуры. Что с каждым поколением, да и с наплывом новой иммиграции, труднее и труднее делать. Очень быстро происходит ассимиляция. Особенно дети быстро теряют свой родной язык. Поэтому если родители не будут в семье разговаривать по-русски, их дети потеряют язык. В мое время здесь, в Америке, это хорошо понимали и старались сохранить язык внутри семьи, прежде всего. Надо, чтобы новые иммигранты обратили особое внимание на своих детей. Надо и церковнославянский учить. Без языка очень трудно понимать церковные службы. Что касается Австралийской епархии, – Австралия всегда была изолирована от остальных континентов, и потому традиции хранятся там дольше. Кроме того, там много потомков русских эмигрантов из Китая, из Харбина и Шанхая. Как Вы знаете, эти города в свое время стали практически русскими по населению и культуре, до 1949 года там сохранялись русские университеты, школы, театры, госпитали, и т. п. Было свыше 20-ти православных храмов в Харбине. Поэтому русская волна эмигрантов из Китая в Австралию сохраняла свои традиции. И до сих пор их поддерживает. Этих эмигрантов много и в Сан-Франциско, и среди наших нью-йоркских прихожан. Они привезли и церковную культуру, и светскую. Они же оказались наиболее сплоченными. Кроме того, само правительство Австралии помогает сохранять национальные культурные традиции, поощряет мультикультурность страны. Поэтому Австралия – это не плавильный котел, как говорят о США, а мозаика национальных культур.
– Современный глобализированный мир стал един. И это дает возможность тесных связей, в частности, между Россией и российским рассеянием. Две даты стоят перед нами – перед Россией и русской эмиграцией: 400 лет Дому Романовых, в правление которых была выстроена великая Российская империя, и 95 лет расстрела последнего императора и его семьи. В 1981 г. РПЦЗ причислила Царскую семью к лику мучеников. День памяти их празднуется 4/17 июня, в день расстрела (а также – в день Собора Новомучеников и Исповедников российских). Но до сих пор, и в какой-то мере это объяснимо в контексте советского периода истории ХХ века, мученическая смерть Семьи многими рассматривается не как гибель за веру, а как политическое убийство. На самом деле, это принципиальный вопрос, а не дело личного выбора. Монарх, по определению, венчается на царство, совершается религиозный обряд, и на царя спускается при этом обряде Божья благодать. В этом суть монархии, а не в обладании политической властью. Однако в контексте атеистического советского ХХ века и произошедшей атеизации всего мирового сообщества трудно оперировать в спорах понятием «Божья благодать». А что бы Вы возразили против аргумента «это просто политическая репрессия»?
Митр. Иларион: – Конечно же, это больше, чем просто политическое убийство, случившееся имеет мистическое значение. Право-славный царь был хранителем Церкви, миропомазывался при коронации, и, по учению Православной Церкви, российский царь был удерживающим началом против прихода антихриста. И когда его не стало, весь адский гнев разлился по русской земле. Ее залили реки крови и мучений, сатанинская ненависть и ярость охватила людей, – вспомним все, что произошло в России в годы Гражданской войны и сталинских репрессий. Старались стереть Церковь с лица русской земли; практически все духовенство и монашество уничтожено было.
йСила русского народа всегда была связана с православием. В Смутное время ведь вставал вопрос о том, быть ли самой России православной или католической, – и тогда она прошла бы совсем иной исторический путь. Почему мы и чтим так этот юбилей – четыре столетия Дома Романовых: Романовы стали православными царями, хранящими веру. И последний русский цать, Николай Второй, был подлинный православный царь, вовсе не «кровавый», как его описывают незнающие подлинной истории периода его правления. Миролюбивый как правитель, доброжелательный как человек. В этом году мы особенно поминаем Царскую Семью в церкви, на службе.
– Царская Семья была канонизирована РПЦЗ в 1981 году. Правда ли, что в Сербской Православной Церкви канонизация была уже в 1930-х годах, такие слухи есть.
Митр. Иларион: – Неофициально, местное почитание. Я помню, было изображение лика царя Николая Второго в каком-то храме в Сербии.
– Владыка, позвольте мне задавать Вам простые, может быть, даже наивные вопросы (но Достоевский называл «детские» вопросы самыми точными), – и куда деться от них современному думающему невоцерковленному читателю? – Итак, в 1981 году РПЦЗ причислила Царскую семью к лику мучеников – то есть пострадавшх именно за свою веру во Христа. А РПЦ, Московская Патриархия, позже, в 2000 в составе Собора новомучеников и исповедников Российских (всего 860 человек), причислила Семью к лику страстотерпцев, т. е. в простом понимании – убитых, в подражании Христу, с физическими страданиями, от рук политических противников (скажем, как мч. Борис и Глеб). Почему все-таки так получилось?
Митр. Иларион: – В нашей службе они называются мучениками, но иногда мы употребляем и «страстотерпцы», потому что понесли страдальческий подвиг. Мне кажется, это почти одно и то же. Все равно Семья почитается как мученики, именно как православная убиенная Царская Семья.
– Вот еще один «детский» вопрос: вместе с Романовыми были канонизированы четверо расстрелянных слуг, – в их числе католик Алоизий Егорович Трупп и лютеранка Екатерина Адольфовна Шнейдер. Как объяснялась канонизация неправославных?
Митр. Иларион: – Как раз этот вопрос поднимался на Архиерейском Соборе РПЦЗ, когда шел процесс подготовки к канонизации. Я тогда архиереем не был, но читал все документы Собора, в частности, ответ на этот вопрос архиепископа Антония (Синкевича) Лос- Анджелесского. Он объяснял, что эти люди, будучи преданными царю, своей мученической кровью крестились, и они достойны, тем самым, быть канонизированными вместе с Семьей.
– В 1981 году были также канонизированы Патриарх Тихон (Белавин), в 1992 году – Вел. кн. Елизавета Федоровна; в 1994 г. – святитель Иоанн (Максимович), архиепископ Шанхайский и Сан-Францисский. А еще ранее, в 1964 г., – Иоанн Кронштадтский, в 1978 – блаженная Ксения Петербургская. Вообще, каждая новая канонизация – это своеобразное подтверждение живой Церкви. Насколько важны новые канонизации для современной Церкви?
Митр. Иларион: – Это всегда происходит в жизни Церкви – кроме, разве, таких периодов, как советский, когда идут гонения и провести канонизацию практически невозможно. Церковь всегда свидетельствует через процесс канонизации, прославления, что такой человек, мы убеждены, в Царствии Небесном, и через его молитвы и явленные им чудеса он является небожителем, а те, кто мученическую свою кровь пролил, они сразу признаются мучениками и не нуждаются в специальном исследовании Церкви по вопросу их канонизации. Но, конечно, после массовых гонений в Советском Союзе на клириков и верующих, архивы по их следственным делам должны тщательно изучаться. Когда Зарубежная Церковь прославляла новомучеников в 1981 году, у нее не было такой возможности работать в архивах, были доступны только живые свидетельства и записи очевидцев. Например, основной работой протопресвитера Михаила Польского, который составил двухтомник «Новые мученики российские», был отбор свидетельств. И им были допущены некоторые ошибки. Отец Михаил сумел собрать только доступные источники. Поступали и разные документы из России. Мы не имели возможность тщательно собрать достаточно материала, поэтому сомнения не вызывали лишь имена известные, а остальные удостоились лишь общего прославления.
– Здесь естественно возникает весьма болезненный вопрос о мощах Царских мучеников. Светская власть и ученые считают, что все доказано. Церковь не признает найденные останки, включая последние, как принадлежащие членам Царской Семьи, хотя ученые, а вслед за ними и государство РФ, и сами Романовы, считают это доказанным. Таким образом, останки не почитаются за святые мощи. На чем основана такая позиция Церкви?
Митр. Иларион: – Наш епископат, Зарубежный, убежден, что это подлинные останки. Было проведено и в России, и в Америке достаточно исследований, в том числе анализ ДНК, которые доказывают это. Но Русская Православная Церковь в России приняла решение воздержаться, пока не будет проведено более полное и, в том числе, – самостоятельное, со стороны Церкви, исследование. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, и вопрос раз и навсегда будет закрыт.
– Цареубийство, всегда, – убийство не просто человека, а помазанника Божьего, который через себя передает Благодать на весь свой народ. В этом суть монархии как верховной власти. В этой логике классического религиозного мира убийство монарха – каким бы он ни был политическим вождем – это ясный грех всего народа. Сегодняшняя Россия, оставаясь светским атеистическим государством, как и весь современный мир, лояльно и даже положительно относится к Церкви, – строятся храмы, появляются новые обращенные... Таким образом, и вопрос о грехе цареубийства сам по себе вновь открыт. По логике классического религиозного общества, Россия обречена – пока не покается; просто путем «построения демократического общества» ее не спасти. Вне этой логики – может, по-библейски, один праведник спасет всех? Или после пережитого кошмара ХХ века грех уже простился?
Митр. Иларион: – Искупление приходит через страдание. Народ России так исстрадался в прошлом веке, что хотя бы частичное искупление он заслужил. А те, кто вернулся или обратился в лоно Церкви, заслужили и полного искупления. Они как бы омывают себя. Чем сильнее вера, тем быстрее Россия освобождается от этого гнета. Скажем, многие сегодня поднимают вопрос об останках Ленина. Конечно, это зловещая печать на России. Надо избавиться от этого, предать прах земле.
– То есть, если говорить высоким стилем, спасение России в ее праведниках?
Митр. Иларион:– Да. Сонм Российских Новомучеников и Исповедников омыл Россию. Она воскресает, и это нелегко, нужно время. С трудом, но она идет вперед.
– Владыка, мы сегодня упомянули много хороших имен. Вот, скажем, свт. Иоанн Сан-Францисский. Ведь помимо всего, он в реальной жизни стал спасителем всей русской китайской эмиграции, добившись у американского правительства виз для русских беженцев из Китая, два года ожидавших решения своей судьбы на острове Тубабао. Занимается ли современная Зарубежная Церковь внецерковной деятельностью – тем, что в светском мире называется «социальными программами»? Какие стоят сегодня задачи – ведь и паства изменилась, и мир.
Митр. Иларион: – Наша задача – воцерковлять людей, которые оказались в эмиграции и которые были лишены до падения советской власти такой возможности у себя на родине. Далее – образование наших детей в русской традиции. Они – дети эмигрантов в нескольких поколениях, и мы должны воспитать их в духе нашей культуры и в лоне нашей Церкви. Далее – мы занимаемся и теми иностранцами, кто приходит в лоно Православной Церкви. Сейчас даже по интернету можно многое узнать о Русской Православной Церкви, и люди в разных странах хотят стать православными.
–У меня тоже есть такие друзья и знакомые американцы, ставшие православными...
Митр. Иларион: – Мы принимаем таких с распростертыми объятиями. Обращаются и целые группы, и духовенство. Поэтому возникает задача не просто сохранить наши храмы, но и строить новые, особенно там, где раньше не было, а теперь появилось много православных мигрантов. Скажем, храмы в Бруклине, во Флориде.
– А вообще, численность прихожан растет? Я знаю, что Патриаршая Церковь не имеет права открывать новые приходы по соглашению с Американской Православной Церковью. На РПЦЗ это не распространяется, не так ли?
Митр. Иларион: – Да, численность растет, ведь растет и русскоязычная иммиграция по всему миру, в частности, в США. Мы не связаны Томосом об автокефалии ПЦА, по которому РПЦ не имеет права открывать новые приходы. Поэтому мы и приходы открываем, и священников поставляем для окормления прихожан. К сожалению, много званных, а мало избранных. Ведь до воцерковления надо духовно дорасти, это тяжелая работа. Другим же это дается сразу, они естественно находят дорогу к храму.
– Владыка, еще один вопрос – и опять болезненный. Мы знаем, что не все в РПЦЗ приняли объединение с Московской Патриархией. Многие прихожане, да и даже целые приходы со священниками, ушли... очевидно, правильно будет прямо сказать: Церковь раскололась. И что делать?
Митр. Иларион: – Я считаю, надо просто молиться за них. И терпеливо ждать их возвращения. Они должны понять, что Москва нас не «оккупировала», не отобрала наше имущество, не подавила. Мы по-прежнему свободно живем и молимся. Ничего в плохую сторону не изменилось. Мы не отошли ни от прежних взглядов, ни от традиций. Ни в чем не изменили веру. Я думаю, те, кто ушел, боялись именно этого. Боялись, что Зарубежную Церковь поглотят. Но вернувшись, они сами увидят, что их страхи были напрасны. Мы с любовью всех примем обратно. Потому что это наши люди. Они были частью нашей паствы. Их не так много – но нам каждый из них дорог.
– Возвращаясь к юбилейным датам – особенно ценимым Зарубежной Россией. Вы планируете как-то праздновать?
Митр. Иларион: – 7 и 8 сентября в Торонто в Свято-Троицком приходе РПЦЗ будут заседать члены Синода, а потом – празднование. 18 июня здесь, в архиерейском Синоде также будет отмечаться 400-летие Дома Романовых, организованное консульством РФ в Нью-Йорке. Мы отслужим панихиду, и консульство устроит небольшой прием. Кроме того, во Владимирские дни в Нью-Джерси в Свято-Владимирском храме-памятнике будет отмечаться 1025 Крещения Руси. Надеемся всех вас увидеть.
– Спасибо, Владыка, – от лица всех наших читателей.
Апрель 2013, Нью-Йорк
Интервью взяла М. Адамович
Опубликовано в журнале:
«Новый Журнал» 2013, №271
БЕЛАЯ ЭМИГРАЦИЯ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Putin Toys With Obama as Syria Burns and Snowden Runs Free
Garry Kasparov on the pathetic kowtowing to Putin—and the terrifying historical echoes of such behavior.
Barack Obama and Vladimir Putin sat across from each other at the G8 meeting last month in Northern Ireland, but their positions on Syria could not be further apart. The G8 statement on Syria that came out from the summit was a triumph for Putin and also a victory for what I would call “consensus through cowardice.” Getting rid of the murderous dictator Bashar al-Assad is not one of the document’s pledges. Incredibly, al-Assad is not even mentioned—no doubt at the insistence of his greatest supporter, Putin. For the sake of a hypocritical display of unity, Obama and the others signed a worthless statement that could have been written in the Kremlin.
President Barack Obama meets with Russian President Vladimir Putin in Enniskillen, Northern Ireland, on June 17, 2013. (Evan Vucci/AP)
Since the Russian connections of the Boston Marathon bombers came to light, the myth of common ground between Putin and the West has received a lot of lip service on both sides. It is useful to Putin both at home and abroad to maintain the illusion that he wants greater integration with Europe and better relations with the United States. In both places there have been recent moves to sanction the Kremlin and Putin’s thugs for human rights violations and criminal activity. Putin needs to show his allies he can still protect them.
This does not mean Putin will cede any ground on anything that matters to him, at least not while Obama and the rest fail to apply real pressure. The latest evidence is the bizarre affair of Edward Snowden, the American NSA employee who leaked classified information about domestic surveillance programs. Then he got on a flight from Hong Kong to Russia and according to reports he’s been sitting in Sheremetyevo airport since Sunday trying to figure out his next move. The U.S. wants Snowden extradited for espionage, and when someone else wants something it’s a chance for Putin to show what “cooperation” really means to him.
First came Putin and Foreign Minister Sergei Lavrov’s statements that Snowden wasn’t technically in Russian territory while in the airport and, therefore, was outside of Russian jurisdiction. Of course Putin feels he has jurisdiction to send tanks into Georgia and military personnel into Syria, and Kremlin critics in London have the odd habit of being murdered. But not the Moscow airport—it’s out of reach! Even that legal loophole expired days ago, however, so now it’s just a matter of Putin wanting to squeeze the most attention and annoyance out of this little accident.
Will Obama and David Cameron pose for more photos with Putin while their dithering guarantees the destruction of the remaining moderate elements among the Syrian rebels?
Reflecting Putin’s opportunism, the Kremlin is now suggesting this situation is an opportunity to create an extradition treaty between Russia and the United States. This would be a grave blow to human rights, and the mere suggestion of such a thing illustrates the dangers of treating an authoritarian state like a democratic nation. An extradition pact assumes that the signatories play by similar rules of justice and have similar values. Imagine an agreement between North and South Korea in which Northerners escaping that colossal gulag were forced to return to misery and death simply because Pyongyang requested it. Putin would use such a treaty to persecute innocent Russians who have escaped his grasp by fleeing the country. Disobedient businessmen, disloyal functionaries, and opposition activists—these are the “criminals” the Kremlin wishes to pursue. An extradition treaty with a country that keeps political prisoners would be a moral outrage.
As for the other direction such an accord would cover, consider the case of Andrei Lugovoi, the former KGB agent wanted by British authorities investigating the 2006 murder by radioactive polonium-210 poisoning of Alexander Litvinenko in London. Lugovoi was the prime suspect, leaving a radioactive trail and accused by the victim on his deathbed. Not only did Putin refuse to extradite Lugovoi to be questioned in the U.K., but he allowed him to become an anti-Western propaganda star who soon won a seat in the Russian Parliament (Duma).
This whole Snowden charade is entirely in keeping with Putin’s technique of having it both ways. He gets to look like a tough guy for standing up to Obama on an issue that matters to Putin not at all while at the same time he pretends he is cooperating as best he can. If Snowden were actually valuable there would be no public show. He’d be in a bunker deep under KGB headquarters, and the Kremlin would be in full denial mode. Or he’d likely never have been let out of China. And as at the G8 meeting, other leaders are too afraid to challenge this flagrant hypocrisy, which further emboldens Putin.
Since Putin’s assault on democracy and human rights began in Russia in 2000, I have used the term “G8” under protest. It remains the G7, or the derisive “G7+1” used by Canadian Prime Minister Stephen Harper prior to Enniskillen. (This was a rare display of backbone that he had to humiliatingly withdraw a few days later.) It is the group of great industrial democracies, and it is difficult to say on which of those two qualifications Putin’s Russia is the greater failure. When Putin hosted the G8 in Saint Petersburg in 2006, he talked about how Russia was becoming more democratic. Seven years of crackdowns later, his government has begun churning out one draconian law after another, many of which contravene the international treaties and human rights accords Russia has signed. The latest is a bill that criminalizes “gay propaganda,” which can be broadly interpreted as anything about homosexuality.
To judge from the G8 Syria statement, one is greater than seven. It is a vague wish list about “diplomatic pressure” and condemning this and supporting that without a commitment to action. And how could there be with Putin there? It is preposterous that the so-called leaders of the free world in Northern Ireland signed a consensus document on Syria with Putin while the Kremlin is supporting al-Assad’s war machine with advanced weapons and Russian military personnel. He got what he wanted, which is to extend the conflict for as long as possible while dragging neighboring powers deeper into the mire. Along with supporting a fellow dictator, this outcome keeps the price of oil high, the only thing Putin and his allies at home really care about.
Cynically referring to the al-Assad regime’s vicious war of oppression against the Syrian people as a civil war is a mendacious trick that invites parallels to the Spanish Civil War. Francisco Franco’s rebellion against the elected government of Spain in 1936 eventually turned the country into the host of a grinding proxy war that could have been avoided by early decisive action. But France and the Great Britain, eager to avoid conflict and even more eager to reach an accord with Hitler’s Germany, immediately promoted a policy of nonintervention regarding the coup by Franco’s forces. Of course, Germany and Italy supplied the Spanish fascists regardless, Hitler providing air power and Mussolini ground forces. Putin’s Russia is happy to take the role of Hitler’s Germany in this bloody reenactment in Syria, while Iran and Hezbollah are playing the Italians.
With no help from Britain and France, by 1938 the Spanish Republican forces were dominated by the only remaining government sponsor, Stalin’s Secret Police, meaning communism and fascism were soon the only options. Although the positions of the rebels and the government are reversed in Syria, the escalating proxy war and the fatal tentativeness of the pro-democracy forces are clearly echoed. Many in the West worry that arming the Syrian rebels will lead to al Qaeda coming to power there. But by withholding support this outcome becomes more likely, not less. If the primary source of support to the Syrian rebels remains the Saudis, it should be no surprise if al Qaeda is the main beneficiary. Will Obama and David Cameron pose for more photos with Putin while their dithering guarantees the destruction of the remaining moderate elements among the Syrian rebels? If yes, the options will soon be limited to al Qaeda and Hezbollah.
The G8 statement refers to bringing all sides of the Syrian conflict to the table. If this conference between a murderer and his victims does take place with G8 oversight, I can suggest a time and place. This September will mark the 75th anniversary of the Munich Agreement, the infamous act of appeasement that permitted the Nazi annexation of Czechoslovakian territory. British Prime Minister Neville Chamberlain hailed the result of the agreement as “peace for our time.” So September 29 in Munich would be the ideal symbolic location for a Syrian “peace conference,” if anyone is left alive to sit across from al-Assad. Perhaps the G7 leaders know the Munich story, but it appears their history books are missing the following chapters. If I am not mistaken, a few important events occurred after Chamberlain’s triumphant declaration, and they were not long in coming.
Garry Kasparov is a former world chess champion and an elected member of the Russian opposition movement’s Coordinating Council.

Арктика на восьмерых
Эволюция роли НАТО в арктических широтах
Лев Воронков – доктор исторических наук, профессор кафедры европейской интеграции, руководитель североевропейского отделения Центра североевропейских и балтийских исследований МГИМО (У) МИД России.
Резюме В современных условиях все сложнее найти для НАТО как военно-политического союза такие миссии в Арктике, которые разделялись бы всеми его членами и были бы в состоянии смягчить или устранить существующие различия в интересах.
Поиски новой миссии после холодной войны заставляли Североатлантический альянс обращать внимание на разные регионы, в том числе и на Арктику.
Распад СССР устранил базовые предпосылки для постоянного институционального присутствия НАТО в Арктике и проведения согласованной военной политики членов альянса. Масштабы военной активности блока здесь заметно сократились, а ее направленность более не определяется противостоянием с каким-либо конкретным государством. Ни одна арктическая страна не воспринимает Россию как непосредственую военную угрозу. Альянс преобразовал часть своих северных военных структур, передав их функции государствам-членам. Закрыто региональное северное командование в Ставангере, его миссия перешла к функциональным структурам в голландском Брюнсуме и британском Нортвуде. Создано новое командование со штаб-кваритирой в Норфолке (США) и его отделениями в Ставангере (Норвегия) и Быгдоше (Польша).
Однако большинство военных структур блока в Арктике периода холодной войны сохраняется. Для поддержания боеготовности войск в регионе регулярно проводятся военные учения. В 2009 г. состоялись военные маневры Loyal Arrow с участием 10 государств, в 2010 г. учения Cold Response в районе норвежского Нарвика, в канадской Арктике регулярно проводятся маневры Operation Nanuk. На 2014 г. запланированы сухопутные и морские учения Response Force в Балтийском регионе, которым будут предшествовать учения по минному тралению.
Государства-члены на ротационной основе осуществляют патрульные полеты боевых машин над территориями Исландии и балтийских государств. В дополнение к американской системе ПРО альянс размещает на Аляске, в Гренландии и в Северной Канаде радары и станции слежения оборонительной системы против тактических ракет. Возможность арктических стран – членов НАТО получить помощь союзников служит своебразным страховым полисом на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
На семинаре НАТО в Рейкьявике в январе 2009 г. определены новые вызовы безопасности – изменение климата, таяние арктических льдов, растущая доступность важных энергетических и морских ресурсов и потенциальное открытие новых навигационных маршрутов в Арктике. Участники пришли к заключению, что современные и будущие миссии НАТО в регионе связаны главным образом с поддержанием «мягкой» безопасности. Однако возможности блока справляться с невоенными рисками в Арктике весьма ограниченны. Современные проблемы региона могут успешно решаться не методами военного давления, а средствами национальной политики арктических государств в зонах их юрисдикции и межправительственного взаимодействия в рамках Арктического совета и Совета Баренцева/Евроарктического региона и других организаций.
В одобренной в Лиссабоне в ноябре 2010 г. новой Стратегической концепции НАТО в области обороны и безопасности Арктика не упоминается. Роль альянса является неопределенной в ситуации, когда, как гласит новая Концепция, «угроза нападения на территорию стран-членов НАТО незначительна». Одновременно прибрежные арктические государства блока опубликовали свои национальные стратегии. По мнению германского эксперта Хельги Хафтендорн, «национальные действия приходят на смену совместным акциям альянса».
НОВОЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АРКТИКИ
Открытие громадных углеводородных запасов на арктическом шельфе создало материальный базис для быстрого роста геополитического значения Арктики. Эти запасы привлекли пристальное внимание большого числа влиятельных государств, в том числе расположенных за географическими пределами региона. Наличие у ряда компаний и стран современных технологий добычи углеводородов на шельфе дополняется возможностями прямого доступа к их арктическим кладовым в связи с активным таянием льдов, вызванным климатическими изменениями. Появляется также вероятность создания в Арктике в ближайшие десятилетия новых глобальных торговых маршрутов, что привлекает внимание крупнейших торговых наций и судоходных компаний. В результате вопросы делимитации арктического шельфа и проблемы применимости международного морского права к Арктике превратились в важнейшие темы мировой политики.
Воздействие климатических изменений на флору и фауну Арктики, а также возможное негативное влияние производственной деятельности на состояние окружающей среды и условия жизни коренных народов придают экологическим проблемам геополитические и гуманитарные измерения.
В результате Арктика утратила статус периферийного района и оказалась в фокусе внимания многих наций. Между прибрежными арктическими государствами, в том числе странами – членами НАТО, существует ряд нерешенных проблем. США и Канада оспаривают морскую границу в море Буфорта между канадской территорией Юкон и Аляской, а также в районе Dixon Entrance, пролива Strait of Juan de Fuca, острова Machias Sea и North Rock. Не решен вопрос относительно принадлежности острова Ханс в проливе Нейрес. Соединенные Штаты продолжают утверждать, что Северо-Западный проход и Северный морской путь являются международными проливами. Канада с таким подходом решительно не согласна. Ни одно арктическое прибрежное государство, входящее в альянс, не ссылается на НАТО как на посредника в разрешении спорных вопросов.
Ратификация Россией, Канадой, Данией и Норвегией Конвенции ООН по морскому праву (1982) обеспечила распространение их национальных юрисдикций на арктический шельф шириной в 200 морских миль и на соответствующие исключительные экономические зоны. Фактически они разделили между собой находящиеся в этих пределах минеральные, углеводородные и биологические природные ресурсы. Положения Конвенции позволяют при определенных обстоятельствах расширить до 350 морских миль зону их национальной юрисдикции в Северном Ледовитом океане. В настоящее время Дания, Канада и Россия собирают доказательства в поддержку притязаний на расширение своих шельфов до 350 морских миль, чтобы предоставить их в Комиссию ООН по границам континентального шельфа.
Отказ американского Сената ратифицировать Конвенцию по морскому праву означает, что Соединенные Штаты не ограничивают ширину своего континентального шельфа в Арктике в принципе. В результате американцы могут использовать ресурсы арктического шельфа не только наравне с другими прибрежными странами, но и с определенными конкурентными преимуществами, так как финансовые и ограничительные обязательства Конвенции не могут применяться к США. Вместе с тем в 2008 г. Соединенные Штаты подписали Илулиссатскую декларацию пяти арктических прибрежных государств, а в 2013 г. Кирунскую декларацию Арктического совета, в соответствии с которыми взяли на себя обязательство действовать в соответствии с международным, в том числе морским правом. В утвержденной президентом Обамой 10 мая 2013 г. новой Национальной стратегии для Арктического региона указывается, что «хотя в настоящее время Соединенные Штаты не являются участником Конвенции, мы продолжим поддержку и соблюдение принципов, установленных обычным международным правом, нашедшим отражение в Конвенции».
Неарктические государства – члены НАТО, как и другие акторы, официально не ставят под вопрос права арктических государств, но продолжают изыскивать пути участия в распоряжении ресурсами Арктики. При этом союзники оказались в этом вопросе по разные стороны баррикад.
Усилия властей, экспертов и средств массовой информации некоторых неарктических государств блока направлены на то, чтобы изменить существующий международно-правовой статус арктического региона путем подписания специального договора по Арктике подобного Договору по Антарктике или трансформации Арктического совета в классическую международную межправительственную организацию, что означало бы де-факто заключение такого договора. Ссылаясь на глобальное значение устойчивого развития Арктики, они настаивают на установлении над ней режима международного управления, которое неизбежно затронуло бы суверенные права арктических государств на часть территорий и потребовало бы изменения международного статуса открытых морей, расположенных далеко за пределами региона. Их арсенал включает попытки противопоставить одни арктические государства другим, внести раскол в их ряды и драматизировать нерешенные проблемы.
Нередко в публичных дискуссиях используются аргументы эры холодной войны – Россию пытаются представить как агрессивную державу, незаконно претендующую на громадные арктические пространства и наращивающую для этого военную мощь. При этом ссылаются на российские планы разместить на Крайнем Севере две военные бригады, избегая упоминаний о том, что Москва вывела военные базы с арктических островов и радикально сократила пограничные войска в регионе сразу после окончания холодной войны. Подобные попытки призваны обеспечить постоянное присутствие НАТО в регионе и тем самым предоставить неарктическим странам блока право непосредственного участия в арктических делах.
Прибрежные арктические государства воспринимают такие планы иначе. В июле 2011 г. группа канадских экспертов пришла к заключению, что планы России разместить две новые бригады на Крайнем Севере «не дают повода для серьезного беспокойства». В этих условиях отношения между прибрежными арктическими государствами – членами Североатлантического альянса и Россией стали обретать прагматичный характер. Они склонны совместно защищать свои права и интересы в Арктике от притязаний других государств. Национальные интересы прибрежных арктических государств, входящих в НАТО, и интересы блоковой солидарности в Арктике далеко не всегда совпадают. Отстаивая свои национальные экономические, а не блоковые интересы, прибрежные арктические государства – члены НАТО обретают куда больше общего с Россией, чем с другими странами альянса, не располагающими международно-правовыми основами претендовать на юрисдикцию над арктическим шельфом и исключительными экономическими зонами в регионе. Эти обстоятельства превращают развивающееся сотрудничество пяти прибрежных арктических государств – четырех членов НАТО и России – в вопросах защиты их прав и интересов в Арктике в закономерное и устойчивое явление до тех пор, пока вопросы делимитации арктического шельфа не найдут окончательного решения. Участие других арктических государств, не имеющих зон юрисдикции в Северном Ледовитом океане, в обсуждении этих вопросов не является необходимым и обязательным. Очевидная общность интересов в фундаментальных вопросах побуждает прибрежные арктические государства согласовывать позиции и углублять взаимодействие.
СТРАТЕГИИ ПРИБРЕЖНЫХ АРКТИЧЕСКИХ СТРАН – ЧЛЕНОВ НАТО
Четыре из пяти прибрежных арктических государств состоят в НАТО. Пять арктических государств, входящих в блок – постоянные члены Арктического совета. Правительства северных стран НАТО выступают за то, чтобы альянс уделял больше внимания национальной обороне, а не миссиям в других частях мира.
В 2008 г. вскоре после вывода американских вооруженных сил с военно-воздушной базы в Кефлавике (2006) парламент Исландии принял Оборонительный акт и Акт гражданской обороны, в основе которых лежит концепция «мягкой» безопасности. В специальном докладе, представленном в марте 2009 г. министру иностранных дел, отрицалось наличие какой-либо актуальной военной угрозы для Исландии. В резолюции, одобренной 28 марта 2011 г. парламентом страны, утверждается, что интересы безопасности в регионе должны обеспечиваться гражданскими мерами и путем противодействия милитаризации Арктики. Исландские законодатели предложили создать на севере Европы зону, свободную от ядерного оружия. Впервые такого рода инициатива выдвинута одним из государств НАТО, что стало отчетливым индикатором кардинальных стратегических сдвигов в Арктике и Северной Атлантике.
Норвегия, считающая НАТО краеугольным камнем своей национальной безопасности и обороны, также пошла на серьезную трансформацию политики. До недавнего времени она делала негласную ставку на поддержку ее позиций со стороны альянса во время переговоров с Россией по поводу раздела спорной зоны континентального шельфа в Баренцевом море. Норвежцы считали, что членство в НАТО позволяло вести переговоры с великой державой на равных и отстаивать свои национальные интересы. Заключение норвежско-российского Договора о морской делимитации и сотрудничестве в Баренцевом море и в Северном Ледовитом океане (согласно ему, углеводородные месторождения в Баренцевом море при определенных условиях могут эксплуатироваться двумя странами как общие) резко сократило потребность Осло оперировать своим членством в НАТО как аргументом в решении спорных вопросов с Москвой.
Полноправное участие стран блока в решении вопросов эксплуатации углеводородов на шельфе Баренцева моря не отвечает норвежским интересам. Норвегия укрепила присутствие национальных вооруженных сил на севере страны и проводит более интенсивное наблюдение за морскими районами с целью обеспечения своего суверенитета в управлении ресурсами. В этой специфической области Осло предпочитает опираться на потенциал своих национальных вооруженных сил, а не на военные возможности НАТО. Норвегия не может даже гипотетически рассчитывать на поддержку альянса в решении спорных вопросов с Россией и другими странами, касающихся рыболовства в Баренцевом море, так как большинство союзников не признают провозглашенную ею в одностороннем порядке рыболовную охранную зону вокруг Шпицбергена.
В объявленной в 2006 г. норвежским правительством новой стратегии развития северных областей отношения с Россией обозначены как «центральное двустороннее измерение политики Норвегии на Крайнем Севере», которая основана «на прагматизме, заинтересованности и сотрудничестве». «Норвегия уверена, что в сотрудничестве с Москвой она сможет наиболее успешно обеспечить свои региональные интересы в рамках многих двусторонних экономических и экологических проектов, отвечающих интересам каждой страны», – пришли к заключению американские эксперты Хизер Конли и Джейми Краут.
Дания благодаря Гренландии, своей автономной самоуправляющейся территории, также является прибрежным арктическим государством. Согласно исследованию Геологической службы США, находящиеся вдоль берегов Гренландии триллионы кубических футов газа и несколько миллиардов баррелей нефти могут позволить Гренландии занять 19-е место среди крупнейших нефтяных провинций мира. В этой связи главное внимание Копенгагена в Арктике сосредоточено теперь на защите ее экономических интересов.
В датском Соглашении об обороне на 2010–2014 гг. констатируется, что растущая активность в Арктике увеличивает нагрузку на вооруженные силы страны. В документе предусмотрена модернизация военных сооружений на Гренландии для придания датским боевым самолетам способности осуществлять мониторинг и обеспечивать суверенитет Дании в этом районе. Стремясь расширить возможности воздушного и морского патрулирования, датские военные запрашивают новые вертолеты, способные действовать в условиях Арктики, и патрульные суда, приспособленные для плавания в сложной ледовой обстановке. Все это в дополнение к 48 истребителям F-16, четырем транспортным самолетам C-30 Hercules, 21 вертолету Sea King и 14 – Merlin, одному эсминцу с тремя вспомогательными судами, четырем фрегатам и большому количеству патрульных судов и судов поддержки, а также системам наблюдения и раннего предупреждения. Соглашение об обороне не связывает обеспечение национальных экономических интересов в Арктике с помощью со стороны НАТО. Оно предлагает объединить Гренландское и Фарерское командования в единую структуру и создать мобильные Арктические силы быстрого реагирования.
Дания планирует модернизировать службы наблюдения за льдами и погодой, расширить станцию «Север», военно-воздушную базу в Туле и воздушную базу в Кангерлуссиаг, создать дополнительные армейские станции в Восточной Гренландии, а также обновить оборонительную инфраструктуру для поддержки инспекционных полетов на север и восток от Гренландии. Она намерена использовать также военно-воздушную базу в Туле, находящуюся в оперативном управлении военно-воздушных сил США в качестве места базирования датских самолетов дальнего действия, осуществляющих инспекционные полеты в регионе.
Канада рассматривает Арктику как неотъемлемую часть своей национальной идентичности. В декабре 2009 г. канадский парламент единогласно принял закон о переименовании морской арктической артерии страны в Канадский Северо-Западный проход, подтвердив тем самым его характер внутреннего пролива. Комитет по вопросам рыболовства канадского сената рекомендовал требовать от всех судов регистрировать свое присутствие в северных канадских водах.
Канада намерена создать мощности, способные «обеспечивать контроль и защищать суверенитет Канады в Арктике», обновить единственный глубоководный порт Нанисивик в Нунавуте на острове Баффин и построить там новую морскую базу. Предполагается также открыть тренировочный центр для действий в суровых условиях Арктики в заливе Резольют, увеличив там военное присутствие на 900 рейнджеров.
Канадское правительство намерено оснастить необходимым снаряжением береговую охрану, построить дополнительный полярный ледокол, 6–8 патрульных судов, закупить 65 современных истребителей F-35, приобрести 10–12 патрульных самолетов для наблюдения за морскими пространствами и создать мощную систему мониторинга с сенсорами, управляемыми беспилотными летательными аппаратами и спутниками. Канада не скрывает намерения при обеспечении своего суверенитета в Арктике и при решении спорных вопросов с другими прибрежными арктическими государствами действовать самостоятельно, руководствуясь национальными, а не блоковыми интересами. Сценарии ежегодных летних маневров Operation Nunalivut, проводимых на севере страны, связаны с решением именно этих задач. МИД Канады высказал намерение укреплять двусторонние отношения с арктическими государствами, усиливать Арктический совет и другие многосторонние институты. При этом министерство не сочло необходимым упомянуть о роли НАТО в канадской арктической политике. Канада, как известно, не позволила включить какую-либо ссылку на Арктику в новую Стратегическую концепцию альянса.
Одновременно Канада стремится к сотрудничеству с Россией по проблемам «мягкой» безопасности в Арктике, подчеркивая, что «геологические исследования и международное право, а не военные затрещины, в конечном счете позволят разрешить спорные вопросы разграничения подводных границ в Арктике».
Особый интерес представляет арктическая стратегия Вашингтона как политического и военного лидера НАТО. Директива, касающаяся новой политики США в Арктике, подписанная Джорджем Бушем в январе 2009 г., гласила: «Соединенные Штаты имеют широкие и фундаментальные для национальной безопасности интересы в арктическом регионе и готовы действовать либо самостоятельно, либо совместно с другими государствами для их защиты». Новая национальная арктическая стратегия Америки базируется на трех основных принципах: обеспечении интересов безопасности США, ответственном управлении арктическим регионом, укреплении международного сотрудничества. «Мы будем стремиться принимать меры как на двусторонней основе, так и в рамках многосторонних органов, включая Арктический совет, которые будут способствовать обеспечению коллективных интересов, содействовать благосостоянию арктических государств, защищать окружающую среду Арктики и укреплять региональную безопасность, и будем предпринимать усилия для присоединения Соединенных Штатов к Конвенции ООН по морскому праву».
Дорожная карта американских военно-морских сил в Арктике, опубликованная в октябре 2009 г., предусматривает расширение операций флота в северном направлении, приспособление боевых возможностей флота к условиям Арктики, усиление систем защиты от баллистических и крылатых ракет и обеспечение контроля над морскими пространствами. Соединенные Штаты планируют разместить 36 истребителей-невидимок F-22 Raptor и патрульных самолетов P-3 Orion на Аляске.
Территории союзных США государств в Арктике служат местом дислокации американской системы противоракетной обороны (Аляска, Северная Канада, Туле на Гренландии, радар в Кефлавике, управляемый исландскими силами обороны) и американо-канадской системы НОРАД.
Американская «Совместная стратегия морской державы ХХI века» утверждает, что нынешнее развитие в Арктике представляет собой «потенциальный источник соревнования и конфликта за доступ к природным ресурсам». Однако даже гипотетическое использование возможностей НАТО для разрешения этих проблем не стало предметом серьезного рассмотрения в этом документе. По мнению Хафтендорн, альянс «не является главным американским инструментом для обеспечения безопасности в Арктике».
Вместе с тем американские документы содержат призывы к укреплению различных форм сотрудничества восьми арктических государств, включая Россию. Соединенные Штаты поддерживают проведение совместных учений и тренировок, обмен информацией и накопленным опытом, а также улучшение механизмов многостороннего сотрудничества, координации и поддержки с военными других арктических государств при проведении поиска, спасения и оказания чрезвычайной помощи. Представитель НОРАД, например, был участником переговоров в рамках Российско-Американского центра предупреждения инцидентов в открытом море в 2009 году. По мнению Гейла Бреймена, операции НОРАД на Аляске могут стать средством «позитивного взаимодействия с российскими военными партнерами в ходе перезагрузки отношений между двумя нациями». «Мы будем изыскивать возможности для работы с Москвой по возникающим новым проблемам, таким как будущее Арктики», – говорится в докладе Quadrennial Defense Review Report за 2010 г., опубликованном Пентагоном.
США считают, что наиболее существенные угрозы для национальной безопасности исходят от негосударственных акторов, которые могут воспользоваться свободными ото льдов водами Арктики для контрабанды наркотиков, оружия, организации нелегальной иммиграции и переброски террористов. Подобные тревоги разделяются и другими прибрежными арктическими государствами, в частности Канадой и Россией. Это служит дополнительным аргументом в пользу более тесного взаимодействия прибрежных арктических государств.
Тем не менее было бы не вполне корректно выводить за скобки тот факт, что и у Москвы, и у Вашингтона сохраняются важные военные интересы в Арктике. Стратегические подводные лодки двух стран, оснащенные ядерным оружием, сохраняют возможность действовать в Арктике. В данном случае речь идет не о коллективных силах НАТО, а об инструментарии политики сдерживания, осуществляемой Россией и США. Военный потенциал Соединенных Штатов используется скорее как инструмент политики национальной безопасности и глобальной стратегии, чем как интегральная часть коллективных сил НАТО, предназначенных сдерживать конкретное враждебное государство в Арктике.
Арктические государства – члены альянса склонны обеспечивать свои интересы в Арктике, полагаясь главным образом на возможности своих национальных вооруженных сил, а не на объединенные силы блока. В современных условиях все сложнее найти такие миссии для НАТО как военно-политического союза в Арктике, которые безусловно разделялись бы всеми его членами и были бы в состоянии смягчить или устранить существующие различия в интересах.
АРКТИЧЕСКАЯ «ПЯТЕРКА» И АРКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Министр иностранных дел Канады Лоуренс Кэннон однажды назвал пять арктических прибрежных государств, включая Россию, странами, «имеющими общие интересы и несущими совместную ответственность в управлении районами Северного Ледовитого океана».
Первая встреча «Арктической пятерки» проходила в Илулиссате (Гренландия) в мае 2008 года. В Илулиссатской декларации, одобренной участниками, указывалось, что существующее морское право дает прочную основу для ответственного управления Арктикой силами пяти прибрежных арктических государств и других ее пользователей. Декларация говорит, что нет «необходимости в создании нового всеобъемлющего международного правового режима для управления Северным Ледовитым океаном». Для разрешения всех спорных вопросов достаточно уже существующей международно-правовой основы.
Участники встречи в Илулиссате выразили стремление сохранить уникальную экосистему Северного Ледовитого океана «как национальными усилиями, так и в сотрудничестве между пятью государствами и другими заинтересованными акторами» и содействовать сохранению жизнедеятельности на море «с помощью двусторонних и многосторонних мер имеющих к этому отношение государств».
«Арктическая пятерка» подтвердила свои суверенные права на северные территории, воды, шельфы, биологические и природные ресурсы Арктики и обязалась регулировать противоречия в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. и другими нормами международного права. Она отвергла идею «установления в Арктике международного режима управления». Участники второй встречи «Арктической пятерки» в канадском Челси в марте 2010 г. заявили о намерении тесно сотрудничать по широкому кругу вопросов – от определения внешних границ их континентальных шельфов и заключения юридически обязательного соглашения о поиске и спасении терпящих бедствие до работы по установлению обязательного режима повышения безопасности судоходства.
Отстаивая совпадающие интересы прибрежных арктических государств от любых претензий со стороны других стран, «Арктическая пятерка» превратилась во влиятельный фактор международных отношений в регионе. Она готова «вносить активный вклад в работу Арктического совета и других международных форумов», не поддерживая предложения, касающиеся изменения его существующего статуса. «Арктический совет, – считают Соединенные Штаты, – должен оставаться форумом высокого уровня, занимающимся проблемами в рамках его действующего мандата, и не должен превращаться в формальную международную организацию».
В мае 2011 г. представители государств – членов Арктического совета подписали в Нууке (Гренландия) соглашение о сотрудничестве в осуществлении воздушного и морского поиска и спасения в Арктике, разделив ее на зоны ответственности участников соглашения, которые при необходимости могут прибегать к помощи не входящих в него государств. В мае 2013 г. в Кируне (Швеция) ими было подписано соглашение о сотрудничестве в борьбе против морских разливов нефти в Арктике.
Все страны «Арктической пятерки» являются постоянными членами Арктического совета. Скандинавские страны – члены НАТО также тесно сотрудничают с другими государствами Северной Европы в рамках Северного совета, Северного совета министров и многих других общих институтов, созданных в рамках «северного сотрудничества». Уровень интеграции между северными странами значительно глубже, чем тот, который достигнут государствами Европейского союза. На повестку дня встали вопросы дальнейшего углубления сотрудничества в сфере внешней политики и политики безопасности. В феврале 2009 г. Торвальд Столтенберг, бывший министр иностранных дел Норвегии, предложил активизировать оборонное сотрудничество между пятью странами Северной Европы, и в 2010 г. североевропейские страны заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. В целом «северная пятерка» – стабильная группа единомышленников, чье тесное региональное взаимодействие в различных областях является неотъемлемой частью их внутриполитической и международной долгосрочной стратегии. Обозначение этого сотрудничества в сфере обороны как создание альтернативы НАТО трудно отнести к бесспорному. Если возникли проблемы в определении миссий всего альянса в Арктике, то их вряд ли можно преодолеть при помощи неких мини-НАТО.
Россия взаимодействует с «северной пятеркой» в Арктическом совете, Совете государств Балтийского моря, Совете Баренцева/Евроарктического региона и в рамках Северного измерения. Любые попытки противопоставить одну группу северных стран другой носили бы контрпродуктивный характер для России, как и для других прибрежных арктических государств. «Арктическая пятерка» и Арктический совет занимаются различными проблемами, и их деятельность не противоречит, а дополняет друг друга.
По окончании холодной войны институализированную роль НАТО как военно-политического альянса в Арктике трудно обосновать. Страны – члены альянса, входящие в Арктический совет, совместно с Россией, Финляндией и Швецией заявили в Кируне в мае 2013 г., что «решения на всех уровнях в Арктическом совете являются исключительным правом и ответственностью восьми государств, подписавших Оттавскую декларацию». Они выразили единодушное намерение и далее укреплять Арктический Совет и стремиться к превращению его в орган, «делающий политику в Арктике». «Нам удалось превратить регион в пространство уникального международного сотрудничества, – подчеркивается в Декларации Арктического совета “Будущее Арктики”, – мы верим в то, что не существует проблем, которые мы не могли бы решить совместно, опираясь на наши отношения сотрудничества на базе существующих норм международного права и доброй воли».
При последовательном проведении Россией курса на взаимодействие с арктическими странами на основе принципов международного морского права и с учетом общности интересов c ними имеются все предпосылки для нейтрализации попыток оправдать более активную вовлеченность военно-политического блока в арктические дела.

Партнерство вокруг 180-го меридиана
Арктическая перезагрузка: новые перспективы на северной границе
Резюме: Реальная перспектива перемен в Арктике – это возможность развивать новые отношения в районе 180-го меридиана, создание партнерства, объединяющего национальные и региональные правительства, коренные народы Севера, деловые круги, экологов и ученых.
Прошло шесть лет с тех пор, как российские исследователи водрузили свой национальный флаг недалеко от Северного полюса. С того памятного дня в рассуждениях об Арктике преобладают темы возможного конфликта за энергетические ресурсы, новых транспортных путей, охраны окружающей среды и биологических ресурсов. Известия о свершениях в регионе приходили ежегодно. В 2011 г. продолжительность навигации по Северному морскому пути почти удвоилась, установлен новый рекорд по тоннажу перевозимых грузов. И Соединенные Штаты, и Россия начали бурить скважины на морском дне в поисках месторождений. Фотографии одиноких белых медведей, дрейфующих на маленьких льдинах посреди расширяющегося моря, обострили осознание того, что изменения в Арктике – скорее угроза, чем новые возможности.
Какими бы важными ни были экономические выгоды или экологические опасности, подлинные перспективы заключаются в новых политических отношениях, которые формируются вокруг Арктики. Геополитические изменения в этой части мира дают надежду на радикальное обновление отношений между Россией и Западом. В отличие от российско-американской «перезагрузки», в центре которой стоят вопросы контроля над вооружениями и мировой торговли, новые арктические связи могут стать основой регионального партнерства между российским Дальним Востоком, Аляской и северными канадскими территориями.
Это новое партнерство будет означать взаимодействие между региональными администрациями, коренными народами, деловыми кругами и гражданским обществом разных стран в рамках более широкого толкования национального суверенитета с опорой на международное право и международные организации.
Меняющаяся геополитика и формирующийся арктический режим
На протяжении XX века геостратеги проводили границу между центральной частью Евразии, на которой в разные эпохи доминировали Российская империя, Советский Союз и Российская Федерация, и периферией Евразии, где доминировали морские державы, наладившие с этой частью мира бойкую торговлю. В 1900 г. контр-адмирал Альфред Тейер Мэхан, отец стратегии США как морской державы, отметил, что доступ России к Мировому океану по Черному и Балтийскому морям можно перекрыть; то же самое можно сказать и о Тихоокеанской акватории, тогда как Северный морской путь заблокирован льдами. Не имея беспрепятственного доступа к открытому океану, Россия не могла угрожать торговым и военным интересам Великобритании, а позже Соединенных Штатов. Хэлфорд Макиндер определил Россию как «ключевую территорию», через которую азиатские войска угрожали Европе со времен татаро-монгольского нашествия.
Профессор Йельского университета Николас Спайкмэн, чей труд по географии и геополитике лег в основу стратегии сдерживания времен холодной войны, писал: «География – самый фундаментальный фактор во внешней политике, потому что это наиболее постоянный фактор». Еще в 1990-е гг. бывший помощник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский отметил, что Россия окружена c запада, юга и востока, не упомянув, правда, о потенциальных изменениях в такой преграде на севере, как затянутые льдом моря. Их постоянство в Арктике оказалось иллюзорным, и стратегия окружения и сдерживания утратила силу.
На протяжении XX века все американские политологи от Мэхана до Бжезинского соглашались с Макиндером в том, что центральная или «ключевая евразийская территория» тесно связана с российской экспансией. Но после того как скованное льдами море открылось на севере, произошли значимые перемены. Северные морские пути и великие сибирские реки обеспечивают Россию транспортными коридорами для развития заброшенных внутренних земель. Необъятные земельные просторы в азиатской части России могут сегодня стать не плацдармом для экспансионизма, а плодородной почвой для внутреннего развития и связью с мировой торгово-транспортной системой по морю.
То, что происходит в Арктике, – результат воздействия технологии, экономики, климатических изменений и политики. В области технологий осуществлен прорыв от ледокола с железным носом на угольной тяге к третьему поколению тяжелых атомных ледоколов. Новые способы нефте- и газодобычи в прибрежных водах сделали доступными запасы углеводородов на Арктическом континентальном шельфе. Экономические преобразования способствовали широкому выходу российских энергетических ресурсов и полезных ископаемых на мировой рынок. Сенсационные изменения климата позволили существенно продлить время навигации. Наконец, политические перемены укрепляют сотрудничество по разным темам от навигации по новым морским путям до разработки инструкций по строительству кораблей и различных объектов, по реагированию на чрезвычайные происшествия, защите окружающей среды и охране биологических ресурсов.
Формирующийся арктический режим основан на балансе между полномочиями прибрежных государств и свободами мореплавания, закрепленными в международном праве и принципах таких соглашений, как Декларация по окружающей среде и развитию (Рио, 1992), где признается право государств разрабатывать свои природные ресурсы, их ответственность за сохранность окружающей среды и право коренных народов Севера участвовать в принятии решений, влияющих на их культуру, среду обитания и образ жизни.
ГДЕ СХОДЯТСЯ МЕРИДИАНЫ
Самый маленький из океанов, Северный Ледовитый, естественным образом разделяется на две акватории. Первая из них, ограниченная береговыми линиями России, Норвегии, Гренландии, а также северной акваторией Атлантического океана, – значительно более населенная часть Арктики, экономическое развитие в которой осуществляется уже более века. Другая акватория, протянувшаяся вдоль 180-го меридиана, побережий российского Дальнего Востока, Аляски и Севера Канады, отделена от развитой части Арктики вековыми ледяными торосами, которые пока не тают, несмотря на глобальное потепление. В этом регионе, простирающемся от Северного полюса до Берингова пролива, три береговых государства имеют общие интересы в части безопасности мореплавания, разработки полезных ископаемых, транспортировки грузов и охраны окружающей среды.
Пока у США и России остаются большие запасы ядерного оружия, бомбардировщики будут патрулировать воздушное пространство, а подводные лодки продолжат играть в прятки подо льдом. Однако эти действия не оказывают значительного влияния на жизнь в Арктике. Стремление к выживанию и развитию в суровых условиях будет побуждать народы объединять усилия и трудиться сообща. И Соединенные Штаты, и Россия, и Канада понимают, что в наши дни в понятие государственной безопасности включается сильная национальная экономика, в развитие которой Арктика может внести важный вклад. Они также понимают, что сохранение присутствия в Заполярье и защита арктических границ – необходимые и важные меры укрепления суверенитета. У каждой из этих трех стран разные приоритеты, природные ресурсы и возможности, но есть и общие интересы. Для России изменение арктического климата означает конец политики XX века, когда ей отводилась роль материкового гиганта, которого можно надежно заблокировать со всех сторон. Расположение Мурманска и Архангельска, крупнейших городов Арктики, позволяет сделать их узловыми пунктами транспортной сети, в которую входят уходящие вглубь материка шоссейные и железные дороги, а также морские пути, соединяющие все порты Арктического побережья и ведущие в Европу, Северную Америку и Восточную Азию. Россия разрабатывает прибрежные энергетические ресурсы для поставки на мировые рынки и вскоре начнет использовать речные маршруты для торговли между своими внутренними территориями и мировыми рынками по Северному морскому пути.
Северные территории Канады зависят от добычи полезных ископаемых. Это не только приносит доход, но и создает рабочие места. А расширение транспортировки грузов по морю между островами Канадского архипелага открывает новые возможности. Аляска в свою очередь надеется на получение экономических выгод от разработки прибрежных месторождений нефти и перевалки товаров, предназначенных для поставок через Арктику. Все три страны заинтересованы в развитии рыбного промысла с учетом миграции рыбы на север через Берингов пролив к теплым водам и открытым морям. И они должны совместно с государствами, ведущими лов рыбы в удаленных водах, обеспечить ответственное управление арктическим рыбным промыслом на основе международных соглашений и хартий. В пограничных и общих акваториях каждая из трех стран может пострадать от действий соседей в части эксплуатации ресурсов и охраны окружающей среды, что еще больше повышает ценность сотрудничества и обмена информацией.
ЭЛЕМЕНТЫ ПАРТНЕРСТВА
Все государства Арктики согласились с принципами и обязанностями устойчивого развития и готовы действовать в Северном Ледовитом океане и примыкающих к нему морях в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Это повлечет за собой гармонизацию трех принципов устойчивого развития: права людей разрабатывать свои ресурсы, долга защищать окружающую среду и права коренных народов участвовать в решениях, от которых зависит их жизнь и культура (Декларация Рио по окружающей среде и развитию, Конференция ООН по окружающей среде и развитию, июнь 1992 г.; См. Принципы 2, 3 и 22). Три государства также приняли общий правовой режим, взяв на себя обязательства в рамках Конвенции ООН по морскому праву как части международного законодательства, применимого к мореплаванию в Арктике. Соединенные Штаты пока не ратифицировали эту конвенцию, что ограничивает возможности их лидерства, а также и в будущем истолковании или модификации морского права для Арктического региона.
У арктического партнерства стран, расположенных вокруг 180-го меридиана, уже есть основа. Помимо глобальных соглашений по морскому праву и устойчивому развитию, арктические государства и народы решают свои проблемы через работу в Арктическом совете и других международных организациях. Аляска и российский Дальний Восток выстраивают пограничные отношения с 1980-х гг., а эскимосы Северной Америки восстановили связи и контакты с российскими соплеменниками и другими коренными народами Севера. Подразделения береговой охраны США, Канады и России взаимодействуют через Северный тихоокеанский форум подразделений береговой охраны. Россия и Соединенные Штаты находятся на начальном этапе разработки системы управления движением в Беринговом проливе.
В Арктике уже есть модель регионального сотрудничества, в частности в Баренцевом море. Россия, Норвегия, Финляндия, Швеция и ЕС создали Совет Баренцева/Евроарктического региона, поэтому вопросы, связанные с Баренцевым морем, могут решаться на всех уровнях управления. Подобным же образом США, Россия и Канада, а также коренные народы Восточной Арктики могут и должны работать сообща в интересах всеобщего развития и защиты окружающей среды, разделяя все издержки, обязанности и выгоды от совместных усилий. Однако имеются существенные различия между сравнительно развитым и густонаселенным побережьем Баренцева моря и неразвитыми, малонаселенными землями в районе 180-го меридиана, а поэтому и механизмы сотрудничества могут существенно различаться.
Арктическое партнерство должно преодолевать культурные, лингвистические и политические различия. Региональное сотрудничество выиграет от облегчения пересечения границы, как это уже сделано для эскимосов России и США, которые без визы ездят в гости друг к другу. Партнеры могут получать выгоду от обмена такой дорогостоящей техникой, как ледоколы и космические спутники для навигации, коммуникации и мониторинга поверхности. Безопасность на арктических морях потребует обмена данными о погодных условиях и состоянии льда, а также о возникновении чрезвычайных ситуаций на море или несчастных случаях на производственных объектах. Регион все еще недостаточно изучен, а системы мониторинга здесь дороги и малодоступны, потому обмен информацией и техникой – важная мера поддержки регионального планирования, особенно в эпоху строгой финансовой дисциплины. Региональные соглашения крайне необходимы для управления в открытом море, за пределами территориальных вод, и получения выгоды от миграции рыбы, регулирования навигации в покрытых льдом областях особых экономических зон, и для разрешения пограничных проблем, в том числе на американо-канадской границе в море Бофорта, для ратификации Москвой американо-российского соглашения о морской границе и присоединения США к Конвенции по морскому праву.
Для регулирования хозяйственной и прочей деятельности и для обеспечения безопасности на границах понадобятся ледоколы, корабли и самолеты полярного класса и беспилотные аппараты, приспособленные к полярным условиям. В экономике, где переоборудование одного-единственного ледокола – серьезный вызов для государственного бюджета, распределение ресурсов для безопасного и благоразумного использования Арктики должно быть общей ответственностью прибрежных стран.
Научное понимание и технологические возможности следует развить для того, чтобы решать проблемы изменения климата и интенсификации человеческой деятельности. Все жители региона могли бы выиграть от нового взгляда на арктические проекты, призванные решить такие проблемы, как потепление в зоне вечной мерзлоты, работа техники в условиях низких температур, технология дистанционного зондирования почвы, моря и льда, а также внедрение информационных технологий для связи между людьми в малонаселенных регионах. Электронная сеть взаимодействия с учебными заведениями мирового класса и университетскими кампусами во всех странах арктического региона необходима для обеспечения дистанционного обучения с акцентом на преодоление языковых и культурных различий.
* * *
Перемены, происходящие в Арктике, знаменуют начало многообещающей, но полной рисков эры. Доступ к арктическим портам и водоразделам положил конец прежней стратегии сдерживания и окружения, открыл эпоху разработки месторождений полезных ископаемых и выхода на мировые рынки. Но, хотя главное внимание направлено на экономические выгоды, реальная перспектива перемен в Арктике – это возможность развивать новые отношения в районе 180-го меридиана, создание партнерства, объединяющего национальные и региональные правительства, коренные народы Севера, деловые круги, экологов и ученых.
Государственным и надгосударственным органам нужно трудиться сообща, а также сотрудничать с Арктическим советом и другими международными структурами, такими как Международная организация по мореплаванию и Межгосударственная океанографическая комиссия. Совет Баренцева/Евроарктического региона и Северный тихоокеанский форум подразделений береговой охраны могут стать моделью для развития эффективной кооперации регионов Северной Америки и российского Дальнего Востока. Необходимо также привлекать к взаимодействию неарктические государства, которые могут использовать нейтральные воды и ресурсы Арктики.
Географическая изоляция трех арктических регионов от областей с более умеренным климатом означает, что у людей, живущих вокруг 180-го меридиана, много общих интересов, которые не разделяются большинством их сограждан. Значительная удаленность этих регионов от центральных органов власти в Москве, Оттаве и Вашингтоне ограничивает их роль в национальных дебатах, но предоставляет возможность для экспериментов в развитии регионального управления и международного сотрудничества.
Выгодное географическое и политическое положение Аляски, исторически связанной с Россией и культурой коренных народов Севера Канады и Северо-Восточной России, позволяет ей содействовать созданию партнерства в зоне 180-го меридиана. Жителям Аляски не терпится стать застрельщиками в региональных консультациях и сотрудничестве. США, Канаде и России пора уже воодушевить и поддержать народы и организации Арктики в разработке политического курса, совместимого с международным правом и национальной политикой, который вместе с тем соответствовал бы интересам людей, живущих в регионе, и способствовал бы их взаимовыгодному сотрудничеству.
Кейтлин Антрим – исполнительный директор Комитета за правовое регулирование океанов.

Капитализм как режим власти
Пётр Дуткевич – профессор политологии Карлтонского университета (Канада).
Шимшон Бихлер – израильский политэконом, преподаватель ряда университетов, автор (совместно с Джонатаном Ницаном) многих работ, посвященных проблеме современного капитализма и власти.
Резюме: Поскольку мировой кризис продолжается, и правящий класс балансирует на грани паники, существует реальная вероятность массового сдвига вправо, как в 1930-е годы. Поворот будет трудно предотвратить, не говоря уже о том, чтобы противодействовать ему или обратить вспять при отсутствии новой теоретической альтернативы.
Пётр Дуткевич беседует с Шимшоном Бихлером. Полный текст его интервью с Бихлером и Нитцаном будет опубликован в книге «Двадцать способов наладить дела в мире: беседы с ведущими мировыми мыслителями» (Twenty Ways to Fix the World: Conversations with the World's Foremost Thinkers) под редакцией Петра Дуткевича и Ричарда Саквы. Издание выйдет в свет в издательстве New York University Press, New York & London, 2014; © World Public Forum (Мировой общественный форум «Диалог цивилизаций»).
ПД: – Давайте начнем с общей картины сложившейся экономической системы: пожалуйста, оглянитесь вокруг и скажите, в чем вы видите главные особенности нынешней рыночной системы?
ШБ: – Ваш вопрос обременен гораздо большим подтекстом, чем может показаться на первый взгляд. Как я себе представляю, описывать нынешнюю «экономическую и рыночную систему» – значит соглашаться с этими терминами как с объективной реальностью или по меньшей мере считать их полезными понятиями. Но являются ли они таковыми?
ПД: – Так какими терминами вы бы воспользовались? Имеется ли альтернативный подход?
ШБ: – Да, имеется, но прежде чем к нему перейти, нам нужно определиться с проблемой в рамках традиционного подхода. На мой взгляд, такие фразы, как «экономическая система» и «рыночная система» – это ошибочная терминология, поскольку они неактуальны и вводят в заблуждение. Сегодня они чаще используются в качестве идеологических лозунгов, а не научных понятий. От частого их употребления смысл капиталистических реалий отнюдь не проясняется. Конечно, так было не всегда. В XVII и XVIII веках, когда капитализм еще находился в стадии становления, не было необходимости в апологетах рынка. Напротив, рынок воспринимался как носитель прогресса – могущественный институт, предвестник свободы, равенства и терпимости. «Посетите Лондонскую биржу, – писал Вольтер. – Это куда более достойное место, чем Королевский суд. Там вы найдете представителей всех народов, которые спокойно работают над повышением благополучия. Там магометанин, еврей и христианин обращаются друг с другом так, как будто все они одной веры. Они никого не называют “неверными”, если только кто-то не становится банкротом». Рынок оказал глубокое влияние на историю Европы – отчасти потому, что возник в, казалось бы, малоподходящей обстановке. После вторжения кочевых племен и падения цивилизации императорского Рима в Европе первого тысячелетия новой эры установился крайне раздробленный социальный режим, который мы называем феодализмом. Он опирался на автономные сельские поместья, где землю возделывали крепостные крестьяне, а управлялись они жестокой аристократией. Технологические ноу-хау в тот период были крайне скудными, урожайность культур низкой, а торговли почти не существовало. Властные отношения узаконивались священным понятием «общественной пирамиды», которую составляли приоры, воины и землепашцы (или, если говорить более политизированным языком, духовенство, знать и крестьяне). Купцам и финансистам в этой структуре не было места.
Но это продолжалось недолго. Феодальный порядок начал распадаться в первой половине второго тысячелетия нашей эры, и его упадок сопровождался – и в какой-то мере даже ускорялся – оживлением торговли и ростом таких купеческих городов, как Брюгге, Венеция и Флоренция. Эти изменения ознаменовали формирование совершенно иного общественного строя – городской цивилизации, породившей новый правящий класс, известный как буржуазия. Это был беспрецедентный в истории научно обоснованный ненасильственный переворот и возникновение новой культуры, которую мы называем либеральной.
В силу европейской специфики этого процесса рынок стал символом отрицаниястарого режима. В противоположность феодализму, с которым ассоциируется коллективистский, застойный, суровый, невежественный и жестокий режим, рынок сулил индивидуализм, рост, благосостояние, просвещение и мир. И именно этот наиболее ранний конфликт между властью феодалов и капиталистическими устремлениями впоследствии выкристаллизовался в то, что большинство людей в наши дни воспринимают как очевидный дуализм: контраст между государством («политикой») и рынком («экономикой»).
В соответствии с традиционным представлением о бифуркации экономика и политика – это ортогональные сферы, одна горизонтальная, а другая вертикальная. Экономика – сфера независимости, производительности и благополучия. Своего рода расчетная палата, где в обмен на чеки удовлетворяются желания и мечты, арена добровольной деятельности, на которой автономные агенты занимаются производством и обменом для улучшения своей жизни и увеличения своей полезности. В отличие от нее политическая система государственных организаций и институтов – средоточие власти и контроля. Структура свободной экономики плоская, политика иерархична по своей природе. Это командная система, которая держится на принуждении, угнетении и послушании.
Экономика, а точнее – рыночная экономика, считается производительной силой, создающей богатство. Она эффективна (сводит к минимуму издержки) и гармонична (стремится к равновесию). Кроме того, в ней присутствует свободная конкуренция, и она стремится к умножению благосостояния (за счет максимального увеличения полезности). Если предоставить ее самой себе (то есть не ограничивать свободу предпринимательства – laissez faire), то она способствует благосостоянию общества (поддерживая экономический рост и увеличивая богатство стран). В отличие от нее, политическая система склонна к расточительности и паразитизму. Ее цель – не производство, а перераспределение благ. Ее представители – политики, государственные чиновники и бюрократы – стремятся к власти, положению и престижу. Они жаждут вмешиваться в экономику и монополизировать ее. Они облагают налогами, заимствуют и тратят средства, а в процессе этой деятельности душат экономику и делают ее малоэффективной. Иногда внешние факторы и крах рынка требуют государственного вмешательства. Но это вмешательство, как утверждается, должно быть минимальным, временным и подчиняться основополагающей логике экономического развития.
ПД: – Стало быть, рынок выполняет функцию новой идеологии для буржуазии?
ШБ: – Совершенно верно. Представление о рынке, которое я только что обрисовал, во многом обязано Адаму Смиту – шотландцу, жившему в XVIII веке, который превратил идею рынка в ключевой политический институт капитализма. Изобретение Смита помогло буржуазии ослабить, а затем окончательно ниспровергнуть феодально-монархическое государство, и это лишь для начала. Довольно скоро рынок стал главной идеологией победившего капиталистического режима. Он помог капитализму распространиться по всему миру и победить такие конкурирующие режимы, как фашизм и коммунизм. В Советском Союзе, где производство подчинялось хаотичному планированию и сопровождалось тираническим правлением, организованным насилием, открытой коррупцией и ограниченным потреблением, рынок символизировал другую жизнь. Альтернативный мир свободы и изобилия. И это восприятие все еще вбивается в наши головы идеологами капитализма. В конечном итоге нам внушается, что есть только один выбор: рынок или Госплан. Если мы не выбираем эгоцентризм и свободу, то будем обречены на планирование и тиранию, и на этом весь выбор заканчивается. Другой альтернативы не существует – по крайней мере, так утверждает догма.
Идейный фундамент, подводимый под эти аргументы, был заложен в конце XIX века после формального разделения классической политэкономии на две самостоятельные научные дисциплины: политологию и экономику. Термин «экономика» (economics) был изобретен Альфредом Маршаллом (Кембриджский университет) для обозначения новой маргинальной, или неоклассической, доктрины политэкономии. Маршалл также написал первый учебник по экономике (изданный в 1890 г.), где определил жесткие рамки этой дисциплины, разработал ее дедуктивный формат и привел многочисленные примеры, которые до сих пор используются.
Экономика так и не стала настоящей наукой по одной простой причине: это было невозможно. Наука по своей природе скептична. В отличие от бесконечно уверенной в собственной правоте религии, опирающейся на догмы, наука основана на сомнении. Она не апеллирует к обрядам и неизменяемым догматам, но ищет новые объяснения постоянно расширяющихся горизонтов. Она пытается не оправдывать, а понять. В этом смысле экономика не похожа на науку. Наоборот, она стремится не объяснить капитализм, а оправдать его. Когда экономика впервые появилась на свет в конце XIX века, капитализм уже одержал победу. Но он в те годы отличался крайней нестабильностью, подвергался атакам со стороны многочисленных критиков и революционеров, поэтому нуждался в защите, и идейная защита была доверена новым жрецам либерализма – экономистам. Чтобы справиться с этой ролью, экономисты разработали сложную систему математических формул, доказывающую, что свободная полностью нерегулируемая экономика, если таковая возможна, по определению даст нам лучшее во всех возможных мирах.
Традиционный контраргумент, приводимый многими неортодоксальными критиками, состоит в том, что неоклассические модели могут быть элегантными, но имеют мало общего с реальным миром, в котором мы живем. И в этом наблюдении, конечно, большая доля истины. Но экономическая наука страдает от более глубокой и серьезной проблемы, которая едва ли кем-то упоминается: она опирается на фиктивные количественные показатели.
Любая наука зиждется на одном и более фундаментальных количественных показателях, в которых выражены все другие величины. Например, в физике есть пять фундаментальных количественных показателей: расстояние, время, масса, электрический заряд и тепло – и все другие параметры устанавливаются на их основе. Скажем, скорость – это расстояние, поделенное на время, а ускорение – это временная характеристика скорости. Сила тяготения – это масса, умноженная на ускорение. Если экономика – наука, то она должна оперировать с помощью фундаментальных показателей, и экономисты утверждают, что таковые имеются. Фундаментальный количественный параметр неоклассической вселенной – это единица гедонистических удовольствий, или ютил (единица полезности, util. –Ред.).
ПД: – Не могли бы Вы подробнее остановиться на этом? Каким образом ютил может быть основой или фундаментом неоклассической экономики?
ШБ: – Ответ начинается с традиционной бифуркации самой экономики на две количественные сферы: реальную и номинальную. По мнению экономистов, ключ в реальном секторе, так как это материальный мотор общества, сфера материальных активов и технологических ноу-хау, место производства и потребления, источник благосостояния. Номинальная сторона экономики вторична. Это сфера денежного обращения, цен, стоимости и финансов, инфляции и дефляции, спекулятивных пузырей на фондовом рынке и его последующих обвалов. Будучи чрезвычайно динамичной, номинальная сфера не живет собственной жизнью. Ее денежные величины просто отражают то, что происходит в реальном секторе – иногда точно, а иногда приблизительно. Речь идет о количественном отражении: ценовые количественные параметры номинальных сфер отражают существенные качественные параметры реальной сферы.
В конечном итоге все количественные параметры в экономике сводятся к ютилам. Ютил – предельная единица экономической науки. Это фундаментальный количественный показатель – тот строительный кирпичик, из которого состоит все здание экономики. Сами ютилы, подобно греческим атомам, всюду идентичны, но их сочетание приводит к появлению бесконечно сложных форм, которые экономисты называют товарами и услугами. Каждая составная часть реальной экономики – от общего объема производства, потребления и инвестиций до размера ВВП, военных расходов и технологического масштаба – сумма производимых ютилов. А ценовые величины номинальной экономики – например, цена промышленного робота в долларах (скажем, 5 млн долл.) и цена модного айфона (500 долл.) – просто отражение соответствующих реальных количественных параметров, деноминированных в ютилах (их соотношение – 10 000 : 1, если это отражение верно).
И здесь мы подходим к самой сути вопроса: этот ютил, считающийся базовой или предельной количественной единицей, из которой извлекаются другие экономические показатели, не поддается измерению и даже познанию! До сих пор никому не удавалось количественно определить ютил, и я очень сильно сомневаюсь, что это кому-либо когда-то удастся. Это чистая фикция. И поскольку все реальные экономические количественные показатели деноминированы в этой фиктивной единице, отсюда вытекает, что и эти показатели тоже фиктивны. Измерять «реальный ВВП» или «уровень жизни» без ютилов – все равно что измерять скорость без времени или силу тяготения без массы. Следует отметить, что аналогичную критику можно использовать против классического марксизма. Элементарной единицей марксистской вселенной является общественно необходимый абстрактный труд. Это фундаментальный количественный показатель; из него состоят все реальные величины, которые должны отражаться в номинальных сферах. Вместе с тем ни один марксист никогда их не измерял.
Это похоже на притворство героев сказки «Новое платье короля» Ганса Христиана Андерсена. Студенты, ослепленные бесконечной зубрежкой «практических» заданий, даже не подозревают, что их «расчеты» лишены всякого практического смысла. Из памяти большинства профессоров, вышедших из мясорубки неоклассического образования, благополучно стерты все следы этой проблемы (если предположить, что они вообще ее осознавали). А у статистиков, задача которых состоит в измерении экономики, нет другого выбора, как только придумывать цифры на основе произвольных предположений, которые никто не может ни подтвердить, ни опровергнуть. Все здание подвешено в воздухе, и все хранят молчание, чтобы оно не рухнуло.
ПД: – Иными словами, вы утверждаете, что одно из немногих якобы прочных оснований, на которых зиждется наша жизнь – понятие о том, что экономические параметры поддаются измерению и что они объективны, – это фикция?
ШБ: – Да, и не следует забывать, что это господствующая сегодня в мире идеология. Каждый винтик в корпоративной и военно-государственной мегамашине – от бизнес-менеджеров и специалистов по государственному планированию до армейских офицеров и сотрудников Центрального банка, а также финансовых аналитиков, бухгалтеров и налоговых инспекторов – образно говоря, имеет отношение к условностям и ритуалам этой доктрины. Все они слепо принимают на веру одни и те же мантры капиталистической матрицы, которые никогда не ставятся под сомнение: что экономика производит блага, а политика паразитирует, что рынок все уравновешивает, а государство дестабилизирует. И, конечно, нам нужно постоянно контролировать правительство, чтобы оно не позволяло себе никаких излишеств, выводить экономику из-под опеки государства и усиливать конкуренцию.
Так что если вернуться к вашему первому вопросу, я не могу охарактеризовать современную действительность с точки зрения экономики и рыночной экономики, потому что эти категории сбивают с толку. Они впихивают нас в жесткий неоклассический шаблон, притупляют проницательность и душат воображение, делая творческое мышление невозможным. Если мы хотим преодолеть эти препятствия и мыслить открыто и непредвзято, то первое, что нужно, – расстаться с подобными категориями.
И пришла пора это сделать. Мы живем в условиях глубокого кризиса, а кризисы такого рода иногда приводят к интеллектуальному ренессансу. Они усиливают критическое мышление, порождают новые методы исследований и помогают нам придумывать альтернативные формы деятельности. Великая депрессия 1930-х гг. стала катализатором такого возрождения. Этот кризис изменил наше представление об обществе и подходы к его критике. Он породил либеральную макроэкономику и антициклическую государственную политику, вдохнул новую жизнь в марксистское мышление и другие ветви радикализма в разных областях – от политэкономии до философии и литературы. Кризис поколебал многие господствующие догмы и способствовал взаимному оплодотворению идейно противоположных подходов.
ПД: – Некоторые говорят, что кризис 2007–2009 гг. стал спусковым механизмом для подобной переоценки, но действительно ли мы видим какие-то реальные изменения в восприятии экономики?
ШБ: – Я так не думаю. Можно было бы ожидать возрождения наподобие того, которое произошло после Великой депрессии, но мы нигде не видим признаков такого возрождения. Небольшая горстка экономистов основной волны, включая Роберта Рубина, Джозефа Стиглица и Пола Кругмана, обрушилась с критикой на основы собственной науки. Но помимо нравственного негодования и «еретических» прогнозов, их критика не содержит ничего принципиально нового. Зато реальным разочарованием стала теоретическая слабость левых. В 1930-е гг. радикальные движения и организации вдохновились новыми теориями капитализма и выступили с детальным обоснованием его замены. Сегодня не происходит ничего подобного. Движениям антиглобалистов, зеленых и «Оккупируй Уолл-стрит» недостает этой энергетики, поскольку им не на что опереться. Отсутствует обновленный теоретический фундамент, необходимый для построения новой идеологии, а без такого фундамента им трудно разработать действенную критику капитализма, не говоря уже о том, чтобы предложить внятную альтернативу.
Подобный изъян создает вакуум, который все чаще заполняют религиозные и праворадикальные движения. Поскольку мировой кризис продолжается, и правящий класс балансирует на грани паники, существует реальная вероятность массового сдвига вправо, как это произошло в 1930-е годы. Мне кажется, этот сдвиг будет трудно предотвратить, не говоря уже о том, чтобы противодействовать ему или обратить вспять при отсутствии совершенно новой теоретической альтернативы.
ПД: – Даже неолибералы соглашаются с необходимостью полностью переосмыслить или усилить политэкономию, поскольку мы утратили жизненно важную связь между политикой и рынком. Что же составляет сердцевину современной политэкономии?
ШБ: – Сердцевиной по-прежнему является капитал, но нужно пересмотреть свое отношение к нему. Капитал – это не средство производства, генерирующее гедоническое удовольствие, как утверждают либералы, и не количественный показатель абстрактного труда, как доказывают марксисты. Скорее капитал есть власть и только власть.
Обратите внимание, что я сделал ударение на глаголе «есть». Мы с Джонатаном Ницаном беремся утверждать, что капитал следует понимать не в связи с властью, но как саму власть. Подобного рода метафорический образ капитала сильно расходится с традиционными «вероучениями». Марксистские аналитики и экономисты основной волны часто связывают или ассоциируют капитал с властью. Они говорят, что капитал влияет на власть или что власть на него влияет, что власть может помогать в наращивании капитала или что капитал может усиливать власть. Но это все внешние связи между отдельными явлениями. Они говорят о капитале и власти, а мы говорим о капитале как власти.
Кроме того, мы доказываем, что капитализм в более широком смысле лучше рассматривать не как способ производства или потребления, но как режим власти. Станки, производство и потребление, конечно, суть неотъемлемая часть капитализма, и они, конечно, играют важную роль в накоплении. Но роль этих средств в процессе накопления важна лишь постольку, поскольку опирается на власть.
Для пояснения нашей аргументации позвольте мне начать с двух базовых понятий – цены и капитализации. Капитализм – и это признают и марксисты, и либералы – организован в виде товарной системы единиц исчисления, деноминированной в ценах. Капиталистический режим особенно восприимчив к тому, чтобы организовать все в системе единиц исчисления, потому что основан на частной собственности, а все, что находится в частной собственности, может быть оценено. Эта фундаментальная особенность капитализма означает, что, поскольку частная собственность распространяется как в физическом, так и в социальном пространстве, цена становится универсальной единицей измерения, с помощью которой выстраивается здание капиталистического строя.
Но реальная модель этого числового порядка создается через капитализацию. Капитализация, если перефразировать физика Дэвида Бома, – это «порождающий порядок» капитализма. Это гибкий, всесторонний алгоритм, постоянно воссоздающий порядок капитализма или капиталистический строй.
ПД: – Что именно представляет собой капитализация?
ШБ: – В самом широком смысле капитализация – символическая финансовая субстанция. Это ритуал, в ходе которого капиталисты дисконтируют предполагаемые будущие доходы с поправкой на риск, приводя их к текущей стоимости. У капитализации очень долгая история. Она была изобретена в протокапиталистических «бургах» (городах) Европы XIV столетия, если не раньше. Она преодолела религиозное сопротивление ростовщичеству в XVII веке, которое стало обычной практикой среди банкиров. Математические формулы капитализации впервые артикулированы лесничими Германии в середине XIX века. Идейные и теоретические основы капитализации заложены в начале XX века. Понятие капитализации начало появляться в учебниках примерно в 1950-е годы. Это дало толчок процессу, который современные специалисты называют «расчетом финансовых результатов». К началу XXI века капитализация стала самой могущественной религией на земле, поскольку у нее больше последователей, чем у всех религий мира вместе взятых.
В наши дни капиталисты и все остальные привыкли воспринимать капитал исключительно в смысле капитализации. Главный вопрос не в том, чем конкретно владеет капиталист, а в универсальной ценности этой собственности, определяемой как капитализированный актив.
ПД: – А как действует механизм капитализации?
ШБ: – Возьмем, к примеру, капиталиста, думающего о приобретении (или продаже) акции компании Exxon, которая приносит ежегодный доход в размере 100 долларов. Если учетная ставка равна 10% или 0,1, то актив может быть капитализирован при вложении 1000 долл. (ожидаемый доход в 100 долл. при вложении 1000 долл. означает предполагаемую доходность инвестиций в 10% или 0,1). Но сам по себе ожидаемый доход – категория отчасти объективная, а отчасти субъективная. Объективная часть – фактический доход, который будет известен в будущем – допустим, 50 долларов. Но капиталист в нашем примере ожидает 100 долл., а это значит, что он или она излишне оптимистичны. Мы называем этот чрезмерный оптимизм «экстравагантными запросами», у которых есть числовое выражение – в нашем примере это коэффициент 2. Если капиталист был излишне пессимистичен, предполагаемый заработок будет оценен только в 25 долларов. Ставка дисконта также состоит из двух компонентов: обычной доходности – скажем, доходности сравнительно безопасных облигаций швейцарского правительства – и оценки риска. В нашем случае нормальная доходность может составить 5%, но если акции компании Exxon считаются в два раза рискованнее облигаций швейцарского правительства, ставка дисконта будет в два раза выше, на уровне 10% (=2х5%).
Неоклассики и марксисты признают существование капитализации – но, поскольку они считают капитал реальной экономической субстанцией, им непонятно, что делать с его символической ипостасью. Неоклассики выходят из этого тупика, заявляя, что в принципе капитализация – это просто зеркальное отражение реального капитала, хотя на практике этот образ искажается из-за несовершенных рыночных механизмов. Марксисты подходят к этой проблеме с противоположного конца. Они начинают с утверждения, что капитализация – это полная фикция, и следовательно, она не связана с фактическим или реальным капиталом. Но затем, чтобы подкрепить свою трудовую теорию стоимости, они также утверждают, что иногда этот пузырь может либо раздуваться, либо лопаться для достижения равенства или равновесия с реальным капиталом.
Мне кажется, что подобные попытки втиснуть капитализацию в нишу реального капитала совершенно бесплодны. Во-первых, как я уже отмечал, у реального капитала нет объективного количественного измерения. И во-вторых, само отделение экономики от политики, необходимое для того, чтобы подобная объективность была в принципе возможной, утратило актуальность. И в самом деле, капитализация едва ли ограничивается так называемой экономической сферой.
Любой денежный поток предполагаемого дохода – это кандидат на капитализацию. А поскольку денежные потоки и доход генерируются общественными учреждениями, процессами, организациями и институтами, то в итоге получается, что капитализация учитывает не только так называемую сферу экономики, но и, по сути дела, все аспекты общественной жизни. Человеческая жизнь со всеми социальными привычками и генетическим кодом рутинно капитализируется. Любые заведения и учреждения – образовательные, развлекательные, религиозные и правовые – привычно капитализируются. Добровольные социальные сети, насилие в городе, гражданская война и международные конфликты постоянно капитализируются. Капитализируется даже экологическое будущее человечества. Ничто не ускользает от внимания оценщиков, если оно генерирует ожидаемый будущий доход. Если что-то можно капитализировать, оно капитализируется.
Всеобъемлющий характер капитализации требует всеобъемлющей теории, и объединяющим фундаментом для нее является власть. Примат власти встроен непосредственно в определение частной собственности. Обратите внимание, что английское слово «частный» (private) происходит от латинского privatus, что означает «ограниченный». В этом смысле частная собственность целиком и полностью выступает как институт исключения, а для организованного исключениянеобходима организованная власть.
Конечно, нет необходимости в реальном осуществлении исключения. Здесь имеет значение само право исключать и способность требовать карательных мер в отношении тех, кто мешает реализовывать это право. Это право и способность – фундамент накопления. Таким образом, капитал есть не что иное, как организованная власть. У этой власти есть две стороны: качественная и количественная. Качественная сторона состоит в институтах, процессах и конфликтах, посредством которых капиталисты постоянно создают общественный порядок, формируя и ограничивая его траекторию, чтобы добиваться своих целей в перераспределении благ. Количественная сторона – процесс, который интегрирует и низводит эти многочисленные качественные процессы до универсальной составляющей – величины капитализации.
ПД: – Давайте поговорим об экономическом спаде 2008–2009 годов. Мы привыкли слышать о том, что после экономического бума, который до этого длился 20 лет, спад неизбежен. С учетом циклического характера рыночной экономики нам вроде бы не о чем волноваться теоретически. Однако все встревожены – от банкиров до простых потребителей. Так есть что-то особенное в этом спаде? Чем он отличается от других?
ШБ: – В свете того, что до сих пор было сказано, мне кажется, что в настоящее время мы переживаем не экономический спад и даже не экономический кризис, асистемный кризис – кризис, угрожающий самому существованию капиталистического режима власти. Он длится уже более десятилетия, начался не в 2008 г., как утверждает большинство наблюдателей, а в 2000 г., и нет никаких признаков его ослабления.
ПД: – Не могли бы Вы поподробнее объяснить, что означает «системный кризис»?
ШБ: – Давайте рассмотрим точку зрения капиталистов. Так, они считают, что главный барометр успеха и неудачи – это не рост производства или уровня занятости, а движение на фондовом рынке. Фондовый рынок капитализирует их ожидаемый доход и тем самым низводит их коллективное представление о будущем капитализма до простого числа.
Если изучить историю фондового рынка США, измеряемого рейтинговым агентством Standard & Poor по биржевому индексу 500 компаний, котируемых на фондовом рынке, то мы увидим, что в прошедшем столетии капиталисты пережили четыре волны «медвежьего рынка». Каждый из этих «медвежьих» периодов отличался обвалом цен в диапазоне от 50% до 70% в «постоянных долларах». Однако заметьте, что эти спады, хоть и похожи друг на друга по количественным показателям, совершенно разные по качеству. Каждый из них сигнализировал о начале крупного и уникального переформатирования капиталистической власти:
1) Кризис 1906–1920 гг. (-70%) ознаменовал завершение эпохи американского «фронтира» – переход от грабительского капитализма к крупномасштабным предприятиям, а также начало синхронизированного финансирования.
2) Кризис 1929–1948 гг. (-56%) стал сигналом окончания эпохи «нерегулируемого» капитализма, появления больших правительств и воинственного государства всеобщего благоденствия.
3) Кризис 1969–1981 гг. (-55%) ознаменовал окончание кейнсианской эпохи, возобновление всемирного движения капитала и начало неолиберальной глобализации.
4) И нынешний кризис, который, как я отметил, начался не в 2008, а в 2000 г. и до сих пор продолжается (-50% с 2000 по 2009 годы), похоже, означает переход к иной форме капиталистической власти или, возможно, полный отказ от капиталистической власти.
Нынешний кризис отличается системным страхом. Капиталисты сегодня не просто не уверены в завтрашнем дне или встревожены – они напуганы. Они опасаются не за какой-то конкретный аспект капитализма, но за само его существование. Многие из них боятся, что капиталистический строй как таковой может не сохраниться – по крайней мере в его нынешнем виде.
ПД: – По каким признакам мы можем судить о том, что капиталисты испытывают системный страх?
ШБ: – Главный признак, свидетельствующий об охватившем капиталистов системном страхе, – это то, как они оценивают свои акции. Ритуал капитализации недвусмыслен: он требует, чтобы капиталисты дисконтировали не текущий уровень прибыли, а оценивали ее долгосрочную траекторию. При обычных обстоятельствах изменение цен на акции не связано непосредственно с изменениями текущей прибыли или связь между ними несущественна. Но периоды системного страха – ненормальное явление. В такие периоды капиталисты сомневаются в выживании своей системы, и это сомнение заставляет их терять из виду свое будущее. Когда будущее капитализма под вопросом, долгосрочная тенденция получения прибыли утрачивает смысл, а когда долгосрочную прибыль оценить невозможно, у капиталистов ничего не остается для дисконтирования.
В капитализированном мире неспособность капитализировать равносильна смерти. Когда капиталистам не за что зацепиться, они перестают уповать на священное завтра и хватаются за настоящее. Системный страх вводит их в оцепенение, и они дисконтируют не долгосрочную тенденцию изменения прибыли, а ее ежедневные колебания. И именно это мы наблюдаем на примере нынешнего кризиса: с 2000 г. цены акций фактически повторяют траекторию текущих прибылей вместо того, чтобы меняться независимо от текущей прибыли.
Такое паническое поведение встречается в истории не впервые. Мы уже это проходили в 1930-е годы. Как и сегодня, капиталисты тридцатых были парализованы системным страхом; как и сегодня, они отказались от ритуала капитализации. Более того, самое главное – причина коллапса в обоих случаях была во многом одинаковой: капиталисты настолько усилились и в те годы, и в начале XXI века, что потеряли уверенность в своей способности удерживать власть или тем более умножать ее.
ПД: – Подобное утверждение противоречит здравому смыслу: разве капиталисты не должны становиться увереннее с ростом их могущества?
ШБ: – Только до определенного момента. Капиталистическая власть распределительная, она измеряется исходя из сравнительной капитализации. Так что капиталистическая группа, имеющая чистые активы на сумму 300 млрд долл., в три раза могущественнее группы, имеющей активы на сумму 100 млрд долларов. Превышая нормальный уровень доходности, доминирующий капитал накапливается дифференцированно. Поскольку капитал – это распределительная власть, дифференцированное накопление означает увеличение распределительной власти. Однако у распределительной власти есть четкие границы. Ни одна группа капиталистов, какой бы изощренной и безжалостной она ни была, не может претендовать на большее богатство, чем то, которое имеется в обществе. Более того, прежде чем достичь верхнего предела, капиталистическая власть на практике часто буксует и притормаживает.
Причина коренится в конфликтной динамике власти. Капиталисты не могут не стремиться к тому, чтобы наращивать свою власть: поскольку капитал – это власть, стремление к накоплению означает стремление к большей власти по определению. Но стремление к власти само по себе порождает препятствия. Власть опирается на применение насилия и ответный саботаж. Чем больше капиталистическая власть приближается к своему пределу, тем выше сопротивление и саботаж, с которыми она сталкивается. Чем выше уровень сопротивления, тем труднее власть предержащим расширять свои полномочия. Чем труднее расширять полномочия, тем выше потребность в насилии и ответном саботаже, а чем больше приходится прибегать к насилию, тем выше вероятность серьезной социально-политической реакции, которая приводит к упадку или даже распаду власти.
Именно в тот момент, когда кривая власти приближается к своей социетальной «асимптоте», тем вероятнее, что капиталистов охватит системный страх – страх того, что твердыня их власти даст трещину. Наступает тот критический момент, в который капиталисты опасаются за само выживание своей системы. Они опасаются, что капитализация, ориентированная на отдаленное будущее, вот-вот рухнет.
Впервые США столкнулись с таким коллапсом в 1929 г., а затем повторно в 2000 году. Как было показано в нашей с Джонатаном Ницаном книге, в обоих случаях период, предшествовавший обвалу, характеризовался крайностями распределения: и в конце 1920-х гг., и в 2000-е гг. 10% американского населения контролировало почти половину всех доходов. Немаловажно отметить, что основополагающее неравенство сегодня, возможно, даже больше, чем в 1920-е годы. В качестве иллюстрации можно указать на то, что к 2010 г. доля капиталистов в национальном доходе (проценты и прибыль) после налогообложения плюс чистая прибыль 0,1% всех корпораций (представляющих доминирующий капитал) достигла рекордной планки, превысив все значения, зафиксированные с 1929 г., когда появилась полноценная статистика о структуре национальных доходов.
Для дальнейшего увеличения и поддержания этого вида дифференцированного накопления и власти доминирующий капитал должен был прибегать к тому, чтобы нагонять как можно больше страха на остальное население, использовать в своих целях случаи саботажа и причинять людям как можно больше страданий. Унижения принимают самые разнообразные формы; одним из самых шокирующих является рост доли доходов 10% самых богатых граждан США. С 1940-х гг. соотношение между взрослым населением в исправительных учреждениях (тюрьмы, домашний арест, испытательный срок и т.д.) и рабочей силой всегда находилось в четкой и тесной зависимости от распределительной власти правящего класса. Чем больше власть богачей, тем выше уровень насилия в обществе, о чем можно судить по количеству людей в американских исправительных учреждениях. В настоящее время эта цифра достигла 5% рабочей силы Америки. Это самый высокий процент в мире и в истории Соединенных Штатов.
Хотя здесь трудно говорить о каких-то жестких соответствиях, сомнительно, что подобное массовое наказание может и дальше увеличиваться, не вызывая при этом ответной реакции и дестабилизации общества. Вместе с тем логика дифференцированного распределения диктует необходимость дальнейшего перераспределения богатства, которое будет сопровождаться ростом случаев саботажа. Это столкновение между требованиями капитала как власти и нестабильностью, которую он порождает, объясняет, почему ведущие капиталисты охвачены системным страхом. Заглядывая в будущее, они понимают, что единственный способ дальнейшего увеличения своей распределительной власти – это использование еще большего насилия. Вместе с тем достаточно высокий уровень насилия и дальнейшее его увеличение может столкнуться с ростом сопротивления и неприятия в обществе, поэтому капиталисты все больше испытывают страх перед бурей и социальным взрывом, которые они сами на себя навлекают. Чем ближе они подходят к роковой черте – упомянутой выше асимптоте, тем более неопределенным видится им будущее капитализма.
Пётр Дуткевич – профессор политологии Карлтонского университета (Канада).
Шимшон Бихлер – израильский политэконом, преподаватель ряда университетов, автор (совместно с Джонатаном Ницаном) многих работ, посвященных проблеме современного капитализма и власти.

ПЕРМАНЕНТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Евгений Моисеев, e.moiseev@mn.ru
Как и зачем учиться по интернету
В середине мая престижный американский университет Georgia Tech объявил о запуске новой программы обучения. Онлайновый трехлетний курс по специальности computer science с получением магистерской степени обойдется в $7 тыс. Такие условия по американским меркам роскошь, ведь в США за выпускником с магистерской степенью в среднем остается долг за обучение в $35 тыс. Проект реализуется с помощью телеком-оператора AT&T и платформы массовых открытых онлайн курсов Udacity.
Это не единственная подобная платформа: помимо Udacity в последние годы появился не один десяток площадок, на которых ведущие мировые университеты размещают курсы, где обучаются сотни тысяч, если не миллионы жителей из стран со всего мира. Конечно, в США без денег получить высшее образование по интернету не удастся, зато можно бесплатно подтянуть нужные дисциплины. "МН" выяснили, какие курсы предлагаются вольнослушателям на русском и на английском языках, как на них учиться и что в результате помимо знаний можно будет получить там.
Как все начиналось
Дистанционное интернет-образование делает свои первые шаги. Только в 2006 году появилась уникальная образовательная сеть Khan Academy, в начале своего пути бывшая собранием видеороликов по школьным предметам на YouTube. А такие серьезные проекты, как Udacity, Coursera и edX, где можно обучаться по университетским дисциплинам у преподавателей ведущих мировых вузов, и вовсе появились меньше двух лет назад. Неудивительно поэтому, что возникающие как грибы после дождя сайты с онлайн-курсами похожи друг на друга как день и ночь. Одни делают ставку на школьную программу, другие - на университетскую. Кто-то по-прежнему просто выкладывает видеолекции, а кто-то создает многонедельные курсы, пытаясь вовлечь и организовать студентов так, чтобы они постоянно общались друг с другом и преподавателями. В итоге уровень материала разный, разные подходы к мотивации обучению, разные принципы организации курсов. Это и неплохо: каждый может выбрать то, что интересно, и заниматься так, как удобно.
А студенты кто?
В многообразии появившихся проектов каждый может выбрать для себя наиболее интересный. Нужно помочь ребенку разобраться со школьной программой, а вы и сами уже не помните, как решать квадратичные уравнения? Пожалуйста, есть школьная программа в изложении хороших педагогов. Учитесь в университете, но интересная дисциплина преподается из рук вон плохо? Пожалуйста, есть вузовские курсы и, к примеру, курс "Машинное обучение" вам прочитает Эндрю Энг из Стэнфордского университета. Мало кто в мире знает об этом больше, чем он. Давно окончили университет и успешно работаете, но хочется улучшить теоретическую подготовку по своей или смежной отрасли? Интересует, например, геймификация бизнес-процессов? Не проблема: Кевин Вербах из университета Пенсильвании готов прочитать курс именно об этом.
Где учиться на русском
В России таких образовательных проектов, к сожалению, в разы меньше, чем за рубежом. Нет практически аналогов сайтов, бесплатно предлагающих цельные курсы, а не отдельные лекции. Вот отдельные исключения: interneturok.ru
Этот проект заточен под изучение школьной программы: больше 3,5 тыс. видеоуроков по всем школьным предметам - от алгебры до естествознания. Ведут их действующие учителя, видео, как правило, подкрепляется текстовым конспектом, по итогам можно оценить усвоенное с помощью предлагаемых тестов. В проекте фактически отсутствует социальная составляющая, нет инструментов для объединения учеников и обсуждения тем. Но, с другой стороны, для школьной программы, наверное, это и не очень нужно.
lektorium.tv
Записи видеолекций преподавателей российских вузов, в основном санкт-петербургских. Например, на этом сайте можно посмотреть курс по механике из общей физики, который читает профессор соответствующей кафедры физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Евгений Бутиков, автор огромного количества учебников для школ и университетов. Но курсов на сайте мало, в основном это единичные лекции, и нет никакого механизма обучения - просто склад с видеозаписями лекций.
univer.tv
Все проблемы "Лекториума" в полной мере относятся и к этому сайту. Вдобавок еще и непонятно, кто читает курс, потому что зачастую подробностей о лекторе, кроме его имени, фамилии и отчества, нет. Кто все эти люди? Понимают ли они что-то в том, что читают?
Путь за рубеж
Можно резюмировать, что в России полноценных обучающих платформ пока нет. Именно пока: как показывает практика, все мало-мальски ценные стартапы рано или поздно копируются в России. Сейчас же придется обратить внимание на западные проекты - можно учиться на полутора-двух десятках таких сайтов.
Вот некоторые из них:
khanacademy.org
Практически "отец" и идейный вдохновитель нынешних мастодонтов открытого дистанционного университетского образования, в числе которых - coursera, edX, и Udacity. Основанный в 2006 году выпускником MIT и аналитиком крупного хедж-фонда Салманом Ханом проект в первую очередь ориентирован на тех, кого мы могли бы назвать школьниками, - ученики от 4 до 19 лет. Серия обучающих математике видеороликов, сначала размещаемая на YouTube, спустя семь лет превратилась в платформу, на которой представлено более 4 тыс. уроков практически по всем дисциплинам, которым обучают детей. Помимо видео и пояснений есть проверочные задания. И еще один важный момент: на сайте всегда можно задать вопрос по уроку и с высокой долей вероятности получить ответы от других учащихся.
coursera.org
Этот сайт вобрал в себя курсы десятков престижных американских, европейских и азиатских университетов. В частности, можно совершенно бесплатно обучаться на курсах, преподаваемых в пяти из восьми университетов Лиги плюща - Йельском, Колумбийском, Брауновском и Принстонском, а также в университете Пенсильвании. Тематика курсов разнообразна: от "Машинного обучения" до "Введения в иррациональное поведение". Биология, медицина, гуманитарные науки, экономика и многое-многое другое. Особняком стоит все, что имеет отношение к IT, - таких курсов очень много.
Coursera
переняла максимум от офлайнового образования. Курсы начинаются в определенный момент, продолжаются несколько недель или даже месяцев, в процессе обучения в зависимости от специальности нужно делать проекты, сдавать тесты и экзамены. По итогам в случае успешного завершения курса пользователю выдается сертификат об успешном прохождении обучения.
edX.org
Аналог Coursera, edX основан Массачусетским технологическим институтом и Гарвардским университетом. Помимо этих двух учебных заведений с сайтом сотрудничает 25 других известных вузов. Как и в случае с Coursera, тематика курсов очень разнообразна.
Система обучения схожа с Coursera: курсы бесплатны, имеют строго определенные даты начала и конца, по ходу приходится сдавать тесты и экзамены, по итогам выдается сертификат. Начать учиться очень просто - нужно лишь зарегистрироваться на сайте, выбрать интересующий курс и дождаться начала занятий. А дальше изучать учебный материал, просматривать лекции и общаться с сокурсниками на дискуссионном форуме, периодически сдавая тесты и экзамены. По завершении обучения выдается сертификат, получением которого можно гордиться.
udacity.com
Система обучения на сайте Udacity, который вырос из бесплатных курсов по вычислительной технике Стэнфордского университета, несколько отличается от того, что предлагается пользователям Coursera и edX. Здесь не нужно привязываться к конкретным датам курсов, а можно выбрать какой-то один из трех десятков и сразу начать учиться. В учебном комплекте - видеолекции и тесты, которые нужно пройти по завершении курса. Плюс на сайте есть форум, на котором можно обсуждать содержание лекций с "сокурсниками".
Как подтянуть английский
Практически все англоязычные сайты рассчитаны на высокий уровень владения английским языком обучающихся: мало смотреть видео с субтитрами - для полноты обучения нужно общаться с сокурсниками на форумах и писать экзамены. Для того чтобы улучшить знание английского языка, можно воспользоваться условно бесплатными интернет-сервисами по его изучению.
lingualeo.ru
Один из самых известных и популярных сервисов для обучения английскому языку в России. Зарегистрировавшись на сайте lingualeo.ru, можно начинать обучение - смотрите видео, следите за текстом рядом, заносите непонятные слова в словарик. Затем нужно тренироваться, переводя написанное с русского на английский и обратно, воспринимать слова на звук и тренировать произношение. А еще на сайте есть фрикадельки!
busuu.com
Учиться английскому на этом сайте можно с нуля. Уроки самые разнообразные: увеличение словарного запаса, прослушивание диалогов и затем их разбор, письменная речь. Можно общаться с носителями языка. Один из минусов - на сайте активно навязывают премиальную подписку, которая дает неограниченный доступ к чатам с носителями языка, материалам к урокам в формате PDF, видеоурокам и еще к куче нужных и ненужных функций. Доступ стоит не так дорого - порядка 200 руб. в месяц. Можно попробовать поучиться бесплатно и за первые дни и недели понять, нужен ли платный доступ или нет.
Каково это - учиться дистанционно
Из отзывов на quora.com о Coursera "Мне посчастливилось учиться и работать в хороших вузах. Но я всегда удивлялся качеству общения в дискуссионных форумах Coursera. Большинство таких дискуссий вели блестящие энтузиасты, некоторые из которых раскрывали интересные инсайты из профильной индустрии".
"Я прочитал заметку о том, что американские университеты начали предлагать бесплатные онлайновые курсы на Coursera. Сразу же зарегистрировался на свой первый курс - Software Engineering for SaaS. Как оказалось, на нем дается первая половина ныне действующего курса, которому учат в университете Беркли, - с упражнениями, заданиями для программирования и финальным экзаменом. Все абсолютно то же самое, что проходят студенты Беркли".
Как добавить строчку в резюме
Бесплатно это сделать не получится, но небольшие деньги помогут решить эту проблему. Например, на Coursera по итогам прохождения части курсов можно получить заверенный сертификат. За это придется заплатить в среднем $50-100 за курс. Отслеживать в ходе экзаменов, что учитесь и получаете знания именно вы, а не кто-то другой, Coursera будет по характеру набора текста, который уникален для каждого отдельно взятого человека, и с помощью веб-камеры. Полученный по итогам курса сертификат можно, например, указывать в резюме. Пока в этом особого смысла нет: мало кто из работодателей знает о том, что такое Coursera. Но, судя по темпам прироста курсов и их пользователей, очень скоро о них будет знать каждый.

Автономия альянсу не помеха
НАТО, США: конец «особого положения» Франции?
Резюме: Позиция Парижа в отношении НАТО дает повод для разных интерпретаций, хотя суть ее неизменна и воплощена в словах Франсуа Миттерана: «Союзники, но не присоединившиеся».
Политическая и стратегическая позиция Франции по отношению к Североатлантическому альянсу и Соединенным Штатам всегда была отмечена определенной двойственностью. Ее остро ощущали во многих мировых столицах и рассматривали как проявление «особого мнения», главный принцип которого – независимость. Намерение президента Николя Саркози реинтегрировать Францию в военные структуры западного альянса не положило конец этой двойственности. Отличная позиция Парижа продолжала давать повод для самых разных интерпретаций, хотя суть ее неизменна и воплощена в словах Франсуа Миттерана: «Союзники, но не присоединившиеся». Все президенты Пятой реcпублики стремились к автономии в области внешней политики и национальной безопасности.
Как и любая другая область публичной деятельности, оборонная политика во Франции подчинена жестким финансовым и экономическим условиям. Государственный долг и дефицит, которым обременены многие страны еврозоны, поставили Европейский союз в очень непростое положение. Отсутствие решений по преодолению кризиса и неспособность государств-членов найти совместные пути выхода из него, особенно такие, которые содействовали бы большей налоговой и бюджетной интеграции, создают угрозу всей структуре Евросоюза, предвещая драматические последствия для государственной политики, в сферу которой, безусловно, входит и оборона.
Подобная угроза, которая, правда, начинает уменьшаться к 2013 г., еще не нашла непосредственного отражения во внешней политике ЕС. Евросоюз остается одним из крупнейших полюсов мировой экономики. Он продолжает производить финансовые излишки, которые позволяют оказывать «гражданское» влияние в масштабах всей планеты, главным образом посредством участия в деятельности крупнейших международных организаций. Европейский союз по-прежнему главный источник финансовых поступлений в ООН (38% бюджета); он вкладывает деньги в поддержание мира и финансирует примерно 50% различных специальных фондов и программ ООН.
В сфере обороны Европа продолжает играть важную роль на мировой арене, обладая (теоретически) значительными возможностями, говоря конкретнее – настоящим «ноу-хау» в проведении сложных операций и взаимодействии с американской военной машиной. Хотя оборонные бюджеты стран-членов повсеместно снижаются, их общая сумма по-прежнему настолько значительна, что превышает военные расходы Китая, Индии и России. Однако поскольку страны ЕС вплоть до сегодняшнего дня предпочитали использовать «гражданские» рычаги власти, укрепление Единой политики обороны и безопасности (ЕПБО) никогда не было для них первоочередной задачей, так что для большинства членов Евросоюза Североатлантический альянс остается органом, в рамках которого должны готовиться и проводиться крупные военные операции.
Вот в каком контексте Франция рассматривает перспективы эволюции своей оборонной политики. Вновь подтвердив традиционную позицию Парижа, министр обороны Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «укрепление европейской безопасности способствует укреплению НАТО, и необходимо заниматься обеими сферами одновременно». Подобное откровение всецело соответствует тому пониманию интересов Франции, которое со времен окончания холодной войны высказывали все президенты. Оно также является следствием многочисленных исторических, экономических, научно-технических и военных факторов, придающих политике Парижа в области национальной обороны определенное своеобразие, сохранение которого облегчается тем, что военно-политическое устройство страны явно отличается от того, что присуще ее европейским партнерам. Такая модель служит защитой от чрезмерного влияния НАТО и вмешательства Америки в дела, входящие в компетенцию оборонного ведомства Франции.
«ФРАНЦУЗСКАЯ МОДЕЛЬ»
В отличие от других европейских государств Париж не готов признать гегемонию США и Североатлантического альянса, поскольку решение стратегических и военных вопросов определяется наличием системы сильной централизованной государственной власти. В оборонной промышленности и в сфере высоких технологий ответственные должности занимают лица, принадлежащие к госсектору, или выходцы из органов госуправления высшего уровня, что является исключительно французской спецификой. Номенклатура, которая держит в руках бразды правления в сфере политики, экономики, промышленности и финансов, состоит из выпускников Высших школ (Политехнической школы и Национальной школы администрации). Симбиоз государственных интересов и управления частными предприятиями значительно облегчает, когда это нужно, защиту интересов Франции. Описанное явление серьезно влияет на сферу высоких технологий: руководство отрасли бдительно следит за совместными проектами в рамках НАТО, если есть подозрение, что слишком большая роль в них принадлежит американским партнерам.
Что касается военной сферы в узком понимании, полномочия президента, которые предоставляет ему конституция Пятой республики, не имеют аналогов в других западных демократиях. Глава государства является главнокомандующим. Он определяет важнейшие направления военной стратегии и политики в Совете обороны, который возглавляет. Затем его директивы одобряет парламент, который после первых столкновений с президентом в 1960-е гг. по поводу создания ядерного оружия никогда не выражает ему недоверия. Он добивается внедрения этих директив на практике, опираясь на особый штаб (état-major particulier), чьи заседания проходят в Елисейском дворце. Будучи «гарантом национальной безопасности, целостности территории страны и соблюдения договоров», как гласит 5-я статья Конституции, президент следит за соблюдением принципа автономии, распространяющегося на международные обязательства Франции, включая и те, которые связаны с НАТО.
Этим принципом руководствуется и министр обороны. Так, например, Ле Дриан через несколько месяцев после вступления в должность счел возможным «решительно» заявить генеральному секретарю альянса, что Франция остается самостоятельной в военных вопросах. Через несколько дней на пресс-конференции он напомнил, что Париж «не поддерживает увеличение совместного финансирования новых средств обороны, поскольку НАТО представляет собой союз суверенных государств. Каждый свободен сам выбирать себе средства обороны – совместно или в одиночку, – равно как и способы их применения».
Привилегированное положение, которое занимает президент, оставляет ему широкое поле для маневра. Так, он может принять решение об использовании армии в военных действиях без предварительного согласия парламента, хотя последний обязан, если речь идет о масштабных военных операциях, задним числом высказывать свое мнение. Военные действия последних лет в Африке показывают, насколько у президента развязаны руки. Так, например, операция «Ястреб», развернутая в Чаде в 1986 г., или операция «Боали», начатая в Центральноафриканской Республике в 2002 г., не удостоились особого голосования в парламенте. Последняя кампания и ее результаты являются типичным примером того, как во Франции действует механизм применения силы под эгидой президента. Так, например, в 2007 г. небольшой французский контингент, расквартированный в Бирао, неподалеку от суданской границы, был атакован крупным отрядом повстанцев, прибывших из Судана. Падение Бирао, несомненно, спровоцировало бы дестабилизацию обстановки в Чаде и Демократической Республике Конго. Особый штаб при президенте республики был немедленно поставлен в известность об этом. Генштабу поручили послать десантников, располагавшихся в Габоне и Джибути, на помощь отряду из Бирао. Эта не слишком масштабная, но чрезвычайно важная по результатам операция показывает, насколько обширно поле действий главы государства: он имеет возможность оперативно реагировать на появившуюся угрозу, так как априори избавлен от необходимости добиваться санкции парламента.
Это привилегированное положение Елисейского дворца обеспечено поддержкой военно-политического аппарата, где наиболее заметную роль играют две структуры. Первая – Генеральный штаб армии – под руководством президента занимается подготовкой и проведением военных операций, а также контролирует подготовку вооруженных сил. Вторая – Генеральная дирекция по вооружению – обязана обеспечивать вооруженные силы экипировкой, необходимой для выполнения миссий. В своей совокупности две эти структуры выступают гарантами единства системы французской безопасности, выполняя указания, которые исходят от главы государства и одобрены парламентом.
Вот пять ключевых направлений, которыми определяется задача военных: знать и предвидеть; предотвращать; сдерживать; защищать; вмешиваться. Каждое из этих общих направлений подразделяется на более узкие функции и цели. Так, например, сдерживание предписывает иметь в наличии новейшие противолодочные средства. Поддержание единства системы «задачи – средства» обеспечивается путем постоянного диалога между двумя важнейшими институтами министерства обороны. Результатом их взаимодействия становится перспективный план на 30 лет (формально его разрабатывают в дирекции по вооружению). Задача планирования – представление Франции средств обороны в зависимости от ее политических и военных целей. На первом месте стоит принцип независимости решений, не предусматривающий априорного соблюдения международных обязательств Франции в рамках заключенных ею союзов и двусторонних соглашений. Эта крайне централизованная и немного тяжеловесная конструкция, поставленная на службу автономии Франции в вопросах обороны, укрепляет иммунитет сложившегося политического курса к несвоевременным переменам и скороспелым решениям, которые поставили бы под угрозу единство всего механизма.
Иначе говоря, эта система надежно защищена от любого прямого вмешательства извне, особенно со стороны НАТО. Хотя операции, осуществляемые Францией в рамках сотрудничества с Североатлантическим альянсом, остаются одной из составляющих тридцатилетнего плана, блок не выступает ни как их прямой вдохновитель, ни как непосредственный руководитель.
В основе этой системы – межпартийный консенсус. Например, если президент Олланд с самого начала объявлял об уменьшении бюджета минобороны, он подчеркивал, что будет особенно внимательно следить за сохранением целостности французской оборонной модели (оборонный бюджет на 2013 г. равняется 30,1 млрд евро, т.е. порядка 1,5% от общего). Такую цену приходится платить, чтобы сохранить особое место в НАТО, оставив за собой определенные стратегические функции – чего не удалось добиться англичанам в рамках программы 2010 года. Им, например, пришлось отказаться от патрулирования морей авиацией, что было необходимо для обеспечения безопасности подводных ракетоносцев, которые служат Британии ядерным щитом.
НЕЯДЕРНЫЕ СИЛЫ ФРАНЦИИ, НАТО И США
Каждый из родов войск (сухопутные войска, авиация и флот) подчинен особому командованию, которое проводит учения, а в случае необходимости организует их участие в межармейских операциях, которые могут быть внутренними или совместными – с постоянными союзниками или в рамках временных союзов. НАТО дала согласие на осуществление этими командными центрами руководства различными частями Сил быстрого реагирования (СБР) альянса, созданными после саммита в Праге в 2002 году.
Корпус сухопутных сил быстрого реагирования Франции был утвержден 8 июня 2007 г., морские силы Тулона – в декабре 2005 г., а воздушная часть – весной 2005 г. (в конце концов будут созданы и силы специального назначения). Французский президент, в то время Жак Ширак, приводил следующие доводы в пользу присоединения к проекту СБР: они «позволят, объединив силы быстрого реагирования разных стран, лучше справляться с разрешением кризисных ситуаций, для урегулирования которых до настоящего времени не существовало единой базы. Вполне очевидно, что эти силы, которые основываются на возможностях стран-участниц, должны будут развиваться в соответствии с условиями, совместимыми с обязательствами, взятыми некоторыми из нас в отношении Европейского союза. Части, входящие в СБР, должны будут предоставляться в распоряжение той или иной организации, причем ни у одной из них не будет приоритета. Нашей целью должно быть эффективное разрешение кризисов, а не соперничество между различными структурами».
Помимо сближения с единой военной организацией НАТО (последнее приняло законченную форму в 2008 г. после решения президента Саркози), создание собственных сил быстрого реагирования обеспечивало Франции возможность одной из первых оказываться на театре военных действий. Она находится в одном ряду с ведущими странами – не только внутри Североатлантического альянса, но и в Европе в целом. Париж сохраняет способность автономно принимать решения, в то же время развивать военное сотрудничество с главными партнерами. Тем более что те увидели в полной реинтеграции Франции в НАТО новые перспективы для сотрудничества, которое теперь не входит в противоречие с их собственным положением внутри альянса. Соединенные Штаты, Великобритания, Германия и Италия воспользовались появившимися возможностями сотрудничества с Францией, признавая особое место, которое она занимает в блоке. Впрочем, с этими же странами (плюс Канада и Австралия) Франция участвует в работе Многонационального совета по взаимодействию, в рамках которого разрабатываются концепции использования армий и соответствующих командных структур.
Стоит упомянуть и о сотрудничестве, наметившемся между Францией и Великобританией (ее традиционно считают одним из столпов НАТО) в контексте Ланкастерского договора, заключенного двумя странами в декабре 2010 г. для совместного использования сил. В октябре 2012 г. две страны провели первые крупные морские учения («Корсиканский лев») у берегов Франции. Их задачей было проверить на практике концепцию Объединенных экспедиционных сил для выработки общих принципов, которые можно будет использовать в совместных действиях Европы и ООН практически в любой точке мира. Способные производить дислокацию за 30 дней и вступать в бой на море или с моря, эти подразделения смогут первыми высаживаться на театре боевых действий. Это объединение рассматривается Парижем и Лондоном как эффективное орудие, предназначенное для масштабных действий, например, нанесения ударов по дальним целям противника или десантирования живой силы. Равным образом оно сможет выполнять более скромные задачи превентивного характера, а также участвовать в крупных гуманитарных операциях. Для учреждения такой двусторонней структуры к 2016 г. будут налажены совместные действия штабов обеих стран и проведено несколько крупных военных учений.
Вслед за «Корсиканским львом» военно-воздушные силы Франции и британские королевские ВВС планируют в 2013 г. крупные совместные маневры под названием «Титановый сокол», а в 2014 г. франко-британские сухопутные силы проведут учения «Рошамбо». Конечно, англичанам и французам нужно еще добиваться прогресса в области информационных и коммуникационных систем с созданием общих сетей, усовершенствовав способы обмена данными, поскольку британцы находятся в большой зависимости от их сотрудничества с Америкой, а этот фактор ограничивает пространство для обмена. Военные возможности двух стран, представленные в проекте Объединенных экспедиционных сил, будут доступны и другим европейским государствам. К 2020 г., благодаря введению в строй новых британских авианосцев, Париж и Лондон рассчитывают создать на постоянной основе авианосную ударную группу. Французские военно-морские силы составляют вместе с английскими четвертый по величине военный флот мира (если брать за единицу измерения их тоннаж), уступая только Соединенным Штатам (220 судов; 2,14 млн т), России (236 судов; 770 тыс. т) и Китаю (423 судна; 516 тыс. т); а если принимать в расчет их научно-техническую базу, о которой лучше всего свидетельствует внедрение таких сложных устройств, как многоцелевые атомные подводные лодки, им, наверное, можно было бы присудить второе место.
ТЕХНОЛОГИЯ И СТРАТЕГИЯ: ИХ ВЛИЯНИЕ НА ОТНОШЕНИЯ ФРАНЦИИ С США И НАТО
Исчезновение коммунистической угрозы после краха восточного блока совсем не означает полного отсутствия серьезных угроз. Подобной точки зрения придерживаются члены альянса, и в стратегической концепции, принятой в Лиссабоне в ноябре 2010 г., роль ядерного сдерживания была вновь подтверждена. Франция отстаивает эту идею с особым рвением. Париж намерен сохранять свою позицию среди ядерных держав такой же прочной, убедительной и самостоятельной, как раньше, и по этой теме существует полный консенсус. Во время предвыборной кампании будущий президент Франсуа Олланд посчитал нужным напомнить своим союзникам из экологической партии, что продолжит политику ядерного сдерживания и не отступит от нее. В июле 2012 г., когда новый президент совершил одну из первых рабочих поездок в армию, он взошел на борт атомной субмарины и несколько часов пробыл в ней под водой, желая подчеркнуть, что в качестве главнокомандующего обязан сохранять и модернизировать ядерное оружие. Роль ядерного сдерживания отмечал еще Саркози в 2008 г., это полностью соответствовало линии его предшественников, и нет сомнений, что такого же курса придерживается Олланд. Политика ядерного сдерживания направлена на то, чтобы защититься от любой серьезной угрозы, сохранить независимость и «стратегическую автономию», а также предусмотреть возможность достойного ответа противнику, нанесшему непоправимый ущерб интересам Франции. Ядерное оружие должно разрабатываться и производиться непосредственно в стране, на что выделяются значительные суммы: в среднем около четверти всего военного бюджета.
Располагая примерно 300 ядерными боеголовками, Франция, по мнению ее руководителей, достигла достаточного уровня защиты собственных жизненных интересов. Эти боеголовки размещены главным образом на атомных подводных лодках, каждая из которых снабжена 16 баллистическими ракетами с дальностью полета примерно 9 тыс. км, оснащенных, в свою очередь, шестью ядерными боеголовками общей мощностью около 100 килотонн и средствами преодоления противоракетной обороны. Другой составляющей системы ядерного сдерживания являются два эскадрона истребителей «Рафаль» третьей модификации и самолеты военно-морской авиации («Рафаль М») с ракетами, предназначенными для запуска во время полета на сверхзвуковой скорости и оснащенные боеголовками мощностью от 100 до 300 кт. Промышленный и научно-технический потенциал Франции, позволивший добиться таких результатов, обеспечивает стране особое место в НАТО; данное обстоятельство не всегда полностью учитывается не только партнерами по блоку (за исключением Соединенного Королевства и Соединенных Штатов), но и соседями Франции на европейском континенте.
Обладание ядерным оружием предполагает высокий уровень научно-технического развития, равно как и разработку особых методов получения данных, без которых надежность ядерного оружия можно подвергнуть сомнению. Вот, скажем, в имитационные испытания ядерного оружия Франция вложила столь значительные суммы, что превзошла всех прочих членов НАТО, не считая Америки. Отделение военных программ Комиссариата по атомной энергетике Франции сотрудничает с подобной же организацией в США. Его задача – строительство в каждой из двух стран (во Франции – близ Бордо, а в Соединенных Штатах – в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоренса) грандиозного лазера («Мегаджоуль»), необходимого для имитационных экспериментов по совершенствованию атомного оружия без предварительных испытаний. Такое сотрудничество, основанное на полном равенстве сторон, не только принесло ощутимые плоды, но и открыло дорогу франко-британским контактам в рамках Ланкастерского соглашения.
Постепенный спад в ядерных исследованиях Великобритании вынуждал Лондон прибегать к помощи американцев, а теперь заставляет искать помощи и у французов, что можно считать новым и чрезвычайно важным явлением. В рамках Ланкастерского соглашения, по которому оба государства обязывались «помнить, что любая ситуация, в которой под угрозой оказались бы жизненные интересы одной из сторон, будет означать такую же угрозу для другой», решено взаимодействовать в области обеспечения надежности и безопасности ядерного оружия каждой из стран. Начиная с 2014 г. французы и британцы смогут приступить к тестированию ядерного арсенала в совместной лаборатории в Бургундии на базе научно-исследовательского центра «Вальдюк». Параллельно с ней в британском Институте ядерного оружия в Олдермастоне появится исследовательский центр, открытый специалистам обеих стран. В результате государства, которые больше полувека шли совершенно разными путями в плане развития и содержания своего ядерного арсенала, теперь двигаются навстречу друг другу. Лондон нуждается в Париже, а последний хочет любой ценой не допустить, чтобы Соединенное Королевство решило из-за чисто технических причин отказаться от программы ядерного сдерживания, оставив Францию один на один с остальной Европой.
Развитие новых технологий, относящихся к исследованиям атомной энергии, оказывает влияние и на франко-германские отношения. Например, для расчетов, связанных с имитацией испытаний, Франция создала один из самых мощных компьютеров Европы в центре Комиссариата по атомной энергетике (г. Брюйер-ле-Шатель). Это сделано в сотрудничестве с Германией, которая использует возможности центра и для своих вычислительных операций, не связанных с ядерными исследованиями. Известно также, что в столь важной области, как наблюдение за космосом и спутниками земли, Германия и Франция плодотворно сотрудничают, используя сводные данные, полученные при помощи взаимодополняющих приборов: французского радара космического наблюдения GRAVES и немецкого экспериментального радара отслеживания космических объектов TIRA (Вахтберг под Бонном).
Исследования космоса стали для французов чрезвычайно важной сферой деятельности; их военные и стратегические аспекты внесли большой вклад в развитие способности самостоятельно оценивать ситуацию, в повышение надежности ядерного сдерживания, равно как и в углубление сотрудничества с некоторыми союзниками. Париж располагает большим набором спутников наблюдения («Гелиос 2A», «Гелиос 2B», «Плеяды 1A» и «Плеяды 1B»; последняя модель обладает характеристиками, не имеющими аналогов в мире, в том числе и у Соединенных Штатов) и электронных средств слежения (система спутников ELISA). Кроме того, с появлением спутника SPIRALE Франция получила возможность обнаруживать и отслеживать баллистические ракеты. С такими технологиями Франция добилась права доступа в закрытый клуб для «избранных» (США, Россия, Китай), они дают Парижу достаточную самостоятельность в плане оценки кризисных ситуаций и позволяют обойтись без иностранного оборудования. Таким образом, Франция избавлена от необходимости равняться на Вашингтон, что делает возможным проведение вполне самостоятельной внешней политики (это, в частности, показала иракская война 2003 года). Высокие технологии помогли Франции занять особое место в НАТО среди других европейских государств, позволяя ей возражать Международному секретариату альянса по вопросам планирования операций в чрезвычайных ситуациях.
СИСТЕМА ЕВРОПЕЙСКОЙ ОБОРОНЫ: ВЕЧНАЯ МЕЧТА ПАРИЖА
Общая оборонная политика ЕС еще столкнется с многочисленными сюрпризами и трудностями в ходе строительства, включая попытки США затянуть этот процесс. Однако руководители ЕПБО не являются принципиальными противниками Америки, тем более что для НАТО концепция коллективной безопасности в том смысле, в котором она была сформулирована в пятой статье Атлантического договора, еще надолго сохранит значение. Так что движение может забуксовать не только по вине Соединенных Штатов. Не меньшей помехой способна стать неготовность министерств обороны стран Евросоюза провести у себя глубокие преобразования, необходимые для воплощения в жизнь ЕПБО. Так же, как введение евро радикально изменило положение и функции центральных государственных банков, поставив во главу угла Европейский центральный банк, формирование единой политики безопасности, устанавливающей постоянный размер военных бюджетов, вероятно, приведет к распределению функций между европейскими государствами. Тогда в новых условиях встанет вопрос о французской автономии, и какое-то время он останется в центре дискуссий о ядерном сдерживании и роли стратегической разведки.
Стоит с удовлетворением отметить, что некоторые консервативные страны, наподобие Польши, становятся пылкими приверженцами идеи европейской безопасности. Тем не менее она развивается очень медленно. Еще в 1987 г. Совет Западноевропейского союза принял Гаагскую платформу, гласившую, что «строительство объединенной Европы останется неполным, если не коснется сферы безопасности и обороны». Стоит задаться вопросом об эффективности выбранного метода, который до последнего времени годился лишь для того, чтобы продемонстрировать отсутствие твердой позиции у европейских государств. После заседания Европейского совета в Хельсинки, на котором были намечены приоритеты в военной области, создания Европейского оборонного агентства и связанных с этим надежд (впрочем, не оправдавшихся), придания определенной формы структуре, призванной осуществлять военно-политическое руководство военными операциями в Европейском союзе, создается впечатление, что многое удалось. Действительное положение дел не столь радужно.
Само существование НАТО ставит под сомнение перспективы общей европейской обороны, хотя имеющаяся интегрированная военная организация все менее удовлетворительно отвечает на стратегические вызовы, встающие перед европейцами. Заявления о взаимной дополняемости Североатлантического альянса и ЕПБО представляются крайним лицемерием.
Нынешние геополитические условия могли бы, однако, дать новый шанс построить не Европу ради обороны, а общеевропейскую оборону. Действительно, под влиянием различных факторов прежний расклад сил начинает меняться. Первый из этих факторов связан с двумя крупными военными операциями, которые НАТО провела за последние десять лет и которые имели для нее катастрофические последствия. Война с Ираком и ее итоги вызвали политический раскол среди союзников. Некоторые из европейских стран альянса, которые приняли решение участвовать, закончили боевые действия скорее с чувством стыда, нежели торжества. Провал в Афганистане (или, если вы предпочитаете нейтральные термины, – уход из Афганистана) преподал хороший урок ревнителям доктрины вмешательства альянса во все мировые дела. Наконец, забота о собственных стратегических интересах вынуждает Вашингтон сосредотачивать силы преимущественно в районе Тихого океана. Существенно возрастает роль Тихоокеанского командования Вооруженных сил США, которое отодвигает Объединенное европейское командование на уровень, сопоставимый с южноамериканским. Хотя американские войска останутся в Европе, многие из них уже отзываются (в 2013 г. личный состав не превысит 30 тыс. против 270 тыс. 25 лет назад). В общей сложности в Старом Свете останется не больше 70 тыс. американских солдат. Интересы Европы и ее безопасности отойдут на второй план. Военные связи на личном и организационном уровнях, полвека остававшиеся особыми, вернутся в нормальное русло. Североатлантический альянс продолжит свое существование как традиционный союз Европы с «ее дочерью Америкой» (по выражению генерала де Голля); его сохранят на крайний случай – для отражения агрессии (впрочем, маловероятной в сегодняшних условиях) против одного из союзников.
В подобных обстоятельствах – при условии, что насущные потребности заинтересованных стран позволят разрешить кризис евро и что откроются новые перспективы в плане большей интеграции государств, входящих в еврозону, – необходимо найти и опробовать новые средства для выработки реалистичных условий поэтапного создания общеевропейской системы обороны. Подобная идея не вызывает большого энтузиазма в военных кругах. Организации, которую предстоит создавать из ничего и в которой приобретенные ранее преимущества могут пострадать, они предпочитают НАТО, структуру с отлаженным механизмом и определенным лидером во главе. Да и сам проект ЕПБО, отданный на откуп бюрократам, давно страдает от отсутствия творческого подхода. Консерватизм выражается в том, что военные дела по всей Европе сведены к одному лишь посредничеству между воюющими сторонами. Обсуждение возможности высокоинтенсивных вооруженных столкновений стало табу.
Чтобы обойти все возможные идеологические и бюрократические препоны и преодолеть финансовые затруднения, придав новую динамику проекту, к которому большинство европейских народов, если судить по опросам, относятся положительно, нужно использовать т.н. «конструктивную двойственность». Оборона зиждется на вооружении, чье назначение – вести войну. Вести войну означает навязывать свою волю противнику при помощи средств, согласованное применение которых способно обеспечить победу. Взяв за основу концепцию согласованного применения сил, можно определить важнейшие функции, например: безопасность морского пространства, удары по целям в глубине обороны противника, господство в воздухе, амфибийные операции и т.д. Во времена бюджетного дефицита Франция могла бы предложить тем из своих партнеров, которые заинтересованы в совместных действиях, масштабные маневры с целью осуществить на практике эти функции, и таким образом создать прообраз «дремлющих» командных структур (военно-морское командование, отвечающее за Индийский океан, например), чтобы в случае необходимости их активировать. Очевидно, что речь идет о более сложной деятельности, чем та, которую мы имели возможность наблюдать до сих пор.
* * *
Сегодня Североатлантический альянс вынужден реагировать на требования столь разного характера, что его единственной адекватной функцией можно признать отражение агрессии против одного или всех его членов, что представляется крайне маловероятным. Некоторые страны, например балтийские, до сих пор одержимы идеей возможной угрозы со стороны России. Они склонны доверять свою защиту Соединенным Штатам в обмен на безусловную поддержку политики, проводимой Вашингтоном. Из-за близости к российским границам скандинавские государства внимательно наблюдают за этой огромной державой, но им легче найти компромисс с американцами, нежели активно участвовать в создании общеевропейской оборонной системы, где им пришлось бы тесно сотрудничать с такими странами, как Франция, которую они плохо понимают и к которой испытывают определенное недоверие. Государства Центральной и Восточной Европы, входящие в НАТО, занимают примерно такую же позицию в отношении России, что и Балтия, и их вооруженные силы тесно сотрудничают с американцами. Впрочем, Польша, прилагая немалые усилия для поддержания собственной безопасности, вместе с тем позиционирует себя как убежденного сторонника ЕПБО. В рамках «Веймарского треугольника» Варшава демонстрирует искреннее стремление содействовать укреплению общей политики, и это не может не вызвать в Париже благожелательный отклик.
Немецкие власти проводят интересную модернизацию своих вооруженных сил. Однако бундесвер – «парламентская» армия, и вопрос о ее размещении за пределами страны остается одним из самых сложных в силу особенностей внутренней политики. События в Ливии – ярчайший тому пример. Соединенное Королевство переживает экзистенциальный кризис, в результате которого страна, возможно, окажется на периферии Европы и будет мечтать о новом партнерстве со странами Содружества. Хотя Великобритания обладает квалифицированной армией, сокращение бюджета сказалось на возможностях ее вооруженных сил, и они теперь едва ли в состоянии справиться с вызовами времени. Это парадоксальным образом сближает ее с Францией.
Париж до сих пор не оправился от последствий экономического и финансового кризиса. Хотя есть соблазн замкнуться в себе, это не сулит блестящих перспектив. Франции придется продолжить движение по пути, на который она давно вступила, то есть сохранять в основе своей стратегической политики принцип «нескольких козырей на руках»: отстаивать право на самостоятельность при помощи удержания за собой важных автономных функций в области ядерной безопасности и разведки; оставаться надежным партнером союзников по НАТО, готовясь к моменту, когда можно будет внести вклад в ускорение процесса формирования системы общеевропейской безопасности; и, наконец, поддерживать взаимовыгодные отношения с американцами, основанные на последних достижениях научно-технического прогресса и на сотрудничестве ad hoc.
Ив Бойе – профессор Политехнической школы, заместитель директора Фонда стратегических исследований (FRS), Париж.

Самый богатый человек Земли, Билл Гейтс, встретился 28 мая в Канберре с премьер-министром Австралии, Джулией Гиллард. Миллиардер намерен продолжить лоббирование финансовой поддержки со стороны австралийского правительства странам третьего мира.
Правительство уже объявило о решении увеличить на 80 миллионов долларов дотации на борьбу с полиомиелитом в странах третьего мира, и мистер Гейтс наставляет австралийцев оставаться верными делу финансовой поддержки развивающихся стран.
Выступая по радио, в Radio National Breakfast, мистер Гейтс поблагодарил австралийцев за их щедрость в увеличении бюджета помощи развивающимся странам, но пожелал, чтобы страна не останавливалась на достигнутом, потому что «можно сделать больше»: «Финансовая помощь, поступающая из Австралии, расходуется в важных и эффективных направлениях, например, для поддержание здоровья.»
Билл Гейтс выразил надежду, что австралийцы гордятся собой, потому что он гордится ими: «Австралия стала мировым лидером по предоставлению финансовой помощи развивающимся странам.»
«В 2009 году»-, указал Гейтс в своем выступлении, — «в разгар мирового финансового кризиса, многие „ключевые доноры“ сократили расходы иностранным государствам. Австралия, напротив, увеличила эту статью государственных расходов».
Далее, миллиардер признался, что проект нового бюджета страны, где правительство предлагает отсрочить предоставление финансовой помощи иностранным государствам, огорчил его. Поэтому с чувством облегчения мистер Гейтс встретил известие о том, австралийское правительство решило не останавливаться и постепенно достичь объемов предоставляемой другим странам помощи в размере 0,5% валового национального продукта Австралии:" Я верю, что Австралия достигнет эту цель как можно быстрее, и что вы продолжите спонсировать борьбу с бедностью в других странах. Я говорю так, потому что улучшение здоровья и благополучия беднейшего населения планеты — лучший из вариантов вложение денег, который вы можете сделать в будущее всего мира и будущее Австралии.
Восемнадцать из двадцати стран-соседей Австралии относятся к развивающимся. Не сложно заметить, что ваше благополучие и безопасность напрямую зависят от прогресса в развитии всего региона.
Многие из ваших сегодняшних основных торговых партнеров, включая Китай, Корею, Малайзию и Таиланд были когда-то в верхней части списка стран, получающих финансовую помощь. Страны, которые получают помощь сегодня, будут следовать тем же путем, ведущим к благополучной жизни.
Я ожидаю, что Австралия продолжит лидерство по решению проблемы, которая является приоритетной и для меня лично».
Напомним, Билл Гейтс, совместно с женой Мелиндой, являются основателями крупнейшего в мире благотворительного фонда Bill & Melinda Gates Foundation.
Билл Гейтс является одним из рекордсменов по размеру средств, переданных на благотворительность: в период с 1994 по 2010 г. он вложил в Фонд Билла и Мелинды Гейтс более $28 млрд. В феврале 2010 года Гейтс выступил с предложением ко всем миллиардерам о передаче половины их состояния на благотворительную деятельность.

Кредит ценою в будущее
Леонид Вальдман - экономист, специалист по финансовым рынкам.
Резюме Экономист Леонид Вальдман о том, есть ли перспективы у еврозоны и чем обернется катастрофа с финансами в США
Ограбить, чтобы спасти
— Множество суждений прозвучало в последнее время по Кипру. От обвинений, что решение Еврокомиссии было в пользу тех, кому оно выгодно, то есть Германии, до призывов к Кипру срочно выходить из зоны евро. Как вам видится ситуация?
— Состояние, в котором находятся публичные финансы западных стран, уже ставит под сомнение саму способность государств обеспечивать устойчивость и защищенность финансовых систем. И пример с Кипром показывает: очень соблазнительной может показаться мысль совершить набег на депозиты. Евросоюз готов предоставить часть денег, если на другую часть будут ограблены владельцы крупных депозитов.
— Которые имеют репутацию сомнительных русских олигархов.
— Пока да. Но если грянет еще одна подобная буря и под рукой не окажется олигархов, пострадать могут вклады добропорядочных граждан. Аргумент, который будет приведен: а какая у нас альтернатива? Либо пострадают богатые, у которых эти деньги, вероятно, не последние, либо дефицитный бюджет нашего и без того обремененного долгами государства будет направлен не на поддержку детей и стариков, а на спасение депозитов этих не столь уж социально незащищенных граждан.
— Уже возникли предположения, что после Кипра ввиду слабости банковской системы такая идея может возникнуть в отношении Испании. Если из прежнего опыта вспоминается лишь прецедент Бразилии более 20 лет назад, то теперь это может стать практикой западного мира?
— Думаю, по возможности от этого будут удерживаться. Но даже если бы не было Кипра, вскоре все равно возникло бы обсуждение альтернативы: грабить владельцев депозитов или побуждать государства вновь спасать банкиров. Прецедент на Кипре эту дискуссию облегчает, и теперь какое-нибудь правительство может сказать: конечно, мы постараемся этого опыта не повторить, если и возьмем, то не 70, а всего 20%. А еще 25% депозитов мы лишь позаимствуем, скажем, на 20 лет под низкий процент. И потом обязательно вернем.
Если под вопросом окажется платежеспособность государства, оно может сказать: решаем вопрос вовсе без привлечения госфинансов либо с частичным привлечением. В противном случае мы прекращаем целый ряд социальных программ или идем на банкротство — больше взять денег неоткуда.
Джи-Пи Морган как федеральный резерв
— Кризис 2008–2009 годов — это прежде всего кризис экономики домохозяйств. Кто бросается на помощь? Правительства. Они резко увеличивают собственный дефицит, пытаются спасти банки. Даже хорошо управляемый банк в случае финансового кризиса оказывается не в состоянии вернуть депозиты, если начинается их массовый отток, как, скажем, было в Англии в 2008 году, когда несколько банков столкнулись с набегом вкладчиков.
Проблема панического изъятия вкладов из банков частично решилась через систему страхования депозитов. У вкладчиков исчезла мотивация немедленно бежать забирать деньги, потому что депозиты до 100 тыс. евро, что бы ни случилось, им вернут.
— Именно то, что обсуждалось во время кипрского кризиса, когда Евросоюз отказался гарантировать вклады свыше этой суммы. Но в Америке ведь гарантии больше чем на 100 тысяч?
— Когда начался кризис, размер страхования депозитов подняли со 100 до 250 тыс. долл. в расчете на одного человека в одном банке. Если супруги держат в одном банке общий счет, он застрахован государством на 500 тыс. долл. Однако в кризис эти меры необходимы, но недостаточны. Такие гарантии не защищают, например, малый и средний бизнес, чьи денежные средства превышают этот уровень.
Требования, которые предъявляются к банкам в острой фазе кризиса, наполнены ожиданиями ужаса, которые, как правило, не сбываются. Поэтому так важно снять первый приступ паники. И система не может преодолеть кризис без помощи государства или третьего лица.
На заре XX века гарантом банковских обязательств в период кризисов в США выступал один из крупнейших финансистов эпохи Джон Пирпонт Морган. А потом уже разбирался с последствиями…
Но это не было системным решением, поэтому в 1913 году его место заняла созданная Федеральная резервная система с главной функцией: в опасные фазы кризиса выступать в качестве кредитора «последней руки» и спасать финансовую систему, резко расширяя ликвидность и уверяя рынок, что угрозы для депозитов нет. Эту работу ФРС выполняла в течение почти ста лет, включая кризис 2008 года.
Однако ныне государственные финансы приведены в столь опасное состояние, что не приходится рассчитывать на то, что в случае следующего кризиса правительство вновь будет в состоянии выполнить большие программы по стимулированию экономики и дальнейшему увеличению госдолга. Иными словами, грядущие кризисы будут ощущаться всеми куда острее без привычной «анестезии», обеспечиваемой властями.

2%
составит реальный рост ВВП в США в 2013 году. Благодаря оживлению на кредитных рынках и в секторе жилья укрепляется спрос. Рост мог бы быть и больше, но меры бюджетного регулирования оказались выше ожидаемых
0,25%
на столько сократится реальный ВВП в зоне евро, прежде чем снова начнет расти в 2014 году. Кредитные каналы разрушены: домохозяйства и компании не могут воспользоваться пока лучшими финансовыми условиями, так как у банков по-прежнему низкая доходность и небольшой капитал
1,5%
таков ожидаемый рост ВВП Японии. Такова должна быть отдача от новых стимулов фискального и монетарного характера
Три четверти пенсии
— В ходе кипрского кризиса обсуждался и другой вариант — национализация пенсионных схем. Этот компонент также может быть затронут?
— Это отдельная, громадная и очень тяжелая тема. Пенсионные перспективы в западном мире вообще выглядят ужасными. И это последствия политики низких процентных ставок в Европе и США.
Особенность пенсионных денег в том, что их нельзя терять. Следовательно, фонды должны вкладываться в бумаги высокой надежности, пусть и с небольшим доходом. Но с 2008 года процентная ставка стремится к нулю, ФРС продолжает выкупать инструменты с фиксированным доходом, и вкладывать становится некуда. Пенсионные фонды, у которых помимо сокращения инструментов вложения надвигается пик изъятий из-за демографии и старения населения, оказываются в резком недофинансировании своих планов. Чтобы заработать, они должны вкладывать в более рискованные активы. В результате куда больше денег уходит в хедж-фонды, деривативы, на рынок акций. По сути, фонды ходят с пенсионными деньгами в казино.
— Чем это обернется в перспективе для западных пенсионных схем?
— Пенсионные планы уже сейчас недофондированы примерно на четверть. Это означает, что в дополнение ко всем прочим трудностям пенсионеры будут жить на куда более скромные деньги, чем они предполагали.
Поколение next и его уровень
— Пару лет назад вы писали, что этот кризис «может стать кризисом европейской модели цивилизации». Последует восстановление макроэкономических пропорций, западному миру придется снизить уровень жизни, в котором он существовал последние полвека. Это в том числе конец модели кейнсианства?
— Думаю, Кейнс, гениальный экономист, в нынешних условиях наверняка сказал бы: «Я не кейнсианец». Он работал в эпоху, когда деньги обеспечивались золотым стандартом, что уже само по себе ограничивало способность правительств иметь высокую задолженность. Вряд ли та модель может работать точно так же в условиях, когда правительства находятся по уши в долгах.
— Что это означает для домохозяйств, для повседневной жизни людей?
— Если государство предъявляет пониженный спрос, начинает сокращать долги через секвестр или иным, более разумным способом, это означает, что либо наступает рецессия, либо кто-то другой должен взять палочку эстафеты и, соответственно, предъявить дополнительный спрос. Домохозяйства слишком мало сократили накопленные долги и потому могут лишь немного увеличить спрос, корпоративный сектор может обслужить спрос, но не создать его в сколько-нибудь существенных масштабах.
И здесь необходимо говорить о глобальной конкуренции за рабочие места и ставить вопрос так: какова в западных обществах перспектива роста рабочих мест, их качества и оплаты? Без этого невозможно поднять спрос домашних хозяйств настолько, чтобы не слишком болезненно для экономики дать возможность государствам сократить свои долги.
За прошедшие 10–15 лет по большому числу видов работ стало ясно: те же китайцы могут выполнять их не хуже американцев. Перенос рабочих мест в Китай позволил корпорациям резко сократить затраты на рабочую силу и получить невиданную прежде норму прибыли. А раз так, нет никакого смысла сохранять эти рабочие места в Америке или Европе.
В США стоимость рабочей силы превышает 50% в структуре себестоимости. При переносе производств в Китай она падает раз в 30. В начале 2000-х данные по сравнительной стоимости рабочей силы были таковы: в США средняя часовая ставка промышленного рабочего — 15,50 долл., в Китае — 57 центов. Спустя десять лет: в Китае стоимость рабочей силы уже не 57, а 75 центов, в Америке — 19,90 доллара.
То есть Европа и Америка проигрывают в конкурентной борьбе за рабочее место развивающимся странам. Да, всегда делаются оговорки: высокотехнологичные позиции испытывают дефицит кадров. Это правда, но таких рабочих мест куда меньше, чем тех, что исчезают с не столь высокотехнологичных производств. Да и самих кандидатов на эти места Китай сейчас генерирует не меньше, если не больше, чем Америка, испытывающая кризис образования. То есть с учетом призрачных перспектив сколько-нибудь значительного роста числа рабочих мест и их качества будущие доходы домохозяйств Европы и Америки выглядят неблестящими.
Это и есть глобальное ребалансирование экономики. А процесс осознания своего будущего западному миру еще предстоит пройти. Полагаю, это вопрос поколения.
Справка
65% капитала в совокупном богатстве (все, чем владеет семья, за вычетом долгов) обеспеченных домохозяйств — доходы от финансовых активов, и лишь 17% — дома. Различия в темпах восстановления богатства — следствие бурного оживления рынка акций и облигаций, в то время как рынок жилья в 2009–2011 годах оставался стабильным. Богатые (совокупное богатство — $500 тыс. и более) обычно держат активы в кредитных инструментах, а зажиточность остальных в значительной степени определяется стоимостью дома
Хочу быть иррациональным
— Получается, что осознание не пришло ни в Европу, ни в Америку даже с кризисом. Что же должно подвигнуть людей к этому?
— Люди не хотят вести себя рационально, если им это неприятно. Они предпочтут жить в сказке, говоря: да, кризисы случаются, экономисты ими пугают, но потом же все восстанавливается. Люди готовы себя обманывать и поддерживать уровень жизни, даже не имея для этого достаточных средств.
Это хорошо было видно еще в нулевые, когда рабочие места уезжали в Китай, а люди, даже когда их доходы уже сильно упали, перезакладывали свои дома, чтобы, получив деньги, пойти с ними в магазин и поддержать привычный уровень жизни. Кончилось, как вы помните, тем, что однажды им перестали давать в кредит, потому что более они были не в состоянии платить по долгам. Но эта ситуация показывает, что ожидать рациональности от человеческого поведения не приходится. Люди будут вести себя иррационально настолько, насколько им это позволят.
— Значит, надо апеллировать к рациональности правительств, чтобы те двигались в сторону выправления балансов?
— Правительства сами по себе тоже никуда не двигаются, пока что-нибудь не заставит их шевелиться, как произошло в Греции, Испании, Италии. Когда рынок вдруг начинает нервничать и оказывается, что рефинансировать долг можно лишь под существенно более высокий процент, правительство начинает действовать. До этого оно будет подыгрывать избирателю. Но даже когда экономические проблемы очевидны, политический процесс, как мы видим в Италии, далеко не однозначен.
Только под «дулом пистолета» рынка или чего-либо еще правительство может начать санацию своих финансов. В Америке, думаю, это произойдет в последнюю очередь. Сначала Италия с Испанией и Португалией, Европа в целом, затем, возможно, Япония. И лишь в конце этого процесса, быть может, начнет расхлебывать свои несчастья Америка. Она может продолжать накапливать проблемы довольно долго. Однако от этого они не становятся недействительными, они становятся нерешаемыми.
С кого спрос
— США на фоне Европы выглядят много лучше. Но это если брать не абсолютные, а сравнительные степени. На самом деле ситуация может быть хуже европейской. Чем это может грозить США?
— Тем, что накопившиеся проблемы будут решаться уже не через рациональный механизм, а через рыночную катастрофу. Но, к сожалению, так устроена Америка: она часто ждет катастрофы, чтобы разобраться с проблемой. Раньше договориться не удается.
— Следовательно, рано или поздно будет новый кризис. Кто пострадает в нем?
— У меня нет сомнений, что следующей жертвой станет корпоративный сектор, потому что ресурс спасения всех и вся с помощью государства исчерпан.
Часть проблем могли бы взять на себя домохозяйства, если бы восстановили платежеспособность. Но это происходит крайне медленно: по сравнению с точкой максимальной задолженности по кредитам за недвижимость на первый квартал 2008 года сейчас этот показатель снизился лишь на 10%.
При слабости финансов домашних хозяйств и правительства корпорации вынуждены будут поступиться частью прибыли либо им грозит длительная стагнация. Угроза дефляции — это угроза того, что тренд, который уже неявно присутствует в экономике, реализуется, несмотря на все попытки его предотвратить.
Конец офшорной экономики
— Говоря о санации финансов, вы назвали несколько европейских стран, но среди них не было Кипра. Ему удастся санировать себя или он все же уйдет из еврозоны и заживет спокойной девальвированной жизнью?
— Это открытый вопрос. Кипр — нетипичная страна. Вообще непонятно, как такой офшор мог находиться в составе группы стран Евросоюза. Тем не менее это так, и сегодня решения в отношении Кипра означают не просто попытки разрешить кризис. Это разрушение модели, которая позволила киприотам иметь небольшую в абсолютных размерах, но очень большую на душу населения, процветающую экономику.
— Очевидно, Кипр перестанет быть офшором.
— Да, это плата. Европа будет цедить Кипру деньги только при условии принятия им мер, которые разрушат его привлекательность как офшора.
— Куда же податься бедному олигарху?
— Для некоторых операций — за пределы Евросоюза. Но может статься и так, что жизненное время офшоров как экономической модели заканчивается и они вообще перестанут существовать. Почему это вероятно? Мы наблюдаем государственные бюджеты в невиданно ужасном виде и понимаем: в большинстве стран понизить уровень правительственных долгов можно, лишь рискуя очередной рецессией, которая еще больше затруднит проблему санации. А это означает, что все правительства будут исключительно чувствительны к любым попыткам уклонения от налогов.
Ценность, которая не по карману
— На последней встрече «двадцатки» как раз говорилось о том, что вместо программ жесткой экономии нужно больше внимания уделять мерам, стимулирующим экономический рост.
— Ситуация в Греции, Испании, Италии, да и в Англии показывает: решительные меры правительств по наведению порядка в публичных финансах и режим строгой экономии могут привести к рецессии. В этих условиях достичь поставленных целей снижения долгов невозможно. С рецессией падают налоговые поступления. Сокращать расходы бюджета? Но во время рецессии срабатывают так называемые автоматические стабилизаторы, например программы соцзащиты. Скажем, люди теряют работу, но начинают получать пособие. Получается, что в рецессию бюджетные расходы возрастают и программы экономии работают не на снижение дефицита, а даже на его увеличение. Поэтому сейчас делается поворот: не столь агрессивно сокращать дефицит, а придавать большее значение экономическому росту.
Но есть и другой смысл в этих решениях: готовность населения терпеть меры бюджетной экономии, чтобы сохранить еврозону, — это не заданный раз и навсегда общественный выбор. Если понуждать людей делать то, что они уже не в состоянии вытерпеть, они махнут рукой на европейскую валюту как ценность и скажут: да, это, конечно, ценность, но нам она не по карману.
— Неужели если даже кто-то выйдет из евро, это будет означать конец единой Европы со всеми ее ценностями, политическим, экономическим пространством, внешнеполитическим потенциалом?
— Хотя идея объединения Европы очень давняя, реализовываться она начала лишь после Второй мировой войны и очень постепенно. В этом немалая причина нынешнего кризиса. Объединить Европу можно только шаг за шагом, слишком уж трудный проект. Но если он делается не комплексно, каждый шаг порождает новые трудности и противоречия. Скажем, евровалюту ввели, а банковский надзор, бюджеты и налоговые системы оставили на усмотрение суверенных правительств. Разрыв между единой валютой и неединым бюджетным процессом и лег в основу проблем, наблюдаемых сейчас. Хорошо, когда историческая обстановка позволяет это перетерпеть. Но мы дожили до кризиса, который перетерпеть не позволяет.
Европейский процесс может двигаться вперед до полного завершения и создания единого государства, а может и вспять. Если произойдет разрушение зоны единой валюты, под угрозой могут оказаться и другие институты.
— Что, НАТО развалится или национальные визы снова введут?
— Насчет виз не знаю, но положение Европейского центрального банка, например, станет сомнительным. В случае распада европейской валюты противоречия между государствами будут нарастать. В этом кризисе Германия накопила достаточно отрицательных эмоций со стороны периферийных стран. И если не со стороны истеблишмента, который достаточно прагматичен, то со стороны рядовых избирателей Греции, Италии или Испании негативное отношение к Германии может нарастать.
В политическом процессе могут появиться силы, использующие националистическую риторику. Тренд на протекционизм довольно естествен и в условиях кризиса, и в рамках глобализации, когда происходит утрата рабочих мест. Это самозащита.
Можно представить, как пришедшие к власти протекционистски настроенные политики, используя националистические настроения, чувство накопленной обиды, начинают торговаться с Германией с позиции страны, которая уже находится за пределами единой европейской зоны.
Сейчас для немцев все европейские рынки почти как домашние, но они запросто могут перестать быть таковыми. Немцы оперируют в Европе под защитой законов, которые в значительной степени написаны с их участием и с учетом их интересов. Это все может оказаться обратимым. Я не утверждаю, что так случится. Больше того, надеюсь, что нет.
— Вы как-то говорили, что санация госфинансов Европы вкупе с оздоровлением бюджетов домохозяйств может стать «фатальной для всего ЕС». Почему?
— Я не верю, что можно гомогенизировать Европу и превратить всех в немцев. И сейчас происходит еще большее расслоение. Несмотря на все меры правительств по спасению еврозоны, очень по-разному формируется доступ к банковским кредитам у малых и средних предприятий на периферии и в благополучном центре. Что это означает? А то, что в секторе предпринимательской активности, который создает максимальное количество рабочих мест, итальянские или испанские предприятия не могут получить доступ к кредитам на условиях, на которых запросто получают их германские коллеги. И это лишь усиливает диспаритет в Европе на уровне производительной активности и создания рабочих мест.
Еще один фактор. В рамках единой монетарной политики и валюты ЕЦБ устанавливает единую процентную ставку для всей Европы. Но это как средняя температура по больнице. Она может оказаться слишком жесткой для слабых стран и слишком мягкой для крепких. Это вновь будет означать, что выиграют сильные и проиграют слабые. Даже если ситуация с финансами нормализуется, гомогенности производственной деятельности и экономической активности в Европе не возникнет. Таким образом, модель еврозоны содержит в себе условия для воспроизводства кризиса.
С другой стороны, кризис и есть проверка жизнеспособности политических и экономических моделей. Именно тогда их и надо проверять, а не в тепличных условиях, когда все хорошо.
Неприкосновенность недостатков
— А где во всем этом Россия? Вы писали, что в случае ослабления ЕС «значительные стратегические преимущества» открываются для России и США. Прямо как Бродель, который говорил, что «успех зависит от твоего включения в круг тех шансов, какие предоставляет данная эпоха». В чем для нас эти преимущества и шансы?
— Для России ситуация, конечно, двояка. В лице Евросоюза Россия имеет и сильного оппонента, и сильного партнера. Ухудшение европейской экономической конъюнктуры может отразиться на России негативно. Но в более широком контексте ослабление Европы повышает значение России как регионального игрока. Ей может противостоять уже не монолитная Европа, а ряд государств, которые заново формируют представление о своем политическом пространстве. Политически Россия может выступать и интересным союзником, и опасным соседом. Экономически же выгода, которую Россия может получить, идет от снижения стоимости европейских активов. Их оценка связана с географией их деятельности и режимом операций на международной арене. С разрушением или даже эрозией еврозоны оценка пострадает. Соотносительно с ними российские активы не должны претерпевать большей девальвации. Наоборот, в соотношении с удешевляющимися европейскими активами российские имеют шанс получить более высокую оценку.
— Что это означает на практике? Что «Газпром» удвоит капитализацию?
— И «Газпром», и другие компании могут приобрести более высокую капитализацию. Россия как место инвестиций станет более интересной в условиях глубокого европейского кризиса. Представьте, разрушается еврозона, вводятся национальные валюты. Инвестиции в Германию или Италию в условиях единой валюты и разных валют выглядят по-разному, теперь инвестор включает и валютные риски. В этих условиях инвестиционная привлекательность России автоматически повышается.
Другой аспект. В силу разной истории экономических отношений российскому населению много в долг не давали. И домохозяйства в России имеют сегодня достаточно низкий уровень долговой нагрузки по сравнению с европейскими странами. В этом смысле Россия свободна от проблем, которые испытывает Западная Европа. Если Россия в состоянии улучшить инвестиционную привлекательность, то низкая долговая нагрузка домохозяйств делает ее очень перспективным рынком продаж любого типа потребительских товаров, переноса производств для обслуживания растущего и не очень обремененного долгами рынка. Все это работает на стратегическую перспективу. Россия может ею воспользоваться, может не воспользоваться. Мы говорим лишь о шансе, который ей предоставляется.
— Если внутри страны не улучшается ни один из факторов экономической привлекательности — защита права собственности, прозрачность сделок, стоимость инвестиций, то можем ли мы говорить о том, что «не было бы счастья, да несчастье помогло»?
— В определенном смысле да. Даже если Россия со всеми своими недостатками останется такой, какая она сейчас, в то время как инвестиционная привлекательность Европы будет сокращаться, Россия автоматически повысится в рейтингах.
Можно сказать даже так: европейский кризис дает России возможность не только сохранить свои недостатки в неприкосновенности, но отчасти даже увеличить их и при этом не ухудшить инвестиционную привлекательность по сравнению с сегодняшним днем. Кроме того, ее недостатки можно считать и неиспользованными резервами.
— Больно долго не используем.
— Настолько, насколько позволяют обстоятельства.
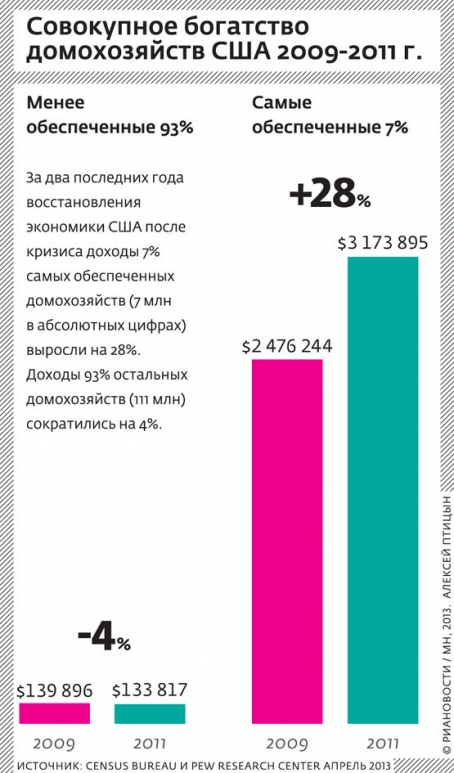

Утраченная логика сдерживания
Что сегодня можно, а чего нельзя сделать с помощью стратегии, которая обеспечила победу в холодной войне
Ричард Беттс – директор Института исследований войны и мира имени Зальцмана в Колумбийском университете и старший научный сотрудник в Совете по внешним связям. Недавно вышла его книга «Американская сила: опасности, заблуждения и дилеммы национальной безопасности».
Резюме: Применение сдерживания, если в нем нет необходимости, означает в лучшем случае растранжиривание ресурсов. В худшем – может спровоцировать конфликт вместо того, чтобы предотвратить его.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 1, 2013 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Сдерживание уже не то, каким было раньше. В XX веке эта стратегия служила становым хребтом национальной безопасности Соединенных Штатов. Ее цель, логика и действенность были ясны и понятны. Она была необходима в противостоянии с Советским Союзом и стала важным слагаемым победы в холодной войне без развязывания Третьей мировой. Но в последние десятилетия сдерживание утратило четкую направленность, что плохо сказывается на американской оборонной политике.
После окончания холодной войны США использовали сдерживание там, где этого не следовало делать, ухудшив без всякой на то надобности отношения с Россией. Еще важнее то, что они отвергли сдерживание в случаях, где это было необходимо, что привело к ненужной и разрушительной войне с Ираком и увеличило риск столкновения с Ираном. Но главное – Вашингтон никак не может решить, стоит ли делать ставку на сдерживание Китая, и невнятица может привести к кризису, если Пекин сделает неправильные выводы.
Ошибки в подходе к сдерживанию происходят от непонимания самой концепции, неверной оценки угроз, пренебрежения уроками истории и близорукого политиканства. Акцент на данной проблематике может возродить веру в сдерживание там, где она была утрачена, снизить издержки в случаях, когда эта стратегия неправильно применялась, и уменьшить опасность сюрпризов в ситуациях с неопределенной угрозой.
Сдерживание – это сочетание двух конкурирующих целей: противодействовать противнику и избежать войны. Ученые исследовали бесчисленные вариации на эту тему, но основополагающая идея достаточно проста: враг не нанесет удар, если знает, что обороняющаяся сторона может успешно отразить нападение или причинить ему неприемлемый урон ответными действиями.
Применение сдерживания, если в нем нет необходимости, означает в лучшем случае растранжиривание ресурсов. В худшем – может спровоцировать конфликт вместо того, чтобы предотвратить его. Даже когда сдерживание уместно, оно может не срабатывать – например, если неприятель склонен к самоубийственным действиям или неуязвим для контратаки. Таким образом, сдерживание работает в отношении правительств, имеющих обратный адрес и стремящихся выжить, но не террористов, которых невозможно найти, и они не боятся смерти. Сдерживание не слишком эффективно в киберпространстве, где трудно знать наверняка, кто является источником атаки.
Когда США выбирают сдерживание и готовы сражаться, сдерживающее предупреждение должно быть громким и ясным, чтобы противник не понял его превратно. Сдерживание может быть двусмысленным лишь в том случае, если это блеф. Однако одна из самых больших опасностей – это обратная ситуация, когда Вашингтон не объявляет заблаговременно о сдерживании, но начинает войну в ответ на неожиданный удар. Подобная путаница вынудила Соединенные Штаты внезапно вступить в корейскую войну и в войну в Персидском заливе, несмотря на сделанные ранее официальные заявления, которые дали агрессорам повод надеяться, что американцы не будут вмешиваться.
Сдерживание – не универсальная стратегия, и она не гарантирует успех. Имеются определенные риски упования на нее, но и отказа, когда альтернативы еще хуже.
Ненужная жесткость
Москве должно казаться, что холодная война закончилась только наполовину, поскольку Запад продолжает проводить в отношении России политику сдерживания, хотя и не столь явную. Во время холодной войны сдерживание было жизненно важно, потому что советская угроза казалась гигантской. Москва держала 175 дивизий, нацеленных на Западную Европу, и около 40 тыс. ядерных боеголовок. Шли многочисленные дебаты по поводу намерений Советского Союза, но официально они считались очень враждебными. В ответ на эту угрозу Запад развернул достаточные контрсилы в рамках НАТО и Командования стратегических ВВС США. И политика сдерживания неплохо работала более 40 лет. Несмотря на острые кризисы из-за Берлина и Кубы и опосредованные конфликты в третьем мире, Москва так и не осмелилась направить войска против Запада. «Голуби» сомневались в необходимости сдерживания, а «ястребы» были уверены в том, что против серьезной угрозы сдерживание непременно сработает.
Однако неявное сдерживание продолжалось и после победы Запада из-за требований бывших стран – участниц Варшавского договора, вступивших в НАТО, ретроградства лидеров постсоветской России и в силу привычки. Кандидат в президенты от республиканцев на выборах президента Митт Ромни озвучил общую точку зрения, когда сказал, что Россия остается «геополитическим врагом номер один» для Соединенных Штатов.
Хотя большая часть американской военной инфраструктуры в рамках НАТО используется для материально-технического снабжения операций в других регионах, а военные расходы США сокращаются, в Европе по-прежнему расквартированы две военные бригады. Это можно считать лишь символическим присутствием, но вкупе с расширением НАТО они, похоже, направлены против Москвы. Соединенные Штаты и Россия продолжают переговоры о сокращении ядерных потенциалов. Однако нет повода осуществлять формальный контроль над вооружениями, если две страны не опасаются друг друга, не чувствуют надобности ограничивать взаимный ущерб, который они могли бы обоюдно причинить в случае войны, и не желают возобновлять взаимное сдерживание.
Сценарии холодной войны имели бы смысл, если бы речь шла о двух непримиримых противниках. Отношения Вашингтона и Москвы натянуты, но их нельзя назвать врагами. Если холодная война вправду закончена, и Запад действительно одержал в ней победу, то продолжение неявной политики сдерживания не столько защитит от ничтожно малой угрозы, исходящей от России, сколько будет подпитывать подозрения, усугубляющие политические трения. Сегодня трудно доказать, что Россия представляет для НАТО большую угрозу, чем НАТО для России. Во-первых, баланс военных возможностей между Востоком и Западом, который на пике холодной войны был благоприятным для стран Варшавского договора или в лучшем случае равным, сегодня не только сместился в пользу альянса, но и совершенно нарушился. Нынешняя Россия – одинокая и малая часть того, что представлял собой Варшавский договор. Она не просто потеряла бывших союзников из стран Восточной Европы, но они оказались по другую сторону баррикад – под знаменами НАТО. По любым значимым критериям силы – военным расходам, численности вооруженных сил, численности населения, экономической мощи и контролю над территорией – на стороне Североатлантического альянса колоссальные преимущества. Единственно, что делает Россию могущественной с военной точки зрения – это ее ядерный арсенал. Однако не существует реалистичного сценария, при котором Москва могла бы использовать ядерное оружие для агрессии – разве только в качестве заслона или опоры для наступления обычных сил. Но возможности НАТО в этом отношении значительно превосходят российские.
Намерения России представляют не большую угрозу, чем ее потенциал. Хотя правящие элиты в Москве упорно проводят крайне неприятную Западу политику, нет оснований думать, будто они заинтересованы в нападении. В XX веке между сторонами происходили напряженные территориальные конфликты и титаническая идеологическая борьба. Россия Владимира Путина – авторитарная страна, но в отличие от Советского Союза не авангард революционной идеологии.
Дисбаланс возможностей между НАТО и Россией не означает, что с интересами Москвы не следует считаться или что США могут безнаказанно утереть русским нос, воспользовавшись военным превосходством. Россия остается крупной державой, будущая политика и союзы которой имеют значение. Если Россия заключит военно-стратегический альянс с усиливающимся Китаем, это может иметь отнюдь не шуточные последствия для Соединенных Штатов. Слишком многие американцы беспечно полагают, что российско-китайский антагонизм неизбежен. На самом же деле Япония, НАТО и США дают Пекину и Москве достаточно мощные стимулы для того, чтобы забыть о разногласиях и объединиться для противостояния давлению Запада.
Даже при отсутствии российско-китайского партнерства конфронтация с Россией означает ненужный риск. Единственные неразрешенные территориальные конфликты в регионе важнее для Москвы, чем для Запада, как это продемонстрировала мини-война 2008 г. между Грузией и Россией. Если бы НАТО еще дальше продвинулась по пути сдерживания и приняла Грузию в свои ряды – что в принципе находит поддержку у администрации Обамы, как и у администрации Джорджа Буша, – политике протекционизма, которую проводит Москва в отношении отколовшихся грузинских регионов, был бы брошен открытый вызов. Это стало бы откровенным заявлением о том, что у России вообще не может быть сферы интересов, хотя это прерогатива любой крупной державы. Тем самым НАТО завершила бы дело преобразования сдерживания в прямое доминирование – именно то, в чем Китай и Советский Союз обвиняли Запад, утверждая, что в этом и кроется конечная цель политики сдерживания. В худшем случае прием Грузии в НАТО мог стать последней каплей для России и ускорить кризис.
Цена любого из этих исходов была бы выше, чем более решительная западная военная деэскалация и окончание разговоров о дальнейшем расширении НАТО. Стабильный мир с одиозным режимом в Москве следует считать более важной целью, чем поддержка ближайших соседей России. В конечном итоге, пока НАТО останется союзом, исключающим Россию, а не подлинной организацией коллективной безопасности, которой придется включить ее в свои ряды, Москва неизбежно будет видеть угрозу в существовании блока. Углубление мира в Европе не станет совершенным и полным до тех пор, пока членами Североатлантического альянса будут почти все европейские государства, кроме России. На сегодняшний день идея членства России кажется эфемерной; на Западе не заметно движения в сторону России, равно как нет никаких указаний на то, что Москва приняла бы приглашение, если бы оно было ей сделано. Однако утверждения о том, что НАТО несет угрозу, было бы легче опровергнуть, если бы члены этой организации проявили готовность рассмотреть вопрос о приглашении России в альянс на условии ее возвращения на стезю демократии.
Неусвоенные уроки
Чрезмерное сдерживание России – это ошибка, но не настолько серьезная, как отказ от сдерживания, когда в нем есть острая необходимость. Эта ошибка вредит стремлению США справиться с распространением ядерного оружия и, в частности, с Ираном. Вместо того чтобы планировать сдерживание предполагаемых нарушителей режима распространения, американские политики предпочитают превентивную войну. Похоже, они опасаются, что сдерживание малоэффективно в борьбе с радикальными режимами, забывая о том, что конкретная цель сдерживания – противостояние опасным, а вовсе не осторожным противникам. Это предпочтение особенно тревожно потому, что продолжается даже после двух болезненных авантюр с Ираком, которые ярко продемонстрировали, почему сдерживание лучше.
Сдерживание не играло никакой роли в подготовке к первому серьезному конфликту после холодной войны – войне в Персидском заливе 1990–1991 годов. Большинство аналитиков неверно интерпретировали наступление Саддама Хусейна на Кувейт как доказательство того, что его невозможно сдерживать. На самом же деле это не так, поскольку США никогда этого делать и не пытались. Если бы Саддам знал, что вторжение в Кувейт побудит Вашингтон начать с ним решительную войну, он, конечно, воздержался бы. Однако администрация Джорджа Буша-старшего не выступила с подобной угрозой, и у диктатора появилась возможность для просчета.
Буш не был готов прибегнуть к сдерживающей угрозе, потому что никто не предвидел вторжения Ирака в Кувейт. Эта ситуация мало отличалась от той, которая привела к неожиданной и неизбежной войне 40 лет тому назад. В 1949 г. генерал американской армии Дуглас Макартур публично заявил, что Южная Корея не попадает в оборонный периметр США в Азии; в следующем году с аналогичными комментариями выступил госсекретарь Дин Ачесон. Эти заявления отражали тот факт, что Соединенные Штаты, рассматривая возможность Третьей мировой войны, не отводили Корее значимой роли. Именно поэтому президент Гарри Трумэн очень удивился, когда Север напал на Юг в отсутствие более широкомасштабных военных действий.
В 2003 г. Джордж Буш не имел подобных оправданий и не мог ссылаться на какие-то сюрпризы. Он сознательно отказался от сдерживания Ирака, решив вместо этого сразу начать войну, чтобы исключить возможность использования Багдадом оружия массового поражения.
Невозможно знать, привела бы ставка на сдерживание и попытка удерживать Саддама под контролем к более серьезной катастрофе, как утверждали поборники войны. Однако нет доказательств того, что Саддама нельзя было сдерживать неопределенное время. Он начал беспричинную агрессию против Ирана в 1980 г. и против Кувейта спустя десятилетие, но у него был повод считать, что ему не придется иметь дело с грозной контратакой. Хусейн был бесшабашным задирой, но не самоубийцей. Он никогда ни на кого не нападал, если налицо была угроза ответного удара со стороны США, и он не стал применять химическое или бактериологическое оружие даже для защиты от Соединенных Штатов в 1991 г., когда Вашингтон предупредил о страшном возмездии, если подобная атака будет предпринята.
Страхи Америки по поводу Саддама, а сегодня иранских лидеров, кажутся преувеличенными в свете опыта, обретенного во время холодной войны. Президенты рассматривали возможность превентивной войны против Мао и Сталина, которые казались еще более фанатичными и агрессивными, чем современные противники, но отвергли эту возможность. Мао делал заявления, от которых кровь стыла в жилах – ничего похожего пока не прозвучало из уст тегеранских лидеров. Например, Мао сказал, что перспектива ядерной войны «не так плоха», поскольку победа над капитализмом стоит того, чтобы за нее погибли две трети населения мира.
С учетом положительных последствий сдерживания времен холодной войны и ужасных просчетов профилактической стратегии против Ирака хочется верить, что американские политики способны признать сдерживание привлекательной альтернативой во взаимоотношениях с Ираном, если Исламскую Республику не удастся отговорить от разработки ядерного оружия. В конце концов, именно так Вашингтон поступил с Северной Кореей, когда у нее появилось ядерное оружие. Но американские и израильские лидеры убедили себя, что Тегеран может однажды использовать ядерное оружие для иррациональной и ничем не спровоцированной агрессии. Однако нет доказательств того, что иранское руководство заинтересовано в национальном самоубийстве. Иран поддерживал терроризм, оправдываясь тем, что это реакция на тайные военные операции США и Израиля. Но какими бы агрессивными ни были мотивы Ирана, революционный режим в Тегеране никогда не начал бы полномасштабную войну.
Тем не менее вместо того, чтобы планировать сдерживание Ирана, США и Израиль отдают предпочтение превентивной войне. Хотя многие по-прежнему надеются отговорить Тегеран от разработки ядерного оружия с помощью санкций и дипломатии, дебаты в Соединенных Штатах, а также между США и Израилем идут не о том, следует ли атаковать Иран, если он разработает атомную бомбу, а о конкретных сроках военной операции. Президент Барак Обама твердо заявил, что намерен проводить не «политику сдерживания», а «политику недопущения того, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие». Другие официальные лица в администрации также неоднократно подчеркивали эту мысль. Похоже, что это внешнеполитическое обещание высечено в камне. Отказ от его выполнения при соответствующих обстоятельствах был бы правильным шагом, но явил бы непоследовательность и разбрасывание пустыми угрозами.
Логика отказа от сдерживания состоит в том, что Тегеран может принять решение о применении ядерного оружия, несмотря на опасность страшного возмездия. Подобный риск нельзя полностью исключить, но нет поводов считать, будто от Ирана исходит более серьезная угроза, чем от других одиозных режимов, которые уже владеют ядерным оружием. Наиболее красноречивым примером может служить Северная Корея. Хотя американская общественность не уделяет КНДР столько внимания, сколько Ирану, послужной список фанатичных действий и террористического поведения Пхеньяна за последние годы значительно более зловещ, чем у Тегерана.
Нежелание принять даже малую толику риска, связанную с Ираном, игнорирует гораздо более значительный риск развязывания войны. Даже если не принимать во внимание опасность совершенно неожиданных ответных действий – например, применение Тегераном биологического оружия, – очевиден риск явного и скрытого возмездия, направленного против американских активов.
Последствия поначалу успешного наступления на Ирак в 2003 г. служат напоминанием, что войны, которые Соединенные Штаты начинают, далеко не всегда заканчиваются тогда и так, когда и как им захочется. На самом деле «кредитная история» и США, и Израиля свидетельствует о том, что обеим странам свойственно недооценивать возможную стоимость войн, в которые они ввязываются. Расходы Вашингтона во время первой войны в Персидском заливе оказались меньше, чем предполагалось, но в Корее, Вьетнаме, Косово, Афганистане и во второй войне с Ираком американцам пришлось выложить куда больше того, на что они рассчитывали. Израиль понес меньшие издержки, чем ожидалось, во время Шестидневной войны 1967 г., но был неприятно удивлен расходами во время войны Судного дня 1973 г., в Ливане в 1982 г. и против «Хезболлы» в 2006 году.
Развязывание боевых действий против Ирана также чревато негативными последствиями. Прежде всего без наземного вторжения и оккупации удар с воздуха не гарантирует сворачивания ядерной программы. Он может обеспечить лишь отсрочку и почти наверняка увеличит решимость иранцев создать атомную бомбу. Если производственные мощности и ядерные объекты Ирана будут временно выведены из строя, а его рвение возрастет многократно, это лишь усугубит угрозу. Нанесение упреждающего удара также расколет международную коалицию, которая сейчас поддерживает санкции против Тегерана, ослабит противодействие режиму внутри самого Ирана и будет воспринято в мире как очередной пример агрессии надменных американцев против мусульман.
Эти издержки могли бы показаться оправданными, если бы война против Ирана убедила другие страны в тщетности и опасности попыток создания собственного ядерного оружия сдерживания. Однако она, как раз напротив, заставит их с удвоенной энергией работать над созданием ядерного арсенала. Война Джорджа Буша с Ираком под предлогом недопущения разработки ядерного оружия не разубедила Северную Корею, которая спустя несколько лет продолжила испытания атомной бомбы, Иран также не отказался от ядерных планов. Возможно, это побудило ливийского лидера Муамара Каддафи свернуть ядерную программу, но спустя лишь несколько лет наградой от Вашингтона стало его низложение и смерть. Едва ли этот пример убедит врагов США в разумности отказа от ядерного оружия.
Одна из причин, по которой американские лидеры не горят желанием применять сдерживание, заключается в том, что наиболее действенная форма этой стратегии – угроза уничтожения экономики и населения неприятеля – сегодня считается преступной. В 1945 г. едва ли кто-то из американцев возражал против испепеления сотен тысяч мирных граждан Японии, а в годы холодной войны мало кто сомневался в самом принципе уничтожения еще большего числа мирных жителей в ответ на нападение Советского Союза. Но времена меняются, и, согласно нормам ведения боевых действий после окончания холодной войны, да и по мнению юристов Пентагона, удар по гражданскому населению даже в качестве ответной меры считается однозначно непропорциональным и незаконным применением силы. Правительству Соединенных Штатов трудно заявить, что если хотя бы одна иранская бомба взорвется где-либо, в качестве возмездия будут убиты миллионы иранцев.
Но это едва ли повод для отказа от войны с иранской армией или от сдерживания. Приемлемым вариантом может стать угроза уничтожения не гражданского населения, а режима – лидеров, служб безопасности и активов иранского правительства, если оно санкционирует применение ядерного оружия. Хотя на практике даже тщательно выверенная контратака неизбежно приведет к сопутствующему урону и значительному числу случайных жертв. Американские стратеги могли бы выступить с достоверной угрозой и обострить ее, пообещав осуществить также и наземное вторжение. Этот шаг был бы куда более логичен после иранского ядерного удара, чем против Ирака в 2003 году. И даже если бы юридические соображения удержали США от актов массового возмездия против гражданского населения Ирана, израильских лидеров ничто не остановит, если Тегеран атакует Израиль с применением ядерного оружия, поскольку в этом случае на карту окажется поставлено само существование еврейского государства. Эти усиливающие друг друга угрозы стереть с лица земли не только плоды иранской революции, но и само общество были бы серьезным сдерживающим фактором для Тегерана.
Иран с ядерным арсеналом – тревожная перспектива, но некоторые опасности невозможно полностью устранить, и главная задача сводится к стратегическому выбору между разными рисками. Не существует убедительных доказательств того, что война с Ираном безопаснее, нежели попытка решить проблему с помощью доброго старого сдерживания.
Противоречивые сигналы
Самый опасный долгосрочный риск, с которым Вашингтон может столкнуться, связан с уклонением от выбора той или иной стратегии в отношении Китая. Вашингтону нужно определиться, считать ли Пекин угрозой, которую следует сдерживать, или же державой, с которой надо уживаться. Американские стратеги давно пытаются сочетать оба подхода. Подобная непоследовательность, естественная для политиков, безвредна лишь до тех пор, пока нечто не послужит катализатором и не обнажит скрытое противоречие. Следовательно, раздвоенность не сможет длиться бесконечно – разве только Китай решит еще долгое время вести себя смиреннее, чем любая другая восходящая держава в истории, и будет «качать права» существенно реже, чем сами Соединенные Штаты.
Существует влиятельная точка зрения, согласно которой сдерживание не стоит в повестке дня американо-китайских отношений, поскольку экономическая взаимозависимость исключает возможность военного конфликта. Сторонники этой теории утверждают, что конфронтация бессмысленна, а если готовиться к возможному конфликту, можно накликать беду. Противоположная точка зрения – растущая мощь Китая является угрозой, которой необходимо противостоять военными средствами – становится все более популярной, но пока не привела к выработке соответствующей внешнеполитической линии. Между тем объявленный администрацией Обамы новый поворот внешней политики или перегруппировка и смещение американской военной мощи в направлении Азии не сопровождается последовательными сигналами о том, где, когда, почему или как США вступят в вооруженное противостояние с Китаем. Также отсутствует внятная логика переброски американских морских пехотинцев в Австралию – наиболее конкретного и видимого символа этого поворота. Проблема не в том, что сдерживание неподобающим образом отвергается или принимается, а в том, что оно осуществляется сумбурно.
Вашингтон также продолжает игнорировать вопрос о том, когда и почему закончится долготерпение Пекина в вопросе о статусе Тайваня. Китай всегда давал ясно понять, что воссоединение – вопрос времени, а не принципиальной осуществимости. Но провозглашение Тайбэем независимости Пекин однозначно расценил бы как провокацию, и согласно неоднократным заявлениям китайских официальных лиц это неизбежно повлечет за собой вооруженное столкновение. На протяжении долгих лет Вашингтон отделывался полумерами, удерживая Тайвань от такого шага. Когда Буша спросили в 2001 г., что он будет делать для защиты Тайваня, американский президент заявил: «Все, что понадобится». По сути, политика Соединенных Штатов сводится к обещанию защищать Тайвань до тех пор, пока он остается мятежной провинцией Китая, но не в том случае, если он станет независимой страной. Некоторые эксперты считают подобную позицию умной, но на деле она ставит под сомнение наличие у большинства американцев здравого смысла, посылает двусмысленный сигнал Пекину и тем самым снижает готовность Вашингтона к кризису.
Между тем назревают многочисленные конфликты наподобие недавнего обострения отношений вокруг спорных островов в Южно-Китайском море. Поглощенный другими стратегическими вызовами, Вашингтон дрейфует в направлении непредвиденной конфронтации, не принимая четкого и ясного решения об обстоятельствах, при которых мог бы решиться на войну с Китаем. Эти колебания и распыление внимания мешают послать Пекину ясные предупредительные сигналы о красных линиях США и увеличивают риск случайного кризиса, просчета и эскалации.
Маневры китайских и филиппинских ВМС вблизи спорных островов в середине 2012 г. были первым тревожным звоночком, а последующие шаги и соперничество Китая и Японии, вызванные еще более опасными разногласиями по поводу принадлежности островов Сенкаку/Дяоюйдао, обнажили замешательство Вашингтона. Первоначальный отклик Соединенных Штатов выявил серьезное противоречие в американской позиции: «Мы сохраняем нейтралитет в споре об островах, но утверждаем, что действие договора распространяется и на них», – заявил представитель Государственного департамента, имея в виду договор о взаимной безопасности между США и Японией. Министр обороны Леон Панетта затем сказал, что Соединенные Штаты не будут вставать на чью-то сторону в региональных территориальных спорах, а также заявил, что хотя смещение стратегических приоритетов в направлении Азии больше, чем просто риторика, это не угроза в адрес Китая.
Все это довольно двусмысленное сдерживание: скорее упражнение в риторике, чем стратегическое планирование. Практика опасная, одновременно создающая впечатление провокации и слабости. Вашингтон посылает Пекину сигналы о том, что он не должен оккупировать острова, но при этом не угрожает блокировать подобные попытки, хотя заверяет Токио, что договор о взаимной безопасности обязывает Соединенные Штаты защищать и эту территорию. Последующие разъяснения или тайные заявления, которыми могли обменяться политики, возможно, смягчили противоречие, но публичные действия США подрывают доверие к американской риторике. Вашингтон как будто предлагает китайским лидерам считать Соединенные Штаты бумажным тигром, который может сдуться в случае эскалации кризиса. Однако при возникновении такого кризиса, под давлением событий и обстоятельств, к которым американцы окажутся не готовыми, Вашингтон может удивить противника объявлением войны по тем же причинам, по которым он это сделал после вторжения Северной Кореи на территорию Южной Кореи в 1950 г. и после оккупации Ираком Кувейта в 1990 году.
Имеются две логические долгосрочные альтернативы этой рискованной путанице. Одна заключается в недвусмысленном обязательстве сдерживать Китай. То есть Вашингтон объявляет о готовности путем военных действий или политического шантажа и принуждения пресечь попытки Пекина расширить территорию. Это звучит безрассудно, потому что Китай считает сдерживание агрессией и угрозой. Вашингтону придется тщательно подбирать слова, подчеркивая оборонительную цель сохранения статус-кво, а не посягательства на права Китая. Преимущество этой позиции в том, что сдерживание будет трудно не распознать или принять за что-то другое, и тем самым оно окажется более действенным. Иными словами, четкие красные линии снизят вероятность непредсказуемой игры «кто первым струсит», а также войны, которой не желает ни одна из сторон. Ведь при этом пришлось бы заплатить очень высокую цену: новая холодная война и конец взаимовыгодного сотрудничества в разных областях. Соединенным Штатам также раз и навсегда придется решить, готовы ли они воевать с Китаем из-за Тайваня. В настоящий момент серьезной дискуссии об этом не ведется, не говоря уже о попытке достижения консенсуса среди американских избирателей или внешнеполитической элиты в Вашингтоне.
Если в стратегии сдерживания по принципу зажигания красного света нет необходимости или ее цена неприемлемо высока, тогда противоположная альтернатива – примирение или, по сути, зеленый свет. Это имело бы смысл, если бы амбиции Пекина были ограничены и остались такими еще долгое время, если не будет перспективы внезапной остановки роста китайской мощи, если Соединенные Штаты предпочтут пренебречь интересами союзников, которым будет угрожать все более явная опасность конфликта с формирующейся сверхдержавой. Все это большие «если». Коль скоро Вашингтон будет стремиться к миру с Пекином, ему придется признать, что когда Китай превратится в сверхдержаву, он, естественно, станет считать себя вправе претендовать на соответствующие прерогативы – прежде всего на непропорциональное влияние в регионе. И Вашингтону придется согласиться с тем, что споры по второстепенным вопросам будут урегулироваться на условиях Китая, а не его более слабых соседей. Большим препятствием для такой альтернативы был бы конфликт по поводу Тайваня – куда более важный и серьезный спор, чем трения по поводу необитаемых скал, статус которых спровоцировал такую напряженность в прошлом году. Сегодня нет консенсуса в вопросе сдерживания; в то же время американцам ненавистна сама мысль об умиротворении.
С учетом непривлекательности обеих альтернатив нет ничего удивительного в уклончивости Вашингтона. Невнятный компромисс – это распространенная и иногда разумная дипломатическая стратегия. Однако в Азии это означает недооценку рисков колебания и нерешительности, когда мощь и сила Китая растет, а его сдержанность – уменьшается. Нынешний внешнеполитический курс США – это желтый свет китайским лидерам, предупреждение и призыв немного остудить пыл. При этом не звучит твердое требование остановиться – красный свет не зажигается. Однако желтый свет для некоторых водителей – это искушение ускорить движение, а не ударить по тормозам.
Безболезненного решения проблем, вызванных восхождением Китая на политический Олимп, не существует, если только Тайвань не уступит могущественному соседу. Позиция «завтра-завтра, не сегодня» может работать долгое время – до тех пор, пока Китай будет воздерживаться от действий. Если же случится конфликт, то двусмысленное сдерживание вызовет его обострение, а не предотвращение. Оно может оказаться слишком слабым, чтобы заставить Пекин отступить, но достаточно острым, чтобы Вашингтон также не дрогнул, и это создаст коллизию. Единственный выход – четкое стратегическое решение относительно того, согласятся ли Соединенные Штаты с притязаниями Китая на статус полноценной сверхдержавы, когда он станет таковой по факту, или проведут четкие красные линии, прежде чем в двусторонних отношениях грянет кризис.
Сдерживание не катастрофично, когда применяется в мягком варианте, пусть и без особой надобности, в отношении России. Хотя в этом случае негативные последствия неизбежны. Сдерживание Ирана не даст стопроцентной гарантии, но позволит избежать войны, которая в конечном итоге может лишь усугубить угрозу. И перед лицом серьезной долгосрочной политической дилеммы в виде Китая решение о сдерживании или отказе от него – чрезвычайно трудный выбор. Но если все время уклоняться от него, дилемма станет еще опаснее. Для снижения риска в будущем придется заплатить какую-то цену прямо сейчас.
Возрождение политики сдерживания поможет решить эти стратегические проблемы. В годы холодной войны сдерживание было неотъемлемой частью американского внешнеполитического курса, слово было у всех на слуху и использовалось для оправдания всего, что предпринималось в оборонной политике. Однако в последние годы оно почти полностью исчезло из стратегических дебатов. Американцам нужно заново усвоить основы сдерживания и открыть для себя перспективность этой стратегии в одних обстоятельствах, признав ее недостатки в других. Альтернатива в виде продолжающейся путаницы и замешательства не будет иметь значения, если только в один прекрасный день Пекин не решит, что настало время перемен; ведь он всегда говорил, что эти перемены – лишь вопрос времени.

Разорвать отношения нетрудно
Почему союз между США и Пакистаном не стоит треволнений
Хусейн Хаккани – профессор международных отношений Бостонского университета и старший научный сотрудник Института Хадсона. Он был послом Пакистана в США с 2008 по 2011 годы.
Резюме: США и Пакистану лучше перестать заниматься самообманом и признать, что союз в нынешней ситуации невозможен, а затем продолжить двигаться вперед и вести поиск компромиссов.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 1, 2013 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Вашингтону, мягко говоря, нелегко управлять американо-пакистанскими отношениями. На протяжении нескольких десятилетий Соединенные Штаты стремятся переключить Пакистан со стратегического соперничества с Индией и усиления влияния в Афганистане на защиту внутренней стабильности и экономическое развитие. Однако, несмотря на то что Пакистан по-прежнему зависит от американской военной и экономической помощи, он так и не изменил приоритетов. Обе страны жалуются друг на друга как на невыносимого союзника и, наверное, не без оснований.
Пакистанцы считают, что США их шантажируют. Крайне необходимую, на их взгляд, помощь Вашингтон предоставляет от случая к случаю, перекрывая ее каналы всякий раз, когда американские официальные лица хотят добиться от пакистанских коллег изменений во внешнеполитическом курсе. Пакистанцы полагают, что Америка никогда не испытывала к ним благодарности, хотя тысячи военных и офицеров служб безопасности погибли на полях сражения с террористами, не говоря уже о десятках тысяч мирных жителей, убитых в результате терактов. Многие в стране, включая президента Асифа Али Зардари и главного военачальника генерала Ашфака Каяни, признают, что Пакистан иногда отклоняется от американского сценария, но утверждают, что их страна была бы более преданным союзником, отнесись Вашингтон с большим пониманием к региональной озабоченности Исламабада.
С другой стороны, американцы не видят в Пакистане благодарного получателя военно-экономической помощи, которая с 1947 г. составила 40 млрд долларов, причем 23 млрд было выделено только в последнее десятилетие – на нужды борьбы с терроризмом. Они считают, что Пакистан с улыбкой принимал американские доллары, даже когда тайно от своего союзника разрабатывал ядерное оружие в 1980-е гг., передавал ядерные секреты другим странам в 1990-е гг., а в недавние годы поддерживал вооруженные исламистские группировки. Что бы Вашингтон ни делал, он, по мнению многих американских сенаторов, членов Конгресса и авторов передовиц, не может рассчитывать на Исламабад как на надежного союзника. Между тем помощь, предоставляемая США в возрастающем объеме, не способна оживить экономику Пакистана.
Тайная операция по уничтожению Усамы бен Ладена в Абботтабаде (май 2011 г.) повлекла за собой небывалое охлаждение отношений между двумя союзниками, и сохранять иллюзию дружбы стало сложнее, чем когда-либо. Двум странам стоит признать, что их интересы просто не сходятся в той мере, которая позволяла бы сохранять прочное партнерство. Не стоит препираться по поводу малозначимых выгод – денег для Пакистана, ограниченного сотрудничества по предоставлению Соединенным Штатам разведданных и небольших военно-тактических преимуществ для обеих сторон. Если Вашингтон смирится с реальностью, у него будут развязаны руки для поиска новых способов оказания давления на Пакистан и достижения собственных целей в данном регионе. Тем временем Исламабад мог бы, наконец, дать волю своим региональным амбициям, которые либо позволят ему добиться успеха, либо, что более вероятно, покажут пакистанским официальным лицам крайнюю ограниченность их возможностей.
Дружеская просьба
Есть искушение считать, что отношения никогда еще не были столь натянутыми. И наверняка жители обеих стран сегодня питают антипатию друг к другу: согласно опросу Гэллапа в 2011 г., Пакистан наряду с Ираном и Северной Кореей попал в перечень держав, вызывающих наибольшую неприязнь у американцев. Между тем исследовательский центр Pew выявил, что 80% пакистанцев неблагожелательно относятся к Соединенным Штатам, а 74% считают их недружественной державой. Угрозы Вашингтона лишить Пакистан помощи и призывы Исламабада защитить суверенитет своей страны от американских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) свидетельствуют о том, что отношения стремительно охладевают.
Впрочем, они никогда не были хорошими. В 2002 г., когда две страны довольно тесно сотрудничали в борьбе с терроризмом, согласно опросу общественного мнения Pew, 63% американцев не считали Пакистан дружественной страной. Он располагался на пятом месте среди наименее привлекательных государств после Колумбии, Саудовской Аравии, Афганистана и Северной Кореи. Еще раньше, вскоре после советского вторжения в Афганистан в 1980 г., опрос общественного мнения, проведенный центром Harris, показал, что большинство американцев отрицательно относятся к Пакистану, хотя 53% пакистанцев поддержали военную операцию США по защите страны от коммунизма. В 1950-е и 1960-е гг. Пакистан не фигурировал в американских опросах общественного мнения, но пакистанские лидеры часто жаловались на неблагожелательную прессу в Америке.
В неприязни пакистанцев к Соединенным Штатам также нет ничего нового. Центр Pew в 2002 г. выявил, что около 70% пакистанцев не одобряют действия США, причем их отрицательное мнение сложилось еще до войны с терроризмом. В сентябрьском выпуске The Journal of Conflict Resolution за 1982 г. опубликована статья высокопоставленного пакистанского чиновника Шафката Нагхми, в которой он проанализировал ключевые слова в пакистанской прессе с 1965 по 1979 годы. Он доказал, что повсеместные антиамериканские настроения восходят ко времени начала данного исследования. В 1979 г. враждебно настроенная толпа сожгла американское посольство в Исламабаде, подобные сообщения о нападениях на официальные представительства Соединенных Штатов в Пакистане датируются еще 1950-ми и 1960-ми годами. Со времени основания государства Пакистан и в последующие годы две страны пытались как-то примирить несовпадающие интересы и замять тот факт, что общественность не верит в дружеские отношения.
В 1947 г. перед лидерами Пакистана открывалось неопределенное будущее. Большинство стран мира проявляли безразличие к новому государству, за исключением гигантского соседа, настроенного бескомпромиссно и враждебно. Расчленение Британской Индии дало Пакистану треть бывших вооруженных сил, но лишь шестую часть их источников дохода. Таким образом, с самого возникновения Пакистан был обременен гигантской армией, которую ему было крайне трудно содержать. Британские официальные лица и ученые, такие как сэр Олаф Кэроу, губернатор пограничной Северо-Западной провинции (нынешняя Хайбер-Пахтунква) до расчленения колониальной Индии, а также Иэн Стивенс, главный редактор журнала The Statesman, советовали отцам-основателям Пакистана содержать большую армию для защиты от Индии. Не имея на нее средств, пакистанские лидеры обратились за помощью к Соединенным Штатам, рассуждая, что Вашингтон будет готов взять на себя часть расходов с учетом стратегически важного положения Пакистана на стыке Ближнего Востока и Южной Азии.
Мухаммед Али Джинна, основатель и первый генерал-губернатор страны, а также большинство его заместителей и помощников в Мусульманской лиге, главной политической партии, никогда не были в США и мало знали об этой стране. В качестве посла в Соединенные Штаты они выбрали из своей среды человека, объехавшего Америку в середине 1940-х гг., чтобы добиться поддержки независимого мусульманского государства в Южной Азии. Звали эмиссара Мирза Абол Хасан Испахани. В своем письме Мухаммеду Джинне в ноябре 1946 г. Испахани изложил свои знания об американском менталитете: «Я понял, что приятные слова и первые впечатления производят наибольшее впечатление на американцев, – писал он. – Они склонны очень быстро проявлять симпатию или антипатию по отношению к отдельному человеку или организации». Юрист, получивший образование в Кембридже, сделал все, что было в его силах, чтобы произвести хорошее впечатление, и прославился в среде вашингтонской элиты своей эрудицией и умением одеваться.
Джинна попытался поближе сойтись с Полом Оллингом, недавно назначенным послом Соединенных Штатов в Карачи – в те годы столице Пакистана. На одной из встреч Джинна посетовал на нестерпимую жару и предложил продать свою официальную резиденцию посольству США. Посол подарил ему четыре лопастных вентилятора, которые вешаются на потолок.
Джинне трудно давались интервью американским журналистам, наиболее известное из которых взяла корреспондент журнала Life Маргарет Бурк-Уайт. «Пакистан нужен Америке больше, чем Америка нужна Пакистану, – сказал ей Джинна. – Пакистан – это мировая ось, рубеж, от которого зависит будущее положение в мире». Подобно многим своим преемникам, занимавшим ведущие посты в пакистанском государстве, Джинна намекал на то, что Соединенные Штаты будут щедро помогать Пакистану деньгами и вооружениями. А Бурк-Уайт, подобно многим другим американцам после нее, была настроена скептически. Она понимала, что за внешней бравадой скрывается неуверенность и «банкротство идей… нации, которая собирает тлеющие угли древнего религиозного фанатизма, пытаясь согреться от них и тщетно стремясь раздуть из них новое пламя».
Грубый и примитивный антиамериканизм, свойственный сегодня многим пакистанцам, не позволяет даже представить себе, как настойчиво Джинна и его послы добивались признания и дружбы в те первые годы. Однако американцев это не убедило. Например, советник Государственного департамента Джордж Кеннан не видел в Пакистане как союзнике никакой ценности. В 1949 г. на встрече с первым премьер-министром Пакистана Лякуатом Али Ханом Кеннан ответил на просьбу Хана поддержать Пакистан в его противостоянии с Индией следующими словами: «Наши друзья не должны ожидать от нас того, чего мы сделать не можем. Не менее важно и то, чтобы они не надеялись, что мы будем теми, кем мы не можем быть». Эти слова Кеннана были подкреплены скудной помощью, которую США оказали новой стране: из 2 млрд долларов, запрошенных Джинной в сентябре 1947 г., было выделено лишь 10 миллионов. В 1948 г. объем помощи снизился до мизерных полумиллиона долларов, а в 1949 и 1950 гг. помощь вообще прекратилась.
Собратья по оружию
Пакистан наконец получил то, что хотел, после избрания в 1952 г. президентом Дуайта Эйзенхауэра. Его государственный секретарь Джон Фостер Даллес согласился с идеей – помощь в обмен на поддержку Пакистаном стратегических интересов США. Он видел в Пакистане жизненно важное звено в своих планах взять в кольцо Советский Союз и Китай. Ярый антикоммунист времен холодной войны, Даллес намеревался создать в Пакистане большую профессиональную армию, укомплектованную офицерами, обученными в Великобритании для противостояния советской экспансии. Чтение старинных текстов позволило Даллесу сделать вывод о пакистанцах как о воинственном народе. «Мне нужны настоящие воины на юге Азии, – сказал он журналисту Уолтеру Липману в 1954 году. – Единственные азиаты, которые могут по-настоящему воевать, это пакистанцы».
Мухаммед Али Богра, назначенный послом Пакистана в Соединенных Штатах в 1952 г., также ратовал за укрепление дружбы между двумя странами. Как и его предшественник, он преуспел в подкупе представителей американской элиты, в том числе Даллеса, который стал подозрительно относиться к лидерам Индии из-за их решения сохранять нейтралитет в холодной войне. Богра позаботился о том, чтобы Даллес, а также политики и журналисты, с которыми он играл в боулинг в Вашингтоне, знали о его антикоммунистических взглядах. Тем временем Эйзенхауэр поручил Артуру Рэдфорду, председателю Комитета начальников штабов, добиться расположения влиятельных пакистанцев – в частности главнокомандующего Мухаммеда Аюб Хана, который пришел к власти в стране к концу десятилетия. Именно Аюб Хан настоял на кандидатуре Богры на пост премьер-министра Пакистана в 1953 г. после дворцового переворота, в надежде, что дружба последнего с американцами ускорит приток вооружений и помощи для экономического развития. И в самом деле, военно-экономическая помощь стала быстро расти и к концу десятилетия достигла уровня в 1,7 млрд долларов.
В ответ Америка потребовала от Пакистана участия в двух антисоветских договорах в сфере безопасности – Организации договора Юго-Восточной Азии в 1954 г. и Багдадского пакта (впоследствии Центральная организация договора) в 1955 году. Но вскоре появились признаки кризиса в отношениях. Надежды на то, что Пакистан присоединится к любому из этих альянсов в случае войны, быстро развеялись, поскольку он (подобно многим другим странам) отказался вносить существенные средства в бюджет организаций или предоставлять значительные вооруженные формирования. В 1954 г. Даллес отправился в Пакистан в поисках военных баз, которые можно было бы использовать против СССР и Китая. По возвращении он попытался скрыть свое разочарование по поводу отсутствия видимого прогресса. В меморандуме Эйзенхауэру после поездки он описал отношения между США и Пакистаном как «капиталовложение», от которого Соединенные Штаты «в целом не могут ждать какой-то конкретной отдачи». По мнению Даллеса, присутствие в Пакистане означало, что Америка могла бы со временем усилить влияние и тем самым добиться «доверия и дружбы».
Со своей стороны, Аюб Хан исходил из того, что если армия Пакистана получит – под предлогом борьбы с коммунистами – современное оружие, она сможет использовать его против Индии, и это не приведет к разрыву отношений с США. В своих мемуарах он признал, что «цели западных держав, заключивших Багдадский пакт, существенно отличались от наших целей». Но он доказывал, что Исламабад «никогда не скрывал своих намерений или интересов», а Соединенные Штаты знали, что Пакистан собирается использовать новые вооружения против своего восточного соседа. Но когда Пакистан попытался осуществить теорию Аюб Хана на практике, вторгшись в 1965 г. в Кашмир и тем самым ускорив полномасштабную войну с Индией, президент Линдон Джонсон приостановил поставки запчастей к военной технике и Индии, и Пакистану. В ответ Исламабад прекратил работу в 1970 г. секретной базы ЦРУ в Пешаваре, которую арендовали для организации разведывательных полетов U2. (Хотя решение о закрытии базы было принято сразу после войны 1965 г., Пакистан предпочел просто не продлевать договор аренды, чем раньше положенного срока закрыть базу.)
Американо-пакистанские отношения «свернулись» после приостановки поставок военной помощи, но от попыток найти какое-то объединяющее начало не отказались. Преемник Аюб Хана на президентском посту генерал Ага Мухаммед Яхья Хан согласился на роль посредника между США и Китаем, организовав в 1971 г. тайную поездку в Пекин Генри Киссинджера, помощника президента Ричарда Никсона по национальной безопасности. Чуть позже в том же году Никсон поблагодарил Пакистан за помощь, оказав благорасположение Западному Пакистану в его противостоянии с Восточным Пакистаном и его индийскими покровителями во время гражданской войны, которая привела к появлению на карте мира государства Бангладеш. Соединенные Штаты принижали масштаб зверств западных пакистанцев в Восточном Пакистане, и Никсон даже попытался в обход Конгресса направить материально-технические ресурсы западно-пакистанским войскам. Но это не предотвратило распад страны на два независимых государства. Когда гражданское правительство во главе с Зульфикаром Али Бхутто объединило то, что осталось, в новое государство, меньшее по размеру, США и Пакистан оставались на некотором удалении. Во время визита Никсона в Пакистан в 1973 г. Бхутто предложил ему военно-морскую базу на побережье Аравийского моря, но президент отказался. К тому времени лед в отношениях между двумя странами стал таять. Когда Вашингтон отменил эмбарго на поставки оружия в середине 1970-х гг., Пакистан уже стремился получить экономическую поддержку у своих западных соседей – арабских стран, которые купались в нефтедолларах.
За пределами военных баз
Очередная попытка сотрудничества состоялась по инициативе Вашингтона, который был заинтересован в расширении поначалу небольшого восстания в Афганистане, поддержанного Пакистаном. После вторжения СССР в Афганистан в 1979 г. Соединенные Штаты увидели возможность реабилитироваться после неудачи во Вьетнаме и обескровить Советскую Армию. На помощь пришли афганские моджахеды, обученные пакистанской Межвойсковой разведкой (ISI) и финансируемые ЦРУ.
Военный руководитель Пакистана, генерал Мухаммед Зия-уль-Хак, сделал свой маркетинговый ход: «Советский Союз у наших границ, – сказал он американскому журналисту в интервью 1980 года. – У свободного мира остались хоть какие-то интересы в Пакистане?» Впоследствии Зия даже удивил советника Госдепартамента Роберта Макфарлейна весьма любезным предложением: «Почему вы не просите у нас предоставить вам базы?»
США больше не интересовали военные базы в Пакистане, но им хотелось использовать страну в качестве плацдарма для организации сопротивления в Афганистане. Поэтому Вашингтон не только направлял оружие и деньги моджахедам через границу, но и увеличил вчетверо помощь Пакистану.
Исламабад в конце 1970-х и начале 1980-х гг. неоднократно обращался с просьбой к Соединенным Штатам предоставить ему истребители-бомбардировщики F-16, и Рейган нашел способ пойти навстречу, вплоть до того что призвал Конгресс отменить запрет на военно-экономическую помощь странам, приобретающим или передающим ядерные технологии. Тогдашний заместитель госсекретаря по вопросам международной безопасности Джеймс Бакли объяснял в газете The New York Times, что подобная американская щедрость позволит избавить Пакистан от «ощущения собственной уязвимости, которое побуждает его в первую очередь стремиться к обретению ядерного оружия». В 1983 г. первая партия истребителей поступила в Равалпинди.
Однако решение Советского Союза вывести войска из Афганистана в 1989 г. обнажило, как и война 1965 г. между Индией и Пакистаном, противоречия в американо-пакистанских отношениях. Не заставили себя ждать разногласия между Вашингтоном и Исламабадом по поводу того, кто должен встать во главе постсоветского Афганистана, и это нарушило негласное примирение двух стран. Конечно, Пакистан стремился обрести максимум влияния, полагая, что дружественный Афганистан обеспечит ему стратегическую глубину в противостоянии с Индией. В планы США входила задача привести к власти устойчивое некоммунистическое правительство, способное вернуть Афганистану статус маргинальной региональной державы.
Впервые камнем преткновения стал вопрос поддержки Пакистаном террористических группировок. В 1992 г. в письме пакистанскому премьер-министру Навазу Шарифу посол США в Пакистане Николас Плат предупреждал, что Соединенные Штаты близки к тому, чтобы объявить Пакистан государством, спонсирующим терроризм: «Если это положение не изменится, государственный секретарь просто обязан будет по закону включить Пакистан в список стран, спонсирующих терроризм. Вы должны предпринять конкретные шаги и сократить выделение помощи боевикам, а также не допускать создания их тренировочных баз и лагерей на территории Пакистана или Азад Кашмира (часть Кашмира, находящаяся под контролем Пакистана)». Это была угроза, не влекущая за собой никаких последствий, но Соединенные Штаты нашли другие способы наказания своего бывшего союзника. В 1991 г. Вашингтон перекрыл военную помощь после того, как президенту Джорджу Бушу не удалось убедить Конгресс в том, что Пакистан выполняет свои обязательства в части нераспространения ядерного оружия. С 1993 по 1998 гг. США ввели жесткие санкции против Пакистана из-за неуклонного приближения к созданию ядерного оружия. Еще больше санкций было введено в 2000 и 2001 гг. в качестве реакции на военный переворот 1999 г., в результате которого к власти пришел генерал Первез Мушарраф. Тем временем мирная помощь Пакистану также достигла своего минимума.
С нами или против нас
Раздражение и взаимные нападки сопровождали отношения вплоть до 2001 г., но после событий 11 сентября Вашингтон снова попытался наладить сотрудничество с Исламабадом, надеясь, что на этот раз Пакистан решит свои внутренние проблемы и изменит стратегическую направленность в лучшую сторону. Но у широкой пакистанской общественности или военной элиты, которая принимала все ключевые решения, не было особого желания соглашаться с планами Соединенных Штатов в регионе. Между тем пакистанским дипломатам в США приходилось посвящать большую часть времени ответам на критику Конгресса по поводу двойных стандартов Пакистана в его отношении к террористам. Послом Пакистана в этот период был сначала бывший журналист Малееха Лодхи, а затем кадровый офицер внешней разведки Ашраф Кази.
Они работали над тем, чтобы убедить американцев, что Пакистан – линия фронта в войне с терроризмом, активно общаясь с американскими средствами массовой информации и – при помощи расширяющейся пакистанской общины – занимаясь лоббизмом в Конгрессе. Благодаря поддержке администрации Джорджа Буша послы смогли отразить все критические нападки и добиться одобрения огромных пакетов материальной помощи. Однако такие скептики, как журналист Селиг Харрисон, указывали, что Пакистан продает «плохую политику с помощью хороших продавцов». Этих «продавцов» сменили отставные генералы Джехангир Карамат и Махмуд Али Дюррани, пытавшиеся наладить тесное сотрудничество с американскими военными. Они уверяли их, что слухи о продолжающейся поддержке Пакистаном афганского «Талибана» сильно преувеличены. С американской стороны Энтони Зинни, глава Центрального командования войск США во время военного переворота Мушаррафа, продолжавший поддерживать контакты с Мушаррафом после его отставки, публично высказывался в том духе, что «солдат с солдатом» всегда найдут общий язык. Тем не менее бывшим военным в качестве послов не удалось преодолеть негативное мнение об участии Пакистана в афганских делах, сформированное прессой.
Американские послы в Пакистане со своей стороны сосредоточились на трудном деле укрепления тесной связи с лидером страны Мушаррафом. Когда к концу десятилетия тот уже не мог контролировать ситуацию в стране, Анна Паттерсон, посол в Исламабаде с 2007 по 2010 гг., попыталась наладить контакт с гражданскими политиками, познакомившись с лидерами основных политических партий. Что касается сотрудничества в военной сфере, адмирал Майк Маллен, тогдашний председатель Комитета начальников штабов, поддерживал личные теплые отношения с главой военного ведомства Пакистана генералом Ашфаком Каяни. За четыре года Маллен провел 26 совещаний с Каяни, часто называя его своим другом. Но по истечении срока своих полномочий Маллен выразил разочарование по поводу того, что ему так и не удалось переубедить Каяни: «Выбирая экстремизм и насилие в качестве политического инструмента, правительство Пакистана и прежде всего пакистанская армия и ISI ставят под угрозу не только перспективы нашего стратегического партнерства, но и возможности Пакистана быть уважаемой страной, оказывающей законное влияние в своем регионе». Эти слова были сказаны им в комитете сената по вооруженным силам.
Когда срок полномочий Паттерсон и Маллена уже истекал, режим Мушаррафа рухнул, и к власти пришло гражданское правительство. С самого начала новая администрация во главе с Али Асифом Зардари попыталась преобразовать американо-пакистанские отношения в то, что он называл стратегическим партнерством. Зардари стремился мобилизовать пакистанское население и политиков на общественно-политическую поддержку контртеррористических операций. В обмен он требовал от Соединенных Штатов долговременных обязательств выделять многостороннюю военно-техническую помощь Пакистану на протяжении многих лет, в том числе увеличения помощи гражданскому населению. Это также предполагало сотрудничество двух стран по принятию взаимоприемлемого плана по окончанию военной операции в Афганистане.
В качестве посла Пакистана с 2008 по 2011 г. я пытался выполнять все пункты повестки дня и быть связующим звеном между двумя сторонами. Я организовал десятки встреч между гражданскими и военными лидерами. Высокопоставленные американские чиновники, включая советника по национальной безопасности Джеймса Джонса, госсекретаря Хиллари Клинтон и директора ЦРУ, а впоследствии министра обороны Леона Панетту, не жалели времени. Сенаторы Джон Маккейн, Диана Фейнштейн и Джозеф Либерман выясняли разные элементы стратегического партнерства, а сенатор Джон Керри много времени потратил на то, чтобы строить модели переговоров в Афганистане. Ричард Холбрук, специальный представитель администрации Обамы по Афганистану и Пакистану, перед смертью в 2011 г. неустанно перемещался между двумя столицами, стремясь объяснить политику США пакистанским официальным лицам и добиться поддержки Пакистана в Конгрессе. Убежденный в том, что ключ стабилизации в регионе находится в руках пакистанских военных, президент Барак Обама довел до сведения пакистанцев, что Америка хочет помочь Пакистану чувствовать себя в безопасности и процветать, но что они не потерпят предоставление с его стороны помощи джихадистским группировкам, угрожающим безопасности Соединенных Штатов.
Однако в конечном итоге попытки построить стратегическое партнерство ни к чему не привели. Гражданские лидеры не смогли сгладить недоверие между американскими и пакистанскими военными и разведслужбами. А отсутствие полноценного контроля гражданского общества над армией и спецслужбами Пакистана означало, что, как и всегда, две стороны тянут одеяло на себя, пытаясь добиться совершенно разных целей. Однако вряд ли положение было бы намного лучше, находись все под контролем гражданского правительства. Силовым структурам легче дать своим союзникам то, что они хотят, невзирая на желания народных масс, будь то U2, базы БПЛА или вооружение афганских моджахедов.
Срок моих полномочий как посла неожиданно завершился в ноябре 2011 г. – несколько недель спустя после того, как американский предприниматель пакистанского происхождения ложно обвинил меня в том, что я использовал его в качестве посредника для получения американской помощи из США. Это якобы было необходимо для предотвращения военного переворота сразу после спецоперации американских войск, в ходе которой уничтожили бен Ладена. Обвинение было совершенно необоснованным, поскольку у меня как у посла был прямой доступ к американским официальным лицам и не было нужды прибегать к содействию сомнительного бизнесмена, чтобы довести до их сведения обеспокоенность тем, что пакистанские военные угрожают гражданскому устройству общества. Этот эпизод лишний раз доказывает, что стремление поддерживать тесные связи с Соединенными Штатами непопулярно в Пакистане, и в целом пакистанские СМИ, разведслужбы и судебно-правовые инстанции подозревают людей, стремящихся восстановить пошатнувшееся партнерство, в самых худших намерениях.
Возможность компромисса
С учетом истории неудач пора подумать, стоит ли сохранять американо-пакистанский союз. По крайней мере, в обозримом будущем США не согласятся с планами пакистанских военных добиваться господства Пакистана в Южной Азии или равенства с Индией. И американская помощь сама по себе не изменит приоритетов Исламабада. Конечно, по мере укрепления демократии пакистанцы смогут однажды провести непредвзятые дебаты и прийти к пониманию того, в чем состоят национальные интересы и как их добиваться. Но результаты даже таких дебатов могут не устроить Соединенные Штаты. Так, например, 69% пакистанцев, принявших участие в опросе общественного мнения в 2012 г., одобряют улучшение отношений с Индией, при этом 59% из них по-прежнему считают, что Индия несет главную угрозу Пакистану.
Поскольку отношения между США и Пакистаном зашли в тупик, двум странам нужно исследовать пути построения несоюзнических отношений. И пробный шар был брошен в 2011–2012 гг., когда Пакистан перекрыл транзитные маршруты в ответ на удар натовского БПЛА по афганско-пакистанской границе, в результате чего погибли 24 пакистанских солдата. Это не воспрепятствовало продолжению военной кампании США, которые быстро переориентировались на другие пути доставки военных и материально-технических грузов в Афганистан. Конечно, это более дорогие маршруты, но гибкость Соединенных Штатов показала Исламабаду, что Вашингтон нуждается в его помощи не так остро, как когда-то казалось. Это осознание должно лечь в основу новых отношений. Америке надо недвусмысленно определять свои интересы, а затем действовать соответствующим образом, не слишком волнуясь по поводу реакции Исламабада.
Новое охлаждение в конечном итоге спровоцирует сведение счетов. Вашингтон продолжит делать в регионе то, что считают нужным для обеспечения безопасности – например, наносить удары с помощью БПЛА по подозреваемым в террористической деятельности. Это будет приводить в ярость Исламабад и Равалпинди, где сосредоточено военное руководство Пакистана. Пакистанские военачальники способны поднять шумиху, угрожая сбивать американские БПЛА, но им придется трижды подумать и взвесить все с учетом потенциальной эскалации недружественных действий. Поскольку Пакистан слаб (и будет еще слабее без американской военной помощи), наверное, он воздержится от прямой конфронтации с США.
Когда национальные элиты Пакистана в сфере обороны и безопасности осознают пределы своих возможностей, они, вероятно, попытаются возобновить партнерские отношения с Соединенными Штатами, отказавшись от былых амбиций и понимая, что в их силах, а что нет. Также не исключено, хотя и менее однозначно, что пакистанские лидеры решат обойтись своими силами, не уповая слишком на США, как это было в течение нескольких последних десятилетий. В этом случае также удастся избавиться от взаимного разочарования, вытекающего из вынужденной зависимости Пакистана от Соединенных Штатов, которой будет положен конец. Дипломаты обеих стран направят тогда усилия на то, чтобы разъяснять собственную позицию и понять позицию другой стороны, вместо того чтобы обмениваться обвинениями, как это происходило в последние шесть десятилетий. Даже если разрыв союзнических отношений не приведет к подобной драматической развязке, у обеих стран появится свобода принятия жестких стратегических решений в отношении друг друга, которых они до недавнего времени избегали.
Пакистан мог бы выяснить на практике, осуществимы ли цели его региональной политики (сдерживание Индии) без американской помощи. США могли бы решать проблемы, связанные с терроризмом и распространением ядерного оружия, освободившись от груза обвинений в предательстве со стороны Пакистана. Честное признание истинного статуса взаимоотношений могло бы даже помочь обеим сторонам больше уважать друг друга и облегчило бы им задачу налаживания сотрудничества. В конце концов, вряд ли отношения стали бы хуже, чем сегодня, когда обе столицы упорно держатся за союзнические отношения, не веря в возможность построения таковых. Так, может быть, лучше перестать заниматься самообманом и признать, что союз в нынешней ситуации невозможен, а затем продолжить двигаться вперед и вести поиск компромиссов?

Стратегия в эпоху жесткой экономии
Почему Пентагону следует сделать акцент на гарантиях доступа
Эндрю Крепиневич – президент Центра стратегических и бюджетных оценок
Резюме: Обязательства в области безопасности перед Европой требуют сохранения НАТО, но при минимальных издержках. Нужно пересмотреть планы размещения систем ПРО при отсутствии финансирования со стороны европейских союзников.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 1, 2013 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
В течение следующего десятилетия США предстоит осуществить самое резкое изменение оборонной стратегии за последние 60 лет – со времени появления ядерных вооружений. В то время как бюджетные расходы на оборону сокращаются, цена проецирования и поддержания военной мощи увеличивается, а круг интересов, требующих защиты, расширяется. Это означает, что в конце концов придется сделать трудный выбор не только на словах, но и на деле. Как сказал однажды своим коллегам английский физик Эрнест Резерфорд, «у нас нет денег, поэтому нам надо думать».
Новая стратегия должна быть меньше сфокусирована на отражении традиционного трансграничного вторжения, смене режимов и проведении крупномасштабных операций по стабилизации положения. И больше – на сохранении доступа к ключевым регионам и всеобщему достоянию человечества, что важно для обеспечения безопасности и процветания Соединенных Штатов. К сожалению, это будет означать снижение приоритетности некоторых задач и более высокий риск в ряде областей. Однако если сместить акценты, действительно важные для США интересы можно будет и дальше защищать при вполне допустимом уровне расходов.
Сокращающиеся запасы сырьевых ресурсов
После холодной войны, в ситуации однополярного мира, Вашингтон был уверен, что подавляющее преимущество в ресурсах и технологиях позволит ему добиться беспрецедентного военного превосходства над всеми остальными. Однако спустя два десятилетия однополярный мир уходит в прошлое. Мотор американской экономики барахлит, и это может иметь неприятные последствия для министерства обороны, которое привыкло к постоянно растущему бюджету.
С 1999 по 2011 гг. военные расходы США увеличились с 360 до 537 млрд в постоянных долларах, не считая дополнительных 1,3 трлн, израсходованных на операции в Афганистане и Ираке. Администрация Обамы и Конгресс уже договорились о сокращении в течение следующего десятилетия уже запланированных увеличений почти на 487 млрд долларов. В январе 2013 г. бюджетный процесс, известный как «секвестр», должен привести к урезанию военных расходов еще на 472 млрд долл. за тот же период. Конгресс может избежать секвестра, если найдет другие способы сокращения бюджетного дефицита, но в любом случае вряд ли удастся избежать дополнительного серьезного уменьшения ассигнований на оборону. Однако вряд ли большая часть из тех 200 млрд долл., которые Пентагон надеется сэкономить за счет повышения «эффективности» в течение следующих пяти лет, материализуется. Истории такие примеры неизвестны.
Это означает, что грядет серьезное «затягивание поясов» – процесс, который будет еще более трудным из-за растущей стоимости трудовых ресурсов и экономического упадка у европейских союзников.
С 1970-х гг. американская армия, формируемая только на добровольной основе, была исключительно сильной и укомплектованной высокопрофессиональными воинскими частями. Но недавние войны в Афганистане и Ираке выявили ее ахиллесову пяту: для привлечения большого числа квалифицированного персонала, готового служить в опасных и неприятных условиях, министерству обороны пришлось существенно повысить заработную плату военных, а также премиальные выплаты и льготы. Даже с поправкой на инфляцию общее вознаграждение военным возросло за последнее десятилетие почти на 50% – в дальнейшем выдерживать такие темпы совершенно точно не удастся. Добровольный набор также означает низкие потери на поле боя и короткие войны. Для защиты персонала от дешевых придорожных мин в Афганистане и Ираке Пентагон потратил более 40 млрд долл. на тысячи новых бронемашин и свыше 20 млрд долл. для лучшего обнаружения мин.
В прошлом Соединенные Штаты могли надеяться на помощь богатых и технически оснащенных союзников, таких как Франция, Германия и Соединенное Королевство. Но хотя все эти страны имеют давнишние и впечатляющие боевые традиции, сегодня их армии и оборонная промышленность – бледная тень былой славы. Их совокупные расходы на оборону составляют лишь четверть того, что тратят на эти цели США, в реальных долларах, а в процентном отношении к ВВП – менее половины от расходов Соединенных Штатов. Тихоокеанские союзники, такие как Япония и Австралия, быть может, изъявят желание взвалить на себя более тяжелое бремя, но им еще предстоит значительно расширить свои военные возможности, чтобы быть в состоянии внести заметный вклад.
Вызовы обостряются
По мере того как США и их союзники сокращают военные расходы, в мире становится все более неспокойно. В течение нескольких десятилетий Соединенные Штаты пытаются не допустить доминирования враждебных им сил в критически важных регионах, таких как Западная Европа, запад Тихоокеанского бассейна и Персидский залив, сохранив при этом беспрепятственный доступ к общему достоянию: морской акватории, космосу, а теперь еще и киберпространству. После окончания холодной войны угроза европейской безопасности резко снизилась, но этого нельзя сказать о двух других регионах или общем достоянии, поскольку такие соперничающие державы, как Китай и Иран, стремятся сместить военный баланс в регионе в свою сторону.
Наверное, самым удивительным событием стала постепенная утрата армией США фактической монополии на высокоточные вооружения, или «умные бомбы». В частности, Китай собирается использовать высокоточные боеприпасы для достижения своих стратегических целей. Народная освободительная армия Китая (НОАК) встраивает систему точного наведения в свои баллистические и крылатые ракеты, а также в снаряды, которые несет ударная авиация, чтобы увеличить точность поражения конкретных целей на больших расстояниях. Это будет иметь серьезные последствия для традиционного проецирования силы, которым привычно пользуется американская армия. США всегда делали ставку на развертывание и военно-техническое снабжение войск через крупные порты, базы ВВС и логистические парки. Помимо поражения неподвижных целей с помощью высокоточного оружия, НОАК также разрабатывает ракетные системы для высокоточного поражения мобильных мишеней, таких как авианосцы американских ВМС. С не меньшим упорством НОАК расширяет возможности противоспутниковых операций и кибернетических войн; главная цель – это информационные системы и системы связи армии США. В совокупности эти возможности ограничения и воспрещения доступа и маневра (a2/ad) существенно увеличат риски для американских войск, действующих в западной акватории Тихого океана.
Иран, стремясь к гегемонии в регионе, но располагая меньшими ресурсами, делает ставку на более скромные возможности ограничения и воспрещения доступа и маневра, включая противокорабельные крылатые ракеты, передовые противокорабельные мины и подводные лодки. Он намерен сочетать эти средства с большим количеством боевых катеров, способных проводить «массированные атаки» на военные корабли Соединенных Штатов, с растущим числом баллистических ракет с дальностью действия, выходящим далеко за пределы Персидского залива.
Похоже, что Тегеран преследует несколько целей – сделать Персидский залив зоной, закрытой для ВМС США, а заодно подорвать веру партнеров Соединенных Штатов в регионе в надежность Вашингтона. Иран также может начать поставлять высокоточное оружие близким ему структурам, таким как «Хезболла» и другие военизированные группировки Ближнего Востока, чтобы превратить их в более серьезную угрозу для экспедиционных подразделений американской армии. Наконец, Иран, похоже, намерен приобрести ядерное оружие.
Безопасный доступ к общечеловеческому достоянию, который мировое сообщество считает само собой разумеющимся, затрудняется. Контроль США над морскими путями и Мировым океаном не подвергается сомнению, но в этом десятилетии распространение подводных лодок, противокорабельных крылатых ракет дальнего радиуса действия и «умных» противокорабельных мин может сделать прохождение узких морских путей, таких как Ормузский пролив, опасным. Космические спутники – важные компоненты мировой экономики и боеспособности американской армии – все более уязвимы для противоспутниковых лазеров и ракет НОАК. И критически важная для слаженного функционирования экономики Соединенных Штатов инфраструктура – от высоковольтных линий передачи электроэнергии и трубопроводов до финансовых систем и электронной коммерции – или слабо защищена от кибератак, или не защищена вообще.
В прошлом свобода на море означала преимущественно свободу перемещения по морской акватории. Однако в последние десятилетия появилась огромная подводная экономическая инфраструктура, расположенная преимущественно на континентальных шельфах. Здесь добывается существенная часть нефти и природного газа, потребляемого в мире, и проложена целая паутина кабелей, представляющих собой мировую информационную сеть Пентагона.
Стоимость капитальных активов, расположенных только на дне прибрежных вод США, превышает 1 трлн долларов. Крупные новые залежи нефти и газа в Восточном Средиземноморье, наряду с открытием перспективных месторождений в Южно-Китайском море, гарантируют дальнейшее разрастание инфраструктуры морского дна. Однако подводные капитальные активы совершенно не защищены, ведь, как и в случае с интернетом, их создатели и разработчики исходили из наличия благоприятной геополитической обстановки.
До последнего времени это не было серьезной проблемой, поскольку такие активы были в целом недоступны. Но сегодня технологические достижения делают подводную инфраструктуру все более уязвимой. Когда-то обладание самым передовым ВМФ, автономными и роботизированными подводными аппаратами было фактически монополией Соединенных Штатов, но сегодня эти устройства могут приобретаться кем угодно и нести на борту взрывчатые вещества и другой контрабандный товар. Латиноамериканские торговцы наркотиками используют подводные аппараты для перемещения своих грузов, и похоже, что другие негосударственные образования скоро будут способны эффективно действовать под водой.
Сокращение разрыва
Суть новой стратегии должна заключаться в достижении реалистичных целей с помощью имеющихся ресурсов. Поскольку ресурсы, доступные армии США, все более ограничены, такими же должны быть и цели, в противном случае наша стратегия не позволит нам ни беспокоить врагов, ни успокаивать друзей. А значит придется установить приоритеты в сфере безопасности. Обобщенная здесь стратегия гарантированного успеха позволит добиться этого за счет перегруппировки целей, избирательного риска, эксплуатации сильных сторон Соединенных Штатов и слабостей противников.
Со времени окончания холодной войны Вашингтон придавал большое значение способности вести две большие войны одновременно в Северо-Восточной Азии и Персидском заливе. Акцент делался на защите ключевых союзников и партнеров от традиционных трансграничных, наземных вторжений (таких как нападение КНДР на Южную Корею в 1950 г., вторжение Ирака в Кувейт в 1990 г.) и, если потребуется, на разгроме агрессоров путем оккупации с целью смены режима.
Но сегодня совсем другие угрозы. Ни Китай, ни Иран не делают ставку на обновленную версию советских танковых армий или аналог Республиканской гвардии Ирака. Нынешние и будущие вызовы стабильности на западе Тихоокеанского бассейна и в Персидском заливе – это не трансграничное вторжение, а возможности преграждения доступа и блокирования зон, что будет все больше затруднять Соединенным Штатам беспрепятственные операции в этих регионах.
В последние годы армия США предприняла ряд операций по смене режима, прежде всего в Афганистане и Ираке. Враждебные правительства сместить удалось, но затем потребовались долговременные, крупномасштабные действия для стабилизации положения, которые проводились нерешительно и потребовали огромных капиталовложений. Похоже, что американская общественность не потерпит других подобных кампаний – разве только в качестве ответа на серьезную угрозу жизненно важным интересам. Кроме того, оккупация вражеской территории, скорее всего, будет становиться все более трудным делом из-за распространения того, что Пентагон обозначает термином g-ramm – управляемых ракет, артиллерийских и минометных снарядов. И если перспективы проведения операции по смене режима в стране размером с Иран устрашают, то в случае с Китаем это просто утопия. К счастью, Соединенные Штаты не ставят перед собой столь дерзких целей, поскольку на самом деле им нужны не завоевания, а доступ. Вызов, который Китай и Иран бросают США, не в угрозе трансграничного вторжения с применением традиционных вооружений, а в их стремлении обозначить сферы своего влияния и в конечном итоге ограничить доступ американцев к жизненно важным регионам. Следовательно, Пентагону следует сделать акцент не на оптимизации войск, чтобы иметь возможность сменить режим путем контроккупации, а на возврате к более скромной цели осуществления передовой обороны: сдерживание региональной агрессии, принуждение к миру и защита общего достояния человечества.
При таком смещении фокуса возможности ограничения и воспрещения доступа и маневра, благоприятствующие обороне, становятся не проблемой для США и их союзников, а инструментом, способствующим перекладыванию бремени проецирования силы с Вашингтона, на его противников. С этой целью Соединенным Штатам и их союзникам и партнерам на западе Тихоокеанского региона и в Персидском заливе следует работать над созданием сетей блокирования доступа к воздушному и морскому пространству, которые сделают любую агрессию трудным, дорогостоящим и малопривлекательным предприятием. Южная Корея и Тайвань могли бы внести лепту в создание таких региональных оборонительных сетей, но краеугольным камнем любой американской стратегии сохранения стабильности и обеспечения доступа в западных акваториях Тихоокеанского бассейна останется Япония. Токио следует увеличить инвестиции в возможности ограничения и воспрещения доступа и маневра. К ним можно отнести подводные лодки, противолодочную авиацию, противокорабельные крылатые ракеты, оборонительные минные заграждения, воздушную и ракетную оборону, укрепление и рассредоточение военных баз, уменьшение вероятности нападения Китая или Северной Кореи и облегчение бремени американских вооруженных сил в защите Северо-Восточной Азии. Аналогичный вклад Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) помог бы минимизировать региональную угрозу, исходящую от Ирана.
Подобные усилия позволили бы американским войскам в обоих регионах проявить свои уникальные преимущества, такие как ударные системы дальнего радиуса действия. Они способны наносить удары, находясь вне зоны досягаемости соперничающих с ними систем ограничения и воспрещения доступа и маневра и ядерных ударных подлодок, которые могут успешно действовать внутри ограждений, затрудняющих доступ и блокирующих зоны. А увеличение числа передовых укрепленных баз ВВС позволило бы ударной авиации США рассредоточиться на передовых рубежах; тем самым был бы снижен риск их уничтожения вражескими ракетами во время упреждающего удара и повысилась бы устойчивость к кризису.
Подобная стратегия позволяет использовать конкурентные преимущества Соединенных Штатов, среди которых широкая сеть региональных альянсов и партнерств, а также лидерство в области передовых вооружений. Можно было бы также эксплуатировать региональную географию. Оборонительная архитектура США в западной части Тихоокеанского бассейна, опирающаяся на так называемую первую островную гряду (проходящую от Курильских островов через Японию и острова Рюкю до Тайваня и Филиппин), защитила бы союзников и партнеров Америки, блокируя недружественные силы ВМС во время конфликта. И у Ирана не будет другого выбора, кроме экспорта нефти и газа через Ормузский пролив или трубопроводы, пролегающие по территории зарубежных стран. ССАГПЗ, напротив, мог бы расширять возможности экспорта энергоресурсов по Красному и Аравийскому морям. Это создаст бесценную альтернативу в случае блокады Ормузского пролива, тогда как Тегеран будет экономически уязвим. Если он попытается направить экспорт через порты Аравийского моря, то ВМС США вполне смогут этому помешать.
Подобное смещение акцентов едва ли предоставит противникам надежное укрытие на суше или неуязвимость от атак. У Соединенных Штатов есть возможности нанесения проникающих ударов по неприятельским войскам, находящимся на большом расстоянии, с помощью самолетов, ракет и подводных лодок, и нужно во что бы то ни стало сохранять эти преимущества. Спецподразделения США доказали способность проводить эффективные операции на вражеской территории, особенно при поддержке ударной авиации и БПЛА. Американская армия также располагает впечатляющим арсеналом кибернетического оружия, которое в состоянии нанести колоссальный урон критически важной инфраструктуре и вооруженным силам противника. И, если понадобится, ВМС смогут выдавить неприятеля обратно в его территориальные воды посредством блокады.
Сдерживание через блокирование призвано убедить предполагаемого агрессора, что он не сможет достичь поставленной цели, поэтому не стоит даже пытаться. Сдерживание посредством наказания призвано убедить его, что предполагаемые издержки перевесят ожидаемую выгоду. Сдерживание путем блокирования возможно как на западе Тихоокеанского региона, так и в Персидском заливе, поскольку в будущем обстановка, скорее всего, станет благоприятствовать не наступательным, а оборонительным действиям при планировании военных операций с применением традиционных вооружений. Однако когда речь заходит о защите общечеловеческого достояния (огромное множество потенциальных мягких мишеней – подводная инфраструктура, спутники, компьютерные сети), наступательные действия выглядят более предпочтительными, поэтому Соединенным Штатам и их союзникам нужно больше полагаться на сдерживание посредством наказания или карательных мер.
Проблема в том, что трудно вычислить, кто несет ответственность за нападение, а это необходимая предпосылка для наказания. Следовательно, когда речь идет об атаках под водой, в космосе и киберпространстве, Пентагону следует сделать приоритетом совершенствование инструментов расследования и разведывательной деятельности, направленных на выявление нападающих. Чем быстрее и лучше он сможет это сделать, тем больше возможностей осуществлять сдерживание посредством наказания в качестве главного условия обеспечения доступа к общему достоянию человечества. Даже точное установление агрессора может оказаться недостаточным для сдерживания атак, если негосударственные группировки усовершенствуют способность атаковать киберпространство и подводную инфраструктуру, поскольку они могут не опасаться возмездия или иметь меньше объектов, против которых оно может быть направлено. Поэтому Пентагону следует разрабатывать способы снижения ущерба от подобных атак и быстрого восстановления поврежденных или разрушенных объектов.
Несмотря на желание многих держав развитого мира снижать зависимость от ядерного оружия или даже полностью исключить его, оно по-прежнему популярно. Россия в своей военной доктрине сделала еще более явную ставку на ядерный арсенал, чтобы компенсировать слабость обычных вооружений. Китай сохраняет солидные ядерные подразделения. Пакистан строит дополнительные реакторы для получения расщепляющихся материалов в качестве ядерного топлива для расширения своего ядерного потенциала и нивелирования преимуществ Индии в традиционных вооружениях. Иран стремится к созданию ядерного оружия, что может подстегнуть новый виток в его распространении на Ближнем Востоке.
В свете этих процессов министерству обороны США необходимо кардинальным образом пересмотреть позицию по ядерным вооружениям и разработать более практичную политику в этой области. Надо подумать о том, как не допустить применения ядерного оружия, а если это не удастся, как быстро прекратить начавшийся ядерный конфликт на приемлемых условиях.
Любая стратегия связана с определенными рисками; в частности, данная во многом опирается на действия и инвестиции региональных союзников и партнеров, а это не всегда надежно. Однако воодушевляет то, что многих партнеров США в Азиатско-Тихоокеанском регионе все больше беспокоит растущая военная мощь Китая и его все более самонадеянные территориальные притязания. Теперь эта озабоченность должна воплотиться в инвестиции, направленные на наращивание собственного военного потенциала.
Арабские партнеры Соединенных Штатов в Персидском заливе, напротив, готовы осуществлять массированные инвестиции в оборону и безопасность, но им нужно сосредоточиться на противодействии попыткам Ирана установить гегемонию в регионе. Данная стратегия отчасти зиждется на надежде, что страны, имеющие общие интересы с США, такие как Индия и Индонезия, будут приветствовать усилия по сохранению стабильности и обеспечению беспрепятственного доступа к Индийско-Тихоокеанскому региону. Стратегия гарантированного доступа опирается на реалистичные цели, которых может достичь американская армия. Если сдерживание не принесет результатов, задача любой военной операции должна заключаться в восстановлении статус-кво, а не в реализации более широких вильсоновских идеалов и не в устранении предполагаемых глубинных причин проблемы. Цель будет заключаться в ограничении конфликта, пусть даже ценой отказа от достижения оптимального исхода или устранения его причин. Нынешний курс может быть аналогичен иракской стратегии Буша-старшего, но не Буша-младшего, корейской стратегии президента Гарри Трумэна, но не генерала Дугласа Макартура. Возможно, придется отказаться от гипотетически наилучшего варианта в пользу наиболее приемлемого, особенно если наилучший вариант – это опасная и недостижимая иллюзия. Отказ от достижимых целей ради иллюзорного идеального исхода – рискованное заблуждение.
Трудный выбор
Стратегия – это правильная расстановка приоритетов, тем более что далеко не все можно считать первоочередной задачей. Так что если в стратегии гарантированного доступа первоочередным считается сохранение доступа к критически важным регионам и общечеловеческим благам, каким из нынешних приоритетов придется пожертвовать? От каких целей нужно отказаться и на какие дополнительные риски стоит пойти, чтобы сократить до минимума разрыв между стратегическими задачами и ограниченными средствами? Новая стратегия предполагает, что серьезной экономии на оборонных расходах можно добиться за счет более значительного сокращения наземных сил. Армейские подразделения и подразделение морских пехотинцев, которые были увеличены для ведения боевых действий в Афганистане и Ираке, уже сокращаются. Но даже после проведения планируемого сокращения эти подразделения все равно останутся более многочисленными, чем до 9 сентября, когда принятая стратегия потребовала проведения двух крупных региональных войн, включая операции по смене режима. Так что возможности для дальнейшего сокращения имеются.
Например, Соединенные Штаты могли бы уменьшить планируемый контингент для участия в любом крупном конфликте на Корейском полуострове. Опасность, исходящая от КНДР, качественно изменилась с начала 1950-х годов. Тогда она угрожала южному соседу вторжением традиционных наземных сил, а сегодня – в большей степени массированным артобстрелом с использованием ракет и ОМУ. Население Южной Кореи в два раза превышает население Северной Кореи, а ее экономика – одна из крупнейших в мире. Ее наземные силы достаточно многочисленны и компетентны. Самые существенные сравнительные преимущества армии США перед южнокорейской армией – это воздушная и морская мощь. Соответственно пора уже признать, что Сеул способен взять на себя ответственность за оборону на суше и должен это сделать. Когда речь заходит об операциях по стабилизации положения, Пентагону следует сосредоточиться на уже проводимой де-факто стратегии «опосредованного подхода» к поддержанию порядка в развивающемся мире за пределами западных акваторий Тихого океана и Персидского залива.
Сравнительное преимущество американской армии при проведении контртеррористических операций и операций по стабилизации положения заключается в качестве персонала, а не в его количестве. Вооруженные силы Соединенных Штатов просто слишком дорого обходятся, чтобы развертывать крупные военные группировки для защиты периферийных интересов. То есть необходимо избегать прямых интервенций и уделять больше внимания обучению, консультациям, оснащению и поддержке союзнических армий и партнеров, которые сталкиваются с внутренними угрозами. В неуправляемых провинциях ставка должна делаться на такие «не оставляющие глубоких следов» альтернативы, как роботизированная разведывательная и ударная авиация, которую могут использовать войска специального назначения для формирования групп преследования, уничтожения и подавления вражеских группировок.
Обязательства в области безопасности перед Европой требуют сохранения НАТО, но при минимальных издержках. Вашингтону следует уделить больше внимания ядерным гарантиям в соответствии со статьей V Устава альянса. Также нужно пересмотреть планы размещения усовершенствованных систем противоракетной обороны при минимальном или даже полном отсутствии финансирования со стороны европейских союзников.
Что касается оборонной политики, то Пентагон может уменьшить разрыв между средствами и целями и сэкономить деньги, сместив акцент с модернизации оборудования на его рекапитализацию. Это означает замену на аналогичное оборудование вместо размещения новых поколений вооружения, разработка которых требует больших расходов. Новейшие системы следует развертывать лишь в том случае, если руководство твердо убеждено, что это резко повысит эффективность военных операций, а технические риски минимальны. Там, где это возможно, Соединенным Штатам следует использовать имеющиеся ресурсы так, чтобы навязывать противникам непропорционально высокие расходы. Важные конкурентные преимущества США в этой области связаны с длительной и выдающейся историей осуществления «черных» программ, благодаря которым появились атомная бомба, разведывательные самолеты U2 и SR71, самолеты-невидимки «стелс», а теперь еще и передовое кибернетическое оружие – вирус Stuxnet. Способность американской оборонной промышленности постоянно создавать технологические новинки повышает неопределенность планирования конкурентов, поскольку те вынуждены отвлекать значительные ресурсы на поиски адекватного ответа Соединенным Штатам.
После долгого промедления министерство обороны разрабатывает семейство ударных систем дальнего радиуса действия, включая новый бомбардировщик. Это недешево, но есть смысл вкладывать средства, поскольку расходы вероятных противников на противодействие будут выше, и эти системы позволят американской армии преодолеть оборону любого противника и угрожать его ключевым объектам и целям, когда ей заблагорассудится. Таким образом, важные активы и структуры неприятеля окажутся недостаточно защищенными и уязвимыми, или им придется разрабатывать и развертывать вдоль всей границы изощренные и дорогостоящие оборонительные системы.
Один из главных ресурсов, которые Пентагон в настоящее время транжирит, – это время. Чем быстрее Соединенные Штаты разработают и развернут новейшие военные системы, тем меньше постоянного воинского контингента им нужно будет содержать, и тем больше неопределенности в стане потенциальных противников. Когда-то Пентагон был лидером в мире по быстроте развертывания новых систем, а теперь на это уходит не меньше 10 лет. Существенное сокращение этого срока надо сделать приоритетом.
Относительная стабильность в мире и щедрые расходы на оборону позволяли Соединенным Штатам избегать трудного выбора в области оборонной стратегии на протяжении последних двух десятилетий. Решения нередко принимались под влиянием внутренней политики в сфере национальной обороны, местечковых бюрократических интересов и инерции, а четкого и жесткого планирования не осуществлялось. В случае возникновения конфликта стратегия слишком часто заключалась в том, чтобы бросать все более солидные ресурсы на решение проблемы в надежде, что это позволит победить более бедных недругов. Этот подход не принес успеха в Афганистане и Ираке, сегодня же, когда вызовы безопасности США нарастают, а бюджет Пентагона уменьшается, он представляется еще менее привлекательным.
Необходимо сделать важный выбор относительно размера и структуры вооруженных сил Соединенных Штатов, военной доктрины и оснащения, а также определить наиболее перспективные области будущих инвестиций. Давно уже надо было сделать сознательный и разумный выбор на базе стратегии, основанной на трезвом суждении о природе ближайших вызовов и альтернативном ответе на них, который позволит сохранить национальную безопасность.

Голосуем списком
Из разряда заокеанской страшилки «список Магнитского» превратился в фактор российской политики, окончательно разделивший наше общество на западников и славянофилов. Возможно ли в России называться патриотом и при этом не быть яростным хулителем Запада? Или, к примеру, являться западником без топтания на «отеческих гробах»? Об этом на страницах «Итогов» спорят два маститых писателя — Александр Проханов и Дмитрий Быков.
C одной стороны
Александр Проханов: «Список Магнитского» — это оружие вторжения»
— Александр Андреевич, бытуют две конспирологические версии появления «списка Магнитского»: козни Вашингтона либо происки отечественных либералов. Вам какая ближе?
— Поводом к списку стало обращение сэра Уильяма Браудера, крупного американского дельца и афериста. Он и поднял вокруг смерти Магнитского шум, потребовал разбирательства, обвинив наши органы в противоправности. Вокруг этого стал наматываться эдакий клубок, куда и наши оппозиционеры стали наматываться.
Права человека в руках у западной, в данном случае американской цивилизации — это не моральный, не этический принцип. Тот же «список Магнитского» — это оружие организационного типа, способ вторжения во враждебный социум и его разрушение или трансформация без применения горячей силы. Это такие инструменты, с помощью которых американцы действуют всякий раз по-разному. Например, на чудовищные нарушения прав человека в Бахрейне они смотрят сквозь пальцы, потому что режим там проамериканский. В Ливии, Ираке и Сирии права человека они возводят в ранг абсолюта и ради защиты прав отдельно взятого человека сметают с земли народы и государства.
— Так или иначе, «список Магнитского» резко обострил мировоззренческий конфликт между западниками и славянофилами...
— Полемика, которая разрослась вокруг «списка Магнитского», не слишком-то объясняется полемикой западников и славянофилов. Скорее она объясняется схваткой двух очень мощных сил: либералов и государственников — главным образом тех, для кого само существование российского государства, пусть и несовершенного, лучше, чем его отсутствие. Тех, которые страшно боятся повторения ударов по государству, которые привели к его исчезновению в феврале 1917 года и в августе 1991-го.
На защиту этого государства встали люди достаточно сложных оттенков — не только формально с ним связанные, но и интеллектуалы, для которых трагедия потери государства очевидна. Здесь и люди советского мировоззрения, которые, конечно же, не готовы еще раз идти на трагическую утрату нынешнего, пускай худого, но государства.
Русская партия в основном поддерживает это государство, но не вся: русский фланг расколот. Значительная часть русских националистов была на Болотной площади и вместе с либералами выступала против этого государства и против Путина. Это очень интересный казус. Само государство, которое многие бросились защищать, тоже не целостно: там огромное число западных, проамериканских элементов. Там присутствуют группы, напрямую лоббирующие интересы США в российской действительности. Скажем, тот же финансовый блок.
Так что казус Магнитского разделил общество не по жесткой линии, а по волнистой, рваной линии. И современные западники и славянофилы в этой схватке тоже представлены очень сложно, очень рвано.
Огромная часть западников не просто исповедует западные символы веры, нормы развития и институты, которые, кстати, сильно изменились со времен Герцена. Нынешние либералы для достижения своих политических и моральных целей напрямую прибегают к помощи Запада. Они являются его лобби, его агентами в русской действительности. В годы перестройки они оседлали политический процесс и открыли врата врагу в российскую крепость. И сегодня их действия носят предательский характер: они по-прежнему готовы добиваться своих целей любой ценой, вплоть до, образно говоря, приглашения сюда морских пехотинцев США. Их схватка с государством — это не схватка мировоззрений, идей и идеологий, а военная схватка организационного оружия. И они сами являются частью этого оружия, направленного против российской государственности.
— Есть способ примирить противоборствующие стороны?
— Эта схватка тотальна. Она длится на протяжении XX—XXI веков, в ее недрах пролилось колоссальное количество крови, и там огромное число жертв как с одной, так и с другой стороны. Так что примирения здесь быть не может. Может быть лишь подавление — либо тотальное, либо частичное.
После 1991 года так называемые государственники, в том числе и советского розлива, были выключены из политического процесса, их сделали маргинальными. И только с приходом Путина этот политический процесс несколько изменился. Он начал меняться в еще большей степени после событий на Болотной, когда западники, вскормленные Путиным, восстали против него самого. Так ангел Люцифер, некогда бывший верным и любимым чадом Господа, восстал против него.
Это обозначило трагедию самого Путина, стоящего перед выбором: либо по-прежнему держать патриотические силы на маргинальной окраине, либо возвращать их в центр политики, потому что именно они несут на себе крест служения государству, даже этому несовершенному. И все, что было после Болотной площади, — это медленное, но неуклонное возвращение в центр общественно-политической жизни государственников. Не просто по мандату, но людей с представлениями о судьбах России, о векторе русского развития, о константах, заложенных в русскую историю и историческую мысль.
— Не окажемся ли все мы со всеми этими государственниками за железным занавесом?
— Железный занавес сегодня невозможен. Вся наша экономика — сырьевая, заточенная на сумасшедший экспорт нашего сырья за границу. Какой железный занавес, если вся наша экономическая элита живет за границей и мотается сюда, чтобы срубать большие деньги, прожигать их за рубежом и вкладывать в западную цивилизацию? Железный занавес должен быть не идеологическим, но перекрывающим экономическую помпу, которая выкачивает из России все ее ресурсы. Но возможно ли это для всех компрадоров в нашем правительстве и нашем истеблишменте?
— Чем сердце успокоится?
— Этот процесс должен установить баланс в обществе, когда и либералы будут потеснены и уступят свою часть в партере патриотам-государственникам. Их потеснят из культуры, в которой они сейчас доминируют, потому что их покровители в правительстве — западники и русофобы. Они уже потеснены в СМИ, они будут потеснены и в кадровом составе власти. Не истреблены, но потеснены. И это будет продолжаться, пока не установится естественный баланс.
Впрочем, насчет естественного баланса я очень сомневаюсь. Конфликт Запада с Востоком, с Россией и с Китаем, будет усиливаться. Он будет привноситься западниками внутрь России. Острие этого организационного оружия будет время от времени бить по Кремлевской стене, и этот конфликт извечен.
Валерия Сычева
С другой стороны
Дмитрий Быков: «Список Магнитского» — результат наших внутренних распрей»
— Дмитрий Львович, появление «списка Магнитского» — это происки «вашингтонского обкома» или все же результат внутрироссийского раздрая?
— Разумеется, это результат наших внутренних распрей. Тут и никаких сомнений быть не может.
— Не кажется ли вам, что список взорвал хрупкое перемирие между нашими западниками и славянофилами?
— Да сейчас все служит детонатором! «Список Магнитского», ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант», путешествие Гудкова в Америку... Все, без исключения, любые произведения и факты интерпретируются лишь с этой позиции. Абсолютно все обостряет противостояние между славянофилами и западниками. Это давно тлеющий конфликт, не находящий никакого разрешения и никакой третьей объединяющей всех идеи. И он, разумеется, будет и сегодня вызывать трения и углублять трещины в обществе.
Но русская трещина на самом деле проходит не только между западниками и славянофилами. Она, как совершенно правильно написал еще Дмитрий Мережковский в очерке «Свинья Матушка», пролегла между народом и интеллигенцией. Все, кто хочет плюнуть в интеллигенцию, на самом деле плюют в лучшую часть России. Это конфликт интеллигента, то есть лучшей, передовой части народа, с теми, кто считает себя или назначил себя арьергардом.
— Вы считаете, что наша интеллигенция идейно однородна и духовно монолитна?
— Наша интеллигенция, разумеется, неоднородна. Но в одном пункте она абсолютно солидарна: она ищет корни российских проблем внутри страны, а не снаружи. В сущности, западничество сегодня как раз на том и настаивает. Оно настаивает, чтобы, во-первых, идеи прогресса и просвещения сохранили свою силу и влияние и, во-вторых, повторю, чтобы проблемы отыскивались внутри, а не извне, чтобы мир не воспринимался как результат действия чужеродной и враждебной силы. А славянофильство — это проект почвенный, агрессивный, контркультурный и очень ксенофобский, направленный вовне. Мол, все наши беды вовне и корень зла — исключительно Америка и ее друзья.
— Если и дальше так пойдет, не обернется ли все Сенатской площадью или железным занавесом?
— Сенатской площадью — вряд ли. Попытками изоляционизма — да, конечно. Впрочем, с уверенностью предсказать какие-то внешнеполитические издержки для России я не берусь. Не знаю, возможна ли в сегодняшнем мире ее изоляция, но думаю, что к этому никто и не стремится. Не случайно сюда после «списка Магнитского» приехали американцы с 27 предложениями, а Путин во время поездки в Ганновер подтвердил ориентацию на демократию. По крайней мере, он продемонстрировал восприимчивость к чужому мнению. Самый мягкий вариант развития событий — если риторика российской власти останется воинственной, а действия хоть сколько-нибудь разумными. Более жесткий вариант — это попытки изоляционизма, но они просто ускорят кризис.
— Минусы от противостояния западников и славянофилов просматриваются. А есть ли плюсы?
— Плюс, наверное, лишь в том, что в полемике либеральная идея будет отковываться и совершенствоваться.
— А можно ли в России быть патриотом и не быть при этом сталинистом и яростным антизападником? И можно ли быть западником без небрежения к собственным вековым традициям? Почему у нас так непопулярна позиция золотой середины?
— Разумеется, все эти люди, которые сейчас причисляются к западникам-либералам, являются патриотами. Хотя бы потому, что они вмешиваются в ситуацию, а не сидят на диване. Следовательно, им небезразлична судьба страны. Ведь все мы прекрасно понимаем, что участники сегодняшнего протестного движения завтра никаких бонусов за это не получат. Ни в путинском государстве, ни в том, которое придет на смену путинскому. Совершенно очевидно, что участь всех этих людей в общем-то промежуточная в истории. Это люди, которые максимум могут что-то приблизить, но воспользоваться некими бонусами от этого — никогда. Бонусами будут пользоваться совершенно другие и, возможно, далеко не радужные силы.
— Каков ваш прогноз?
— На мой взгляд, развилка уже пройдена. Власть не хочет договариваться и совершенно очевидно делает ставку на контркультурный, антизападный и антигуманный проект.
Как все это может развиваться? Тут возможен 101-й сценарий. Как правильно сказал Ройзман, мы придумаем 100 вариантов, а осуществится 101-й. Очень не хотелось бы силового разрешения, потому что революциями мы наелись. Но поскольку договор вряд ли реален, то единственный возможный вариант — это переходное правительство. Вот на него и хотелось бы возлагать какие-то надежды.

Параллельный мир
«Итоги» начинают новый проект под названием Startup, где самые успешные и харизматичные предприниматели страны расскажут в подробностях о том, как создавали свой бизнес с нуля. Итак, знакомьтесь: основатель компании Parallels Сергей Белоусов, который воспарил над облаками
Сергей Белоусов — персонаж уникальный. Он один из немногих российских предпринимателей, кто смог основать бизнес за рубежом, а большую часть персонала держать в России. В 90-е Белоусов покорил Силиконовую долину и финансовый центр в Сингапуре, а потом вернулся на родину — помогать отечественным стартапам вставать на ноги. О том, как все начиналось, Сергей рассказал «Итогам».
— Сергей, у вас могла бы быть хорошая карьера ученого. Когда появилась мысль, что можно работать на себя?
— У меня и имелось четкое понимание, что надо заниматься наукой. Но в СССР была специфическая ситуация. Скажем, начальник буровой вышки зарабатывал существенно больше, чем профессор ЛГУ. И если нужны деньги, то их надо добывать в буквальном смысле своими руками. Строительством домов, ремонтом крыш и дверей, установкой телефонных станций, покраской швов, мойкой окон. Это я перечисляю только те вещи, которые делал сам.
— И много зарабатывали?
— Стипендия в Физтехе была 55 рублей. Повышенная — 101 рубль. В основном именно ее я и получал. За лето бесперебойной работы можно было заработать две-три тысячи. Для сравнения: профессор в вузе получал 400 рублей. Помню, мы ездили с соседом по общаге на стройку в Монино. Вставали в пять утра, ехали из Долгопрудного на электричке до Савеловского вокзала, оттуда на автобусе до Новослободской, потом на метро до Комсомольской и снова на электричке до Монина. Работа начиналась в семь утра, а заканчивалась где-то в девять вечера. Домой возвращались к полуночи.
Я понял, что занимаюсь бизнесом, существенно позже того, как начал им заниматься. Например, надо было однажды отремонтировать потолок и вставить решетки на первом этаже общаги, ребята собирались там сделать кофейню. Я нахожу двух человек, мы вместе покупаем где-то решетки, договариваемся, монтируем. Попутно изучаем, как это делается. Считалось, что студенты Физтеха могут все. Когда переходил в бизнес, то вышло, что я, оказывается, бизнесом уже занимаюсь.
На четвертом курсе я зачем-то первый раз женился. Было это в феврале 1992 года. После этого я решил, что раз я женился, то мне нужно срочно ехать за границу. Среди физтеховцев это было очень популярно тогда поехать в какой-нибудь хороший университет, там доучиться, подработать, стать профессором и так далее. Я резко стал учиться. Написал диплом, поступил в группу Ландау — самое крутое из возможных мест на факультете. Сдал кучу спецкурсов. И бах — наступило лето.
В общем, я нашел для себя приработок. Создал с другом Борисом компанию «Физтех-колледж», которая готовила абитуриентов к поступлению в МФТИ, МГУ, МИСиС, Бауманку. Арендовали 14 школ в Москве, наняли преподавателей. Заработали тогда примерно пять тысяч долларов на двоих. Правда, это был мой первый, скажем так, негативный опыт. Борис, который меня попросил все организовать, но сам ничего не делал, отдал мне только 500 долларов...
Потом пришлось искать что-то новое. У моих друзей была фирма под названием «Торнадо», которая занималась продажей всего и вся. Они нанимали коммивояжеров, которые должны были все это реализовать. Кинули жребий — мне досталось Кемерово и партия кроссовок. Помимо них я взял еще прайс-лист какой-то компьютерной фирмы. И до кучи решил еще распространить российский генеральный регистр — отечественная версия Yellow Pages. На регистре я заработал порядка тысячи долларов, от ребят получил еще пятьсот. И продал несколько дохлых и убитых компьютеров.
После этой поездки появилось много контактов. Подрабатывал в компьютерной фирме: поменять процессор, уменьшить количество памяти, вынуть лишние дисководы. Все это нужно было делать быстро. Я для этого нанимал людей — ходил по коридору общежития и кричал: «Кто пойдет? Даю 100 рублей!» Тогда всем нужны были деньги. Шел 1992 год. Все было несбалансированно. Например, однокомнатную квартиру в Москве умудрялись за 1000 долларов купить. А «Жигули» — за 10 тысяч долларов. Ходили разные курсы рубля. Можно было поменять деньги по 60 копеек за доллар, а где-то — за 3,6 или 20 рублей.
К октябрю я понял, что пора принимать решение. Пришел к человеку, которому оказывал помощь с компьютерами, и говорю, что уезжаю в Турин или США. Он говорит: «Подожди. Давай ты мне поможешь организовать сборку». Я опешил. Какую сборку? Я этого никогда не делал. Он говорит: «Все просто. 3500 долларов в месяц зарплата. Плюс 3,5 процента от оборота. Это еще пять тысяч долларов. Ты работаешь октябрь, ноябрь и декабрь. Зарабатываешь себе 15—20 тысяч долларов и уезжаешь за границу, как король». Согласился.
Прихожу в подвал, смотрю, там какие-то люди бегают. Многие, кстати, продолжают у нас в Parallels работать. Как мне ими руководить? Думаю, переставлю-ка столы. Вижу, что они на склад ходят через этот мебельный лабиринт, а надо их заставить ходить по прямой. Это было первое менеджерское решение. Дальше стали покупать комплектующие в Москве у разных людей и собирать компьютеры. И к концу декабря я понял, что заработал 15 тысяч долларов. Что делать? Надо уезжать. Но, с другой стороны, глупо. Дай-ка, думаю, открою такую же небольшую компьютерную фирму.
В 1991-м персональных компьютеров практически не было. На рынке —только советские аналоги и куча не совместимой с западными технологиями ерунды. А уже в 1993 году их продавался миллион. Гигантский рост! Мы удачно попали в это окно. В общем, решили открыть с другом фирму в Питере. Пришел к своему партнеру и говорю, что ухожу, собираюсь открыть фирму в Питере. На что Сергей говорит: «Знаешь что, хочу пригласить тебя быть акционером. Давай у тебя будет 22 процента бизнеса. И вот тебе 42 тысячи долларов, которые являются частью твоего заработка». У нас тогда было шесть акционеров. Мы понятия не имели, что такое акционеры и что такое корпоративное право. Деньги делились согласно трудовому коэффициенту. Первый год собирались и обсуждали, какие проценты кому дать. Кого-то могли исключить. Примерно в такой форме: «Ты больше не акционер».
Начиная с этого момента я не испытывал нехватки кэша. Хотя еще продолжал жить в общежитии в комнате с четырьмя людьми. Не было ванной и туалета — один на этаж. Но тогда «квартирный вопрос» на меня не давил. К концу 1994 года, когда я стал уходить из компьютерной фирмы, у нее был оборот уже 100 миллионов долларов. Когда продал свою долю, на руках оказалось 2,5 миллиона долларов.
— Значит, первого миллиона у вас не было? Сразу два с половиной?
— Получается, что так. Мне было тогда 23 года.
— Все потратили?
— Что-то, конечно, потратил на себя, но мало. Самые большие деньги, которые я тратил, — это финансирование Parallels и Acronics.
— Даже машину не купили?
— Когда я еще работал в первом бизнесе, у нас с другом пополам был «Москвич». Потом купил себе «четверку». Потом купил «шестерку», а следом уже первую иномарку — Saab 9000. Ехал на ней однажды в Питер по трассе со скоростью 239 километров в час. У гаишников даже радар не смог показать, на сколько я нарушил. Потом была Mitsubishi Pajero, которую угнали и пытались угрожать: в салоне были важные документы и много денег. Но с бандитами быстро разобралась наша служба безопасности, и документы вернули.
— О, была своя крыша?
— Мы организовали свое охранное агентство. Помогли отставному полковнику милиции открыть офис, оборудовать оружейную комнату. У него были связи. Это агентство, кстати, до сих пор нас охраняет. Всем ясно, что в нормальной стране мелкой компьютерной фирме не нужно иметь охрану, но в начале 90-х это было необходимо. Теперь — нет.
— Как вы стали заниматься сборкой телевизоров?
— Еще до этого мы с моим партнером Ильей Зубаревым пытались заниматься сотовой связью и создали компанию «Вестком», которая должна была оказывать услуги пейджерной и мобильной связи в Тольятти. Потом появилась уже собственная компьютерная компания «Фалькон», которая на пике имела выручку 40 миллионов долларов в год. Она всегда была прибыльная, и после того, как заработали на ней деньги, мы ее продали.
После этого появилась Rolsen. Опять-таки никакого специального плана собирать телевизоры у меня не было. В первой компьютерной компании мы наладили хорошие отношения с корейскими поставщиками, в частности с LG. А точнее, с одним из ее менеджеров, который потом стал соучредителем Rolsen. Он меня убедил, что это очень перспективное занятие — покупать разобранные телевизоры за рубежом и собирать их здесь, в Москве. Это на самом деле было абсолютно неперспективно: компьютерная фирма не может продавать телевизоры, так как у нее совершенно другие каналы продаж. Потом в 1994-м, когда я уходил из фирмы, телевизоры мы забрали и начали потихонечку собирать другие модели — Hitachi, Samsung, Toshiba, Funai. А в 1999—2001 годах уже появилась марка Rolsen.
— Где собирали, завод строили?
— Самую первую партию уже не помню, где собрали. Потом делали это в Зеленограде, а еще чуть позже — во Фрязине. Процессом руководили ребята из Физтеха. В нормальном мире это делается так: просто покупается готовый завод за 100 миллионов долларов. В мире, в котором существовали мы, не было возможности достать 100 миллионов долларов. Поэтому мы покупали всякий мусор и налаживали производственный процесс так, как мы его видели в Китае или Корее.
— Чертежи где брали?
— Они были доступны, люди их давали мне во время поездок по Азии. У нас там были фабрики, даже собственные. Это стоило не очень дорого — купить фабрику в Китае. И вот мы в 1995 году с моим партнером решили, что будем попеременно проводить время в России. Либо он, либо я. Тогда еще всякие были проблемы — бандиты, наезды и прочее. Мы думали, что так вероятность потерять бизнес меньше. Если на него наедут, то я буду за границей и приеду его спасать.
— Помогло?
— Получилось так, что я уехал в Сингапур и потом оттуда редко приезжал. Болтался между Сингапуром и Сан-Франциско и иногда приезжал в Москву. Покупал комплектующие, искал заводы, чертежи, автоматы и прочее. А партнер в Москве занимался организацией производства, продаж. Когда мы в 1995 году организовывали Rolsen, я в течение месяца рисовал чертежи — где кто сидит, оргструктуру, писал устав, но будучи за границей.
— То есть вы переехали насовсем?
— Я никогда не переезжал жить в Сингапур. С 1994 по 2001 год я 150 дней в году проводил в Сингапуре, а остальное время ездил между разными местами. В Сингапуре, в Азии, Америке, России, Европе. А начиная с 2001 года я 150 дней провожу в России.
— Как вы думаете, начинать бизнес в 1995 году было сложнее, чем сейчас?
— У меня такой склад ума, что мне не очень понятна природа слова «сложно». Любой бизнес — это командная игра, в которой ваша команда должна выиграть у других. Деньги зарабатываются, только когда есть сложности, а предприниматели и менеджеры занимаются тем, что делают сложные вещи простыми. Действительно, в 1995-м трудно было найти офис. Но, с другой стороны, что значит трудно? Мы его сразу нашли.
— Взятки давали?
— Я стал больше времени проводить в России лишь в 2001 году. Тогда уже появились такие компании, как Parallels и Acronis. И в 90-е существовали другие трудности. Было принято, например, угрожать партнерам или пытаться организовать на них юридические наезды. Но у нас специфический бизнес. Нашим главным активом были люди либо сложные инженерные процессы. И поэтому нас все это в меньшей степени касалось. Практически мы были в перпендикулярной с властью плоскости. Если вы владеете недвижимостью, то у вас есть актив. Тогда понятно, что можно отбирать. А здесь что? Отобрал, рабочие разошлись, перестали покупать у поставщиков, которые находятся в Корее. Корейский завод прекратил производить и собирать платы для наших телевизоров по разработанным нашими инженерами чертежам, и все перестало работать. Если убрать меня, моего партнера и еще трех человек, бизнес резко начнет терять деньги.
— Rolsen сразу вышел на самоокупаемость?
— Практически сразу. Мы гарантированно зарабатывали на сборке. LG давала нам товары, которые мы для нее производили. Мы фактически пользовались тем, что LG в те времена не могла нормальный завод построить в России. Поэтому им нужны были посредники вроде нас.
— Когда перестали заниматься Rolsen?
— Активно — в 2000 году. А совсем — в 2003-м. Сейчас я даже не знаю, где у Rolsen офис. Хотя формально являюсь ее акционером.
— Путь в софтверный бизнес тоже был случайным?
— Еще как. В 1995 году один из моих сотрудников Ивар Мартин жил тогда в Чикаго и работал напротив здания, где был сделан первый в мире интернет-браузер — Mosaic. Потом эти же ребята сделали Netscape. Например, Марка Андриссена, который раскрутил Instagram, он знал лично. Но для меня это был пустой звук, и про Силиконовую долину я ничего не знал. Он мне посоветовал открыть офис в Сан-Франциско, чтоб точно так же, покупая комплектующие в Юго-Восточной Азии продавать уже не только в России, но и в Америке. Сначала офис был виртуальным, потом сняли реальную комнату на 20 квадратных метров. В 1995 году, когда бизнес Фалькона быстро рос, стало понятно, что для его нормального функционирования нужно было связать воедино бухгалтерию, складской учет и продажи и правильно делать финансовое планирование. Мы перевели в офис в Сан-Францизко Олега Мельникова, это один из со-основателей и старший вице-президент Parallels, который и занимался выбором ERP-системы. Я тогда был поражен: как это - софт за деньги (смеется)! Мы взяли разные системы на дистрибутивах, пытались их взломать, но они не взламывались. Кроме того, к ним выходили обновления, и стало понятно, что нелегальную копию ERP-системы использовать не получится. Взломать — это все равно, что переписать заново. Из 16 рассмотренных систем выбор остановили на Solomon Software, которая давала 2 бесплатные копии своей системы своим реселлерам. Но, чтоб стать реселлером надо было сдать экзамены и пройти сертификации. Олег сдал экзамен, прошел сертификации, и мы получили систему и стали перепродавцами этой компании на Россию, заплатив всего лишь 495 долларов. Но чтобы быть официальным ресселером, надо было реально продавать эту систему в России.
После нескольких попыток стало понятно, что продажи не идут. Программное обеспечение Solomon Software для России никак не подходило. Во-первых, оно не было переведено на русский язык, и программа не соответствовала стандартам российской бухгалтерии. Во-вторых, тогда никто не хотел платить большие деньги за программное обеспечение. А статус ресселера надо было как-то поддерживать. И тут я подумал, попробую-ка я ее продать в Сингапуре. В начале 1996 года нанял на работу сингапурца Дина Ханифа (Dean Haniffa), который предложил мне стать эксклюзивным дистрибутером Solomon Software на Азию. Мы связались с компанией, после чего нас перекинули на главу отдела международных продаж Джона Хауэлла - он впоследствии стал со-основателем Acumatica. Джон предложил сначала написать бизнес-план развития нашего дистрибуторского бизнеса, мы написали его за три дня и отправили. Он предложил встретиться, а уже через день я заявился прямо к нему в офис в Финдли, Огайо. Этот факт поражает его до сих пор, потому что лететь и ехать до них часов 30. Я летел рейсом Сингапур-Лондон-Колумбус, после чего еще два часа ехал на машине до города. Там у них была штаб-квартира. Надо сказать, полная дыра. Так, в 1996 году мы все-таки начали успешно продавать их продукт.
— И вошли во вкус?
— Я тогда много времени проводил у своего друга Жени Демлера, который сейчас является профессором Гарварда. Мы с ним еще в Москве жили в одной комнате в общежитии. Он мне рассказывал всякие истории, как университетские ребята ушли писать программы для фондового рынка, заработали кучу денег, а теперь ездят на Ferrari. Или другие парни, решившие заняться написанием антивирусных программ, открыли компанию, продали ее, заработали 200 миллионов долларов. Их выгнали из университета за то, что они себе накупили роскошных домов и автомобилей. Профессора в Америке вообще должны вести пуританский образ жизни. У самого Жени была Toyota Celica1985 года с дырявой крышей, через которую на голову капал дождь. Все это он мне рассказывал не как историю успеха, а как некий позор. Но меня это заинтересовало, и я стал пытаться писать софт.
— Какое первое впечатление от Силиконовой долины?
— Я уехал в Сингапур и мне казалось, что это страна третьего мира. Но там, на удивление, оказалось очень чисто. Приехал в Германию — там тоже очень чисто. Думал, приеду в Калифорнию, буду поражен. Приземляюсь 12 мая 1995 года в аэропорту Сан-Франциско, который, как оказалось, был чуть ли не самым худшим аэропортом среди мегаполисов США. Кругом грязь, ужасная таможня с очередями.
Меня встречает мой друг Женя и везет на своей «тойоте» под дождем по разбитой 101-й дороге. Я потом понял, что это — главная дорога Силиконовой долины, где по одну сторону Oracle, а по другую — Microsoft. Он меня поселил по его меркам в роскошный отель, который на самом деле был мотелем. И говорит: «Пошли на бал».
Приезжаем, а это студенческий бал, где раскрашенные девочки пьют какую-то гадость из тазиков, смешивая вино, водку и прочее вместе. Он меня не смог отвезти домой, и я шел четыре мили пешком под холодным дождем. Был очень злой и на следующий день потребовал Женю отвезти меня в самый лучший отель. Я ведь собирался бизнес открывать в Америке. Ко мне будут ходить юристы и инвесторы.
Приезжаем в отель в Сан-Франциско, я оформляюсь и не глядя подписываю чек. Женя меня дергает за рукав, а там стоит цена — 780 долларов за ночь (в Сингапуре это стоило бы в районе 100 долларов). А зарплата у Жени была около 1800 долларов. Я чуть не поперхнулся, но сделал вид, что это мелочи. У меня были с собой большие деньги. Но тратить крупные суммы наличных я не привык. Я бы и сейчас скорее всего не стал бы останавливаться в отеле, стоимостью 780 долларов за ночь. Потом мне нужна была машина. Говорю Жене, что нельзя ездить на таком корыте. Поехали покупать. Обошли несколько салонов, и нам посоветовали купить только что появившуюся в продаже БМВ 7 серии. Я тогда ходил в рваных кроссовках и зеленых штанах с дырками на коленях. Приезжаю в дилерский центр и выкладываю на стол продавцу наличными 98900 долларов. У него глаза на лоб полезли. Молодые гаражные миллиардеры появились позже — в 1996-1999 годах. Если бы я уже пришел в 1999 году даже голым покупать машину, никто бы не удивился.
— Но начали писать софт в Сингапуре?
— Да, тот офис мы открывали для Rolsen, ну и для связей с Solomon Software. Потом я привез в Сингапур Стаса Протасова, который стал сооснователем Parallels, и мы решили писать программы на Windows NT. Это была очень модная операционная система. Будучи физиком-теоретиком, я плохо разбирался в программировании и не знал, что на Windows нормальные люди не работают. Мы пошли в офис Microsoft в Сингапуре, где встретили сумасшедшего индуса по имени Венки Чар. Нам дали правительственный грант, наняли троих людей, и дело пошло. А в 1997 году в Сингапур с очередным визитом приехал сам Билл Гейтс. Ему решили показать лучшие компании, которые работают на его архитектуре, в том числе нас. Он провел с нами минут двадцать, после чего у нас снесло напрочь крышу, и я решил, что мы самые крутые инженеры. Это была неправда, но мне так казалось. К концу 1997-го выходит пресс-релиз, на котором изображены Билл Гейтс и я. После этого я начал всячески давить на Solomon Software, которая была местечковой компанией с оборотом в 100 миллионов долларов. Эти ребята действительно решили, что мы крутые, и отдали нам 90 процентов своего продукта на аутсорсинг для перевода на новые технологии.
В 1998 году мы сколотили хорошую команду в Сингапуре из 60 человек. В частности, один из них был знакомый, который уехал в Архангельск жить в деревню, так как у него закончились деньги. Когда мы ему позвонили, он как раз готовился к зиме, заготавливал дрова... Так, в 1998—1999 годах мы делали софт для Solomon Software и нескольких других компаний.
— Как вы начали программировать, не имея никакого опыта?
— Ну, необходимую базу знаний я в Физтехе все же получил. А дальше — самообразование. Прочитал пять шкафов книжек, получил сертификацию Cisco, Microsoft и Solomon. Научился сам программировать на C++, Java, Visual Basic. Я всех своих людей тоже пропустил через этот зубодробительный процесс. Помню, как ездил по миру с чемоданом, который весил около 70 килограммов. В него я складывал книжки. Такой вот переходный был этап.
— То есть уже не по наитию начали бизнес делать?
— Серьезным бизнесом я стал заниматься только спустя лет пять. В 1999-м стало ясно, что на интернет-рынке надулся колоссальный пузырь и он скоро лопнет. Первая идея, которая пришла мне в голову, — венчурный инжиниринг. Мне казалось тогда, что это я сам придумал такой термин. Суть была в следующем. Если вы организуете инженерную команду в Силиконовой долине, то платите 10 программистам, скажем, два миллиона долларов в год. Если вы работаете с нашей готовой командой, то платите нам 500 тысяч долларов в год и даете долю. Я познакомился с людьми из Техаса, которым как раз нужна была такая команда для проекта под названием E-economy. Мы ходили по венчурным фондам и в результате нашли дураков, которые дали 1,5 миллиона долларов.
Я помню, что это была фантастически стрессовая работа. И вот сидим мы однажды в конференс-руме, и я чувствую, что-то происходит с животом. Поднимаю майку, и в помещении все аж вскрикнули. На животе выскочила огромная черная язва. Буквально за 5—10 минут. Пришел к врачу, а он прыгает от радости: «Какая удача! Это такой редкий случай!» Оказалось, что это такой опоясывающий лишай, который возникает от сильного стресса...
Потом нам подсказали, что лучше бы нашей замечательной команде заниматься облачными приложениями. Я стал разбираться, что это такое, и понял, что это очень интересная область. Так в начале 2001 года мы стали делать Parallels.
— Компанию с нуля строили?
— Еще в 1999 году мы с Олегом Мельниковым, Юрием Цибровским и Яковом Зубаревым разработали несколько идей софта, который позволял предоставлять приложения из дата-центров провайдеров через Интернет. В современном мире такая модель потребления называется облачной, а в те времена называлась ASP (application service provider). Так была создана компания SWSoft, которая получила известность благодаря программным решениям виртуализации и автоматизации для ASP-провайдеров. В каком-то смысле мы опередили время, рынок был еще не готов, потому что каналы связи и интернет были мало скоростными и очень дорогими, отсутствовали готовые программы для потребления из облака, потребители не были готовы начать использовать программы, работающие в дата-центре провайдера, а не у них в офисе. Сегодня все эти сдерживающие факторы уже преодолены.
В 2005 году SWsoft покупает небольшую компанию Parallels, которая занималась похожими технологиями. Сначала ее развивали как отдельную бизнес-единицу со своим брендом и продуктовой линейкой, а в 2008 мы объединили SWsoft с Parallels и назвали объединенную компанию Parallels в силу разного рода причин, но главным образом потому что бренд Parallels был лучше узнаваем в мире.
— Как рос оборот у Parallels?
— В 2000 году был ноль долларов, в 2001-м — 50 тысяч, в 2002-м — 500 тысяч, в 2003-м — 2,5 миллиона, в 2004-м — 6 миллионов, в 2005-м — 16 миллионов, в 2006-м — 35 миллионов. Дальше — умолчу.
Компания SW Soft была основана в Сингапуре и Америке. Я сидел в офисе в Остине, штат Техас. Олег Мельников и Стас Протасов находились в Сингапуре. И только потом мы перевели этих несчастных инженеров из теплого Сингапура в холодную Россию. Но изначально компания не была российской.
— Почему перевели разработку в Россию?
— Банально не было денег. Здесь люди были дешевле. Сейчас, кстати, уже не намного. Они просто хуже живут. За те же деньги в Сингапуре у них была бы более приятная жизнь.
— Два года назад вы официально ушли с поста гендиректора Parallels. Надоел бизнес?
— Мне нравится создавать новое, и теперь у меня свой венчурный фонд — Runa Capital. Мы вкладываем в очень перспективные стартапы.
— Что значит «перспективные»?
— Нужно работать, ориентируясь на западные рынки.
Артем Никитин
Анкета
Имя Сергей Михайлович Белоусов.
Компания Parallels, Runa Capital.
Вид бизнеса Информационные технологии.
Возраст Родился 2 августа 1971 года.
Место рождения Ленинград.
Образование В 1995 году окончил МФТИ.
Год и возраст вступления в бизнес В 1992 году создал с другом компанию «Физтех-колледж», которая готовила абитуриентов к поступлению в МФТИ, МГУ, МИСиС и Бауманку. Заработали 5 тысяч долларов на двоих.
Когда получили первый миллион Миллиона не было. Было сразу два с половиной. Мне было 23 года — я тогда забрал свою долю в фирме по сборке компьютеров.
Нынешнее состояние Есть оценки Forbes. Если говорить о других людях, то у кого-то Forbes оценивает состояние в 20 раз больше, а у кого-то в 5 раз меньше. Сколько лежит у меня в банке, не скажу. (По оценке Forbes за 2011 год — 400 миллионов долларов. — «Итоги».)
Цель в бизнесе Любопытство.
Место жительства Сингапур, Лондон, Москва, самолет.
Отношение к политике Участвовать не могу, так как являюсь гражданином Сингапура.

ПРОРЫВА НЕ ЖДУТ: ПРЕССА США О ВИЗИТЕ ОБАМЫ В ИЗРАИЛЬ
Президент США Барак Обама отправился в трехдневную поездку на Ближний Восток, в ходе которой он посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Иорданию
Представители Белого дома предупреждали, что от поездки не следует ждать каких-то прорывов, и комментаторы с ними не спорили. "Мне трудно припомнить поездку американского президента в Израиль, от которой ожидали бы меньше, чем от этой", - пишет в New York Times публицист Томас Фридман.
Некоторые доказывали, что она вообще бессмысленна. Например, во вторник на либеральном сайте Slate появилась статья ближневосточного корреспондента Washington Post Джанин Закариа, озаглавленная "Почему поездка Обамы в Израиль являет собой большую ошибку".
"Нетаньяху оскорблял президента, поддерживал Ромни и не продвинул процесс достижения мира, - пишет автор. - Белый дом не должен вознаграждать такое поведение, даже когда речь идет о союзнике".
"Белый дом говорит, что президент намеревается выяснить планы нового израильского правительства, - продолжает Закариа. - Вот вкратце, что он выяснит. Министр обороны Моше Аялон хочет бомбить Иран, а министр жилищного строительства Ури Ариэль хочет построить новые поселения. Если Обама хочет обсудить призыв ультраортодоксальных евреев в армию Израиля или стоимость квартир в Тель-Авиве, то он найдет собеседников. На недавних выборах в Израиле доминировали эти относительно второстепенные проблемы, а не будущее с палестинцами".
Активное миротворчество
Судя по ее статье, журналистка предпочла бы, чтобы повестку дня ближневосточных переговоров Обамы возглавлял вопрос о достижении мира между Израилем и палестинцами. Но практически никто не ожидает, что президент США и израильский премьер-министр уделят этой проблеме много времени. Был момент, когда Обама засучил рукава и бросился улаживать главную ближневосточную распрю. Но он преуспел в этом не больше своих предшественников и пока не собирается возобновлять активное миротворчество.
"Белый дом говорит, что президент намеревается выяснить планы нового израильского правительства. Вот, вкратце, что он выяснит. Министр обороны Моше Аялон хочет бомбить Иран, а министр жилищного строительства Ури Ариэль хочет построить новые поселения. Если Обама хочет обсудить призыв ультраортодоксальных евреев в армию Израиля или стоимость квартир в Тель-Авиве, то он найдет собеседников. На недавних выборах в Израиле доминировали эти относительно второстепенные проблемы, а не будущее с палестинцами", - пишет
Джанин Закариа, корреспондент Washington Post.
В этом Обама может рассчитывать на поддержку большинства своих соотечественников. Согласно последнему опросу Washington Post и телекомпании ABC, американцы в массе своей продолжают симпатизировать израильтянам, а не палестинцам, но предпочитают, чтобы те договаривались сами, без посредничества и понукания США.
Предсказывают, что Обама с Нетаньяху сосредоточатся на проблеме Ирана, чьи ядерные амбиции тревожат обоих, хотя израильтянина намного больше. По словам обозревателя агентства Bloomberg Джеффри Голдберга, инициатива в этих дискуссиях на сей раз будет принадлежать американцу.
До недавнего времени она была в руках Нетаньяху, который бесконечно бил в набат по поводу ядерных планов Ирана. Как пишет Голдберг, в конце концов, он подвиг Обаму на то, чтобы усилить санкции против Тегерана, предпринять ряд "дорогостоящих и, возможно, опасных попыток саботировать ее ядерную программу", неоднократно обещать, что США готовы применить силу, и "сколотить международную коалицию из периодически колеблющихся партнеров для обуздания иранских амбиций".
По словам автора, "эфемерное влияние Нетаньяху отчасти объяснялось избирательным календарем США". Если бы Израиль нанес удар по Ирану до ноябрьских выборов, США могли бы оказаться втянутыми в очередную войну на Ближнем Востоке. Принято считать, что такой оборот не очень помог бы Обаме переизбраться на второй срок.
Подарок Обаме
В сентябре израильский премьер сделал Обаме подарок, продолжает обозреватель. Он заявил с трибуны ООН, что у Ирана, скорее всего, уйдет еще 6-9 месяцев на обогащение достаточного количества урана для производства атомной бомбы. Иными словами, израильский премьер-министр отодвинул роковую черту до весны 2013 года. Это позволило Обаме спокойно вести предвыборную кампанию, не опасаясь того, что в районе Персидского залива в любую минуту может разгореться пожар.
Обама оценил этот жест, позвонил Нетаньяху вскоре после его речи в ООН и выразил ему свою признательность. Израильские критики говорят, однако, что, удружив Обаме, Нетаньяху упустил момент, когда израильтяне еще могли нанести удар по Ирану без американской помощи. Иранцы продолжают укреплять и рассредоточивать свои ядерные объекты, и в один прекрасный день точечный удар по ним будет не по силам и американцам.
По словам Голдберга, многие израильтяне опасаются, что обещания Обамы предотвратить ядерное вооружение Ирана военной силой тогда так и останутся обещаниями. Нетаньяху поделится с Обамой этими опасениями. Но, в отличие от прошлого года, Обама уже никуда не баллотируется и "может сказать Нетаньяху вещи, которые тому не хочется слушать".
Как пишет New York Times, главная задача Обамы состоит в том, чтобы убедить Нетаньяху в том, что Израиль может положиться на готовность США при необходимости "разобраться с Ираном".
Публичные разногласия между двумя лидерами по поводу Ирана в последнее время практически прекратились, отмечает New York Times, которая объясняет это тем, что Обама неоднократно предупреждал Тегеран о последствиях, а Иран, со своей стороны, сознательно не пересекал Рубикон, обозначенный Израилем, хотя и продолжал обогащать уран. Наконец, изменившаяся расстановка политических сил в Израиле ослабила позиции Нетаньяху и сделала односторонний удар по Ирану менее вероятным.
Владимир Козловский, Русская служба Би-би-си

Никто в США не считает Россию угрозой
Роберт Блэкуилл – старший научный сотрудник в Совете по внешним связям, специалист по внешней политике и помощник Генри Киссинджера. С 2001 по 2003 гг. он служил послом США в Индии, а в 2003–2004 гг. был помощником Советника по национальной безопасности, отвечая за стратегическое планирование. Служил в Совете национальной безопасности в администрации Джорджа Буша-младшего.
Резюме "Мне трудно представить себе войну США с Россией или Китаем, войну России с Европой или Китаем, войну Индии с Китаем или войну Японии с кем бы то ни было".
Тема нашего обсуждения, конечно же, не нова – я имею в виду применение силы и власть оружия. Хомо сапиенс, по меньшей мере, 10 тыс. лет использует силу в качестве инструмента для достижения политических целей, а для защиты и приобретения территории – уже 30 тыс. лет или что-то в этом роде.
Так что мы уже давно начали убивать друг друга по политическим и территориальным мотивам. С начала летописной истории, то есть, примерно с 3500 г. до н. э., как кто-то подсчитал, в мире произошло более 14 тыс. крупных войн, в которых было убито около 4 миллиардов человек. В XX веке войны унесли жизнь 200 миллионов человек. Одна только Вторая мировая война принесла гибель почти 70 миллионам человек, примерно 15 миллионов оказались жертвами Первой мировой войны.
С учетом этой статистики нетрудно прийти к выводу, который уже сделал Алексей Арбатов: вряд ли род человеческий посетит внезапное вдохновение, и все оружие будет отложено в сторону. Этого не произойдет, потому что это утопическая мечта. Государства и негосударственные образования будут и дальше применять силу для достижения своих целей.
Но какими критериями следует руководствоваться в случае применения силы для защиты национальных интересов? Мне лично по душе требования, изложенные Каспаром Уайнбергером в 1984 г., которые я сейчас перечислю. Мне будет интересно узнать, что думают по этому поводу наши российские коллеги: применима ли в данном случае эта так называемая «доктрина Уайнбергера»?
(1) США или их ближайшие союзники должны применять военную силу только в том случае, когда под угрозой оказываются их национальные интересы.
(2) Воевать следует с полной самоотдачей и явным намерением победить. Перед началом войны в Персидском заливе Колин Пауэлл дополнительно изложил «доктрину Пауэлла»:
(3) решительное применение силы, максимально возможное применение силы, чтобы добиться победы в кратчайшие сроки. Хочу напомнить, что после 96-часовой войны №1 в Персидском заливе под названием «Буря в пустыне» Колина Пауэлла спросили: «Для чего Вам было нужно размещать 500 тыс. американских военнослужащих в Заливе, если война длилась всего 96 часов?» Он ответил: «Просто у меня не было времени для размещения в Заливе 750 тыс. военнослужащих». Другими словами, речь идет о решительном применении силы. Нам следует, не колеблясь, использовать военную силу для достижения четко и ясно поставленных политических и военных целей.
(4) Мы должны постоянно оценивать необходимость, уместность и целесообразность применения силы.
(5) Необходимо заручиться гарантией поддержки со стороны Конгресса и широкой общественности.
И, наконец, (6) сила должна применяться лишь в качестве крайнего средства.
Как я уже сказал, похоже, что у США есть разумные руководящие принципы. Я бы добавил в свете американской истории, особенно новейшей, седьмое требование, согласно которому
(7) Соединенным Штатам не следует вступать в войну, полагая, что им удастся осуществить перестройку и социальные преобразования в тех странах, об общественном строе которых американцам почти ничего неизвестно.
Можно предположить, что если бы США руководствовались этими критериями применительно к войне с Ираком в 2003 г., и если бы было уделено больше внимания сбору и анализу разведданных, то эта война не была бы начата вообще. И, конечно, можно утверждать, что это была величайшая стратегическая ошибка, допущенная Соединенными Штатами после окончания Второй мировой войны.
Наверно, было бы полезно вспомнить слова, сказанные недавно бывшим министром обороны Робертом Гейтсом: «Если в будущем какой-либо министр обороны посоветует президенту отправить большую американскую армию в Азию, Африку или на Ближний Восток, ему надо ‘проверить голову’, как выразился генерал Дуглас Макартур, когда предостерегал президента Джона Кеннеди в 1961 г. во время начала вьетнамской кампании».
Возникает вопрос, наблюдается ли рост применения силы в наш век геоэкономики. После окончания Второй мировой войны каждый год в мире происходило в среднем около 30 вооруженных конфликтов. Что касается убитых и раненых в этих конфликтах, то на 90% это было гражданское население в сравнении с 50% во Вторую мировую войну и 10% в Первую мировую войну. В 128 конфликтах после 1989 г. гибло, по меньшей мере, 250 тыс. человек в год. Но опять-таки, как указал Алексей, в последнее десятилетие было убито меньше людей в результате военных действий, чем в любое другое десятилетие минувшего столетия.
Что можно сказать об использовании крупными державами военной силы в предстоящем десятилетии? Конечно, недавно мы стали свидетелями крупномасштабных военных операций США и НАТО в Афганистане и Ираке и гораздо менее масштабной кампании России против Грузии. Но Китай не прибегал к военной силе, и, я считаю, что опасность конфликта между Америкой и Китаем по поводу Тайваня резко уменьшилась в последнем десятилетии – отчасти, из-за очень тонкого и действенного подхода Китая к решению тайваньского вопроса. Другие азиатские державы, такие как Япония и Индия, также не планируют применять военную силу.
Поэтому, если посмотреть на события последнего десятилетия, то все случаи военно-силовых действий были связаны с политикой Соединенных Штатов и НАТО и, в меньшей степени, России. Как мне кажется, после событий этого последнего десятилетия, по крайней мере, у США значительно поубавилось желание опираться на военную силу для решения тех или иных вопросов.
Но, как мы уже слышали, остается проблема Ирана. Последние три американских президента дали ясно понять, что Соединенные Штаты не допустят разработку Ираном ядерного оружия или его приобретение. Если Иран будет и дальше упорно следовать своим путем, то я думаю, что вероятность вооруженного столкновения между США и Ираном будет оставаться довольно высокой. Вот почему все мы хотим решить эту проблему посредством переговоров.
Теперь коротко о ядерном оружии: какова вероятность применения ядерного оружия в XXI веке? Я бы сказал, что она выше, чем в период после окончания Второй мировой войны. Почему? В течение следующих 20-30-40 лет, скорее всего, появится больше ядерных держав. Ядерные технологии станут еще более доступными, в том числе и для террористических группировок. Наверно, решающий момент заключается в том, что эпицентр этой ядерной угрозы – Большой Ближний Восток – менее стабилен, чем когда-либо в течение последнего столетия, а Иран в настоящее время испытывает на прочность дееспособность режима нераспространения, введенного Советом Безопасности ООН. Поэтому мне представляется маловероятным, что в обозримой перспективе страны откажутся от угрозы применения ядерного оружия в международных отношениях.
Что касается соглашения между США и Россией о сокращении ядерных вооружений, то лично мне безразлично, сколько у России ядерных боеголовок и носителей, поскольку не могу представить себе такую ситуацию, в которой они могли бы быть использованы против Соединенных Штатов. Если это оружие будет надежно охраняться, как это сейчас происходит, численность ядерных сил России меня мало волнует. Америке следует в одностороннем порядке сократить свой ядерный арсенал до одной тысячи боеголовок, или что-то в этом роде. Поскольку никто из нас не может представить себе, что будет использована хотя бы одна ядерная боеголовка, я не понимаю, зачем нам держать на вооружении 1500 единиц ядерного оружия.
Наконец, в заключение немного хороших новостей. Я не предвижу войн между крупными державами в ближайшие 20 лет. Эта тема созрела для нашего обсуждения, но я рискну сделать подобное утверждение. Мне трудно представить себе войну США с Россией или Китаем, войну России с Европой или Китаем, войну Индии с Китаем или войну Японии с кем бы то ни было. Тот факт, что крупные державы не собираются воевать друг с другом – это добрая весть для системы международных отношений.
Тем не менее, войн будет много. Крупные державы, такие как упомянутые нами Индия и Пакистан, способны вести войны против менее крупных стран. И я полностью согласен, что один крупный теракт в Индии, организованный пакистанскими боевиками, грозит привести к эскалации боевых действий на этом субконтиненте. Конечно, и мелкие страны будут также воевать друг против друга. Наконец, преобладающим типом войны будут гражданские войны, как это мы видим сейчас.
В частности, все более доступная технология БПЛА имеет и плюсы и минусы. Ее очевидный плюс в том, что повышенная точность ударов будет означать меньшее число жертв среди мирного населения, но минус в том, что эти конфликты будут разгораться с большей легкостью и быстротой.
И еще одно соображение от американского стратега, который смотрит на нашу историю нескольких последних десятилетий со своей колокольни. В свое время эту мысль высказал Уинстон Черчилль, и я хотел бы в заключение его процитировать. Это высказывание касается применения силы. «Давайте будем усваивать уроки истории… Никогда не думайте, что война может быть гладкой и легкой, и что некто, пускающийся в подобную авантюру, может вычислить все те бури, приливы и отливы, которые встретятся на пути. Государственный деятель, подхватывающий вирус военной лихорадки, должен понимать, что, как только дан сигнал на начало боевых действий, он уже не хозяин политики, а раб непредвиденных и неконтролируемых событий, некомпетентных или высокомерных командиров, ненадежных союзников, враждебно настроенных нейтральных стран, злого рока, неприятных сюрпризов и ужасных просчетов». Ни один американец не должен забывать этот глубокий совет Черчилля.
Последнее, о чем хотелось бы сказать на этой встрече – это то, что меня больше всего удивило и поразило. Надеюсь, я могу быть откровенным, находясь среди друзей. Меня удивили высказывания определенной группы лиц о теориях заговора, в центре которого, якобы, находятся Соединенные Штаты, и о тайной повестке некоторых американских организаций. У США не может быть никаких тайных планов, потому что, если бы нечто подобное существовало, это сразу бы попало на первые полосы Нью-Йорк Таймс. На самом деле, мы не способны ни на какие заговоры или тайные планы. Хотелось бы поделиться вот какой мыслью: давайте вообразим, что такая же встреча известных и опытных экспертов и политологов проходит в Вашингтоне. Могу с полной уверенностью сказать вам, что эта группа экспертов никогда не поверит в то, что Россия может угрожать жизненно важным интересам Соединенных Штатов. Та же группа американских экспертов ни на минуту не усомнилась бы в том, что в обозримом будущем США, при планировании своей обороны, не будут считать, что Россия представляет серьезную угрозу для нашей страны. Поэтому меня просто поражает, как часто вы думаете о Соединенных Штатах в связи с существовании каких-то «тайных» планов в отношении России, тогда как в действительности американцы совершенно не опасаются России. И необходимо серьезно задуматься над тем, почему такие мысли вообще имеют место быть. Наконец, оборонный бюджет США сокращается, и численность американской армии существенно сократится в ближайшее время. Есть планы сокращения подразделения морских пехотинцев. Модернизация ВВС будет происходить очень медленно. Через 50 лет у ВМС США останется совсем немного кораблей. Конечно, мы по-прежнему будем представлять собой самую могущественную военную силу на планете. Но мы сокращаем традиционные силы и вооружения – в духе важной мысли Франсуа Эйсбура – в пользу более технологичной армии, пользующейся такими средствами, которые были недоступны всего десятилетие назад.

Сооснователь Google Сергей Брин - один из основоположников проекта по разработке компьютера в форме очков Google Glass, выступая на конференции TED-2013, заявил, что смартфоны препятствуют социальным контактам между людьми, и сравнил их с <бесполезными кусками стекла>, сообщается на сайте мероприятия.<Когда 15 лет назад мы основали Google, я представлял себе, что в будущем информация будет поступать к человеку в тот момент, когда она ему нужна, без необходимости поискового запроса>, - говорит Брин. Однако, по его словам, теперь пользователи получают нужную им информацию, отгораживаясь от других людей и смотря на экран смартфона.
<Неужели будущее технологий связи - это люди, ходящие вокруг, смотрящие вниз и вертящие в руках бесполезный кусок стекла?> - заявил сооснователь Google, назвав такое поведение ущербным. С его точки зрения, технологии должны предоставлять возможность смотреть в глаза собеседнику и получать информацию одновременно.
В то же время, многие модели современных смартфонов и планшетных компьютеров доступнее с точки зрения цены, чем устройство Google Glass стоимостью в 1,5 тысячи долларов, ажиотаж вокруг которого создает компания. Кроме того, на развитии сегмента смартфонов базируется успех мобильной платформы Google Android. Западные блогеры также скептически восприняли заявление Брина, отмечая, что замена одного асоциального устройства на другое не решит проблему.
Устройство Google Glass может появиться на рынке до конца года по цене 1,5 тысячи долларов, сказал Брин. Как сообщало ранее издание PC Magazine, объявление о продаже одного из прототипов Glass, якобы приобретенное через конкурс #ifihadglass, уже появилось на онлайн-аукционе eBay. Лот, заявки на который превышали 15 тысяч долларов, на данный момент не доступен на сайте. В ходе выступления на TED Брин призвал не доверять подобным объявлениям, так как Google не гарантирует подлинность продаваемых по таким каналам устройств.

Важные стратегические технологии, которые оказывают серьезное влияние на весь мир, сегодня наперечёт. Абсолютное большинство из них формируется и развивается в США, в Кремниевой долине. Оригинальные отечественные ИТ-разработки на мировом рынке, конечно, тоже присутствуют, однако масштаб их до уровня, например, известных ОСРВ или СУБД, пока не дотягивает. Тем интереснее стала новость о подписании соглашения между корпорацией Intel и компанией "Мирантис", которое вдобавок было подтверждено солидной инвестиционной суммой в 10 млн. долл. (в обмен на определенное количество акций). Более того, деньги совместно выделили Intel Capital, Dell Ventures и Westsummit Capital. Это инновационное вложение, как отметил директор по инвестициям Intel Capital Игорь Табер, уже девятое за прошедшие два года. Интересно, что первоначально ведущим инвестором желала выступить Dell, однако дабы не конфликтовать с такими потенциальными конкурентами, как Cisco, лидером в этой группе была выбрана Intel. В связи с этим Александр Фридланд, соучредитель и председатель совета директоров "Мирантис", назвал эту корпорацию "независимой Швейцарией" в мире ИТ."Мирантис" известна как активный разработчик системы OpenStack - свободной технологии создания публичных и приватных облаков, а также как сооснователь и член одноименного фонда, в котором зарегистрировано 87 стран. Именно в дальнейшее развитие OpenStack и вкладываются миллионы долларов. Интерес Intel в этом процессе таков: обеспечение управляемости всех аспектов работы ЦОДов, включая модное направление программно-управляемых сетей SDN; системы контроля за энергопотреблением Intel Data Centre Manager; формирование Hadoop-дистрибутива, ориентированного на большие данные (конечно, с учетом особенностей архитектуры x86). "Главное - это совместная разработка инфраструктурных решений OpenStack для построения частных и публичных облаков", - отметил Камиль Исаев, генеральный директор по исследованиям и разработкам Intel в России, назвав данное соглашение естественным развитием их бизнеса. Он напомнил, что ЦОДы будущего предполагают очень серьезную аналитику, а уж уровень автоматизма их работы должен быть просто невообразимым.
Облачные конкуренты, конечно, не дремлют, но объем данных в облаках увеличивается экспоненциально, пояснил Александр Фридланд. Однако доступные на рынке решения предлагаются по неадаптированным к облачной модели схемам лицензирования, поэтому их цены также будут расти экспоненциально. Выход из этой ситуации видится в переходе на открытые решения OpenStack. Зарабатывать же "Мирантис" намерена на тренингах, бизнес-аналитике, сопровождении и создании специализированных продуктов.
Существенная часть инвестиций пойдет на привлечение новых кадров в России и Украине - число инженеров "Мирантис" возрастет с 240 до 500, и в итоге она войдет в первую тройку фирм, специализирующихся на OpenStack. На сегодня "Мирантис" реализовала около тридцати профильных проектов: в NASA, ЦОДах и у телекоммуникационных операторов. Более того, платежная система PayPal и система видеотрансляций Cisco WebEX уже полностью перешли в облачный режим с этой технологией. Правда, в России пользователей OpenStack пока нет (или, возможно, они есть, но внедряют его своими силами), хотя в этом контексте упоминались Ростелеком, "МегаФон" и даже Правительство РФ. "Россия отстает от США года на три, но зато наша инфраструктура формируется уже на проверенных решениях", - уточнил г-н Фридланд. "Пилоты" ожидаются у нас уже через полгода, а системы, запущенные в промышленную эксплуатацию, через год.
В заключение надо отметить, что полгода назад аналитики из Gartner раскритиковали технологию OpenStack в пух и прах, выпустив специальный отчёт "Don't Let OpenStack Hype Distort Your Selection of a Cloud Management Platform in 2012". Претензии в основном касались незрелости и слабой функциональности данной технологии, однако эксперты соблюли политкорректность, отметив, что если объявятся солидные спонсоры и инвесторы, заинтересованные в интенсивном развитии OpenStack, ее перспективы следует считать позитивными. Как видим, мощная группа поддержки уже нашлась, теперь очередь за реальными проектами.

Угрозы реальные и мнимые
Военная сила в мировой политике начала XXI века
Алексей Арбатов – академик РАН, руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова Российской Академии наук, в прошлом участник переговоров по Договору СНВ-1 (1990 г.), заместитель председателя Комитета по обороне Государственной думы (1994–2003 гг.).
Резюме: Значение ядерного сдерживания в обеспечении безопасности великих держав будет и далее снижаться, вопреки нынешним попыткам России придать ему более значительную роль и несмотря на тупиковую ситуацию в ядерном разоружении.
Данная статья развивает и дополняет тезисы автора, изложенные в его выступлении на международной конференции «Россия в мире силы XXI века», приуроченной к 20-летию СВОП и 10-летию журнала «Россия в глобальной политике». Генеральный спонсор конференции – Внешэкономбанк.
Сила оружия, иначе говоря – роль военной силы в политике и войне, более всего определяется характером прогнозируемых и реальных вооруженных конфликтов; военно-техническим прогрессом и доступными для нужд обороны экономическими ресурсами; амбициями и фобиями государственных руководителей и оборонно-промышленных комплексов и их подрядчиков в научных центрах и СМИ.
Предчувствие войны
Вопреки широко распространенным в российской военно-политической элите ощущениям, по объективным показателям угроза большой войны ныне меньше, чем когда-либо в новейшей истории. И дело вовсе не в наличии у ведущих держав ядерного оружия (ЯО). В годы холодной войны его было намного больше, но вероятность глобального вооруженного столкновения оставалась неизмеримо выше.
За последние два десятилетия число международных конфликтов и их масштабы значительно уменьшились по сравнению с любым из 20-летних периодов холодной войны (условно датируемой с конца 40-х до конца 80-х гг. прошедшего века). Достаточно напомнить о войне в Корее, двух войнах в Индокитае, четырех на Ближнем Востоке, войне в Афганистане, индо-пакистанской и ирано-иракской войнах, не говоря уже о многочисленных пограничных и гражданских конфликтах в Азии, Африке и Латинской Америке зачастую с внешним вмешательством. По разным подсчетам, в конфликтах времен холодной войны погибли не менее 20 млн человек. Только Соединенные Штаты потеряли в те годы около 120 тыс. человек – столько же, сколько в Первой мировой войне.
Великие державы прошли через череду кризисов, которые в биполярной системе отношений угрожали вылиться в глобальную войну. К счастью, катастрофы удалось избежать. Многие считают это демонстрацией эффективности ядерного сдерживания, другие (в том числе автор этой статьи) – просто везением, особенно когда речь идет о Карибском кризисе 1962 года.
С начала 1990-х гг. и по сей день по масштабам жертв и разрушений с теми событиями можно сопоставить только две войны США и их союзников с Ираком, гражданские войны с внешним вмешательством в Югославии, Таджикистане, Афганистане и Ливии. При этом в последние два десятилетия великие державы не вступали даже в скрытой форме в вооруженные конфликты друг с другом (как было в Корее, Индокитае, на Ближнем Востоке) и не оказывали помощь государствам и негосударственным боевым формированиям, против которых воевали другие великие державы.
После 1991 г. не было ни одного кризиса, который поставил бы великие державы на грань вооруженного столкновения. Теперь даже при несогласии с действиями друг друга никому не приходит в голову замышлять глобальную войну или грозить ядерным оружием из-за военной акции Вашингтона в Ираке, стран НАТО в Ливии, России в Грузии и даже в случае удара Израиля или Соединенных Штатов по Ирану. Многие государства проводят модернизацию вооруженных сил и военные реформы, но нет ничего даже отдаленно сопоставимого с гонкой ядерных и обычных вооружений в годы холодной войны.
Распространенное ощущение опасности объясняется более всего контрастом между прошлыми надеждами и нынешними реалиями. После окончания холодной войны и устранения угрозы глобальной ядерной катастрофы во многих странах, которые десятилетиями стояли на передовой линии конфронтации, появились наивные ожидания всеобщей гармонии. Международное сообщество попросту забыло, насколько опасным и насыщенным кровавыми столкновениями был мир до холодной войны – даже если не считать две мировые войны XX века.
Не многие задумывались о том, сколь трудным и полным коварных ловушек окажется переход от биполярности к полицентричному миру. Отсутствовали новые механизмы глобального управления. Сохраняются накопленные арсеналы ядерного оружия, материалов, технологий и знаний. Изменились финансово-экономические и социально-политические условия. Происходит информационная революция, быстрый технический прогресс способствует развитию массовых коммуникаций.
В годы холодной войны над человечеством постоянно тяготела угроза ядерной катастрофы в результате вооруженного столкновения Востока и Запада. На этом фоне региональные и локальные конфликты воспринимались как неизбежные и периферийные проявления соперничества сверхдержав. Они считались «наименьшим злом», поскольку удавалось избегать масштабного столкновения СССР и США, к которому интенсивно готовились оба лагеря.
После окончания холодной войны главная угроза отошла на второй план, но всеобщей гармонии и мира не наступило. После эйфории конца 1980-х и начала 1990-х гг. на авансцену международной безопасности вышли новые многоплановые угрозы и вызовы: этнические и религиозные конфликты, распространение оружия массового уничтожения (ОМУ) и его носителей, международный терроризм и др. Вместо идеологического противостояния капитализма и коммунизма во всех их вариациях пришло столкновение национализмов и религий.
Ощущение опасности особенно сильно в России, поскольку переход от биполярного к полицентричному миру совпал с распадом Советского Союза и всеми его последствиями. Россия более не занимает одной из лидирующих позиций по большинству критериев национальной мощи (кроме количества ядерного оружия, площади территории и запасов природного сырья).
Глобальная расстановка сил
После прекращения борьбы двух коалиций за мировое господство значительно уменьшились и желание, и возможности великих держав выделять большие ресурсы ради контроля событий на региональном уровне. В 1990-е и начале 2000-х гг. эту роль попытались взять на себя Соединенные Штаты и Североатлантический альянс, но кампании в Ираке и Афганистане обошлись им слишком дорого по сравнению с достигнутыми результатами. В условиях начавшегося в 2008 г. экономического кризиса они отошли от этой утопической идеи.
В 1990-е гг. имел место небывалый всплеск миротворческой деятельности ООН. В течение десятилетия предприняты 36 таких операций. Ныне ООН осуществляет 17 миротворческих миссий с участием более 100 тыс. военнослужащих, полицейских и гражданских лиц. Такие операции оказались намного результативнее и дешевле, чем односторонние действия США и НАТО, несмотря на превосходящий военно-технический уровень последних. На основе этого опыта мог сложиться новый механизм взаимодействия великих держав и региональных государств по предотвращению и урегулированию конфликтов. Но он не появился.
Силовой произвол стран Запада во время операций, проводившихся с санкции Совбеза ООН в Югославии в 1999 г. и в Ливии в 2011 г., привел к разочарованию. В 2012 г. проблемы Сирии и Ирана вновь раскололи и парализовали Совет Безопасности. Причем в последнем случае это произошло после нескольких лет взаимодействия, которое выразилось в шести единогласных резолюциях и санкциях против военных аспектов иранской ядерной программы. Новая многосторонняя система миротворчества и предотвращения ядерного распространения оказалась заморожена из-за растущих противоречий членов Совбеза.
После выборов 2011–2012 гг. в России и Соединенных Штатах великие державы вновь вступили в период отчуждения, что пагубно отразится на перспективах их сотрудничества по всему диапазону проблем международной безопасности. При администрации Барака Обамы США и их союзники более не желают брать на себя бремя поддержания международной безопасности. Вашингтон стремится действовать через Совет Безопасности, но не готов поставить военную мощь НАТО, способную выполнять функцию миротворчества, под эгиду ООН, ее норм и институтов. Военные ресурсы Москвы ограничены и направлены на другие задачи. Логика российских внутриполитических процессов не соответствует идеям сотрудничества с Западом. Китай на мировой арене действует весьма сдержанно и исключительно исходя из своих прагматических, прежде всего экономических, интересов.
В отличие от «Концерта наций» XIX века нынешние центры силы не равноудалены, среди них нет согласия о разделе «сфер влияния». Более того, сами прежние «сферы влияния» активно «возмущают» региональную и глобальную политику, огромную роль играют экономические и внутриполитические факторы.
В полицентричном мире вновь наметились линии размежевания. Одна проходит между Россией и НАТО по поводу расширения альянса на восток, соперничества за постсоветское пространство, вокруг применения силы без санкций СБ ООН, по программе ЕвроПРО и использованию жестких санкций против Сирии и Ирана. Другая линия обозначилась между Китаем, с одной стороны, и Соединенными Штатами и их азиатскими союзниками – с другой. Это подталкивает Москву и Пекин к более тесному союзу, подспудно стимулирует ОДКБ/ШОС/БРИКС на создание экономического и политического противовеса Западу (США/НАТО/Израиль/Япония).
Подъем исламского радикализма по идее должен был бы объединить Запад, Россию и Китай. Однако в отличие от конца прошлого и начала нового столетия, ознаменованного терактами в Америке и Европе, а также коалиционной антитеррористической операцией в Афганистане, обострение противоборства суннитов и шиитов в мире ислама внесло дополнительное напряжение в отношения России и Китая с Западом. Первые по политическим и экономическим причинам тяготеют к шиитам, а Запад – к суннитам.
Впрочем, эти тенденции едва ли выльются в новую биполярность. Экономические связи основных членов ШОС/БРИКС с Западом и их потребность в получении инвестиций и новейших западных технологий намного шире, чем взаимосвязь, существующая у них между собой. Внутри ОДКБ/ШОС/БРИКС есть более острые противоречия, чем между государствами этих сообществ и Западом (Индия и Китай, Индия и Пакистан, Казахстан и Узбекистан, Узбекистан и Таджикистан).
Россия: синдром отката
Россия занимает в этой системе отношений уникальное положение. В отличие от всех других государств определение превалирующей внешней ориентации для Москвы – далеко не решенный вопрос, во многом связанный с внутренней борьбой вокруг политической и экономической модернизации. Термин «откат» стал универсальным в определении raison d’etre государственной политики и экономики России. В последнее время это понятие распространилось в определенном смысле и на внешнеполитическую сферу. Начался откат от идеи европейской идентичности России к «евразийству» с сильным националистическим и авторитарно-православным духом в качестве идеологической доктрины.
Концепция партнерства (с Западом) «ради модернизации» заменяется лозунгом опоры на собственные силы – «реиндустриализации», где локомотивом выступала бы «оборонка», а идейным багажом – «положительный опыт» СССР 1930-х годов. (Не уточняется, правда, какой именно опыт: пятилеток, коллективизации, массовых репрессий?) Во внешней политике и экономике заложен крутой поворот от Европы к Азиатско-Тихоокеанскому региону (видимо, забыли, что помимо Китая ведущие страны АТР – Соединенные Штаты, Япония, Южная Корея – тот же Запад).
Скорее всего, это диктуется преимущественно внутренними мотивами: стремлением постсоветской номенклатуры оградить сложившуюся экономическую и политическую систему от давления зарождающегося гражданского общества, ориентированного на пример и содействие Запада в контексте «европейского выбора» России. Однако наметившийся курс ведет к обособлению от передового демократического сообщества, превращению в сырьевой придаток новых индустриальных государств (Китай, Индия, страны АСЕАН), влечет за собой растущую экономико-технологическую и социально-политическую отсталость от динамично развивающегося мира.
Тем не менее диалектика этой темы такова, что под влиянием внутренних и внешних факторов в России довольно скоро может произойти перелом тенденции отката на «круги своя», поскольку такая колея абсолютно противоположна интересам развития страны и магистральному пути современной цивилизации. Осознание подобного императива есть и на самом верху. Так, президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию от 2012 года: «Для России нет и не может быть другого политического выбора, кроме демократии. При этом хочу сказать и даже подчеркнуть: мы разделяем именно универсальные демократические принципы, принятые во всем мире… Демократия – это возможность не только выбирать власть, но и постоянно эту власть контролировать…» Что касается экономического развития, президент и тут вполне недвусмысленно декларировал: «Убежден, в центре новой модели роста должна быть экономическая свобода, частная собственность и конкуренция, современная рыночная экономика, а не государственный капитализм».
Остается претворить прекрасные, хотя и совсем не новые концепции развития в жизнь. Это будет нелегко, учитывая, что сегодня Россия очень далека от провозглашенных принципов. И в то же время совершенно ясно, что откат «на круги своя» уведет страну еще дальше от заявленных идеалов. Оговорки относительно особого национального пути России к демократии сколь бесспорны, столь и тривиальны, поскольку любая другая демократическая страна шла к нынешнему положению своим путем – будь то Испания, Швеция или Япония. Декларации президента – не дань моде, а отражение единственно перспективного пути развития великой державы. А значит – скорее раньше, чем позже линия отката будет пересмотрена нынешним или будущим российским руководством.
Военное соперничество
Вероятность вооруженных конфликтов и войн между великими державами сейчас мала, как никогда ранее. Углубляющаяся в процессе глобализации экономическая и социально-информационная взаимозависимость ведущих субъектов мировой политики сделает ущерб в таком конфликте несоизмеримым с любыми политическими и иными выигрышами. Вместе с тем между ними продолжается соперничество с использованием косвенных средств и локальных конфликтов за экономическое, политическое и военное влияние на постсоветском пространстве, в ряде регионов (особенно богатых сырьем) Азии, Африки и Латинской Америки. Также имеют место попытки получения военных и военно-технических преимуществ в целях оказания политико-психологического давления на другие государства (ПРО, высокоточное обычное оружие, включая суборбитальное и гиперзвуковое).
Военная сила используется, чтобы заблаговременно «застолбить» контроль над важными географическими районами и линиями коммуникаций (Восточное Средиземноморье и Черноморье, Ормузский, Малаккский и Тайваньский проливы, Южно-Китайское море, морские трассы Индийского океана, продолжение шельфа и коммуникации Арктики и др.). Интенсивное соперничество с использованием политических рычагов и с политическими же последствиями идет на рынках поставок вооружений и военной техники (в первую очередь в странах Ближнего и Среднего Востока, Азии, Латинской Америки и Северной Африки).
Среди конфликтов великих держав наибольшую опасность представляет столкновение КНР и США из-за Тайваня. Есть вероятность обострения кризиса вокруг островов Южно-Китайского моря, в котором Соединенные Штаты поддержат страны ЮВА против Китая. В целом соперничество Вашингтона и Пекина за доминирование в АТР становится эпицентром глобального военно-политического противостояния и соревнования.
Срыв сотрудничества великих держав и альянсов в борьбе с общими угрозами безопасности (терроризм, распространение ОМУ и его носителей) вполне вообразим, и результат этого – неспособность противостоять новым вызовам и угрозам, нарастающему хаосу в мировой экономике и политике.
Относительно более вероятны конфликты между крупными региональными державами: Индией и Пакистаном, Израилем (вместе с Соединенными Штатами или без них) и Ираном, Северной и Южной Кореей. Опасность всех трех конфликтов усугубляется возможностью их эскалации вплоть до применения ядерного оружия. В этом плане наибольшую угрозу представляет военно-политическое противостояние в Южной Азии.
Локальные конфликты и миротворчество
За последнее десятилетие (2000–2012 гг.) только три из 30 крупных вооруженных конфликтов были межгосударственными (между Индией и Пакистаном, Эфиопией и Эритреей и вооруженная интервенция США в Ираке в 2003 году). Все остальные носили смешанный характер с прямым или косвенным вмешательством извне. Главная угроза международной стабильности будет и впредь проистекать из подобных всплесков насилия. Речь идет о внутренних конфликтах этнической, религиозной или политической природы в нестабильных странах, в которые будут втягиваться другие государства и блоки. При этом целью вмешательства будет как поддержка повстанцев против центрального правительства (Ливия, Сирия), так и помощь центральному правительству в подавлении вооруженной оппозиции (Ирак, Афганистан, Бахрейн). Нередко за спиной локальных конфликтующих сторон стоят крупные державы и корпорации, соперничающие за экономическое и политическое влияние, получающие доход от поставок наемников, вооружений и боевой техники.
На протяжении 1990-х гг. российские военные действовали в 15 миссиях ООН. Однако после 2000 г. участие России в международной миротворческой деятельности стало существенно сокращаться. По численности персонала в миротворческих операциях ООН Россия занимает сегодня 48-е место в мире (в 1990 г. СССР был на 18-м месте, Россия в 1995 г. – на четвертом, а в 2000 г. – на 20-м). В известной степени это стало ответом на проявления неконструктивного курса Соединенных Штатов и их союзников (военные акции против Югославии и Ирака, поддержка «бархатных революций» в Грузии, Украине и Киргизии). Кроме того, снижение миротворческой активности России объясняется тем, что в ее военной политике все больший акцент делается на противостояние и соперничество с США и НАТО. Это пока не вызвало масштабной реакции с их стороны – наоборот, на Западе всячески подчеркивается, что перспективные военные программы (ПРО, высокоточное обычное оружие) не направлены против России. Однако подспудно вызревают концепции и технические проекты, которые могут быть обращены и на противостояние с Москвой.
Несоответствие статуса и международной роли, на которые претендует Россия, и степени ее участия в миротворчестве ООН существенно ослабляет позиции державы как мирового центра силы и субъекта управления процессами международной безопасности. Заметно снижается престиж и влияние страны на мировой арене и в отношениях с другими ведущими державами и союзами, несмотря на запланированное наращивание российской военной мощи.
Военная сила нового типа
Военная сила останется инструментом политики, но в условиях глобализации, растущей экономической и гуманитарно-информационной взаимозависимости стран ее роль относительно уменьшилась по сравнению с другими («мягкими») факторами силы и национальной безопасности. К последним относятся финансово-экономический потенциал и диверсифицированные внешнеэкономические связи, инновационная динамика индустрии и прогресс информационных технологий, инвестиционная активность за рубежом, вес в международных экономических, финансовых и политических организациях и институтах.
Правда, в последние годы военная сила опять стала играть более заметную роль в качестве инструмента прямого или косвенного (через политическое давление) воздействия. Тем не менее «жесткая» военная мощь, оставаясь политическим инструментом, не способна восполнить дефицит «мягкой» силы в качестве фактора международного престижа и влияния. Даже ядерное сдерживание, гарантируя государство от угрозы прямой масштабной агрессии, имеет убывающую ценность в качестве актива, обеспечивающего престиж, статус, способность воздействия на международную безопасность.
К тому же эффективный военный потенциал – это не традиционные армии и флоты, а сила иного качества – прежде всего информационно-сетецентрического типа. Ее определяют финансово-экономические возможности государств, инновационная динамика их индустрии и прогресс информационных технологий, качество международных союзов и стран-союзников.
В применении силы будет и дальше возрастать доля быстротечных локальных военных операций и точных неядерных ударов большой дальности («бесконтактных войн»), а также действий мобильных воинских соединений и частей высокого качества подготовки и оснащенности для специальных операций. К ним относятся: оказание политического давления на то или иное государство, лишение его важных экономических или военных активов (включая атомную промышленность или ядерное оружие), применение санкций, нарушение коммуникаций и блокада.
Операции по принуждению к миру, предотвращению гуманитарных катастроф предстоят и в дальнейшем. С прогнозируемым ростом международного терроризма и трансграничной преступности соответственно будут расширяться вооруженные силы и операции по борьбе с ними. Отдельным направлением станет применение силы для предотвращения распространения ядерного оружия и пресечения доступа к нему террористов.
Реальные угрозы
Десять с лишним лет мирной передышки, которую получила Россия после второй чеченской кампании (прерванной на пять дней конфликтом с Грузией в августе 2008 г.), заканчиваются, безопасность страны может снова оказаться под угрозой, причем вполне реальной. Уход миротворческих сил ООН и контингента НАТО из Афганистана после 2014 г., скорее всего, повлечет реванш движения «Талибан» и захват им власти с последующим наступлением на Центральную Азию на севере и Пакистан на юге. Узбекистан, Таджикистан и Киргизия, а затем и Казахстан окажутся под ударом исламистов, и России придется вступить в новую продолжительную борьбу против воинственного мусульманского фундаментализма. Такая война, наряду с дестабилизацией Пакистана и последующим вовлечением Индии, превратит Центральную и Южную Азию в «черную дыру» насилия и терроризма. Эта зона расширится, если сомкнется с войной внутри и вокруг Ирака и конфронтацией Израиля с Ираном. Не исключен новый конфликт на Южном Кавказе, который перекинется на Северный Кавказ.
В ближне- и среднесрочной перспективе дестабилизация Южной и Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока и Кавказа – это самая большая реальная угроза России, в отличие от мифов, порожденных политическими, ведомственными и корпоративными интересами.
Конечно, желательно, чтобы в борьбе с этой угрозой Россия опиралась на сотрудничество с США, другими странами НАТО, Индией и Китаем. Однако в свете последних трений между великими державами это не выглядит очень вероятным. России нужно готовиться к опоре на собственные силы, и потому оптимальное распределение ресурсов становится вопросом национального выживания. Похоже, однако, что к названной угрозе Россия, как бывало нередко в ее истории, не готова ни в военном, ни в политическом отношениях, отдавая приоритет подготовке к войне с Америкой и Североатлантическим альянсом на суше, на море и в воздушно-комическом пространстве.
В развитии военной силы и систем оружия качественно нового типа Россия все более отстает от Соединенных Штатов, их союзников, а в последнее время – даже от Китая. Нет уверенности в том, что реальные (в отличие от декларативных) плоды военной реформы 2008–2012 гг. и грандиозная государственная программа перевооружения (ГПВ-2020) способны переломить эту тенденцию. Запрограммированный вал производства бронетанковой техники, боевой авиации, кораблей и подводных лодок, ракет и антиракет вовсе не обязательно выведет российские Вооруженные силы на качественно новый уровень.
Нынешняя критика этой реформы, звучащие предложения о ее коррекции в ряде случаев могут усугубить проблемы: нивелировать положительные элементы новой военной политики и возродить негативные стороны прежней системы. К последним относится увеличение срока службы по призыву, отход от контракта, призыв в армию женщин, ослабление роли объединенных стратегических командований в пользу командований видов ВС, возврат к дивизионной структуре и пр.
Делая растущий упор на ядерном сдерживании США (в т.ч. начав программу разработки новой тяжелой МБР), Россия все больше отстает в развитии информационно-управляющих систем, необходимых для боевых операций будущего, координации действий разных видов и родов войск, применения высокоточных оборонительных и наступательных неядерных вооружений. Развертывая малоэффективную воздушно-космическую оборону против НАТО, Россия не обретет надежной защиты от ракетных и авиационных ударов безответственных режимов и террористов с южных азимутов.
Наращивание атомного подводного флота и прожекты строительства атомных авианосцев могут подорвать возможность ВМФ в борьбе с браконьерством, пиратством, контрабандой (наркотиков, оружия, материалов ОМУ), поддержания контроля над морскими коммуникациями и экономическими зонами. Российские ВВС будут обновляться многочисленными типами боевых самолетов, для которых нет дальнобойных высокоточных средств ударов извне зон ПВО противника. Новая бронетехника сухопутных войск не имеет эффективной противоминной защиты, а ракетно-артиллерийские системы не обладают достаточной дальностью и точностью стрельбы.
Поддерживая большую по численности (1 млн человек) и паркам оружия армию, Россия катастрофически проигрывает в стратегической мобильности, которая необходима ввиду размера ее собственной территории и прилегающих зон ответственности в СНГ/ОДКБ. Готовясь к масштабным региональным войнам в Европе, страна демонстрирует низкую эффективность в неожиданных быстротечных локальных конфликтах (как в августе 2008 года). Внедрению новых сложных систем оружия и боевой техники, методам ведения интенсивных операций не соответствует план сохранения более 30% личного состава на базе призывников с 12-месячным сроком службы.
Все это может подорвать возможности России по эффективному применению силы в вероятных конфликтах на южных и восточных рубежах страны, в дальнем зарубежье для миротворческих задач и борьбы с угрозами нового типа. Россия в очередной раз рискует потратить огромные ресурсы, готовясь к прошлым войнам, и окажется неприспособленной к реальным вооруженным конфликтам будущего.
Реформа и техническое перевооружение армии и флота в огромной мере диктуются ведомственными и корпоративными интересами, мотивами символического характера (тяжелая МБР уязвимого шахтного базирования, новый дальний бомбардировщик, истребитель пятого поколения, авианосцы и пр.). Объявляются заведомо нереальные планы технического переоснащения, невыполнение которых в очередной раз повредит национальному престижу. Но есть опасность, что даже реализованная модернизация Вооруженных сил повлечет огромные затраты и накопление гор ненужных вооружений и военной техники, но, вопреки надеждам Сергея Караганова, не обеспечит «парирование вызовов безопасности и подкрепление международно-политического статуса России…», не возвратит ей «роль ключевого гаранта международной безопасности и мира».
Ядерное оружие
За прошедшие два десятилетия после окончания холодной войны запасы этого оружия в количественном отношении сократилось практически на порядок – как в рамках договоров между Россией и США, так и за счет их (а также Британии и Франции) односторонних мер. Однако число стран – обладательниц ЯО увеличилось с семи до девяти (в дополнение к «ядерной пятерке» и Израилю ядерное оружие создали Индия, Пакистан и КНДР, а ЮАР отказалась от него).
Отметим, что за сорок лет холодной войны вдобавок к Соединенным Штатам возникло шесть ядерных государств (семь, если считать атомное испытание Индии в 1974 году). А за 20 лет после холодной войны образовалось еще три ядерных государства (два, если не считать Индию). Добровольно или насильно ядерного оружия либо военных ядерных программ лишились девять стран: Ирак, Ливия, Сирия, ЮАР, Украина, Казахстан, Белоруссия, Бразилия, Аргентина. Более 40 государств присоединилось к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая две ядерные державы (Франция и КНР). В 1995 г. ДНЯО стал бессрочным и самым универсальным международным документом помимо Устава ООН – за его рамками остаются всего четыре страны мира. Таким образом, вопреки общепринятому заблуждению, темпы распространения ЯО после холодной войны снизились. Но они могут резко ускориться в будущем в зависимости от решения проблемы Ирана.
В период холодной войны главным дипломатическим способом предотвращения ядерной катастрофы было ядерное разоружение (СССР и США), а нераспространение играло подчиненную роль. Теперь основным направлением становится ядерное и ракетное нераспространение, а разоружение все больше выполняет функцию вспомогательного стимула и условия сотрудничества великих держав.
Практически все государства признают, что распространение ядерного оружия, критических материалов и технологий превратилось в серьезнейшие новые угрозы международной безопасности XXI века. Однако приоритетность их в восприятии разных держав не одинакова. Так, Соединенные Штаты ставят их на первое место, а Россия отдает приоритет опасности глобализации операций и расширения военной инфраструктуры и контингентов НАТО вблизи российских границ, созданию систем стратегической противоракетной обороны, милитаризации космического пространства, развертыванию стратегических неядерных систем высокоточного оружия. А распространение ядерного оружия и терроризм, с точки зрения Москвы, расположены намного ниже в списке военных опасностей. Указанная асимметрия в восприятии безопасности во многом проистекает из исторической специфики условий и последствий окончания холодной войны. Но она ощутимо затрудняет сотрудничество в борьбе с новыми угрозами.
В обозримый период прогнозируется значительный абсолютный рост атомной энергетики, который имеет самое непосредственное отношение к вероятности распространения ЯО. Всего в мире (по данным на апрель 2011 г.) эксплуатируется 440 энергетических реакторов, строится – 61, запланировано – 158, предложены проекты – 326. К новым угрозам, сопряженным с атомной энергетикой, относится стирание грани между «военным» и «мирным атомом», прежде всего через технологии ядерного топливного цикла. Расширение круга государств – обладателей атомных технологий двойного назначения и запасов ядерных материалов создает в обозримой перспективе новый тип «виртуального распространения» по иранской модели. А именно: формально оставаясь в ДНЯО и под контролем МАГАТЭ, страны могут подойти к «ядерному порогу», т.е. иметь и материалы, и технологии для быстрого (несколько месяцев) перехода к обладанию ядерным оружием.
Таким образом, при глубоком общем сокращении мировых ядерных арсеналов происходит процесс перераспределения военного и мирного «ядерного фактора» с центрального и глобального на региональный уровень отношений третьих стран между собой и с великими державами. Еще большая угроза связана с приобретением ядерных материалов террористическими организациями (например, «Аль-Каидой»), которые могут использовать их в актах «катастрофического терроризма».
Роль ядерного сдерживания в обеспечении безопасности великих держав будет и далее снижаться, вопреки нынешним попыткам России придать ему более значительную роль и несмотря на тупиковую ситуацию в ядерном разоружении. Во-первых, это снижение обусловлено уменьшением вероятности большой войны, тогда как в противодействии другим угрозам роль ЯО весьма сомнительна. Во-вторых, не очевидна эффективность сдерживания против возможных новых стран – обладателей ЯО в силу их политико-психологических и военно-технических особенностей. Тем более ядерное сдерживание не может пресечь действия ядерных террористов. В-третьих, ядерное оружие утрачивает свой статусный характер, все более становясь «оружием бедных» против превосходящих обычных сил противников.
Среди всех крупнейших держав Россия из-за своего геополитического положения, новых границ и внутренней ситуации подвергается наибольшей угрозе ядерного удара в случае распространения ЯО в странах Евразии, как и наибольшей опасности атомного терроризма. Поэтому Москва, по идее, должна была бы стать лидером в ужесточении режимов ядерного и ракетного нераспространения, сделать эти задачи приоритетом своей стратегии безопасности. Однако на практике такая тема стоит отнюдь не на первом месте.
Вопреки расхожим доводам о том, что ядерное разоружение не влияет на нераспространение, которые приводятся вот уже много десятилетий, опыт 1990-х гг. лучше всяких теорий демонстрирует такую взаимосвязь. Самые крупные прорывы в разоружении и мерах укрепления нераспространения имели место в 1987–1998 годах. Негативный опыт 1998–2008 гг. по-своему тоже подтвердил такую взаимосвязь доказательством «от обратного».
Новый Договор по СНВ между Россией и Соединенными Штатами, подписанный в апреле 2010 г. в Праге, возобновил прерванный на десятилетие процесс договорно-правового взаимодействия двух ядерных сверхдержав в сокращении и ограничении вооружений. Благодаря этому относительно успешно в том же году прошла Обзорная конференция по рассмотрению ДНЯО. Объективно Москва и Вашингтон должны быть заинтересованы в дальнейшем взаимном понижении потолков СНВ. Этого требуют как необходимость укрепления режима ядерного нераспространения, так и возможность экономии средств России и США на обновление стратегических арсеналов в 2020–2040 годах. Из всех третьих ядерных держав препятствием этому может стать только Китай ввиду полной неопределенности относительно его нынешних и будущих ядерных сил и огромного экономико-технического потенциала их быстрого наращивания.
Однако в государственных структурах и политических элитах двух держав эти идеи пока не обрели широкой опоры. После 2010 г. камнем преткновения стал вопрос сотрудничества России и Соединенных Штатов (НАТО) в создании ПРО в Европе для защиты от ракетной угрозы третьих стран (прежде всего Ирана).
Новейшие высокоточные вооружения
Окончание холодной войны, процессы распространения ракет и ядерного оружия, технический прогресс повлекли переоценку роли противоракетной обороны в военной политике и военном строительстве США. Их программы переориентировались на неядерный, контактно-ударный перехват (один из успешных проектов СОИ) для защиты от ракетных ударов третьих стран и, возможно, по умолчанию – от ракетно-ядерных сил Китая. Россия восприняла это как угрозу своему потенциалу сдерживания в контексте двустороннего стратегического баланса. С задержкой на несколько лет она последовала данному военно-техническому примеру со своей программой Воздушно-космической обороны (ВКО), но открыто с целью защиты не от третьих стран, а от средств воздушно-космического нападения Соединенных Штатов.
Современный этап характеризуется тем, что, потерпев неудачу в согласовании совместной программы ПРО, стороны приступили к разработке и развертыванию собственных систем обороны национальной территории (и союзников). В обозримый период (10–15 лет) американская программа с ее глобальными, европейскими и тихоокеанскими сегментами предоставит возможность перехвата единичных или малочисленных групповых ракетных пусков третьих стран (и, вероятно, при определенном сценарии – Китая). Но она не создаст сколько-нибудь серьезной проблемы для российского потенциала ядерного сдерживания. Точно так же российская программа ВКО, которая по ряду официально заявленных параметров превосходит программу США/НАТО, не поставит под сомнение ядерное сдерживание со стороны Соединенных Штатов. Этот вывод справедлив как для стратегического баланса держав в рамках нового Договора СНВ от 2010 г., так и для гипотетической вероятности снижения его потолков примерно до тысячи боезарядов при условии поддержания достаточной живучести стратегических сил обеих сторон.
Парадокс нынешней ситуации состоит в том, что Россия гораздо более уязвима для ракетной угрозы третьих стран, чем США, но при этом всецело ориентирована на двусторонний стратегический баланс, возможные опасности его дестабилизации и получения Соединенными Штатами военно-политического превосходства. Кроме того, нельзя не признать, что непомерное преувеличение вероятного влияния американской ПРО на российский потенциал сдерживания имеет внутриполитические причины. Вместе с тем нужно подчеркнуть, что в диалоге с Россией в 2006–2008 гг. и 2010–2011 гг. Вашингтон не проявлял достаточной гибкости и понимания того, что единство с Россией по проблемам нераспространения намного важнее тех или иных технико-географических параметров программы ПРО.
Несмотря на неудачу в налаживании сотрудничества России и НАТО в области противоракетной обороны, в обозримый период будут возрастать как императивы, так и объективные возможности такого взаимодействия. Продолжается развитие ракетных технологий Ирана, КНДР, Пакистана и других государств, отличающихся внутренней нестабильностью и вовлеченностью во внешние конфликты. Одновременно ускоряется распространение технологий и систем ПРО, которые до недавнего времени имелись только у СССР/России и США. Национальные и международные программы ПРО разрабатываются в рамках НАТО, в Израиле, Индии, Японии, Южной Корее, Китае. Эта тенденция, несомненно, является крупнейшим долгосрочным направлением мирового военно-технического развития.
Важнейшей тенденцией (где лидером тоже выступают Соединенные Штаты) является подготовка высокоточных ударных ракетных средств большой дальности в неядерном оснащении, опирающихся на новейшие системы управления и информационного обеспечения, в том числе космического базирования. В обозримой перспективе вероятно создание частично-орбитальных, ракетно-планирующих высокоточных ударных систем.
Ядерное сдерживание в обозримом будущем, скорее всего, останется важным элементом стратегических отношений великих держав и гарантий безопасности их союзников. Но его относительное значение станет уменьшаться по мере появления неядерных высокоточных оборонительных и наступательных систем оружия. В том числе возрастет роль этих новых систем в отношениях взаимного сдерживания и стратегической стабильности между ведущими державами.
Поскольку сдерживание предполагает нацеливание на комплекс объектов другой стороны, постольку обычные системы будут впредь способны частично замещать ядерные вооружения. Важно, однако, чтобы это не создавало иллюзии возможности «экологически чистого» разоружающего удара. Во взаимных интересах устранить такую вероятность как посредством ПРО/ПВО и повышения живучести ядерных сил, так и путем соглашений по ограничению вооружений (прецедент создан новым Договором СНВ, по которому баллистические ракеты с обычными боеголовками засчитываются наравне с ядерными ракетами).
Силы общего назначения
Процесс сокращения ядерного оружия, особенно оперативно-тактического назначения, неизбежно упирается в проблему ограничения и сокращения обычных вооруженных сил и вооружений. Некоторые ядерные и «пороговые» государства (Россия, Пакистан, Израиль, КНДР, Иран) могут рассматривать ядерное оружие как «универсальный уравнитель» превосходства вероятных противников по обычным вооружениям и вооруженным силам общего назначения (СОН).
В настоящее время есть два больших договора по СОН. Это Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ от 1990 г. и Адаптированный ДОВСЕ – АДОВСЕ от 1999 г.) и Договор об ограничении вооруженных сил и вооружений в зоне советско-китайской границы (от 1990 года). Еще есть Договор открытого неба (1992 г.) для Евроатлантического пространства, позволяющий контролировать с воздуха деятельность вооруженных сил стран-участниц, а также Венский документ (2011 г.) по обмену военной формацией в зоне ОБСЕ. Они воплотили идею стратегической стабильности применительно к силам общего назначения, ограничив на паритетной основе количество наступательных тяжелых вооружений и военной техники и уменьшив их концентрацию в зоне соприкосновения союзных вооруженных сил. В рамках этих договоров масштабное нападение сторон друг на друга стало невозможно не только в политическом, но и в военном плане.
Поскольку страны НАТО необоснованно затянули ратификацию АДОВСЕ, Россия в 2007 г. объявила мораторий на его соблюдение. Тупик был закреплен кавказским конфликтом 2008 года. В 2011 г. Договор формально перестали соблюдать страны НАТО. Никаких политических дивидендов ни одна из сторон не получила – только проигрыши. Данный пример (как и выход США из Договора по ПРО в 2002 г.) должен послужить уроком всем, кто склонен лихо и безответственно обращаться с документами об ограничении вооружений.
Удовлетворяющего все стороны решения проблемы в ближайшее время не просматривается именно в силу политических, а не военных факторов: проблем статуса Южной Осетии и Абхазии (независимость которых признали только Россия, Венесуэла и Никарагуа). Но в перспективе всеобщая ратификация Адаптированного ДОВСЕ с рядом существенных поправок стала бы огромным прорывом в укреплении европейской безопасности.
Периодические кампании об «угрозе» Запада или России, подстегиваемые крупными военными учениями, показали, что большие военные группировки не могут просто мирно соседствовать и «заниматься своими делами», если стороны не являются союзниками и не развивают военное сотрудничество. Политические процессы и события, военно-технический прогресс регулярно дают поводы для обострения напряженности.
В частности, если Россия всерьез обеспокоена военными последствиями расширения НАТО, то АДОВСЕ эффективно решает эту проблему с некоторыми поправками. Важнейшим стимулом достижения соглашения может стать начало диалога по ограничению нестратегического ядерного оружия, в котором заинтересованы страны НАТО – но на условиях, реализуемых на практике и приемлемых для Российской Федерации.
* * *
Исходя из вышеизложенного, общую схему стратегии укрепления российской безопасности на обозримый период можно представить следующим образом:
Первое: разумная и экономически посильная военная реформа и техническое переоснащение Вооруженных сил России для сдерживания и парирования реальных, а не надуманных военных угроз и не для того, чтобы, по словам Сергея Караганова, «компенсировать относительную слабость в других факторах силы – экономических, технологических, идейно-психологических». Во-первых, такой компенсации не получится, скорее указанная слабость будет усугублена. Во-вторых, без наращивания других факторов силы не удастся создать современную и эффективную оборону, отвечающую военным вызовам и тем самым укрепляющую престиж и статус России в мире, ее позиции по обеспечению международной безопасности, ограничению и сокращению вооружений.
Второе: сотрудничество великих держав и всех ответственных государств в предотвращении и урегулировании локальных и региональных конфликтов, в борьбе с международным терроризмом, религиозным и этническим экстремизмом, наркобизнесом и другими видами трансграничной преступности. Прекращение произвола больших держав в применении силы, и в то же время существенное повышение эффективности легитимных международных норм и институтов для проведения таких операций, когда они действительно необходимы.
Третье: взаимодействие в пресечении распространения ядерного оружия и других видов ОМУ и его носителей, опасных технологий и материалов. Укрепление норм и институтов ДНЯО, режимов экспортного контроля, ужесточение санкций к их нарушителям.
Четвертое: интенсификация переговоров по ограничению и сокращению ядерных вооружений, стратегических средств в неядерном оснащении, включая частично-орбитальные системы, придание этому процессу многостороннего формата, сотрудничество великих держав в создании систем ПРО.

Можно ли поправить дела Америки?
Новый кризис демократии
Фарид Закария – ведущий программы Fareed Zakaria GPS на CNN, колумнист журнала Time и автор книги «Постамериканский мир». Его микроблог в Twitter @FareedZakaria.
Резюме: Западным демократиям угрожает не смерть, а склероз. Грозные симптомы, с которыми они столкнулись, – бюджетная гипертония, политический паралич, демографический стресс – скорее указывают на недостаточный рост, нежели на крах.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, №1, 2013 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
В ноябре американский избиратель, уставший от Вашингтона и его политических тупиков, проголосовал за то, чтобы не менять прежнее распределение власти – оставив президента Барака Обаму на второй срок и вернув демократический Сенат и республиканскую Палату представителей. Как только предвыборная неопределенность рассеялась, внимание быстро переключилось на то, как конгрессмены будут решать надвигающийся кризис так называемого «фискального обрыва» – ожидаемое в конце года повышение налогов и сокращение госрасходов, предусмотренное принятым ранее законом.
Пока США медленно, но верно поднимаются со дна финансового кризиса, никто в действительности не готов к тому, чтобы пакет масштабных мер экономии стал шоковым ударом и привел к рецессии, поэтому высоки шансы, что бюджетная игра прекратится в шаге от катастрофы.
Однако за «обрывом» зияет глубокая пропасть, представляющая еще более серьезный вызов – необходимость преобразования экономики, общества и системы власти в стране, чтобы привести Соединенные Штаты в соответствие с требованиями XXI века. Сейчас Вашингтон сосредоточен на налогах и сокращении расходов, в то время как его основной задачей должны быть реформы и инвестиции. США, помимо прочего, требуются существенные перемены в фискальной, социальной, инфраструктурной, иммиграционной и образовательной сфере. Однако поляризованный и часто парализованный истеблишмент откладывает проблемы на будущее, в результате их решение становится еще более сложным и дорогостоящим.
Исследования показывают, что обострение политических разногласий в Вашингтоне достигло максимума за весь период истории после Гражданской войны. Дважды за последние три года ведущая мировая держава – обладающая крупнейшей экономикой, мировой резервной валютой и доминирующей ролью во всех международных институтах – была близка к экономическому самоубийству. Американская экономика остается предельно динамичной. Но пока неясно, способна ли политическая система осуществить изменения, которые обеспечат устойчивый успех в мире глобальной конкуренции и технологических новаций. Иными словами, являются ли нынешние трудности реальным кризисом демократии?
Эта фраза как будто где-то встречалась. К середине 1970-х гг. страны Запада поразила стагнация, до небес подскочила инфляция. Вьетнам и Уотергейт подорвали доверие к политическим институтам и лидерам, а активисты общественных движений бросали вызов истеблишменту со всех сторон. В 1975 г. в докладе Трехсторонней комиссии под названием «Кризис демократии» известные эксперты из США, Европы и Японии утверждали, что демократические правительства индустриального мира просто утратили способность выполнять свои функции, столкнувшись с валом проблем. Раздел по Соединенным Штатам, написанный политологом Сэмюэлом Хантингтоном, выглядел особенно мрачным.
Мы знаем, что произошло дальше: за несколько лет инфляцию удалось укротить, возобновился рост экономики, а доверие было восстановлено. Спустя еще 10 лет рухнул коммунизм и Советский Союз, а вовсе не капитализм и Запад. Вот такой урок пессимистам.
И вот по прошествии более двух десятилетий развитые индустриальные демократии вновь окутаны мраком. В Европе экономический рост остановился, единая валюта под угрозой и уже поговаривают о возможном скором распаде Евросоюза. В Японии за 10 лет сменились семь премьер-министров – политическая система расколота, экономика переживает стагнацию, стране грозит упадок. Но Соединенные Штаты, учитывая их роль в мире, вызывают, возможно, наибольшую обеспокоенность.
Действительно ли наступил новый кризис демократии? Большинство американцев, по-видимому, думают именно так. Недовольство политиками и органами власти гораздо серьезнее, чем в 1975 году. По данным опросов Центра исследований американских национальных выборов (ANES), в 1964 г. 76% американцев солидаризировались со следующим утверждением: «Вы согласны с тем, что правительство в Вашингтоне делает то, что нужно, почти всегда или большую часть времени». К концу 1970-х гг. эта цифра упала до чуть более 40%. В 2008 г. таких респондентов было 30%, в январе 2010 г. – только 19%.
Эксперты склонны рассматривать нынешние вызовы чересчур апокалиптически. Возможно, эти проблемы тоже удастся преодолеть, и Запад будет двигаться дальше, пока, спустя поколение, не столкнется с очередным набором вызовов, которые кому-то вновь захочется драматизировать. Но возможно и то, что общественные настроения небеспочвенны. Стало быть, кризис демократии никогда не прекращался, его просто удавалось маскировать благодаря временным решениям; наконец, были и короткие передышки. Сегодня масштабы проблем возросли, а американская демократия функционирует с огромным трудом и обладает гораздо меньшим авторитетом, чем когда-либо ранее, и у нее значительно меньше рычагов, чтобы воздействовать на глобализированную экономику. На этот раз пессимисты могут оказаться правы.
Злободневные тенденции
Предсказания середины 1970-х гг. о скором конце западной демократии не оправдались благодаря трем крупным экономическим трендам: спаду инфляции, информационной революции и глобализации. Тогда мир был измучен инфляцией, ее уровень варьировался от небольших двузначных показателей в таких странах, как США и Великобритания, до 200% в Бразилии и Турции. В 1979 г. Пол Волкер стал председателем правления Федеральной резервной системы, и в течение нескольких лет ему удалось справиться с инфляцией в Америке. Центральные банки по всему миру стали следовать примеру ФРС, и вскоре инфляция повсюду пошла на спад.
Технологические прорывы происходили на протяжении веков, но начиная с 1980-х гг. повсеместное использование компьютеров, а затем интернета привело к трансформации всех аспектов экономики. Информационная революция обусловила увеличение производительности и экономический рост в Соединенных Штатах и других странах, при этом революция стала перманентным явлением.
К концу 1980-х гг. рухнул, а затем распался Советский Союз – отчасти оттого, что информационная революция сделала закрытые экономики и общества еще более отстающими. Это позволило западной системе взаимосвязанных свободных рынков и обществ охватить большую часть мира – процесс, получивший название «глобализация». Страны с командной или плановой экономикой и обществом открылись и приняли участие в едином глобальном рынке, что придало дополнительную энергию им самим и системе в целом. В 1979 г. в 75 государствах наблюдался экономический рост на уровне не менее 4% в год; в 2007 г., накануне финансового кризиса, число таких стран увеличилось до 127.
Эти тенденции разрушили Восток, но и принесли пользу Западу. Низкая инфляция и информационная революция позволили западным экономикам расти быстрее, а глобализация открыла обширные рынки дешевой рабочей силы, которые захватывались западными компаниями и использовались ими для продажи своей продукции. В результате американцы вновь обрели уверенность на фоне экспансии глобальной экономики во главе с США, лидерство которых не оспаривалось. Однако спустя поколение крах Советского Союза остается далеко в прошлом, низкая инфляция является нормой, а дальнейшее развитие глобализации и информационных технологий теперь приносит Западу в равной мере новые возможности и новые проблемы.
Например, рабочие места и зарплаты американцев оказались под нарастающим давлением. В 2011 г. исследование Глобального института McKinsey (MGI) показало, что с конца 1940-х гг. по 1990 г. периоды экономического спада и восстановления в США следовали простой схеме. Сначала ВВП возвращался на показатели до спада, затем, шесть месяцев спустя (в среднем), восстанавливался и уровень занятости. Впоследствии эта схема была нарушена. После спада начала 1990-х гг. занятость вернулась на прежний уровень только через 15 месяцев после восстановления ВВП. В начале следующего десятилетия на это потребовалось уже 39 месяцев. А на сегодняшний день следует, по-видимому, ожидать, что уровень занятости вернется к прежним показателям через 60 месяцев – пять лет – после восстановления ВВП. Те же самые тенденции, которые способствовали росту в прошлом, сейчас обусловили новую ситуацию, когда число безработных растет, а зарплаты падают.
Волшебные деньги
Полномасштабный рост, отмеченный после Второй мировой войны, замедлился в середине 1970-х гг. и полностью так и не восстановился. Федеральный резервный банк Кливленда недавно отметил, что реальный рост ВВП Соединенных Штатов, достигший пика в начале 1960-х гг. на уровне выше 4%, упал ниже 3% в конце 1970-х гг., немного восстановился в 1980-е гг., а затем продолжил падать до нынешних 2%. В то же время средние доходы лишь немного увеличились за последние 40 лет. Вместо того чтобы решать ключевые проблемы или снижать прожиточный минимум, США наращивают госдолг. С 1980-х гг. американцы потребляют больше, чем производят, а разницу компенсируют за счет займов.
Президент Рональд Рейган пришел к власти в 1981 г. как монетарист и адепт Милтона Фридмана, выступая за уменьшение роли государства и сбалансированный бюджет. Но на деле он проводил кейнсианскую политику, продвигая существенное снижение налогов и невероятно увеличивая оборонные расходы. (Снижение налогов – это так же по-кейнсиански, как государственные расходы; в обоих случаях происходит закачка денег в экономику и увеличение совокупного спроса.) Когда Рейган уходил с поста президента, федеральные расходы с учетом инфляции были на 20% выше, чем на момент его вступления в должность, а дефицит федерального бюджета резко подскочил. На протяжении 20 лет до Рейгана дефицит не превышал 2% от ВВП. В течение двух президентских сроков Рейгана он в среднем был выше 4% от ВВП. Кроме короткого периода в конце 1990-х гг., когда администрация Клинтона фактически добилась профицита, дефицит федерального бюджета с тех пор все время оставался на отметке выше 3%; сейчас он составляет 7%.
Джон Мейнард Кейнс советовал правительствам тратить деньги во время спадов и экономить во время бумов. В последние десятилетия правительствам с трудом удавалось экономить в любой период. Они доводили бюджет до дефицита и при спадах, и при бумах. ФРС удерживала ставки на низком уровне и в плохие, и в хорошие времена. Легко обвинять политиков в подобном одностороннем кейнсианстве, но ответственность лежит и на обществе. Опрос за опросом американцы озвучивали свои предпочтения: они хотят низких налогов и больше помощи от государства. Удовлетворить обе потребности одновременно возможно только при помощи волшебного средства, и оказалось, что оно есть – дешевые кредиты. Федеральное правительство активно занимало, то же самое делали другие органы власти – на уровне штатов, местном и муниципальном уровнях – и сами американцы. Долг домохозяйств вырос с 665 млрд долларов в 1974 г. до 13 трлн долларов сегодня. В этот период потребление благодаря дешевым кредитам шло вверх и уже не снижалось.
Другие богатые демократии следовали тем же путем. В 1980 г. совокупный госдолг США составлял 42% от ВВП; сейчас – 107%. За тот же период сопоставимые цифры в Великобритании возросли с 46% до 88%. В большинстве европейских стран (включая известную своей бережливостью Германию) соотношение долга к ВВП составляет около 80%, в Греции и Италии оно значительно выше. В 1980 г. совокупный госдолг Японии составлял 50% от ВВП, сейчас – 236%.
Мир перевернулся с ног на голову. Раньше считалось, что развивающимся странам не избежать долгового бремени, поскольку им придется активно занимать, чтобы финансировать свой быстрый рост при низком уровне доходов. Богатые же страны, растущие не так быстро при высоком уровне доходов, будут иметь небольшой долг, обладая при этом значительно большей стабильностью. Но взгляните на нынешнюю G20 – группу, включающую крупнейшие страны развитого и развивающегося мира. Среднее соотношение долга к ВВП в развивающихся странах – 35%, в богатых странах оно более чем в три раза выше.
Реформы и инвестиции
Когда западные правительства и такие международные организации, как МВФ, дают развивающимся странам советы, как стимулировать рост, они почти всегда выступают за структурные реформы, которые откроют сектора их экономики для конкуренции, обеспечат свободное перемещение трудовых ресурсов, положат конец бесполезным экономически неэффективным государственным субсидиям и позволят сосредоточить госрасходы на инвестициях, способствующих росту. Однако, столкнувшись с подобными проблемами у себя дома, те же самые западные страны не пожелали воспользоваться собственными рекомендациями.
Дискуссии о том, как восстановить рост в Европе, в основном вращаются вокруг мер экономии, плюсов и минусов сокращения дефицита. Экономия явно не работает, очевидно, что при долговом бремени уже почти на уровне 90% от ВВП европейские страны просто не смогут найти выход из кризиса. На самом деле им необходимы масштабные структурные реформы, направленные на повышение конкурентоспособности в сочетании с инвестициями в будущий рост.
Не в последнюю очередь благодаря обладанию мировой резервной валютой Соединенные Штаты имеют значительно больше пространства для маневра, чем Европа. Но и им необходимы изменения. В США гигантский Налоговый кодекс, который, если соединить все правила и нормы, составляет 73 тыс. страниц; сложнейшая система судебных тяжб и безумное количество нормативных актов федерального правительства, штатов и местных органов власти. Над финансовыми учреждениями то и дело осуществляют надзор пять или шесть федеральных агентств, а также 50 групп агентств от штатов, полномочия которых постоянно пересекаются.
Вопрос о реформах очень важен, а об инвестициях просто не терпит отлагательства. В ежегодном исследовании конкурентоспособности Всемирный экономический форум (ВЭФ) постоянно дает Америке низкие оценки по налоговой политике и регулированию, а в 2012 г. Соединенные Штаты, например, оказались на 76-м месте по «бремени государственного регулирования». Но, несмотря на все трудности, американская экономика остается одной из самых конкурентоспособных в мире и в общем рейтинге занимает 7-е место – небольшое снижение за пять лет. По инвестициям в человеческий и физический капитал США, напротив, потеряли очень много. Десять лет назад ВЭФ ставил американскую инфраструктуру на 5-е место в мире, сейчас – на 25-е, и падение продолжается. В прошлом Соединенные Штаты являлись мировым лидером в процентном отношении по количеству выпускников колледжей, сейчас они находятся только на 14-м месте. Федеральное финансирование исследований и разработок в процентах от ВВП сократилось вдвое по сравнению с 1960 г., в то время как в Китае, Сингапуре и Южной Корее эти показатели растут. Государственная университетская система США – когда-то главная ценность государственного образования – сейчас страдает от урезания бюджета.
В современной истории Америки можно обнаружить корреляции между инвестициями и ростом. В 1950–1960-е гг. федеральное правительство ежегодно тратило более 5% от ВВП на инвестиции, и в экономике наблюдался бум. В последние 30 лет правительство уменьшало расходы; сейчас федеральные инвестиции составляют около 3% от ВВП в год, и рост стал едва заметным. Как отмечает нобелевский лауреат экономист Майкл Спенс, Соединенным Штатам удалось выбраться из Великой депрессии не только благодаря огромным расходам на Вторую мировую войну, но и вследствие сокращения потребления и наращивания инвестиций. Американцы уменьшили расходы, увеличили сбережения и стали приобретать облигации военного займа. Подобный скачок государственных и частных инвестиций обеспечил послевоенный рост. Чтобы стимулировать новый рост, потребуются сопоставимые инвестиции.
Проблемы реформ и инвестиций тесно переплетаются между собой и приобретают особую остроту в случае с инфраструктурой. В 2009 г. Американское общество гражданских инженеров дало инфраструктуре оценку «D» (ниже среднего) и подсчитало, что ремонт и обновление обойдутся в 2 трлн долларов. Цифра может быть завышена (инженеры крайне заинтересованы в этом вопросе), но все исследования показывают то, что видит любой путешествующий по США: страна остро нуждается в обновлении. Отчасти это проблема разрушающихся мостов и автотрасс, но не только. Американская система управления воздушным транспортом устарела и требует усовершенствования стоимостью 25 млрд долларов. Энергосеть обветшала и часто выходит из строя, поэтому многие семьи вынуждены покупать собственные электрогенераторы – классический символ статуса в странах развивающегося мира. Питьевая вода подается по изношенным, подтекающим трубам, а системы сотовой связи и широкополосного интернета работают очень медленно по сравнению с другими развитыми странами. В итоге мы получаем замедление роста. И чем дольше будет откладываться решение этих проблем, тем дороже они обойдутся, как обычно бывает с отложенным ремонтом.
Однако расходы на инфраструктуру вряд ли можно считать панацеей, так как без тщательного планирования и контроля они могут оказаться неэффективными и бесполезными. Конгресс выделяет деньги на инфраструктурные проекты, руководствуясь политическими мотивами, а не факторами необходимости и ожидаемой отдачи. Изящным решением проблемы мог бы стать национальный инфраструктурный банк, учрежденный на деньги государства и частного капитала. Он позволил бы минимизировать излишнюю суету и бесполезные траты, поскольку отбор проектов производился бы согласно их достоинствам – технократами, а не по тому, насколько лаком кусок – политиками. Разумеется, сама идея томится в Конгрессе, несмотря на некоторую поддержку видных деятелей обеих партий.
То же касается финансовой реформы: проблема не в отсутствии хороших идей и их технической реализации, а в политике. Политики, заседающие в комитетах по надзору за сегодняшней стихией неэффективных агентств, довольны уже тем, что могут получать от финансовой индустрии деньги на свои предвыборные кампании. Сложившаяся ныне система лучше работает как механизм финансирования избирательных кампаний, а не как инструмент финансового контроля.
В 1979 г. социолог Эзра Фогель опубликовал книгу под названием «Япония как номер один», предсказав радужное будущее поднимавшейся тогда азиатской державе. Когда The Washington Post недавно задалась вопросом, почему эти прогнозы оказались так далеки от реальности, Фогель указал на то, что японская экономика была отлично развитой и продвинутой, но он не мог представить, что политическая система станет таким серьезным препятствием и позволит откатиться назад.
Фогель прав, подчеркивая, что проблема в политике, а не в экономике. Все развитые индустриальные экономики не лишены недостатков, но обладают значительной силой, в особенности когда речь идет о Соединенных Штатах. Однако они достигли стадии развития, при которой устаревшая политика, структуры и методы работы должны быть изменены или отброшены. Как отмечал экономист Манкур Олсон, проблема в том, что существующая политика выгодна группам интересов, которые яростно защищают статус-кво. Реформы потребуют от правительств поставить национальные интересы выше узкой выгоды, а это невероятно сложно в условиях демократии.
Политическая демография
За редким исключением, развитые индустриальные демократии потратили последние десятилетия, пытаясь держать под контролем или просто игнорируя свои проблемы, вместо того чтобы серьезно взяться за их решение. Скоро выбора уже не будет, поскольку к кризису демократии добавится кризис демографии.
Индустриальный мир стареет невиданными в истории человечества темпами. Япония впереди планеты всей: по прогнозам, к концу столетия население сократится с нынешних 127 млн до 47 миллионов. Европа не слишком от нее отстает, Италия и Германия следуют непосредственно за Японией. Исключением остаются только Соединенные Штаты как единственная развитая индустриальная держава, не знакомая с демографическим спадом. Благодаря иммиграции и несколько более высокому уровню рождаемости население США, по прогнозам, возрастет до 423 млн к 2050 г., в то время как, скажем, в Германии население может сократиться до 72 млн. Однако благоприятная демографическая ситуация нивелируется более дорогими программами социального обеспечения пенсионеров, особенно в сфере здравоохранения.
В качестве иллюстрации начнем с соотношения граждан трудоспособного возраста и населения старше 65 лет. Это поможет определить, какая часть дохода трудоспособного населения распределяется государством в виде пенсий. В Америке сегодня на каждого пенсионера приходится 4,6 работающих. Через 25 лет показатель упадет до 2,7. Этот сдвиг существенно изменит и без того тревожную ситуацию. Сейчас ежегодные расходы на две основные программы соцобеспечения пожилых американцев – Social Security и Medicare – превышают 1 трлн долларов. Рост этих расходов опережал инфляцию в прошлом, и, вероятно, эта тенденция сохранится в ближайшем будущем, несмотря на вступление в силу Закона о доступном медицинском обслуживании. Прибавьте все остальные социальные программы – и, как подсчитал демограф Николас Эберстадт, в итоге вы получите 2,2 трлн долларов – по сравнению с 24 млрд долларов полвека назад. Почти стократное увеличение.
Какими бы полезными ни были эти программы, США просто не могут их себе позволить, учитывая нынешние тенденции, поскольку на них уходит большая часть федеральных расходов. В детальном исследовании финансовых кризисов под названием «На этот раз все будет иначе» экономисты Кармен Рейнхарт и Кеннет Рогофф утверждают, что страны с соотношением долга к ВВП 90% и более практически не способны поддерживать рост и стабильность. И это положение продлится до тех пор, пока нынешние социальные обязательства не будут каким-то образом реформированы. В частности, если не будут сокращены затраты на здравоохранение, сложно представить себе, как Соединенные Штаты смогут существенно снизить этот показатель. Американские правые должны признать необходимость значительного повышения налоговых сборов в ближайшие десятилетия. А американским левым придется осознать, что без существенных реформ социальные программы останутся единственной статьей, и ее не покроют даже эти увеличенные налоговые поступления. В недавнем докладе вашингтонского мозгового центра «Третий путь», лоббирующего реформу соцобеспечения, подсчитано, что к 2029 г. на программы Social Security, Medicare, Medicaid и обслуживание долга в сумме будет уходить 18% от ВВП. Именно 18% от ВВП в среднем составляли налоговые поступления за последние 40 лет.
Продолжающийся рост социальных программ может вытеснить все остальные расходы правительства, в том числе на оборону и инвестиции, необходимые, чтобы стимулировать новую волну экономического роста. В 1960 г. социальные программы составляли менее одной трети федерального бюджета, на все остальные функции государства приходились оставшиеся две трети. К 2010 г. ситуация кардинально изменилась: социальные программы достигли размера двух третей бюджета, остальное втиснули в оставшуюся треть. Следуя по этому пути, федеральное правительство, по меткому выражению журналиста Эзры Клейна, превращается в страховую компанию с армией. Но армию тоже придется скоро сокращать.
Сбалансировать бюджет так, чтобы выгадать место для инвестиций в будущее страны – главный вызов, брошенный Америке. И, несмотря на преимущества, полученные в ходе прошедшей избирательной кампании, это вызов для обеих партий. Эберстадт отмечает, что социальные расходы фактически росли быстрее при президентах-республиканцах, чем при демократах, а исследование The New York Times 2012 г. показало, что две трети из 100 американских округов, наиболее зависимых от социальных программ, являются преимущественно республиканскими.
Проводить реформы и осуществлять инвестиции непросто и в лучшие времена, а сохранение сегодняшних мировых трендов только усложнит эти проблемы, сделает их еще острее. Технологии и глобализация позволяют наладить простое производство в любом месте, и американцы не смогут конкурировать за рабочие места с работниками в Китае или Индии, которым платят в 10 раз меньше. Это означает, что у США нет иного выбора, кроме как подниматься вверх по стоимостной цепи, опираясь на высококлассные трудовые ресурсы, превосходную инфраструктуру, масштабные программы обучения персонала и новейшие научно-технические разработки, но всего этого не добиться без значительных инвестиций.
В настоящее время правительство тратит на граждан старше 65 лет 4 доллара на каждый 1 доллар, расходуемый на американцев в возрасте до 18 лет. В определенном смысле это суровое отражение демократии – ведь голосуют пожилые, а несовершеннолетние лишены такого права. Но это также означает, что страна ценит настоящее больше, чем будущее.
Не стать японцами
Сэмюэл Хантингтон, автор раздела о Соединенных Штатах в докладе Трехсторонней комиссии 1975 г., часто говорил о том, как важно, чтобы страны испытывали тревогу по поводу возможного упадка, потому что только в этом случае удаются изменения, позволяющие развеять мрачные прогнозы. Если бы не страх, вызванный запуском советского спутника, США вряд ли начали бы стимулировать научный истеблишмент, финансировать создание НАСА и в итоге высадились на Луне. Возможно, подобная реакция на сегодняшние вызовы вот-вот проявится, и Вашингтон сумеет собрать волю в кулак, чтобы запустить серьезные долгосрочные политические инициативы в ближайшие несколько лет и вернуть Соединенные Штаты на светлый путь к динамичному, благополучному будущему. Но надежда – это не план, и нужно отметить, что на данный момент подобный исход кажется маловероятным.
Отсутствие таких инициатив вряд ли приведет страну к краху. Либеральный демократический капитализм – очевидно, единственная система, обладающая достаточной гибкостью и легитимностью, чтобы существовать в современном мире. Если кто-то и потерпит крах в ближайшие десятилетия, то это будут командные режимы, как в Китае (хотя это и маловероятно). Однако трудно представить, как «крушение» КНР, если это случится, поможет решить хотя бы одну из проблем, стоящих перед США, – скорее они еще более обострятся, особенно если мировая экономика будет расти медленнее, чем ожидалось.
Западным демократиям угрожает не смерть, а склероз. Грозные симптомы, с которыми они столкнулись, – бюджетная гипертония, политический паралич, демографический стресс – скорее указывают на недостаточный рост, нежели на крах. Абы как пройдя через кризис, эти страны останутся богатыми, но будут медленно и неуклонно сползать в сторону мировой периферии. Дележ оставшейся небольшой части пирога может вызвать политические конфликты и беспорядки, но, скорее всего, все сведется к менее энергичному, интересному и продуктивному будущему.
В истории уже существовала развитая индустриальная демократия, которая не смогла реформироваться. За два десятилетия она скатилась с доминирующих позиций в мировой экономике к анемичному среднему росту на уровне 0,8%. Многие представители ее стареющего, хорошо образованного населения продолжали жить вполне благополучно, но они не оставили почти никакого наследия будущим поколениям. Задолженность этой страны ошеломляет (в прошлом году госдолг Японии составлял свыше 230% ВВП, то есть почти квадриллион иен, или более 10 трлн долларов. – Ред.), доход на душу населения скатился на 24-е место в мире и продолжает снижаться. Если американцы и европейцы не возьмутся за активные преобразования, их будущее легко себе представить. Достаточно взглянуть на Японию.

Падение и новый подъем Запада
Почему Америка и Европа должны стать сильнее после финансового кризиса
Роджер Олтман – председатель правления и генеральный директор Evercore Partners. В 1993–1994 гг. занимал должность заместителя министра финансов США.
Резюме: Тяжелые финансовые кризисы всегда болезненны для наименее защищенных слоев общества, но способствуют укреплению экономики. Если это по-прежнему так, Соединенные Штаты и Европа смогут бросить вызов пессимистам и вновь возглавят рост мировой экономики.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 1, 2013 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Финансовый кризис и последовавшая за ним «Великая рецессия» оказали разрушительное воздействие на экономику Соединенных Штатов и жизнь миллионов американцев. Но благодаря реструктуризации экономика поднимется после этого удара и станет только сильней. Европа в конечном итоге тоже окрепнет, хотя ее будущее не столь определенно, а процесс займет значительно больше времени. США прошли дальше по пути восстановления, поскольку там кризис разразился на три года раньше, чем в Европе, вызвав бесконечную череду проблем. Потребуется еще два-три года, чтобы все улеглось, но после этого экономический рост в Соединенных Штатах должен превзойти ожидания многих. Европа, напротив, все еще находится в разгаре финансового кризиса. Если историческая логика победит, потребуется от четырех до шести лет, чтобы рост сильной Европы стал реальностью.
Подобное укрепление по обе стороны Атлантики произойдет по одной основной причине: кризисные годы всегда ведут к масштабной экономической реструктуризации. Радикальные изменения осуществляются в государственных финансах, банковской системе и производственном секторе, структурно реформируется рынок труда. Все это еще раз доказывает, что глобальные рынки капитала, самая мощная сила на планете, способны на изменения, выходящие за пределы возможностей обычного политического процесса. И в этом случае они могут опровергнуть все прогнозы об экономическом упадке Запада. В ближайшие годы США и Европа действительно в состоянии стать вновь локомотивами глобального экономического роста.
Это не означает, что кризисы стоили той боли, которую они причинили, совсем нет. И в Европе, и в Америке люди страдают из-за безработицы и государственных мер жесткой экономии. Потеряв работу, многие никогда не вернутся на прежний уровень жизни – и это трагедия. Кризисы усугубляют существующие тенденции к росту неравенства доходов – а это разъедает общество. Но такие события происходят, и в данной статье рассматриваются их долгосрочные последствия.
После того как в июне 2009 г. было достигнуто дно рецессии, экономика США росла, хотя и нестабильно. В Европе ситуация совсем иная. В 2008 г. европейские финансовые системы не взорвались, в отличие от американской. Серьезные проблемы возникли в Ирландии и Великобритании, но рынки капитала не восстали против Европы в целом, поэтому не произошло существенных фискальных или денежно-кредитных изменений. И только в 2012 г., когда долговые и банковские кризисы ударили по континенту в полную силу, еврозона столкнулась с проблемами, сопоставимыми с теми, что поразили в 2008–2009 гг. американскую экономику. Поэтому сегодня ВВП еврозоны продолжает сокращаться, а рецессия, возможно, еще не достигла нижней точки. Поскольку Соединенные Штаты первыми пережили кризис, их путь к восстановлению будет короче. Однако если европейцы проведут столь же масштабную реструктуризацию экономик, как США, прогноз станет оптимистичным.
Экономисты Кармен Рейнхарт и Кеннет Рогофф утверждают, что после финансовых кризисов экономика восстанавливается медленнее, чем после рецессий, обусловленных бизнес-циклом, процесс оказывается длительным и бурным. Болезненно медленное восстановление в Соединенных Штатах и резкое ухудшение в Европе подкрепляют этот тезис. Но в истории немало примеров, когда финансовые потрясения делали экономику сильнее. После азиатского кризиса 1997–1998 гг. Южная Корея приняла жесткий пакет мер помощи, предложенный МВФ, укрепила финансовую систему, сделала рынок труда более гибким – результатом стал экономический бум. Мексика демонстрирует уверенные показатели после краха песо и помощи, оказанной Вашингтоном в 1994 году. Подобный феномен наблюдался в ряде стран Латинской Америки – хотя долговые кризисы конца 1980-х гг. были не столь масштабны, как крах финансовой системы в США в 2008 г., выход из них происходил по схожей схеме – рынки капитала отказывались от старого порядка и начинали серьезную реструктуризацию экономики.
Реструктуризация Америки
Почему недавние кризисы укрепят экономики Америки и Европы? В Соединенных Штатах бум обеспечат возрождающийся сектор недвижимости, революция в производстве энергии, реформированная банковская система и более эффективное промышленное производство. В то же время переизбрание президента Барака Обамы и угроза «фискального обрыва» увеличили шансы на результативные переговоры по сокращению дефицита бюджета и решению проблемы долга.
Во-первых, пережив катастрофический крах, рынок недвижимости сейчас готовится к серьезному многолетнему росту. Исторически, когда сектор недвижимости в США откатывался достаточно далеко и надолго, затем, восстанавливаясь, он достигал очень высокого уровня. Перед последним кризисом пузырь на рынке жилья раздулся так, что, когда он, наконец, лопнул, сектор просто рухнул. С 2000 по 2004 гг. в среднем ежегодно строилось 1,4 млн домов, рассчитанных на одну семью, после кризиса цифра упала до 500 тыс. и оставалась на этом уровне до недавнего времени. Продажи новых домов, достигавшие в среднем 900 тыс. в год в период раздувания пузыря, сократились на две трети, когда он лопнул. А общий объем инвестиций в жилищное строительство, составлявший 4% от ВВП в 1980–2005 гг., в среднем достигал лишь 2,5% после 2008 года.
Хотя падение рынка жилья стало катастрофой для миллионов домовладельцев, которые не смогли выплачивать ипотеку, он выявил нарушения, существовавшие в секторе на протяжении многих лет. В результате американские банки потратили несколько лет на улучшение стандартов предоставления ипотечных кредитов и обеспечение стабильности рынков, а отношение семей к ипотеке и стоимости недвижимости стало более трезвым. Сейчас основные трудности остались позади. С мая 2012 г. основной индекс цен на недвижимость в 20 крупнейших городах (S&P/Case-Shiller 20-city composite) вырос на 8%. Уровень относительного предложения резко снизился (т.е. на продажу выставлено меньше домов), ипотечные кредиты предоставляются более охотно, а рост населения в сочетании с восстановлением показателей по количеству семей, вероятно, приведет к повышению спроса. Все это означает, что цены на жилье будут расти и дальше. Эти факторы, по всей вероятности, в ближайшие пять лет стимулируют инвестиции в недвижимость, включая строительство новых домов и перестройку существующих, на 15–20%. Уже одно это изменение может добавить один процентный пункт к годовому росту ВВП и создаст около 4 млн новых рабочих мест в экономике.
Во-вторых, благодаря новым технологиям происходит настоящий переворот в производстве нефти и газа. Усовершенствованные методы сейсморазведки и инновационные подходы к гидроразрыву пластов и горизонтальному бурению открыли для использования запасы энергоресурсов, ранее неизвестные или недоступные. Результатом стало резкое восстановление нефтяной и газовой индустрии. В 2012 г. производство природного газа в США достигло 65 млрд кубических футов в день – это на 25% больше, чем пять лет назад, и абсолютный рекорд. Такой рост в основном обеспечил сланцевый газ. Одновременно выросла и добыча нефти. По оценкам, только в 2012 г. производство нефти и других жидких углеводородов, включая биотопливо, увеличилось на 7% – до 10,9 млн баррелей в день, крупнейший годовой рост с 1951 года.
Министерство энергетики прогнозирует, что в 2013 г. этот объем увеличится еще на 500 тыс. баррелей, а по оценкам Международного энергетического агентства, приблизительно к 2017 г. Соединенные Штаты опередят Саудовскую Аравию и станут крупнейшим мировым производителем нефти. В ближайшие 10 лет энергетический бум может суммарно добавить 3% к ВВП, кроме того, он создаст 3 млн хорошо оплачиваемых рабочих мест – прямых и сопутствующих. США смогут сократить импорт нефти на треть и улучшить показатели платежного баланса. Более того, высокий уровень добычи природного газа позволит уменьшить средние расходы потребителей на коммунальные услуги почти на тысячу долларов в год, что станет для экономики дополнительным стимулом. А потребность американского общества в восстановлении экономики и появлении новых рабочих мест смягчит неприязненное отношение к этой энергетической революции.
В-третьих, если отвлечься от сложившегося негативного впечатления, после 2008 г. произошла рекапитализация и тщательная реструктуризация американской банковской системы. Никто не мог представить себе таких темпов улучшения показателей капитала и ликвидности банков. Крупнейшие банки последовательно проходили жесткие стресс-тесты под контролем Федеральной резервной системы, и им удалось значительно раньше графика выйти на показатели обеспеченности капитала, прописанные в международном Базельском соглашении III. Ситуация с банками среднего уровня обстоит даже лучше. Хотя работа еще не завершена, эти финансовые учреждения быстро избавились от проблемных активов, особенно от ценных бумаг с ипотечным покрытием. И крупные, и средние банки отказались от большого количества активов и привлекли новые из государственных и частных источников. Кроме того, во многих случаях обновились менеджмент и состав советов директоров. Учитывая эти изменения, можно сказать, что наиболее острые опасения по поводу финансовой стабильности банков уже сняты.
Действительно, банки Соединенных Штатов вновь активно кредитуют бизнес и потребителей. По данным ФРС, объем кредитов, предоставленных предпринимателям, сейчас составляет 1,45 трлн долларов, при этом в последние четыре квартала демонстрируется двузначный уровень роста. Это все еще ниже пика 2008 г., но разрыв быстро сокращается. Что касается потребительских кредитов, то предыдущий рекордный максимум превышен в 2011 г., а общий объем вырос еще на 3–4% в 2012 году. Все эти кредиты способствуют росту ВВП, и банковский сектор, по-видимому, будет последовательно увеличивать показатели по кредитованию в ближайшие несколько лет.
В-четвертых, «Великая рецессия» незаметно способствовала повышению эффективности производственного сектора. Издержки производства в расчете на единицу продукции сейчас на 11% ниже, чем 10 лет назад, в то время как во многих других индустриально развитых странах они продолжали расти. При этом разница в стоимости рабочей силы в США и Китае сокращается. Производственный сектор американской экономики с 2010 г. приобрел полмиллиона новых рабочих мест, и в ближайшие годы тенденция должна сохраниться. Наиболее наглядно это проявилось в автомобильной отрасли. В 2005 г. затраты автопроизводителей на почасовую оплату труда были на 40% выше, чем у иностранных компаний, владеющих заводами в Соединенных Штатах. Но сегодня эти цифры практически равны, а «большая тройка» – Chrysler, Ford и General Motors – вернула себе долю североамериканского рынка.
Возрождение жилищного и энергетического секторов позитивно сказывается и на промышленности. Учитывая перспективы бума жилищного строительства, а для новых домов требуется много промышленной продукции, можно с уверенностью говорить о дальнейшем создании новых рабочих мест. Кроме того, снижение цен на газ поможет химическому сектору и всем видам производства, где используется это топливо.
Наконец, хотя твердой гарантии нет, выше шансы, что Вашингтон решит проблему национального долга. Поскольку Обама называет сокращение дефицита первоочередной задачей второго срока – а результаты выборов оказались не в пользу республиканцев, позицию которых по налогам не поддерживает общество, – перспективы соглашения по решительному сокращению дефицита стали существенно более светлыми. Если это произойдет в 2013 г., возрастет доверие бизнеса и инвесторов, что создаст дополнительный стимул для привлечения частных инвестиций в целом.
Надежда для Европы
В Европе пока меньше признаков того, что экономика окрепнет после кризисных лет. В первую очередь потому, что после резкого спада в 2008 г. Европа восстанавливалась, пока в 2011 г. в еврозоне не разразился двойной кризис – долговой и банковский. Кроме того, по сравнению с США ей требуется более глубокая экономическая реструктуризация, которую трудно осуществить. Отчасти это связано со сложностью устройства Евросоюза, объединяющего 27 очень разных государств, отчасти – с закостенелой природой многих экономик Старого Света. Поэтому последствия кризиса там пока неопределенны, а вопрос о том, приведет ли он к широкомасштабной реструктуризации, остается открытым. Тем не менее позитивные перемены возможны, и уже есть признаки, внушающие оптимизм. Еврозона лихорадочно движется к фискальному союзу и банковской реформе. Экономики стран ЕС повышают производительность и конкурентоспособность экспорта, а правительства активно занимаются регулированием бюджетного сектора.
В Европе также можно найти прецеденты реструктуризации и укрепления после крупных финансовых катаклизмов, например, опыт Швеции в 1990-х годах. Бум в сфере кредитования и недвижимости совпал там с длительным периодом расширения госсектора, а соотношение долга к ВВП составляло около 80%. Швеция считалась тогда моделью европейского государства благосостояния. Однако в 1992 г. банковская система рухнула, уровень безработицы подскочил до 12%, пришлось осуществлять глубокие экономические, фискальные и банковские реформы. Стокгольм повысил налоги, отказался от госрегулирования электроэнергетического и телекоммуникационного секторов и урезал бюджетные расходы, в том числе на пенсии и пособия по безработице. Все эти меры повысили конкурентоспособность Швеции и стимулировали рост ВВП, который спустя два года вернулся на уровень 4%.
Правительства еврозоны добились первичных результатов. Для начала возьмем фискальную сторону, где наблюдается движение к созданию центрального органа с реальными полномочиями по контролю бюджетов и долгов стран-членов. Государства еврозоны вряд ли согласятся на полноценный фискальный союз с юридически закрепленными обязательствами, целиком отвергающими национальные бюджеты. Однако если он заручится доверием финансовых рынков, то получит реальную власть, поскольку его неодобрение будет провоцировать соответствующую реакцию рынков.
Во-вторых, решение предоставить Европейскому центробанку полномочия по мониторингу крупнейших частных банков – это большой шаг вперед. В перспективе банки будут регулироваться современным, прозрачным и независимым образом – что станет существенным отличием от нынешней ситуации, когда слабые местные регуляторы нянчились с финансовыми учреждениями. Это существенное изменение, поскольку приблизит ЕЦБ к более мощной и гибкой модели ФРС США.
Чтобы полностью восстановить банковскую систему, еврозоне требуется план, аналогичный американской Программе выкупа проблемных активов (TARP), и рекапитализация испанских банков – первый шаг в таком направлении. Европейский стабилизационный механизм, фонд оказания помощи в ЕС, предоставляет средства испанским банкам на условиях приведения в порядок балансовой документации. Если подобный подход использовать и в других странах, финансовую систему ждет оздоровление.
В-третьих, некоторые европейские государства занимаются решением проблемы структурной производительности, которая во многом способствовала кризису, хотя это не очень широко признается. Вполне возможно, что менее конкурентоспособные европейские экономики, в основном расположенные на юге континента, смогут добиться успехов в повышении производительности. Не обесценивая местные валюты, они сокращают расходы посредством внутренней девальвации, включающей снижение трудозатрат. В Греции, Португалии и Испании, входящих в еврозону и оказавшихся под наибольшим финансовым давлением, с 2010 г. затраты на рабочую силу в расчете на единицу продукции значительно снизились. Эти государства инициировали ключевые реформы рынка труда, касающиеся установления пределов минимальной оплаты, а также отмены ограничений по найму и увольнению сотрудников. Пример Ирландии может оказаться полезным. После краха банковской системы в 2008 г. Дублин резко сократил производственные издержки и стимулировал повышение производительности. Сегодня, спустя всего несколько лет, Ирландия вновь занимает одно из ведущих мест в Европе по производительности.
В-четвертых, экспорт периферийных стран континента, которые уже давно страдают от торгового дефицита в отношениях с Германией и другими государствами севера Европы, восстанавливает конкурентоспособность. Италии, Португалии и Испании удалось сократить дефицит торгового и платежного баланса благодаря низкой стоимости экспорта и ослаблению евро. В Греции, несмотря на серьезный экономический спад, абсолютные показатели экспорта вернулись к докризисному уровню.
Наконец, начав сокращать госсектор, правительства еврозоны выполняют важную задачу обновления экономики континента, так как урезание расходов создаст больше пространства для роста частного сектора. По данным Еврокомиссии, в 2011 г. суммарный дефицит 17 стран еврозоны упал до 4,1% от ВВП – это существенное снижение по сравнению с 6,2% в 2010 году. В целом в Евросоюзе суммарный дефицит сократился в 2011 г. на одну треть. Конечно, во многих странах соотношение дефицита бюджета к ВВП по-прежнему значительно превышает официально установленный предел в 3%, а долг фактически рос быстрее, чем ВВП еврозоны в целом в прошлом году. Тем не менее давление финансовых рынков должно способствовать дальнейшему сокращению госсектора.
В современной истории тяжелые финансовые кризисы были очень болезненными для наименее защищенных слоев общества, но одновременно они часто способствовали укреплению экономики. Два этих противоборствующих феномена проявляются сегодня в США. Европа по своей сути более уязвима, но появились первые признаки аналогичной динамики. Если эта историческая модель окажется верной, Соединенные Штаты и Европа смогут бросить вызов распространенной точке зрения и вновь возглавят рост мировой экономики.

Доклад Министра энергетики России Александра Новака на 49-й Мюнхенской конференции по безопасности
Министр энергетики России Александр Новак выступил с докладом на 49-й Мюнхенской конференции по безопасности «Геополитические изменения в контексте американской нефтегазовой революции». Ниже представлен текст выступления.
Уважаемые дамы и господа!
Тема, которую нам сегодня предстоит обсудить, весьма актуальна – практически по всех странах мира, как производителях, так и потребителях энергоресурсов, активно обсуждается влияние сланцевой революции на различные аспекты нашей жизни – это и энергобезопасность, и экономика и политика.
Еще раз убедился в этом по пути в Мюнхен из Москвы, познакомившись с полемикой на эту тему на страницах ведущей немецкой деловой газеты «Хандельсблатт».
Остановлюсь на нескольких ключевых тезисах, раскрывающих влияние сланцевой революции на геополитику.
Первое. Феномен «сланцевой революции» существенно меняет баланс на мировых энергетических рынках.
Успехи в добыче сланцевого газа и нефти снизили опасения международной общественности перед скорым истощением запасов углеводородного сырья, выраженной в известной теории пиковой нефти - «peak oil».
Новые технологии позволяют нам сегодня получать доступ к огромным запасам углеводородов, которые ранее считались неизвлекаемыми. В этой связи мы ожидаем сохранения роли традиционных углеводородов в глобальном энергобалансе на обозримую перспективу. В своих долгосрочных прогнозах мы исходим из того, что общемировая потребность в энергоресурсах, причем экологически чистых и эффективных, будет возрастать.
Технологический прорыв в добыче природного газа повысил доступность этого энергоресурса в ключевых регионах – потребителях.
Крупнейший производитель сланцевого газа – США, еще недавно являвшиеся нетто-импортером голубого топлива, в ближайшие годы могут стать нетто-экспортером этого сырья.
Одновременно США существенно снижают свою зависимость от импорта нефти - в 2012 г. чистый импорт нефти составил всего 7,5 миллионов баррелей в день. По оценкам экспертов, возможно снижение объемов импорта до незначительных или даже нулевых показателей через 12-15 лет.
Наконец, возрастает конкуренция между видами топлива – как мы видим, подешевевший американский уголь активно замещает газ в европейской генерации, несмотря на опасения экологов за состояние окружающей среды. Другой пример – растущий интерес к газомоторному топливу как альтернативе бензина.
Второй важный момент. Добыча «Сланцевого газа» влияет на международные торговые потоки.
Уход с рынка крупнейшего импортера углеводородного сырья – Соединенных Штатов – существенно меняет карту традиционных маршрутов экспортных поставок и всей структуры мировой торговли углеводородами.
В балансе мирового спроса на энергоресурсы большую роль станут играть страны АТР, и прежде всего, Китай и Индия. Именно на них будут переориентироваться производители углеводородного сырья из Ближнего Востока, а также Россия, Канада, Австралия и Восточная Африка.
Новые технологии добычи сланцевого газа и нефти могут получить широкое распространение в мире, хотя это процесс не быстрый – всем известны сложности технологического, юридического, инфраструктурного, экологического и даже политического свойства.
Тем не менее, в перспективе это также повлияет на международные энергетические потоки, поскольку процесс добычи может максимально приблизиться к местам потребления.
По мере расширения танкерного флота и мощностей по регазификации СПГ газовый рынок будет постепенно трансформироваться в единый глобальный рынок. Соответственно, как на рынке нефти, так и на рынке природного газа, мы ожидаем существенного увеличения конкуренции, появления новых поставщиков и более широкой диверсификации поставок.
В конечном итоге, все это будет способствовать укреплению глобальной энергобезопасности, в чем заинтересованы и производители, и потребители.
Третий тезис, на котором я хотел бы акцентировать внимание - влияние сланцевой революции на мировую экономику в целом.
Очевидно, что американская промышленность за счет использования дешевого газа и снижения тарифов на электроэнергию увеличивает свою конкурентоспособность. Это касается энергоемких производств, например, нефтехимии.
В свою очередь, снижение импортозависимости приводит к сокращению дефицита платежного баланса. Как вы хорошо помните, все последнее десятилетие именно дефицит бюджета и счета текущих операций США считался одной из главных причин дисбалансов в мировой экономике.
В этой связи многие аналитики предсказывают ренессанс американской экономики и ее реиндустриализацию.
Оценивая эти последствия, правительства разных стран стараются стимулировать инвестиции в развитие технологий нетрадиционной добычи и транспортировки газа, создают условия для перехода на этот вид топлива автотранспорта, объектов энергетики и коммунального хозяйства. Однако процесс расширения сферы применения газа связан с проблемой перенастройки инфраструктуры и конкуренцией других видов сырья.
Мне часто задают вопросы относительно стратегии адаптации России к последствиям сланцевой революции.
Прежде всего, хочу напомнить, что Россия является крупнейшей энергодержавой и занимает, соответственно, первое и второе место в мире по объемам добычи нефти и газа.
По итогам 2012 г. объем национальной добычи нефтяного сырья увеличился по сравнению с 2011 г. на 1,3% и составил в абсолютном выражении 518 млн. т, установив новый максимальный уровень в истории России.
Добыча природного газа в 2012 г. составила 654,4 млрд. куб. м.
Во-первых, в своей политике мы исходим из принципа реалистичности. Мы внимательно отслеживаем изменения, происходящие на мировом энергетическом рынке, включая изменения в энергобалансе, инфраструктуре, маршрутах поставок и технологическом развитии отрасли.
Поэтому решения о векторе развития нефтегазовой отрасли принимаются с учетом ключевых перспективных рынков и технологических рубежей.
Основным приоритетом роста экспорта на перспективу мы видим рост потребления энергоресурсов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, и прежде всего в Китае.
Мы будем ускоренно инвестировать в развитие ресурсной базы и реализацию инфраструктурных проектов, которые позволят нам удовлетворять потребности этих рынков в углеводородном сырье. Создание стимулов для работы в восточном направлении является нашим стратегическим приоритетом на десятилетия вперед.
Например, мы стимулируем добычу нефти и газа в восточных регионах страны, активно строим нефтегазотранспортную инфраструктуру в восточном направлении, развиваем СПГ-проекты.
В то же время Европейский союз остается для нас также стратегическим партнером.
Россия обеспечивает около 34% импорта природного газа странами ЕС, 33% – импорта сырой нефти, 27% - импорта каменного угля. Хотел бы акцентировать, что в случае резких и непредвиденных скачков спроса на природный газ в Европе – будь то из-за экстремальных погодных условий, техногенных аварий или террористической активности, как в недавнем случае с Алжиром, только Россия способна и готова выступать в качестве поставщика «последней инстанции», в полной мере удовлетворяя спрос наших потребителей. Тем более, в контексте увеличения импортозависимости Европы в долгосрочной перспективе.
Считаем, что реализация масштабных инфраструктурных проектов – таких, как газопроводы Северный и Южный поток - отвечает интересам европейских потребителей и улучшает безопасность энергоснабжения ЕС. Надеемся, что Евросоюз положительно отреагирует на сделанное нами предложение о заключении специального соглашения о трансграничной энергетической инфраструктуре. Тем более, что многие эксперты обращают внимание на необходимость совершенствования законодательной базы Евросоюза в сфере энергетики, поскольку Третий энергопакет ЕС содержит ряд экономически необоснованных и нерыночных требований, которые ухудшают условия для инвестиций в столь необходимую Европе инфраструктуру.
Европейскому союзу предстоит еще многое сделать для создания единого интегрированного рынка природного газа. Рынка с достаточным уровнем ликвидности, разветвленной инфраструктурой и равными возможностями для поставщиков и потребителей. Считаю, что в этот переходный период участники рынка должны иметь возможность самостоятельно выбирать приемлемый для них вариант сотрудничества – будь то спотовые цены или долгосрочные контракты с привязкой к нефтепродуктовой корзине.
Во-вторых, в своей деятельности мы исходим из принципа открытости и необходимости интеграции в мировую энергетику.
Мы открыты для совместной работы и будем продвигать кадровую и научную интеграцию российского нефтегазового сектора в мировую отрасль. Для нас это действительно приоритетная задача.
И последнее, чему мы намерены придерживаться сами и ожидаем со стороны наших партнеров – это соблюдение принципов рыночности, взаимности и равноправия отношений.
Стратегическое сотрудничество в области энергетики будет в значительной мере способствовать не только экономическому благополучию на международном уровне, но и глобальной безопасности. Такое сотрудничество предполагает устранение проблем, связанных с несовершенством регулирования энергорынков и недостаточной проработанностью международной правовой базы.
Россия будет активно способствовать дискуссии на эту тему в рамках своего начавшегося председательства в«Группе двадцати».

Российское подразделение Google возглавила экс-президент холдинга "ПрофМедиа" Юлия Соловьева. Она сменила на этой должности Владимира Долгова, который покинул "Google Россия" в середине 2012 г., возглавив российское представительство интернет-аукциона eBay – eBay Marketplaces.
Об этом заявила пресс-служба Google. "На позиции генерального директора "Google Россия" Юлия будет отвечать за стратегическое развитие компании на одном из крупнейших европейских интернет-рынков", - указано в сообщении компании.
До работы в Google Юлия Соловьева шесть лет проработала в холдинге "ПрофМедиа". Она занимала должность вице-президента компании, а с февраля 2011 г. была президентом холдинга, сменив на этом посту Рафаэля Акопова. В сообщении Google указано, что в "ПрофМедиа" Юлия Соловьева отвечала за создание и внедрение портфельной стратегии холдинга, управление активами, корпоративное управление и финансовые результаты компаний. Этот пост она покинула в декабре 2011 г. По неофициальной информации, в декабре 2012 г. Юлия Соловьева была приглашена на пост президента издательского дома Sanoma Independent Media, но в последний момент отказалась от этого предложения.
"Google Россия" - подразделение американской корпорации Google. По данным интернет-ресурса LiveInternet, поисковая система Google занимает второе место на российском рынке интернет-поиска с долей 25,9%. Первое место занимает российская компания "Яндекс", доля которой на 24 января составила 61%.

У семи нянек
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов: «У нас сложилась целая система по вывозу детей за границу, и это стало бизнесом отдельных чиновников»
Страсти, разгоревшиеся вокруг темы иностранного усыновления, раскололи общество напополам — одни увидели в «законе Димы Яковлева» долгожданный свет в конце тоннеля, другие — попрание конституционных и этических норм. Но и те и другие признают: наводить порядок в системе усыновления — и иностранного, и внутреннего — жизненно необходимо. На вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» отвечает уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов.
— «Закон Димы Яковлева» вступил в силу. Что дальше?
— В апреле 2010-го надо было не мораторий объявлять на усыновление в США, а принимать закон — только не Димы Яковлева, а Артема Савельева — и уже тогда закрыть тему иностранного усыновления. Мы слишком долго тянули с решением данного вопроса и в итоге увязали его с «Актом Магнитского» — увязка, на мой взгляд, не очень удачная. Но политически объяснимая. И к тому же лучше поздно, чем никогда. В пылу дебатов вокруг нового закона мало кто заметил указ, который был подписан 28 декабря Владимиром Путиным, о мерах по защите детей-сирот. В нем затронуты важные проблемы. Первая — количество документов, которое необходимо сегодня собрать потенциальным родителям, будет снижено до разумного предела. Во всех субъектах Федерации появятся школы приемной семьи: кандидаты не смогут стать приемными родителями, пока не пройдут обучение. Предусмотрено также сопровождение приемных семей на первых порах. Следующее нововведение — увеличение срока действия документов, необходимых при приеме ребенка в семью. Сейчас, например, медицинские справки — краткосрочные, а на сбор всех документов уходит от 4 до 6 месяцев. Правительству дано указание до 1 марта разработать и внести в Госдуму закон и порядок предоставления налоговых льгот тем, кто усыновил детей, в том числе инвалидов. Увеличатся социальные пенсии, единовременные пособия и компенсационные выплаты. Я уже разослал своим помощникам в регионы циркуляр следить за реализацией этого указа. Начинаем проводить на местах расширенные совещания — первое состоится 15 января в Кемерове. Можно сколь угодно долго ругать законы и Кремль, но будущее детей полностью в руках региональных властей. Я за время работы проинспектировал 1021 детдом, видел и самые лучшие, и самые худшие. Например, в Краснодаре, Тюмени, Калуге, Курске, Белгороде, Пермском крае ребят в детских домах все меньше и меньше. В Краснодаре закрыли порядка 20 таких учреждений, в Калужской области их осталось только два. А там, где нет системной подготовки приемных родителей, нет института сопровождения таких семей, не повышают пособия, — там возникают проблемы. В 2012 году на первое место вышла Удмуртия, где количество воспитанников в детских домах увеличилось на 15,3 процента. Там надо не сокращать число таких учреждений, а новые строить. Та же тенденция в Амурской области, Забайкальском крае. Есть регионы, где иностранное усыновление превалирует — например, в Еврейской автономной области в 2010 году иностранные граждане брали детей в пять раз чаще, чем российские.
— Павел Алексеевич, почему такое происходит?
— К сожалению, у нас сложилась целая система по вывозу детей за границу, и это стало бизнесом отдельных чиновников — на уровне органов опеки, детдомов, комитетов и департаментов, даже входящих в федеральные структуры. И, конечно, в первую очередь этот бизнес процветал благодаря иностранным агентствам. Зарубежные усыновители платили им огромные деньги и получали массу преимуществ. В России работают около 80 иностранных агентств, имеющих сеть представительств в регионах, которые занимаются подбором детей для иностранцев. Только одно такое агентство, через которое был усыновлен Артем Савельев, в 2009 году получило доход в 4,6 миллиона долларов. Нередко случалось так: потенциальные российские родители по несколько месяцев собирали документы. И вдруг в детском доме появлялся представитель иностранной пары, которая заплатила 80—100 тысяч долларов агентству, и говорил: «Супруги такие-то хотят оказать помощь вашему заведению — купить компьютеры или спортивный комплекс. Но они хотят срочно забрать ребенка...» И за три дня ребенка увозили. Существует вот еще какой момент. Забрать воспитанника из детдома россияне могут, оформив патронат, опеку или попечительство, усыновление, или в приемную семью. Эти формы отличаются разной степенью юридической строгости. Иностранцам разрешено только усыновление, а вот россияне далеко не всегда готовы усыновлять. Зачастую приемная семья, хорошо себя зарекомендовавшая, прошедшая курсы и собравшая все необходимые документы, готова забрать ребенка, а им не отдают. Мотивировка: «Ну вы же хотите ребенка взять в приемную семью, а есть американцы, которые готовы его усыновить, так ему будет лучше». В случае с Димой Яковлевым его родным вообще не дали возможности его усыновить — он даже не был занесен в банк данных о сиротах, как уже попал в поле зрения американцев.
— Многие пеняют на нашу службу социальной опеки, которая не заинтересована в том, чтобы в России исчезли сироты.
— С органами опеки у нас действительно большая проблема. Это горизонтальная система муниципальных служащих достаточно низкого ранга, зачастую без должного образования, которое необходимо для решения таких серьезных проблем. А на них сегодня делают ставку в решении столь глобальных вопросов политического характера! Ведь в конце концов именно службы опеки отвечают за то, какое будет дано заключение по поводу приемных родителей. И над ними нет ни федерального, ни даже регионального ведомства, которое бы контролировало их деятельность. Все функции разбросаны по 19 учреждениям. Очень сложно так решать задачи, должен быть головной орган, который будет этим заниматься: агентство, служба, департамент — как угодно назовите. Например, в Бурятии действует агентство по делам семьи и детей, в Северной Осетии есть аналогичное, в Пермском крае три основных министерства — здравоохранения, соцразвития и образования — объединились в этом деле и создали центр подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Такой модели пока больше нигде не существует. Сегодня это один из лучших регионов с точки зрения семейного устройства: 92 процента детей попадают в семьи. Остаются дети со сложными заболеваниями, которых невозможно сразу передать в семью, потому что их надо лечить, соответствующим образом поддерживать.
— Бытует мнение, что иностранцы как раз и берут себе больных детей, на которых у нас махнули рукой.
— Это миф! Сначала действительно так и было, потому что других не давали! Первые усыновления начались в конце 80-х, когда прекращал свое существование Советский Союз. Вспомните ситуацию в России в начале 90-х — медицина находилась в тяжелом состоянии. На тот момент было много отказных детей с серьезными заболеваниями. Иностранцы забирали малышей с пороками сердца, челюстно-лицевыми дефектами — расщеплением нёба, заячьей губой, волчьей пастью. А потом иностранцам стали давать всех подряд. Тем временем наша медицина не стояла на месте. В последние 3—4 года высокотехнологичные операции — к ним относятся и исправление пороков сердца, и протезирование, и другие — делаются в полном объеме, даже квоты не выбираются до конца. Сегодня нет проблемы с тем, чтобы сделать ребенку лицевую операцию. Но удивительное дело: в Хабаровском крае в одном из учреждений я видел стенд-карту Америки, на которой флажками были отмечены места, куда отдали детей, и рядом их фотографии — вот один с расщеплением нёба, а вот через полгода он уже прооперирован, симпатичное личико, все в порядке. Прямо наглядная агитация за американское усыновление! Но почему руководство детского дома ничего не сделало, чтобы вылечить этого ребенка здесь, почему не выбили квоту на операцию? Потому что иностранные усыновители не заплатят?
— Но ведь россияне в первую очередь хотят брать здоровых детей.
— И это неправда. Россияне берут почти в 10 раз больше инвалидов, чем иностранцы. В 2011-м наши граждане приняли в приемные семьи 1075 детей-инвалидов. В иностранные семьи принято 176 детей-инвалидов, из них американцы взяли 89. Цифры несопоставимые! И утверждения о том, что «закон Димы Яковлева» не дает возможности российским детям лечиться за границей, несостоятельны.
— Что еще вы считаете мифами?
— То, что в США дети находятся в большей безопасности, чем у нас. В Америке существует несколько общественных организаций, которые занимаются исключительно защитой прав детей, они каждый год публикуют доклады со страшными цифрами — опираясь на официальные данные, которые предоставляет министерство здравоохранения и социальных служб. В 2010 году, по этим данным, в США зарегистрировано 3,6 миллиона случаев насилия в отношении детей, в 2011 году — 3,72 миллиона. Из них около 9 процентов, то есть примерно 330 тысяч, — это сексуальное насилие. Примерно 0,9 процента от общего числа преступлений было совершено приемными родителями — грубо говоря, 30 тысяч. В России в 2010 году зафиксировано 9,5 тысячи сексуальных преступлений против детей, в 2011-м — 14,5 тысячи. Цифры огромные, но, если сравнивать с американскими, несоразмерные.
— Ну, цифры штука лукавая...
— У меня недавно интересная встреча случилась. Еду в лифте, заходит мужчина, смотрит на меня угрюмо и говорит: «Я видел по телевизору ваше выступление по поводу «закона Димы Яковлева». У меня есть друзья-американцы, которые удочерили двух девочек. И я вам скажу: худшего отношения к российским детям я не видел нигде!»
Недавно министерство юстиции США и общественные организации предоставили нам информацию о нескольких уголовных делах в отношении семей, взявших на воспитание детей-инвалидов. Супруги Димария взяли 21 девочку-инвалида. Понятно, что им слова благодарности говорили и хвалили всячески. А они организовали порностудию и в течение двух лет снимали грязные фильмы с участием этих детей. Димария осудили, дали им по 30 лет, а девочек передали в новые семьи. Другие супруги, по фамилии Шмитц, оказавшиеся сектантами, взяли на воспитание 11 мальчиков-инвалидов и издевались над ними по полной. Семилетнему мальчику вставляли шланг в рот и вливали воду, пока она у него не начинала литься отовсюду. Другого мальчика, десятилетнего, привязывали к инвалидной коляске, бросали в бассейн и смотрели, как он вырывается, а потом вытаскивали и тогда уже откачивали. Всех детей прижигали каленым ножом. В огороде нашли могилы, которые они себе выкопали... Шмитцев тоже осудили — дали по 6 месяцев тюрьмы. Они уже вышли на свободу. Спрашивается: кто может сказать с уверенностью, в какую семью попадет российский ребенок? Зачем нам играть в эту американскую рулетку?
— Но ведь издеваются и убивают и у них, и у нас.
— Считается, что в американских приемных семьях за последние 10 лет погибли 19 российских детей, а в России — 1020 детей. Но российская цифра — это все дети, погибшие за 10 лет в семьях от рук родителей — и приемных, и родных. В России в приемных семьях живет 522 тысячи детей. От рук приемных родителей за эти 10 лет погибли 14 детей. То есть сравнение опять не в пользу Америки. И потом, мы имеем информацию только о 19 убийствах детей в США, но, по данным общественных организаций, их гораздо больше — около 40, потому что мы не знаем о случаях переусыновления. А такое бывает нередко — примерно в 30 процентах случаев. В первые годы дети передаются в другие семьи, и мы теряем их след. К сожалению, в США отсутствует система контроля за приемными россиянами. У них же принцип права на частную жизнь: приехали, походили вокруг ранчо — вроде бы ребенка не убивают, значит, все нормально.
— А с российской статистикой полный ажур? Все ли у нас регистрируется?
— Это наша собственная статистика, мы собираем данные последние три года, раньше этим никто не занимался. Например, мы вообще точно не знаем, сколько было вывезено российских детей за границу. Каждый год мы фиксируем разницу в 200—300 детей — между числом официально усыновленных американцами в России (по данным Минобрнауки) и той цифрой, что нам дает Госдепартамент США — о детях, поставленных на стартовый учет. Возникает вопрос: каким образом 200—300 детей каждый год покидают Россию? Вероятно, по серым схемам — на учебу, на отдых, по туристической визе. По официальным данным, иностранцами усыновлено 49 тысяч, а по нашим данным, реальная цифра — около 100 тысяч.
— Правильно ли я понимаю: ваш стратегический приоритет — полностью изжить иностранное усыновление?
— Еще предстоит поработать и понять, что делать с иностранным усыновлением, потому что оно должно уйти в прошлое. Первая задача — обеспечить приоритет российских усыновителей, который закреплен в законе. Вторая — предоставить зеленый коридор всем российским родителям, которые готовы взять ребенка в другой форме — патронат и прочее. Третья — всем детям, которые живут сейчас в детском доме, найти семью. Причем необязательно приемную. Давайте не забывать, что у многих из них есть родные родители, которые восстановили свои права. Таких за последние три года было 43 процента, и их число увеличивается. Не надо закрывать дорогу обратно в семью, движение должно идти в обе стороны. Восемьдесят процентов детей находятся в детских домах при живых родителях. Ребят можно возвращать в восстановленные, социально реабилитированные семьи.
Поэтому приоритеты — возвращение в родную семью, снижение числа изъятий, социальная работа. Надо деньги перераспределить именно в эти направления. Ведь если будет сокращаться число детских домов и, соответственно, коммунальные расходы на них, то высвободятся средства, которые можно направить на поддержку семьи.
Разработана программа «Россия без сирот», которая примечательна тем, что в ней сделаны акценты на поддержку родной и приемной семьи, а также на отдельную категорию сирот — детей-инвалидов. Многое делается в этом плане. В Башкирии, например, приняли закон: в случае усыновления ребенка приемной семье предоставляется материнский капитал. В Калининграде выплачивается 600 тысяч рублей. В Кургане — до 800 тысяч, но постепенно, в течение всего времени нахождения ребенка в приемной семье. В Иркутской области — 150 тысяч рублей. Суммы разные, но они выделяются. Главное — осознать: государству гораздо выгоднее платить непосредственно семье, чем содержать детские дома.
И наконец, мы подошли к пониманию, что российское законодательство надо менять, в первую очередь морально устаревший Семейный кодекс. В статье 77 необходимо прописать более точно основания для изъятия ребенка из семьи, статью 124, касающуюся иностранного усыновления, можно вообще отменить, а статья 126.1, которая оговаривает запрет на посредничество, вообще выглядит в нынешней ситуации забавно — чем же тогда занимаются иностранные агентства, как не оказанием посреднических услуг? Это лукавство.
— Вы оценивали перспективы — сколько детей можно устроить в семьи уже сейчас?
— На 1 января 2012 года у нас очередь из кандидатов в приемные родители составляла 12 900 человек. С ними конкурировали со своими деньгами 3500 иностранцев. А потенциал усыновления у нас в стране выглядит так: в стране 108 миллионов дееспособного населения, а детей в детских домах — 103 тысячи. Вот и считайте: в России больше тысячи дееспособных граждан приходится на одного ребенка-сироту. Из тысячи отобрать пару потенциальных родителей, подготовить, сопроводить, платить нормальные деньги — и все, вопрос закрыт.
Виктория Юхова

Раб кино
Квентин Тарантино: «Люди хотят, чтобы я врал во имя политкорректности. А я не хочу врать. Если кому-то это не по нутру, пусть смотрят другие фильмы»
Для релиза нового фильма Квентина Тарантино «Джанго освобожденный» трудно представить момент более неблагоприятный. Чудовищная бойня в начальной школе Ньютауна... Планы американских властей по ужесточению контроля за продажей оружия. Призывы положить конец культу насилия в массовой культуре... А тут, нате вам, такой типичненький Тарантино, герои которого изъясняются языком выстрелов, где кровь обильно орошает хлопковые поля.
Голливуд в лице продюсеров братьев Вайнштейн отменил торжественную премьеру. На экраны США фильм выходил без привычной помпы. Похоже на то, что именно на волне нынешних настроений тарантиновский «Джанго», сам по себе блестяще придуманный и снятый суперстебный триллер про американский Юг эпохи рабовладения, даже получив номинацию в категории «Лучший фильм», вряд ли может рассчитывать на главный «Оскар».
«Итоги» все-таки решились начать разговор с Квентином Тарантино именно с болезненного для него вопроса: есть ли связь между насилием на экране и в жизни?
— Вы хотите сказать, что у меня в фильме слишком много стреляют и убивают? Посмотрите фильмы Джона Ву, вот там настоящий киллерский балет. Хотите увидеть настоящую стрельбу — смотрите Сэма Пекинпа. Все эти претензии ко мне смехотворны. Люди, их предъявляющие, сущие идиоты. Я не собираюсь переубеждать идиотов. Не нравятся мои фильмы, смотрите что-либо другое.
— Как вы думаете, почему именно вам сегодня адресуются эти упреки? Что-то в «Джанго», видимо, задевает за живое...
— Задевает исторический контекст. Я прекрасно понимаю, что в Америке или, скажем, в Бразилии, где рабовладение — часть трагической истории, эту тему воспринимают достаточно болезненно. Ощущение стыда за прошлое присуще как потомкам рабов, так и потомкам рабовладельцев. Поэтому и жертвы, и обидчики так не любят ворошить историю. «Убить Билла» еще более, чем «Джанго», графичен в показе насилия. Но в «Убить Билла» насилие носило характер чисто эстетического упражнения. В «Джанго» же представлено два типа насилия. Реальное насилие, то есть издевательства, пытки и убийства рабов, особенно сцены, когда провинившегося раба травят собаками и когда для забавы белых мужчин рабов заставляют сражаться до смерти в рукопашных боях «мандинго». И насилие условное, так сказать, развлекательное, жанровое — это когда Джанго пачками расстреливает негодяев. Этот второй тип насилия дает зрителю катарсис.
— Вы какие-то самоограничители ставили? Консультировались с афроамериканцами, скажем, с вашими же актерами?
— Нет, я ни у кого не спрашивал разрешения (смеется). Конечно, я много с кем разговаривал о рабстве. Кстати, все мои актеры — и Сэм Джексон, и Джейми Фокс, и Керри Вашингтон — на моей стороне.
— Интернет бурлит из-за частого использования в вашем фильме оскорбительного словца «ниггер». Кто-то не поленился и посчитал: оно повторяется более ста раз.
— Это же чистый бред! Неужели кто-то думает, что на американском Юге до Гражданской войны это слово употреблялось реже, чем в моем фильме? Иначе к рабам не обращались, иначе их не называли. Просто люди хотят, чтобы я врал во имя политкорректности. А я не хочу врать. Повторяю: если кому-то это не по нутру, смотрите другие фильмы.
— Есть еще любители считать количество выпущенных с экрана пуль...
— Забавно, никто не пишет о нереальности той быстроты, с которой Джанго стреляет в своих врагов. Ведь тогда скорострельных ружей и пистолетов не было, нужно было перезаряжать стволы, как мушкеты. Но никого это несоответствие реальности не волнует.
— Тема рабства в широком историческом охвате фактически отсутствовала в американском кино со времени «Рождения нации» Дэвида Уорка Гриффита. Почему вы решили потревожить этот скелет в шкафу?
— Надо об этом говорить когда-нибудь. Мир заставил Германию не забывать об ужасах нацизма. Но в Америке никто не хочет об этом говорить. За два с половиной века рабовладения произошли тысячи потрясающих, душераздирающих историй, которые просятся, чтобы о них вспомнили и рассказали. Сейчас все привычно плачут: нет сценариев, нет оригинальных сюжетов. Да их тысячи! Правда, в самом начале у меня возникли сомнения. А вправе ли я это снимать? Кто я такой, чтобы ворошить самое больное, что есть в американской истории? Ведь одно дело написать в сценарии, как на ярмарке рабов сотня людей в кандалах месит грязь, с трудом двигаясь к месту торгов, и совсем другое — все это воссоздать на съемочной площадке: и грязь, и голые тела, и кровавые ступни в кандалах. Такой чернокожий Освенцим. И еще выпустить под палящее солнце сотню статистов, чтобы они собирали хлопок. У меня даже закралась мысль: а не снять ли самые болезненные сцены в Вест-Индии или в Бразилии, где к чужой истории не должны относиться столь трепетно. Признаюсь: хотелось увильнуть от боли и стыда. Когда закончил сценарий, отправился к Сиднею Пуатье. Он мне как отец. Я объяснил мою трусливую схему аутсорсинга. Он меня выслушал и сказал: «Квентин, ты рожден рассказывать истории. Не бойся своего фильма. Делай, что собирался делать. Все знают, что тогда творилось. Относись к своим актерам с любовью и уважением, и они сыграют тебе что нужно. Кроме того, ты же будешь снимать в южных штатах. Там огромная безработица. Ты дашь людям работу. Ты для них будешь как Линкольн» (хохочет).
— Обычно вы не придерживаетесь хронологии, переставляете эпизоды, делаете инверсии и флэш-бэки. Здесь же линия сюжета пряма, как стрела. Новый прием?
— Это одиссея двух людей, раба Джанго, ищущего свою любимую жену Брумгильду, и доктора Шульца, «охотника за наградами» и авантюриста с добрым сердцем. Здесь важно само путешествие этой пары через всю Америку в поисках Брумгильды. Харви Вайнштейн смотрел материал в монтажной и предлагал: может, сделаем, как в «Убить Билла», какой-нибудь флэш-бэк? Нет, говорил я ему, здесь это не будет работать. Нужно, чтобы было видно, как Джанго начинает свое путешествие и как его заканчивает. У этой истории есть боль, есть вестерновский элемент, есть черный юмор и есть, я надеюсь, катарсис. Если аудитория не будет в финале ликовать, то я плохо сделал свою работу. Что касается боли, то я мог еще накрутить ужасов, нервы у меня крепкие, и я свой лимит кошмаров не исчерпал. Но я не хотел травмировать аудиторию до той степени, чтобы она в финале не смогла радоваться победе Джанго.
— Одна из самых стебных сцен фильма — куклуксклановцы мчатся на лошадях линчевать Джанго и Шульца, но сквозь плохо сделанные прорези в балахонах ничего не видят, что становится причиной комичного разлада в их рядах. Это кивок в сторону «Рождения нации»? (Фильм Гриффита носил ярко выраженный расистский характер, в частности прославлял ку-клукс-клан.)
— Меня всегда интересовало, как снималось то или иное великое кино. Я даже стал писать новеллы на эту тему, которые хочу собрать в отдельную книгу. Так вот, я написал эссе по поводу того, как Гриффит и преподобный Томас Диксон, автор пьесы «Человек клана», создавали «Рождение нации». Не все знают, что одного из куклуксклановцев у Гриффита играет молодой Джон Форд (знаменитый американский режиссер, постановщик таких фильмов, как «Дилижанс», «Гроздья гнева», «Рио-Гранде». — «Итоги»). Пьеса «Человек клана» была жутким расистским мусором. Мне представилось, как Форд садится в седло, как скачет, как сбивается набок его балахон и он ни черта не видит. И мне стала вырисовываться перебранка клановцев в духе перебранки мистера Брауна, мистера Пинка и мистера Уайта насчет их кличек в «Бешеных псах».
— Кастинг, как всегда у вас, очень впечатляющий. На этот раз вы, похоже, выбирали актеров вопреки их сложившемуся амплуа. Леонардо Ди Каприо — признанный сердцеед, а вы его сделали рабовладельцем-садистом Кельвином Кэнди, своего рода Калигулой ХХ века. Сэмюэл Джексон — крутой парень, а у вас он слуга Стивен, пресмыкающийся перед хозяином. Кристоф Вальц — изощренный интеллектуал, а здесь он хладнокровный киллер Шульц...
— Интересное наблюдение... Да, вы правы, давайте я продолжу этот ряд. Джейми Фокс — шутник и говорун, а его Джанго молчалив и серьезен. Керри Вашингтон в телесериале «Скандал» играет одну из самых могущественных женщин вашингтонского истеблишмента, а у меня она несчастная и беззащитная рабыня Брумгильда. Если не возражаете, я эту мысль возьму на вооружение. Да, актеры все превосходные. Невозможно ими не восхищаться. Они так прекрасно произносят мои диалоги. Я пишу диалоги как поэзию, но именно они делают их поэзией.
— У Леонардо Ди Каприо — статус суперзвезды. Это не мешало вашей с ним работе?
— Лео — актер-мечта. Он появлялся на площадке, и ты вдруг видел живого Кельвина Кэнди. Он не выходил из образа даже в перерывах, к нему обращались как к Лео, а он отвечал как Кэнди, причем, видимо, бессознательно. Просто переключил себя на героя и бегать туда-сюда не хотел. Нет, я все понимаю, это я, а не он написал такой характер, но когда актер так глубоко влезает в подкорку к своему персонажу, я не могу этим не восхищаться. Как не могу не восхищаться мужеством Лео. Ужасная история — на съемках он сильно поранил руку. В решающей сцене Кэнди в сердцах бьет кулаком по столу. Несколько дублей сняли нормально, а затем, видимо, сдвинулся какой-то бокал, и Лео изо всех сил ударил по нему. Бокал вдребезги, кровь во все стороны. Мы продолжали снимать, поскольку Лео игнорировал кровотечение, глаза его горели, как у безумца. Кстати, именно Лео где-то нарыл и принес мне старинную расистскую книжку «Негр — это животное». Весь пафос автора в том, что африканцы — недочеловеки, то есть они не произошли от Адама и Евы. В качестве доказательства этот идиот использует иллюстрации к Библии, которые преподносит со всей серьезностью, как будто это фотографические улики для суда (смеется).
— Но разве расизм в таком шизофреническом варианте не ушел в прошлое?
— Идея превосходства одной расы над другими существует столько, сколько существует человечество. Такой уважаемый человек, как Уинстон Черчилль, в 1947 году заявил, что англосаксам, мол, не надо смущаться в отношениях со своими бывшими колониями, поскольку превосходство над ними — это бесспорный факт. В «Джанго» события происходят за два года до начала Гражданской войны между Севером и Югом. Многие люди тогда считали рабовладение вечным укладом. Вся либеральная риторика северян-аболиционистов не имела никакого значения в южных штатах.
— Критики уже начали по кадрам разбирать ваш новый фильм. Вот этот кадр из оригинального «Джанго» 1966 года режиссера Серджо Корбуччи, тот — из Серджо Леоне, другой — из «Дилижанса», ну и так далее. А вы сами во время работы держите в голове, откуда что берется, или это спонтанный процесс?
— Я всегда обожал спагетти-вестерн и его поджанры. Мне нравится его эстетика. Я ее использую в своих фильмах, которые вроде бы к вестернам отношения не имеют. Скажем, «Криминальное чтиво» можно считать современным рок-н-ролльным спагетти-вестерном. «Убить Билла», особенно вторая часть, тоже пахнет вестерном. Даже в «Бесславных ублюдках» есть мотивы вестерна, особенно в первой сцене. То есть я медленно, но верно подбирался бочком к любимому жанру. Здесь, в «Джанго», я открыл все карты. И поразился какому-то сюрреалистическому ощущению. Все, о чем я веду здесь речь, приобретает характер самовлюбленного, гротескного комикса. Все эмоции преувеличены, а в Джанго, несокрушимом мстителе, я вижу героя величественной оперы или народной сказки. Я приглашал актеров в свой офис. И первое, что они видели на стенах, — дюжину шикарных старых плакатов вестернов и фильмов «блэксплуатейшн» (коммерческий жанр, возникший в США в начале 70-х годов, экзальтированный и тенденциозный негритянский ответ белому киномейнстриму. — «Итоги»). Сейчас таких плакатов уже не рисуют. Все нынешние киноплакаты делаются по одной колодке фотосессии для журнала «Вэнити фэйр». Я стараюсь в «Джанго» передать стиль тех рукотворных постеров, их крутой земной запах. Я стараюсь, чтобы костюмы моих героев напоминали стиль комиксов, условную браваду рисованных супергероев. Кстати, только что вышла первая серия комикса о «Джанго», там практически все сценарные линии включены, даже те, что не вошли в фильм. Ажиотаж вокруг комикса не меньший, чем вокруг фильма. Круто! Вот главняк-то где! (Хохочет.)
— Звуковая дорожка разношерстная — от Джима Кроче до рэпера RZA, от Эннио Морриконе до Джонни Кэша. По какому принципу вы подбирали музыку?
— Мой фильм, конечно же, поклон старому «Джанго» Корбуччи, поэтому я включил в саундтрек главную тему фильма и другие вещи, написанные в то время композитором Луисом Бакаловом. Что касается песни Ancora Qui, которая очень многим нравится, то история ее такая. Морриконе мне написал, что сегодня его любимая итальянская певица — Элиза. Они с Элизой встретились, он написал музыку, она — текст, и родилась Ancora Qui. Когда я послушал эту вещь, то пришел в неописуемый восторг. Это было то, что нужно.
— Частью вашего поклона Корбуччи можно считать ваше приглашение легендарной звезды итальянского кино Франко Неро. Так случилось, что в начале 80-х я интервьюировал Неро в Ленинграде, на съемках «Красных колоколов» Сергея Бондарчука, где он играл Джона Рида. Он был простужен и давал мне интервью, лежа в постели. Я запомнил его слова, что именно роль Джанго стала для него прорывом в большое кино. Так славно, что вы ему дали роль, пусть крошечную. В титрах, правда, написано: «с дружеским участием Франко Неро». Вы что, ему не заплатили?
— Нет, я заплатил! Причем из своего кармана. Его участие не было предусмотрено бюджетом, но мне так хотелось, чтобы он появился, и я заплатил ему из личных средств. А насчет «дружеского участия» — Франко сам попросил поставить этот титр. Когда оба Джанго, Джейми Фокс и Франко Неро, появляются в одном кадре — вот это подлинное волшебство кино. Мы сидели в монтажной — я, Боб и Харви Вайнштейны, и Харви прошептал: «Вот так делается история!»
— Квентин, вы и сами сыграли в «Джанго» небольшую, но, я бы сказал, взрывную роль...
— Главная причина, почему я выбрал для себя роль парня, играющего со взрывчаткой, — я не рискнул предложить ее кому-либо из актеров. Это было бы слишком опасно. Я не думаю, что актерская гильдия погладила бы меня по головке. Если бы звезде снесло взрывом лицо, дела мои были бы плохи. А если бы пострадало мое личико — кого бы это взволновало?
— Что вы думаете о 3D? Есть ли у вас в планах сделать трехмерный фильм?
— Мне всегда нравилось 3D. Но, к сожалению, я видел очень мало фильмов, которые в нем реально нуждаются. Большей частью после просмотра запоминаешь чертовы очки на носу, а не то, что они дают. Поэтому я часто игнорирую трехмерные версии и предпочитаю смотреть обычные. Один из немногих режиссеров, кто использует трехмерность эффективно, это Пол У. С. Андерсон. Его две последние серии «Обители зла» и «Мушкетеры» потрясающе используют трехмерность.
— Вы не устаете оплакивать кончину кинопленки в связи с победой цифровой технологии. Даже объявили, что уходите из профессии. Это была шутка?
— Отчасти. Но я не собираюсь подчиняться технологии, которая ухудшает качество фильма. Поймите, я отказался от слишком многого в жизни для того, чтобы снимать кино. У меня нет жены, нет детей. Я пошел на эти жертвы, имея четкую цель. И я счастлив. Пожертвовал бы я женой и детьми во имя дигитального кино? Не знаю (смеется).
Нью-Йорк

Реализм в XXI веке
Американо-китайские отношения и выбор России
Резюме: Стремительный рост Китая и относительное снижение роли США в формировании нового миропорядка требуют решительной деидеологизации российских взглядов на мир. Реализм должен быть освобожден от устаревших догм о необходимости противостояния абстрактно понимаемому Западу.
Согласно большинству прогнозов, экономика КНР должна обогнать Соединенные Штаты по абсолютному размеру ВВП в течение ближайших десяти лет, т.е. еще при нынешнем руководстве, пришедшем к власти в ноябре 2012 года. При этом США останутся самой мощной державой в военном отношении и сохранят лидерство в области науки, образования, высоких технологий и инноваций. Мир вступит в эпоху, когда первенство в различных областях будет принадлежать разным странам. Есть ли у России внешнеполитическая стратегия, способная подготовить ее к этим фундаментальным изменениям на международной арене? Как уже сегодня реагировать на обострение конкуренции между Соединенными Штатами и Китаем?
Взаимодействие России, КНР и США – это не только отношения между разными по силе и влиянию государствами на международной арене, но и столкновение несовпадающих представлений о самих себе и окружающем мире. Классические подходы, основанные на измерении потенциалов и балансов сил («реализм») или же степени зрелости демократии («либерализм») не в состоянии объяснить в полной мере сложную динамику взаимоотношений между государствами. Кажущиеся парадоксы их внешней политики помогает понять рассмотрение различий в национальных идентичностях и особенностей внутренних дискурсов в каждой из стран («конструктивизм»).
Любая национальная идентичность динамична. Она формируется и изменяется по мере развития внутреннего дискурса, а также в результате внешнеполитических действий. Родней Брюс Холл, американский теоретик международных отношений, работающий в Оксфорде, утверждает, что свои меняющиеся представления о самих себе государства проецируют на мировую арену и таким образом формируют глобальную политику. Генри Нау и Дипа Оллапалли показали в новом исследовании, что напряженные дебаты относительно места и целей в мире идут во всех странах с внешнеполитическими амбициями, в том числе и в недемократических.
Представления о Западе в России тесно переплетены с внутренним дискурсом о национальной идентичности и путях развития. Восприятие Китая гораздо меньше связано с глубинными пластами российского самосознания и в большей степени определяется чисто внешнеполитическими и экономическими соображениями. Такая асимметрия в господствующих представлениях о ведущих игроках влияет на внешнюю политику России и затрудняет ее адаптацию к серьезнейшим изменениям, происходящим в системе международных отношений. Россия рискует упустить открывающиеся возможности и не заметить возникающие угрозы, если и в дальнейшем ее внешнеполитический курс будет напрямую подвержен влиянию экзистенциальных поисков и внутриполитических соображений. Формирование новой консервативной идеологии в Москве способно помешать проведению реалистичной и гибкой политики в отношении лидеров мирового развития – Соединенных Штатов и Китая.
Мистическая вера части российской элиты в существование большой европейской (в ее прочтении – христианской) цивилизации удивительно сочетается с антизападной риторикой и продолжающейся секьюритизацией взаимоотношений с США. При этом восприятие КНР в целом носит рациональный и прагматичный характер. Усиление антизападничества в официальной риторике Кремля в 2012 г. особенно заметно на фоне полного отсутствия публичной озабоченности политикой Пекина. Если судить по официальным документам и заявлениям, Москва не обеспокоена стремительным наращиванием военного потенциала Китая и ростом напористости его курса в 2008–2012 годах.
Большинство граждан разделяют формируемые властями представления об Америке и Китае. Согласно опросам Левада-центра, в 2011 г. 29% россиян, считавших, что у страны есть враги, относили к ним Соединенные Штаты (только «чеченские боевики» получили более высокие показатели). Китай видели в этом качестве лишь 9%. В 2012 г. 35% опрошенных назвали США среди наиболее недружественно либо враждебно настроенных по отношению к России стран, и только 4% упомянули в данной связи Китай. Среди ближайших друзей и союзников 16% респондентов называют Китай, тогда как Америку упоминают только 2% опрошенных. Доля россиян, плохо или очень плохо относящихся к Соединенным Штатам, выросла с 2010 по 2012 г. с 29 до 38%.
В России бытует активный и интеллектуально напряженный дискурс относительно взаимоотношений с абстрактно понимаемым «Западом». Сложились группы «прозападных» и «антизападных» общественных деятелей, интеллектуалов и активистов. По вопросу о Китае этого практически нет, и разговор за редкими исключениями ведется на профессиональном языке. Как это скажется на готовности России к новым вызовам на международной арене, на которой в качестве структурного фактора все чаще выступают американо-китайские отношения?
Политика Америки в отношении Китая
Из четырех основных школ внешнеполитического мышления в США (реалисты, либеральные интернационалисты, неоконсерваторы, изоляционисты) три (кроме последней) привержены идее о том, что Соединенные Штаты должны сохранять первенство на международной арене. Реалисты и изоляционисты уделяют особое внимание балансу сил, меняющемуся не в пользу Америки. Либеральные интернационалисты и неоконсерваторы обеспокоены тем, что в мире сформировалась альтернативная модель общественного развития, ставящая под вопрос универсальность американских ценностей и будущее демократии как формы политического устройства всех стран.
В отличие от своего предшественника в Белом доме Барак Обама понимает, что укрепление позиций других крупных держав неизбежно, а американская мощь объективно небеспредельна. Однако укорененные представления об исключительности и необходимости поддерживать первенство на международной арене заставляют Обаму демонстрировать решительность при отстаивании лидирующей роли. В этих условиях стратегия Вашингтона в отношении Пекина не может не быть двойственной. Проводится курс, направленный на то, чтобы стимулировать включение Китая в мировые процессы в качестве ответственного игрока и одновременно сдерживать его военную мощь. В этом плане политика Обамы базируется на концепции, сложившейся при Джордже Буше-младшем: сделать КНР «ответственным держателем акций» либерального миропорядка в сочетании с хеджированием рисков, связанных с растущей военной мощью Пекина. В 2011–2012 гг. появились признаки того, что баланс между этими направлениями удерживать все труднее.
Программа модернизации вооруженных сил Китая, включая космический, военно-морской и ракетный компоненты, а также растущие возможности в области кибервойн, вызывают в Соединенных Штатах (особенно среди реалистов и неоконсерваторов) большое беспокойство. Традиционные факторы американского военного превосходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе могут быть поставлены под вопрос. Призрак «холодной войны» постепенно становится здесь все более осязаемым. Американо-китайские отношения подходят к опасной черте, за которой – открытая гонка вооружений, формирование альянсов, рост взаимного недоверия и подозрительности. В таких условиях любой инцидент, например в Южно-Китайском море, грозит спровоцировать серьезный конфликт. Конечно, ни США, ни КНР не хотят допустить неконтролируемой эскалации напряженности. Однако наращивание военных возможностей обеими сторонами, каковы бы ни были в данный момент намерения их лидеров, имеет свою деструктивную логику.
В среде американских военных и разведывательного сообщества, где горизонт планирования не ограничен электоральным циклом и нет давления крупного бизнеса, заинтересованного в экономических отношениях с Китаем, озабоченность ростом потенциала и амбиций Пекина гораздо выше, чем в политических кругах. Картина еще более многопланова с учетом борьбы могущественных групп интересов, каждая из которых представлена в Конгрессе. Здесь есть и те, кто считает Пекин «валютным манипулятором», искусственно занижающим курс юаня и тем самым наносящим существенный вред экономическим интересам США, и те, кто заинтересован в многомиллиардных инвестициях в Китай и не склонен обострять отношения.
Многие конгрессмены-республиканцы разделяют взгляды реалистов в международных отношениях и являются сторонниками жесткой линии в отношении Китая, который рассматривают в качестве опасного конкурента. Например, Рэнди Форбс, организовавший «Группу по Китаю» (Congressional China Caucus), неформальное двухпартийное объединение членов конгресса, разделяющих озабоченности относительно роста глобальной роли Пекина. Некоторые даже выдвигают экстравагантные предложения по формированию альянса в составе Америки, России, Японии и Индии для противостояния китайской угрозе (Дана Рорабахер).
Анализ официальных военно-политических документов по Китаю показывает нарастание озабоченности ростом его силы и влияния в течение последних четырех лет. В 2008 г. Национальный совет по разведке впервые начал оперировать в своем докладе понятием многополярности. В 2010 г. в Четырехгодичном обзоре оборонной политики уже содержался призыв к управлению риском конфликта во взаимоотношениях с Китаем. В 2011 г. в Военной стратегии Соединенных Штатов выражается серьезная озабоченность по поводу масштабов и целей модернизации китайских вооруженных сил и их напористости в космосе, киберпространстве и в Мировом океане. Там же говорится о том, что США будут демонстрировать волю противостоять этому и выделять ресурсы для обеспечения глобальной и региональной безопасности.
Противоречие между реалистическим восприятием Китая в качестве угрозы в военных документах, а также открытых публикациях разведывательного сообщества, с одной стороны, и акцентом в духе либерального интернационализма на вовлечении Пекина в западноцентричный миропорядок в политических документах – с другой, сохранялось до 2011 года. С выходом в свет в ноябре 2011 г. программной статьи Хиллари Клинтон «Тихоокеанский век Америки» ему был положен конец. Госсекретарь провозгласила: «Будущее политики будет решаться в Азии, а не в Афганистане и Ираке, и Соединенные Штаты будут в самом центре событий». На протяжении 2012 г., однако, решительный лозунг «разворот в сторону Азии» уступил в официальном американском лексиконе место несколько более мягкому понятию «восстановление равновесия».
Отношения Америки с Японией, Кореей, а также с Индией и странами АСЕАН во все большей степени определяются китайским фактором. Пока он не стал важнейшим для американской политики в других регионах и в мире в целом. Однако ситуация, возможно, начнет быстро меняться – и в самое ближайшее время. Есть все основания предположить, что именно китайское направление в нарастающей степени будет диктовать американскую политику и в том, что касается Москвы. Возможно, даже станет основным фактором, влияющим на восприятие России. Для Кремля это и риск, и возможность укрепить свои позиции, несмотря на все серьезнейшие демографические, экономические и политические проблемы. Американские реалисты подталкивают администрацию Обамы в этом направлении. Однако препятствием тесному партнерству может оказаться растущее беспокойство либеральных интернационалистов и неоконсерваторов по поводу внутриполитической ситуации в России. Для них Китай и Россия принадлежат к одной категории государств с авторитарными режимами и стремлением ограничить американское влияние на мировой арене.
Политика Китая в отношении США
Влиятельный американский китаист Дэвид Шамбо выделяет семь школ внешнеполитического мышления в современном Китае: это глобалисты, приверженцы многосторонности, адвокаты глобального «Юга», азиацентристы, великодержавники, реалисты и нативисты (националисты). В основе каждого направления – свое представление об идентичности КНР на международной арене. Практически все сходятся в том, что Китай – это великая держава (даго), однако дают разные ответы на вопрос, что это означает. Наибольший вес имеют реалисты, испытывающие некоторое влияние нативистов. Их взгляды сводятся к тому, что Пекин должен отстаивать полный и безусловный суверенитет во внутренних делах, ему нужны мощные вооруженные силы и решительная внешняя политика, направленная на защиту национальных интересов в мире, полном опасностей. Они выступают против гегемонии США.
Многие эксперты полагают, что Китай постепенно превращается в державу, действия которой нацелены на изменение международного статус-кво. Этот процесс ускорился в ходе мирового кризиса 2008–2009 гг., который укрепил экономические позиции Пекина и его уверенность в своих силах. Если КНР действительно намерена изменить международные нормы и институты, ей понадобятся партнеры. За это выступают великодержавники, подчеркивающие необходимость взаимодействия Китая в первую очередь с крупными влиятельными странами. Альтернативная точка зрения состоит в том, что Пекин не намерен пересматривать основные правила либерального миропорядка, которые до сих пор были ему на руку, способствуя бурному экономическому росту. Так, многие американские эксперты утверждают, что КНР лишь стремится к большему влиянию в рамках существующих институтов глобального регулирования. В этом направлении действуют китайские глобалисты и приверженцы многосторонности. В любом случае, Китай объективно заинтересован в партнерстве с теми, кто испытывает неудовлетворенность нынешним миропорядком. Очевидно, что среди таких государств и Россия.
Китай считает Америку ревизионистской державой. Об этом, в частности, пишут Эндрю Натан и Эндрю Скобелл в недавней статье в журнале Foreign Affairs. По мнению большинства китайских реалистов и националистов, Вашингтон будет всеми силами сдерживать укрепление Китая. Тем не менее экономическая взаимозависимость (в другой трактовке – гарантированное взаимное экономическое уничтожение в случае конфликта) в значительной мере смягчает военно-стратегическую и политическую напряженность в двусторонних отношениях. Каждая из стран – второй по значению торговый партер друг для друга. Китай – крупнейший кредитор Америки и владеет облигациями и другими ценными бумагами, выпущенными казначейством США, на сумму более 1,2 трлн долларов. Соединенные Штаты – третий по значимости инвестор в Китае. Около 150 тыс. китайских студентов обучаются в США, более 20 тыс. американцев работают и учатся в китайских университетах. Никогда в истории мировой лидер и его растущий конкурент не были настолько взаимозависимы.
Поиски национальной идентичности и внешняя политика России
В течение полутора столетий дебаты о русской идентичности и ее роли в мире были сосредоточены в основном на взаимодействии России с Западом. Китай никогда не играл сколько-нибудь значительной роли в этих дебатах. Разнообразие существующих сегодня в России подходов к международным отношениям можно свести к трем основным школам: либералов, реалистов-государственников и националистов. Образы США и в меньшей степени – Китая значимы в системе взглядов либералов и реалистов-государственников. Для российских националистов, за исключением «новых правых», это менее важно.
Интеллектуальные истоки взглядов российских либералов восходят к традициям западников XIX века и современных теорий либерального интернационализма. Цель либерального проекта для России – превратить ее в составную часть «большого Запада». Соединенные Штаты для либералов – важнейший стратегический партнер, а Китай – азиатский сосед. Большинство либералов инстинктивно тяготеют к Америке, в частности и потому, что считают, что тесное партнерство с Вашингтоном сдерживало бы недемократические и неправовые действия российских властей внутри страны. После распада СССР наиболее прозападные либералы стремились не только к интеграции с Западом, но и к фактической ассимиляции на его условиях. По сути, это служило основным содержанием внешней политики Андрея Козырева в 1992 году. Отношение к Китаю в тот период можно было охарактеризовать как сочетание высокомерия и невежества. Позднее многие либералы стали подчеркивать, что КНР – это авторитарное государство и потенциальный вызов для России. Со второй половины 1990-х гг. крайние либеральные подходы переместились в маргинальный спектр и перестали оказывать заметное влияние на внешнеполитический курс. Правда, более умеренные либеральные взгляды, которые не исключают критики ряда аспектов американской политики, остаются достаточно заметным сегментом интеллектуальной палитры.
Реалисты-государственники – наиболее влиятельная школа внешнеполитической мысли в современной России. Ее основателем можно считать Евгения Примакова. К ней принадлежит и часть бывших либералов-интернационалистов, разочарованных западной политикой в отношении России. Важнейшим фактором, способствовавшим их переходу на позиции реалистов, стало расширение НАТО.
Российских государственников можно назвать оборонительными реалистами, выступающими за поддержание сферы влияния России на территории бывшего Советского Союза и стремящимися сдерживать американское глобальное первенство. Образ России, проецируемый реалистами-государственниками на международную арену – влиятельный центр многополярного мира. Для большинства реалистов-государственников США – страна, стремящаяся действовать в обход международного права, чтобы сохранить однополярную структуру мирового порядка и добиться доминирования во всех сферах. Это также носитель идей «неограниченной демократизации», смены режимов и «оранжевых революций». Образ Китая в этом контексте сводится к тому, что Пекин стремится к глобальному балансу в многополярном мире и отстаивает принципы суверенитета и невмешательства.
Соотношение сил на мировой арене в краткосрочном плане заставляет российских реалистов-государственников отстаивать необходимость уравновесить мощь Соединенных Штатов посредством временных коалиций с Китаем по отдельным вопросам. Пока еще нет свидетельств, что представители этой школы интеллектуально готовы к фундаментальному изменению баланса сил в ближайшее десятилетие и рассматривают возможность компенсировать растущую мощь Китая с помощью США. Реалисты-государственники интегрированы во властные структуры и являются неотъемлемой частью российской политической элиты. Поэтому внутриполитический и идеологический факторы, а именно стремление любой ценой отстаивать полный суверенитет и не допустить вмешательства во внутренние дела, в настоящее время фактически исключают возможность временных коалиций с Америкой по вопросам, которые могут затронуть интересы Китая. Американские либералы-интернационалисты и неоконсерваторы с их риторикой изменения режимов в авторитарных государствах – основной источник подозрений российских реалистов-государственников, которые в принципе предпочли бы иметь дело с классическими реалистами в Вашингтоне. Однако перемены в международной среде происходят очень быстро и носят глубинный характер, поэтому частичное переосмысление отношений с Америкой из-за роста рисков со стороны Китая в предстоящие годы возможно.
Националистическое направление внешнеполитической мысли включает в себя по крайней мере три подгруппы, а именно неоимпериалистов – сторонников регионального доминирования России на постсоветском пространстве, этнических националистов и «новых правых». В первой половине 1990-х гг. суть неимпериалистического проекта заключалась в восстановлении государства в границах СССР. Постепенно задачи сузились до целей в духе реализма, а именно создания вокруг России буферной зоны протекторатов и зависимых стран из числа бывших советских республик. Формы желаемого контроля становятся более современными, много говорится об экономической интеграции и «мягкой силе».
Смысл этнически окрашенной националистической программы сводится к восстановлению географического соответствия между государством и нацией и созданию нового политического образования на территории проживания русского и части других восточнославянских народов. Это означает воссоединение России, Белоруссии, части Украины и Северного Казахстана. В интеллектуальном отношении русский этнонационализм получил мощный импульс благодаря публицистике Александра Солженицына, который стал первым крупным мыслителем, бросившим вызов наднациональной традиции в ее имперской форме. Отрешившись от своего имперского покрывала после распада Советского Союза, этническая идентичность русских стала более заметной. Хотя этнонационализм в России сам по себе не представляет хорошо организованную политическую силу, не следует исключать его усиления в ближайшее десятилетие. Рост подобных настроений вызовет опасные процессы в российской внутренней политике, поскольку многонациональность и поликультурность страны рассматриваются представителями этого движения как нежелательные явления.
В последние два года все больше заявляет о себе новое течение общественной и внешнеполитической мысли. Это «новые правые», позиционирующие себя в качестве идеологов правого антиглобализма. Один из их интеллектуальных лидеров Михаил Ремизов прекрасно понимает значение американо-китайской биполярности для России и видит вызов в сохранении Россией подлинного суверенитета в ситуации, когда мир стал ареной для игры превосходящих сил. Неприятие либеральных ценностей неоимпериалистами, этнонационалистами и «новыми правыми» придает их восприятию мировых тенденций достаточно выраженный антиамериканский оттенок.
Россия – Соединенные Штаты – КНР
В России, США и Китае есть три схожие школы внешнеполитической мысли. Это реалисты (в России – реалисты-государственники), либералы и изоляционисты (часть националистов в Китае и России). Вместе с тем в каждой из стран присутствуют эндогенные подходы, не имеющие аналогов в других государствах: неоконсерваторы в США, российские неоимпериалисты, китайские азиацентристы и адвокаты «Юга». Во всех трех странах доминируют реалисты, особенно в государственных аппаратах. Конечно, школы реализма в США, России и Китае несколько отличаются друг от друга. Кроме того, у них разные интеллектуальные союзники: неоконсерваторы (при Буше-младшем) или либеральные интернационалисты (при Обаме) в Соединенных Штатах, нативисты (националисты) в Китае, либералы (в 2001–2002 и 2009–2011 гг.) или неоимпериалисты в России. Тем самым национальный колорит школ реализма в трех странах только усиливается. Есть и много общего: реалисты в США опасаются и не доверяют Пекину, китайские единомышленники отвечают им взаимностью. Как и положено представителям этой школы, американские и китайские реалисты воспринимают Россию как слабеющую державу, которая, хотя и обладает ядерным оружием, энергоресурсами и огромной территорией, уже не играет ведущей роли на международной арене, особенно в принципиально важном для них Азиатско-Тихоокеанском регионе. Многих российских реалистов-государственников отличает недоверие к Вашингтону и сохраняющаяся надежда на успешное сохранение равновесия с Америкой при помощи Китая. Однако начинает формироваться и представление о том, что в силу объективной слабости по многим параметрам развития России следует быть более гибкой в выстраивании отношений.
Политика России в отношении США и Китая на протяжении последних 20 лет была тесно связана с взаимодействием и меняющимся соотношением сил между различными школами внешнеполитической мысли. Либералы-западники, которые в течение короткого времени доминировали на политической сцене после распада Советского Союза, Китай просто не замечали. Они быстро утратили свои позиции, и государственники постепенно начали менять ориентиры. В 1998 г. Евгений Примаков выдвинул идею «стратегического треугольника Москва – Пекин – Дели» для противовеса господству Запада в духе классического реализма. После кратковременного периода путинской версии перезагрузки в российско-американских отношениях в 2001–2002 гг. Москва вернулась к сдерживанию однополярной американской гегемонии. В 2003–2008 гг. Россия подчеркивала, что она не признает безусловное американское лидерство на международной арене и настаивает на своем статусе великой державы. При этом основной точкой отсчета оставались Соединенные Штаты. Российско-китайское сотрудничество рассматривалось в качестве удобного инструмента в игре по сдерживанию США. Любой намек на критику в отношении Китая из официальных источников оказался под фактическим запретом.
Во второй половине 2008 г., после войны с Грузией и с началом мирового финансового кризиса, Дмитрий Медведев вроде бы перестал рассматривать Соединенные Штаты в качестве основной глобальной угрозы интересам России. В то же время Москва стала больше опасаться оказаться младшим партнером в своих отношениях с Пекином. В 2009–2011 гг. влияние либеральной школы на внешнеполитический курс стало более заметным. Усиление Китая и относительное ослабление США определили появление более нюансированной дискуссии, включая обсуждение плюсов и минусов подъема Китая для России. Появились новые по духу заявления со стороны официальных лиц. Когда в апреле 2011 г. китайские журналисты спросили посла России в КНР Сергея Разова о распространении «теории китайской угрозы», тот признал, что такой подход приобрел в России популярность и разделяется некоторыми гражданами, хотя и не представляет официальную позицию. Российские военные начали отмечать растущий военный потенциал Китая в качестве причины, заставляющей Москву иметь больше кораблей в составе ВМФ и сохранять тактическое ядерное оружие. В октябре 2010 г. главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий сослался на интерес Пекина к Арктике в качестве аргумента в пользу укрепления флота.
Возвращение Владимира Путина на пост президента и озабоченность относительно сохранения стабильности в стране весной 2012 г. привели к тому, что внутриполитические соображения стали все больше сказываться на внешнеполитическом курсе. В первую очередь это коснулось взаимоотношений с Америкой и Европой, которые, по мнению Кремля, поддерживали оппозиционные силы, правозащитников и политические реформы в России, вмешиваясь во внутренние дела. При этом все настойчивее стал провозглашаться разворот в сторону АТР. Конечно, он в первую очередь обусловлен объективным повышением роли Китая и других азиатских стран в мире. Однако стремление продемонстрировать Соединенным Штатам и Европе, что у России есть альтернатива, также сыграло значительную роль.
Анализ взаимоотношений между Вашингтоном, Пекином и Москвой в категориях «треугольника» в течение долгого времени был характерен для реалистов во всех трех странах. Однако он уже давно контрпродуктивен в силу кардинально изменившегося баланса сил. Политика США по отношению к Китаю уже никогда не будет определяться необходимостью принимать во внимание фактор Москвы, как это было в эпоху Никсона и Киссинджера. Отношение Китая к США не формируется под воздействием российского направления внешней политики Пекина, как в период крайнего обострения советско-китайских противоречий в 60–70-е годы прошлого века. Россия же будет вынуждена все больше учитывать фактор американо-китайских отношений. Соотношение сил между Соединенными Штатами и КНР меняется, и вопрос о необходимости компенсировать возрастающие амбиции Пекина может встать на повестку дня в течение ближайших нескольких лет. Стратегически политика на китайском направлении все еще во многом диктуется соображениями противодействия претензиям Соединенных Штатов на мировое лидерство, в том числе через механизм Совета Безопасности ООН, символические действия и риторику. Пока нет свидетельств того, что на восприятие Россией США начинает как-то воздействовать фактор Китая, который все еще рассматривается как соседняя азиатская страна и важный экономический партнер, но не новая глобальная держава.
Сохранять свободу действий
Абсолютное большинство российских экспертов понимают, что российско-американский союз против Китая так же нереалистичен и контрпродуктивен, как и российско-китайский альянс против Соединенных Штатов. Однако Москве придется принимать во внимание динамику американо-китайских отношений при выстраивании своей политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развитии двусторонних отношений с Вашингтоном и Пекином, а также при выработке глобальной стратегии.
Потенциально России, по-видимому, уготована роль swing state, т.е. страны, которая, хотя и обладает гораздо меньшей мощью, чем два мировых тяжеловеса, способна выбирать в качестве партнера то одного, то другого. При этом по одним вопросам временные коалиции могут возникать с США, а по другим – с КНР. Многообразные и многоуровневые партнерства и с Америкой, и с Китаем – лучшая стратегия для России. Это создает неплохие условия для укрепления позиций в мире, но требует постоянно выверять и просчитывать каждый шаг.
Фактически Москва, во многом не отдавая себе в этом полный отчет, уже ведет такую игру. С одной стороны, она сотрудничает с США по целому ряду вопросов международной безопасности, включая контроль над вооружениями, Афганистан, Иран, борьбу с терроризмом. Участие отряда кораблей Тихоокеанского флота ВМС России в крупных международных военно-морских учениях «Римпак» летом 2012 г. свидетельствует о том, что, несмотря на трудности в российско-американских отношениях, партнерство в сфере поддержания международной безопасности развивается и тогда, когда влияние либералов в Москве минимально. То обстоятельство, что не только Россия, но и Индия впервые приняла участие в этих учениях, несомненно, вызвало серьезное беспокойство Китая.
С другой стороны, Москва пытается смягчать глобальное лидерство США путем сотрудничества с Китаем на основе идей об абсолютном суверенитете, укреплении Совета Безопасности ООН и многополярности мира, в котором ни одна страна не доминирует. Анализ применения права вето в Совете Безопасности ООН хорошо иллюстрирует совпадение взглядов России и Китая по важнейшим вопросам международных отношений. В 2007–2012 гг. это право было использовано всего семь раз. В пяти случаях Москва и Пекин действовали совместно, заблокировав принятие резолюций по Мьянме (в 2007 г.), Зимбабве (в 2008 г.) и Сирии (в 2011 и уже дважды – в 2012 г.). Кроме того, в 2009 г. Россия не допустила принятия резолюции, продлевающей мандат наблюдательной миссии ООН в Грузии и Абхазии, а Китай при этом воздержался. Тот факт, что все совместные российско-китайские вето касались недопущения вмешательства мирового сообщества во внутренние дела суверенных государств, говорит о том, что в действительности беспокоит Москву и Пекин.
По выражению американского аналитика Ричарда Уэйтца, Россия и Китай проводят самостоятельную, но параллельную политику по многим вопросам глобального и регионального развития. В основе такого параллелизма, по его мнению, лежит то обстоятельство, что основные поводы для беспокойства двух стран в сфере безопасности расположены в разных регионах (в Евразии и Европе для Москвы и в Азиатско-Тихоокеанском регионе для Пекина). Там же, где они пересекаются (Центральная Азия, Северная Корея и дуга нестабильности в исламском мире, захватывающая суверенные территории России и Китая), пока удается избегать явных противоречий. Это классический подход в рамках реализма.
Реалисты в трех странах говорят на одном языке и хорошо понимают друг друга. Однако реализм нигде не представляет собой безраздельно доминирующую школу внешнеполитического мышления. Взаимодействие между разными школами политической мысли в США, Китае и России во многом будет определять характер отношений. Национальные лидеры должны учитывать внутриполитические факторы и, по выражению американского теоретика Роберта Патнэма, вести игру на двух уровнях, т.е. взаимодействовать с партнерами на мировой арене, но учитывать внутренние ограничения, определяющиеся совокупностью расклада общественно-политических сил. В связи с этим вступают в силу ценностные и идеологические факторы, видоизменяющие любые построения в духе классического реализма. В Соединенных Штатах либералы и неоконсерваторы едины в приверженности продвижению прав человека и демократии во всем мире. В Китае националисты добавляют в политику антиамериканизм и легко могут оживить дискурс о традиционном российском имперском мышлении. Российские государственники, смыкаясь с частью националистов, зациклены на сохранении имиджа великой державы и противостоянии либеральному Западу любой ценой, но в определенных обстоятельствах способны усмотреть растущую угрозу и со стороны Пекина.
США – это страна, где реалисты находятся в наиболее трудном положении. Отстаивая принципы повсеместной защиты прав человека и демократии, Америка поддерживает свою национальную идентичность, сформированную, в отличие от других стран, вокруг универсальных ценностей и политических институтов. Система сдержек и противовесов в управлении, а также влияние институтов гражданского общества никогда не позволят ни одной администрации руководствоваться исключительно принципами классического реализма. Это, в свою очередь, осложняет ситуацию для Пекина и Москвы.
В настоящее время российские образы Америки и Китая говорят нам больше о самой России, чем о ее партнерах на международной арене. Стремительный рост Китая и относительное, постепенное снижение роли Соединенных Штатов в формировании нового миропорядка требуют решительной деидеологизации российских взглядов на мир. Реализм должен быть освобожден от сковывающего влияния устаревших догм о необходимости противостояния абстрактно понимаемому Западу. Поддержание баланса между евро-атлантическим и азиатско-тихоокеанским направлениями российской внешней политики требует не разворотов в ту или иную сторону, а гибкости и способности к перенастройке с целью адаптации к меняющейся обстановке.
И.А. Зевелев – доктор политических наук.

Россия и НАТО: новая глава
Возможна ли совместная Стратегическая концепция?
Оксана Антоненко – директор программ по России и Евразии Международного института стратегических исследований (IISS).
И.Ю. Юргенс – председатель правления Института современного развития.
Резюме Москве и Североатлантическому альянсу пора четко заявить о дорогой стратегической цене, в которую обходятся обеим сторонам взаимное недоверие и отказ от открывающихся возможностей для сотрудничества, которое сегодня не просто реально, но и жизненно необходимо.
Данная статья резюмирует положения доклада, подготовленного в рамках совместного проекта ИНСОР и IISS. Полный текст можно прочитать здесь.
Саммит Россия–НАТО, состоявшийся в Лиссабоне в ноябре 2010 г., стал исторической вехой в отношениях бывших противников. Он продемонстрировал, что существует уникальная возможность преодолеть наследие холодной войны и начать выстраивать новые связи, свободные от взаимных гипертрофированных страхов и подозрений. Переменой в атмосфере необходимо воспользоваться для того, чтобы задать взаимоотношениям России и Североатлантического альянса новую интеграционную траекторию на основе терпеливого, прагматического партнерства в интересах обеих сторон по широкому, но осуществимому перечню стратегических вопросов.
Не сходит с повестки дня и тема возможного членства России в НАТО. В нынешней ситуации данный вопрос представляется долгосрочным и носит скорее теоретический характер, что и подчеркнул в Лиссабоне Дмитрий Медведев. Но сама дискуссия полезна для осмысления той реальности, в которой сегодня действуют Москва и альянс. Прагматическое сотрудничество, о котором идет речь, самоценно и по меньшей мере обеспечит положительный настрой для продолжения диалога с учетом накопления позитивного опыта.
Сегодня у России и НАТО гораздо больше общих угроз безопасности, чем в любой другой период со времени окончания холодной войны. К ним относятся: нестабильность в Афганистане и вокруг него; эскалация региональных конфликтов; распространение оружия массового уничтожения (ОМУ) и ракетных технологий; угрозы, которые представляют негосударственные структуры, включая террористические сети и организованную преступность. В этих и других областях интересы не всегда совпадают, но сотрудничество, так или иначе, облегчает достижение важных и общих политических целей.
После мирового финансового кризиса и НАТО, и Россия располагают меньшими ресурсами на оборону и обеспечение безопасности, поэтому обе стороны значительно выиграют от экономически более эффективного совместного подхода. Россию и государства – члены альянса объединяет ощущение неопределенности или даже уязвимости перед неизвестными рисками, которые несут с собой изменения в соотношении сил на мировой арене. Трансформация отношений из «партнеров поневоле» в «верных друзей» укрепит способность влиять на мировую и региональную ситуацию в духе сотрудничества и уважения интересов друг друга.
В новой стратегической концепции НАТО, принятой в Лиссабоне, партнерству с Москвой уделена значительная роль. Стратегия, по сути, нацелена на сближение (хотя и без перспективы российского членства) с созданием более прочных механизмов укрепления доверия. Необходим более эффективный процесс совместного принятия решений и расширения сфер практического сотрудничества на всех уровнях.
Взаимные выгоды
И НАТО, и Россия извлекут немало выгод из преодоления наследия холодной войны и разработки действенных механизмов по совместному противодействию региональным и глобальным угрозам.
Для Североатлантического альянса задача преобразования отношений с Россией соотносится с намечающейся внутри организации тенденцией выхода из периода операций «вне зоны ответственности» (подобных афганской). Силы вновь сосредоточатся на основной миссии – завершении работы по обеспечению безопасности Евро-Атлантического региона. Неопределенность и разногласия внутри самой НАТО по поводу России мешают коллективной способности альянса эффективно отвечать на существующие и потенциальные угрозы. Улучшение отношений через меры укрепления доверия и практическое сотрудничество с Москвой будут способствовать большей сплоченности и действенности НАТО.
Более здоровые отношения с Россией необходимы и в контексте сегодняшних приоритетов альянса, которые включают: разработку разумной и обоснованной стратегии выхода из Афганистана; углубление многостороннего сотрудничества в области противоракетной обороны; решение проблемы распространения ОМУ; предотвращение возникновения новых конфликтов в Евразии; развитие сотрудничества в новых областях, таких как Арктика, энерго- и кибербезопасность. У НАТО гораздо больше шансов на успех при российской поддержке, нежели без нее.
Исчезновение враждебности может кардинально улучшить отношения Москвы с Западом в целом, создавая благоприятный климат проведения внутрироссийских реформ. Россия заинтересована в том, чтобы окончательный вывод войск альянса из Афганистана не привел к дестабилизации в Центральной Азии. Россия выступает за коллективный подход к разработке системы противоракетной обороны в Европе. Кроме того, сближение будет способствовать модернизации российских Вооруженных сил – ведь при таком развитии событий Москва сможет направить имеющиеся ресурсы на преодоление реальных и новых угроз, расширив возможности обмена технологиями с государствами НАТО.
Необходимость перемен подкрепляется общественными настроениями в России и в странах альянса. Согласно недавнему опросу, проведенному исследовательским центром Pew, доля россиян, позитивно относящихся к Североатлантическому блоку, возросла с 24 до 40%, что выше, чем в каком-либо государстве – члене этой организации. В свою очередь, в странах НАТО прослеживается тенденция к росту положительного восприятия России. В прошлом году во Франции и Германии количество людей, позитивно воспринимающих Россию, увеличилось на 8%, в Польше – на 12%, в США – на 6%.
Интеграция России и НАТО
В последние месяцы в экспертных дискуссиях обсуждался вопрос о преимуществах и недостатках членства России в НАТО. Трудно представить себе более благоприятное развитие событий для евро-атлантической безопасности, чем такой радикальный выход из ситуации недоверия. Однако достижение прогресса в этой области более вероятно при терпеливом и постепенном подходе, нежели через внезапный шаг декларативного плана. Гораздо продуктивнее сосредоточиться на проблеме общего улучшения отношений, не стремясь определить ожидаемый конечный результат. Дебаты по поводу такого определения сегодня вызовут серьезные разногласия. Тем не менее, чрезвычайно важно разработать стратегию сотрудничества, которая поможет наладить доверие, взаимопонимание и желание сообща решать существующие проблемы.
Важно четко понимать, чем не является интеграция России и НАТО. Она не означает:
распространения на Россию статьи 5 Вашингтонского договора об обязательствах по взаимной обороне или какого-либо ослабления обязательств альянса, в соответствии с этой статьей, перед государствами – членами организации;
отказа какого-либо государства, будь то Россия, государство – член или партнер НАТО, от суверенитета в области обороны и безопасности;
каких-либо изменений в отношениях России или НАТО с третьими сторонами, например, Китаем;
каких-либо запретов на развитие сотрудничества организации со странами Евразии, например, Грузией и Украиной.
Шаги в сторону интеграции в контексте образования единого сообщества в области безопасности от Ванкувера до Владивостока должны быть сфокусированы на следующих стратегических целях:
Разработка мер по предотвращению нового обострения локальных противоречий, чтобы исключить вероятность возникновения в Европе регионального конфликта с применением обычных средств ведения войны.
Достижение более высокого уровня доверия и создание эффективных механизмов принятия решений между членами НАТО и Россией.
Выработка совместного подхода к вызовам безопасности в соседних регионах. Это включает: активизацию сотрудничества на афганском направлении; взаимовыгодные связи между НАТО и ОДКБ, например, в области борьбы с наркоторговлей; прогресс в достижении оперативной совместимости.
Сотрудничество перед лицом новых вызовов в области безопасности – таких как распространение ядерных вооружений, изменение климата, наркоторговля и кибер- и энергобезопасность.
Вклад в разработку новой системы глобальной стабильности, в рамках которой США, Европейский союз и Россия будут действовать слаженно и эффективно для разрешения кризисов.
Обсуждение предложений президента Дмитрия Медведева об усовершенствовании архитектуры европейской безопасности.
Выстраивать отношения, лишенные взаимного восприятия угрозы, будет нелегко. Серьезным препятствием представляется то, что политические элиты с обеих сторон не считают сегодня эту задачу приоритетной. В российском обществе существуют влиятельные круги, которые продолжают видеть в НАТО угрозу. Сохраняющееся наследие конфликта на Кавказе в августе 2008 г. прослеживается, например, в трудностях согласования нового договора по обычным вооружениям в Европе.
Отдельные европейские страны предпочли бы использовать иные механизмы, такие, как ЕС или ОБСЕ, для трансформации отношений между Москвой и Западом в области безопасности. Тем не менее, предстоящие месяцы станут решающими для определения траектории отношений Россия–НАТО на следующие десять лет.
Зеленый свет из Лиссабона
Лиссабонский саммит, который прошел в очень конструктивной атмосфере, по сути, дал «зеленый свет» разработке новой стратегической концепции Россия–НАТО. Она должна:
Оформить пакет новых мер по укреплению доверия, которые могут в предстоящие годы значительно уменьшить или даже устранить восприятие друг друга в качестве угрозы. Необходим обширный список таких шагов, как возобновление режимов контроля над вооружениями по типу ДОВСЕ, исключение провокационных действий вдоль общих границ и совершенствование механизма обмена информацией.
Сократить планы мероприятий на случай широкомасштабной войны и иных конфликтов между НАТО и Россией с тем, чтобы война рассматривалась обеими сторонами как невозможная.
Подготовить план совместных действий по евразийской безопасности, в котором будут определены области сотрудничества, включая локальные конфликты, терроризм и наркоторговлю.
Договориться о дорожной карте по созданию единой системы противоракетной обороны.
Резко увеличить количество контактов между военными для повышения транспарентности и оперативной совместимости, углубления обсуждения оборонных доктрин и военных реформ. Сотрудничество в области оборонной промышленности следует расширять, в частности, за счет закупок друг у друга военной техники и ее компонентов.
Отреагировать на предложения Дмитрия Медведева по архитектуре евро-атлантической безопасности путем поощрения более тесных предметных связей между НАТО, Россией, Евросоюзом, ОБСЕ и ОДКБ. Обновленные отношения России и НАТО должны стать ключевым элементом сетевой архитектуры безопасности. Возможен ежегодный созыв специального саммита с участием представителей Североатлантического альянса, Европейского союза и России, а также ОБСЕ и ОДКБ для решения главных проблем региональной безопасности и распределения связанных с этим усилий.
Учредить Общественный совет Россия–НАТО, который будет заниматься развитием регулярных обменов между лицами, принимающими решения, экспертами и теми, кто формирует общественное мнение, для улучшения взаимопонимания и генерирования новых идей.
Кроме совместных акций обе стороны должны предпринимать односторонние действия по созданию благоприятного климата для трансформации отношений России и НАТО.
Шаги НАТО
Североатлантическому альянсу следует приступить к осуществлению практических шагов по достижению кардинальной трансформации отношений с Россией через определение возможных областей реального сотрудничества. От НАТО не должны исходить сигналы, подрывающие доверие, которые могут восприниматься Москвой в качестве угрозы.
Среди прочего целесообразно:
Обеспечить надежные гарантии безопасности для государств – членов альянса из Центральной и Восточной Европы не через планирование вариантов противодействия российской угрозе в стиле холодной войны, а при помощи формирования доверия к России.
Четко заявить о том, что НАТО не вынашивает планов и не предпринимает действий, направленных против России (в более определенной форме, чем это сделано в новой стратегической концепции альянса, которая утверждает, что он не является угрозой для России). Прекратить учения на границах с Россией и провокационное патрулирование воздушного пространства.
Определить список областей сотрудничества с Москвой, включая противоракетную оборону, энерго- и кибербезопасность и изменения климата. Особый акцент необходимо сделать на взаимодействии с Россией в Арктике. В новой стратегической концепции об этом сказано недостаточно четко.
Подчеркнуть позитивный вклад России в операции альянса в Афганистане через развитие северных маршрутов военных поставок и предложить Москве сотрудничество в выработке региональной стратегии стабилизации в Афганистане.
Приложить особые усилия для обеспечения эффективности и авторитета Совета Россия–НАТО (СРН) путем назначения специального заместителя Генерального секретаря организации, ответственного за координацию работы СРН. Некоторые области, вызывающие взаимную озабоченность, должны быть переданы СРН в качестве четко оговоренной компетенции.
Шаги России
В свою очередь, Россия должна сделать приоритетом задачу улучшения отношений с НАТО в рамках сформулированного президентом Медведевым стратегического видения всеобъемлющей архитектуры европейской безопасности. Реакцией Москвы на предложение более тесной интеграции с Североатлантическим альянсом должны стать:
Четкое заявление о том, что Россия больше не занимается планированием вариантов действий на случай войны с НАТО.
Прекращение широкомасштабных учений на границах с альянсом и провокационного патрулирования воздушного пространства.
Соблюдение положений Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) по обмену информацией даже в ситуации, когда действие договора временно приостановлено.
Демонстрация готовности участвовать в совместном процессе принятия решений в рамках СРН и отказ от использования Совета в качестве трибуны для подрывающих доверие заявлений.
Отказ от восприятия в качестве вызова или угрозы сотрудничество НАТО с другими партнерами по Совету Евро-Атлантического партнерства, странами бывшего Советского Союза.
Области практического сотрудничества
Существует консенсус относительно того, что трансформация отношений России и НАТО может произойти только при осуществлении практического сотрудничества в конкретных областях. Из них предлагается выделить несколько приоритетных.
Меры по укреплению доверия и демилитаризация отношений. Отсутствие доверия – главное препятствие на пути сотрудничества после окончания холодной войны. Можно сказать, что уровень взаимного доверия сегодня ниже, чем он был в 1990-е гг. – во время совместных операций в Боснии.
Существуют четыре направления, которые могут способствовать укреплению доверия и процессу демилитаризации:
Режимы контроля над вооружениями, включая возобновление действия ДОВСЕ. Следует попытаться найти компромиссное решение по этому договору, чтобы восстановить режим контроля над вооружениями в Европе, сохранить обмен информацией и механизм инспекций и проверок. В случае неудачи в возрождении ДОВСЕ необходимо обеспечить функционирование механизмов обмена информацией и инспекций через подписание нового документа или через расширение сферы действия других договоров.
Специальные соглашения по типу договора между Россией и Китаем о демилитаризации российско-китайской границы. Россия и НАТО могут договориться о сокращении вооруженных сил по обе стороны границ, свести к минимуму такие провокационные действия, как не вызванное требованиями безопасности патрулирование воздушного пространства, и согласиться с тем, что ни та, ни другая сторона не будут проводить масштабных учений в непосредственной близости друг от друга.
Односторонние заверения для снятия конкретных опасений в области безопасности.
Общественная дипломатия для снижения восприятия обоюдной угрозы и улучшения взаимопонимания и прозрачности.
Действия такого рода могут также включать: обмен информацией о практическом опыте; разработку общего оперативного замысла Совместной аэрокосмической инициативы через обмен данными и совместные учения по мониторингу вторгшихся в чужое воздушное пространство самолетов; обсуждение ядерных доктрин и потенциала.
Сотрудничество по Афганистану будет решающим испытанием способности России и НАТО трансформировать отношения. Россия очень заинтересована в стабильном Афганистане из-за проблемы наркоторговли и угрозы дестабилизации Центральной Азии. Хотя между Москвой и альянсом есть немало разногласий, они могли бы более тесно сотрудничать по урегулированию ситуации. Краткосрочные задачи включают в себя следующее:
рганизация регулярных консультаций СРН о стратегии вывода войск НАТО из Афганистана. Это будет способствовать продвижению региональной стратегии, в которой примут участие все ключевые заинтересованные стороны, в том числе Иран, Китай, Пакистан и государства Центральной Азии, которые все являются либо членами, либо наблюдателями Шанхайской организации сотрудничества.
Более активное сотрудничество в области воздушных перевозок для войск НАТО и Афганской национальной армии. России следует расширить рамки механизма аренды воздушных судов, включив в него транспортные вертолеты для переброски крупнотоннажных грузов, и предоставить самолеты для обучения афганских национальных вооруженных сил.
Более активное использование альянсом Северной распределительной сети (СРС). НАТО уже пользуется северными маршрутами поставок для нелетальных вооружений. Учитывая повышение пропускной способности СРС и ожидаемое увеличение потребностей, альянс мог бы более активно пользоваться СРС и сократить зависимость от маршрутов через Пакистан.
Сотрудничество в области противоракетной обороны. Россия и НАТО уже несколько лет обсуждают сотрудничество в области противоракетной обороны на театре военных действий. Изменение в планах Соединенных Штатов умерило российские возражения и открыло возможности для создания совместной системы ПРО. Москва могла бы сыграть важную роль в будущей европейской системе, выполняя различные функции, включая оценку угроз, раннее обнаружение, противодействие случайным или несанкционированным запускам ракет и общие инициативы по ограничению распространения баллистических ракет. Следует рассмотреть следующие направления:
Расширить активную эшелонированную систему ПРО на театре военных действий (ALTBMD system) НАТО, включив средства ПРО верхнего эшелона, и ввести ее в действие к моменту развертывания американских SM3 ракет наземного базирования в 2015 году. Важно, чтобы Россия была частью этого расширения и чтобы оно происходило при постоянных консультациях с ней.
Разработать систему совместной оценки угроз, которые представляет собой потенциал Ирана в области баллистических ракет.
Использовать российскую РЛС для обнаружения запусков и обмена данными между системами США/НАТО и России.
Разработать совместную ПРО театра военных действий для конкретных регионов, таких, например, как Персидский залив. Совместные проекты в регионах, где у сторон существуют общие интересы, помогут укрепить доверие, необходимое для более сложных аспектов ПРО в Европе.
Реформа Совета Россия–НАТО. СРН задумывался как краеугольный камень партнерства, инструмент коллективного принятия решений и достижения консенсуса по ключевым вопросам, затрагивающим обе стороны. Тем не менее, Совет не оправдал возложенных на него надежд и за годы своего существования превратился в орган «28+1», редко принимающий какие-либо решения. Отличная работа экспертных групп стала заложницей политических разногласий и проблем в отношениях России и НАТО в целом. Будущие шаги могут включать следующее:
Вынесение определенных областей сотрудничества в непосредственную компетенцию СРН. Они могут включать кибер- и энергобезопасность, гуманитарную помощь, операции по ликвидации стихийных бедствий и борьбу с пиратством.
Гарантии того, что все страны принимают участие в работе Совета в своем национальном качестве. Это будет препятствовать формированию заранее согласованных позиций всей НАТО.
Учреждение поста заместителя Генерального секретаря, ответственного за работу СРН.
Создание Общественного совета Россия–НАТО и экспертных советов Россия–НАТО, которые будут генерировать новые идеи сотрудничества и повышать уровень осведомленности общественности.
* * *
Лиссабонский саммит стал первым шагом в направлении обеспечения открытости политического пространства, на котором можно формировать повестку практического сотрудничества сторон. Пока еще довольно неустойчивый сдвиг в подходах может стать заложником риторики, инерции и внутриполитической ситуации в России и ключевых странах альянса. Повестка должна носить всеобъемлющий характер и способствовать достижению прогресса одновременно по нескольким направлениям. Было бы ошибкой выделить какой-то один вопрос как самый существенный, например, систему ПРО или иную тему, затрагивающую важные, но узкие интересы ряда стран, превратив его в барометр отношений России и НАТО в целом.
Наконец, важно избегать принятия грандиозных совместных деклараций, чреватых появлением у сторон разнонаправленных ожиданий, которые неизбежно приведут к новым разочарованиям. В то же время можно и должно четко заявить о значительной стратегической цене взаимного недоверия и упущенных возможностей сотрудничества, которое сегодня не просто реально, но и жизненно необходимо.

Сергей Лавров: Россия открыта для сотрудничества с новой администрацией США
Глава российского МИД о том, как Москва планирует выстраивать диалог с руководством США и Китая
Аркадий Дубнов Федор Лукьянов
В минувший вторник президент США Барак Обама был переизбран на второй срок, а в скором времени съезд Компартии Китая выберет новое поколение партийных руководителей. О том, как Москва планирует выстраивать диалог с руководством двух крупнейших экономик мира, а также об усилиях России в сирийском урегулировании, о военной помощи странам Центральной Азии и сотрудничестве с оппозицией в странах СНГ в интервью газете "Московские новости" рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
— Как нам относиться к победе Обамы?
— Как к выбору американского народа и воле избирателей.
Я читал про разные несоответствия и нарушения прав избирателей. Но никто не собирается подвергать сомнению объявленные результаты американских выборов. Естественно, мы будем продолжать работать с администрацией, которая, скорее всего, обновится. В частности Хиллари Клинтон заявила, что она едва ли останется на посту госсекретаря США. Во время встречи во Владивостоке «на полях» саммита АТЭС она мне это также подтвердила.
Мы готовы работать с США на основе равноправия, взаимной выгоды и взаимного уважения. У наших стран есть немало совпадающих интересов. В то же время имеются и расхождения по некоторым вопросам — без этого никогда не обходится. Будем готовы идти настолько далеко в углублении сотрудничества, насколько будет готова к этому американская администрация.
— Иногда создается впечатление, что вне зависимости от личностей президента и госсекретаря США мы застряли в одном круге вопросов, которые обсуждаются уже много лет. Однако в настоящее время уже новая, совсем другая повестка дня, которая не связана с наследием прошлого. Возникают новые проблемы в Азии и Арктике. Готовы ли мы предложить новую повестку и готовы ли американцы ее обсуждать?
— По большому счету мы ее уже обсуждаем. Давно российско-американские отношения не ограничиваются только взаимным подсчетом боеголовок. Хотя Договор СНВ-3, безусловно, важный документ и нас вполне удовлетворяет то, как он реализуется сейчас на практике, и, как я понимаю, американцев тоже, но отношения России и США гораздо богаче. На встрече президентов Путина и Обамы в Лос-Кабосе в июне 2012 г. особый акцент был сделан на необходимости укреплять экономическую «подушку» отношений. Стыдно иметь такой объем взаимной торговли и взаимных инвестиций. Российский президент предложил подумать о создании механизма, который позволял бы отслеживать проблемы с инвестиционным климатом, с которыми сталкиваются российские компании в США и американские — в России. По понятным причинам предвыборного периода эта идея пока не была облечена во что-то конкретное, но она остается на повестке дня, и как только администрация в Вашингтоне перегруппируется и будет готова к работе, мы к задумке вернемся.
В российско-американских отношениях наблюдается неплохое продвижение на направлении, которое практически отсутствовало долгое время, – это контакты между людьми. Мы подписали договоренности об облегчении визового режима для бизнесменов и туристов, которые существенно облегчают этим категориям граждан условия поездок. Здесь я также упомянул бы вступившее в силу неделю назад Соглашение о сотрудничестве в сфере международного усыновления/удочерения. Эта тема создавала и продолжает создавать большие раздражители в общественном мнении. Надеюсь, осуществление Соглашения позволит снимать шероховатости и избегать ненужных полемических эмоциональных всплесков. Главное — навести порядок в том, как приемные дети чувствуют себя в новых приемных семьях и как к ним относятся.
Безусловно, системообразующим фактором в двусторонних отношениях является российско-американская Президентская комиссия. Сейчас в ней 21 рабочая группа, которые занимаются различными вопросами — от сельского хозяйства до космоса, от борьбы с терроризмом до продвижения инноваций. Это достаточно полезный инструмент. После завершения в США всех выборных баталий, когда займемся спокойной работой, мы хотим его активизировать, потому что в последнее время он стал работать пассивно. Механизм действительно очень полезный, у нас такого никогда не было. Функционировала комиссия Гор – Черномырдин, но она занималась только экономикой. А здесь — практически все мыслимые сферы двустороннего взаимодействия, включая международную тематику.
Считаю, что все это в совокупности создает неплохой задел для углубления отношений на всех направлениях, не ограничиваясь только проблематикой международной безопасности и стратегической стабильности. Безусловно, Азиатско-Тихоокеанский регион привлекает к себе все большее внимание. Президент Обама объявил его чуть ли ни главным географическим и геополитическим направлением американских внешнеполитических усилий. Мы также подчеркнули его значимость проведением саммита АТЭС во Владивостоке в нынешнем году и доказали, что хотим активно интегрировать Дальний Восток и Восточную Сибирь Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанский регион, использовать его потенциал для решения внутренних задач по подъему этих территорий России, одновременно вносить свой вклад в интеграционные процессы в данном регионе и подключаться к быстро набирающему обороты интеграционному взаимодействию в самых разных форматах. Эти вопросы обсуждаем с американскими коллегами по двусторонней линии и на многосторонних форумах. Говорили об этом с госсекретарем США Хиллари Клинтон во время встречи во Владивостоке «на полях» саммита АТЭС.
У наших стран есть общий интерес в развитии сравнительно нового механизма сотрудничества – Восточноазиатские саммиты (ВАС), которые были инициированы странами-членами АСЕАН и их ключевыми партнерами. Россия и США стали участниками ВАС два года назад. Повестка дня предлагает достаточно широкий набор тем, где мы можем плодотворно сотрудничать. Проблематика включает нераспространение ядерного оружия, борьбу с терроризмом и наркотрафиком, пиратство, которое в Азиатско-Тихоокеанском регионе является серьезной проблемой, сотрудничество в различных сферах социально-экономического взаимодействия государств.
Мы также являемся участниками ежегодных мероприятий в рамках Регионального форума АСЕАН по безопасности. Одним из его инструментов является Совет министров обороны стран АСЕАН плюс партнеры, в котором участвуют Россия и США.
Накопление форматов, где наши пути пересекаются, где мы участвуем вместе с американцами, создают неплохую политическую массу для того, чтобы мы старались наращивать позитивные совместные действия, при сохранении расхождений по ряду вопросов развития региона. Безусловно, мы не предрешаем за страны региона, какой они хотели бы видеть свою часть мира, но вносим свой вклад в выработку коллективных подходов.
Например, нам кажется, что пришла пора всерьез заняться рассмотрением перспектив построения архитектуры коллективной безопасности в Азиатском-Тихоокеанском регионе, а в АТР ее сейчас нет. Даже в Европе существует пусть «рыхлая» и проблематичная ОБСЕ, которая включает все страны Евроатлантики. А в Азиатском-Тихоокеанском регионе такой «зонтичной» структуры не существует. Там развиваются асеановские процессы с опорой на необходимость совместной выработки принципов взаимодействия. Мы их поддерживаем. Параллельно функционируют военно-политические блоки с участием США и их ближайших союзников – Японии, Республики Корея, Австралии. Наш интерес в том, чтобы блоковые обязательства не наносили ущерба безопасности региона в целом. Это проявляется, в частности, в том, что в Азии, как и в Европе, разворачиваются компоненты глобальной американской ПРО, которые, конечно, будут создавать риски для других стран региона. Обо всем этом нужно откровенно говорить.
То же относится и к Арктике, где ситуация не так сложна с точки зрения военных блоков, которых там нет (хотя некоторые наши партнеры пытаются зазвать туда НАТО). Мы возражаем против этого. Считаем, что такой шаг станет очень плохим сигналом к милитаризации Арктики, если даже НАТО захочет туда просто зайти и освоится. Милитаризации Арктики нужно избегать всеми возможными способами.
В целом, у нас налажено неплохое сотрудничество с США по арктическим делам в рамках Арктического совета, куда входят 8 государств. Интерес к этой структуре сейчас повышается, т.к. она доказывает, что вполне способна эффективно решать имеющиеся здесь вопросы. Полтора года назад (14 мая 2011 г. в Нууке) впервые было принято межгосударственное юридически обязывающее Cоглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске и спасании на море в Арктике. Сейчас для принятия на очередной министерской встрече членов Арктического совета, которая пройдет весной 2013 г., подготовлено многостороннее межправительственное соглашение о предотвращении разливов нефти на море с жесткими требованиями в отношении тех, кто занимается там нефтеразведкой и нефтедобычей. Параллельно с этим идут важные дискуссии, вырабатываются договоренности по другим аспектам защиты окружающей среды, сохранению уклада жизни коренных народов Севера и т.п.
У Арктического совета, безусловно, большие перспективы. Его участники стараются решать сохраняющиеся проблемы по разделу континентального шельфа в полном соответствии с международным правом, прежде всего с Конвенцией по морскому праву 1982 г. Об этом говорится в декларациях, принятых министрами иностранных дел Арктического совета, и этот принцип мы свято оберегаем. Здесь никаких расхождений у нас нет.
Так что в российско-американской повестке дня есть достаточно новые пункты. Думаю, их будет больше.
— Сергей Викторович, Вы только что вернулись с Ближнего Востока, были в Египте, Иордании, где сделали несколько резких и серьезных заявлений, в частности, оценивая готовящуюся резолюцию Совбеза ООН по Сирии. Что было первопричиной столь жестких заявлений?
— Во-первых, на данный момент никакой резолюции не подготовлено. Но нам постоянно бросают упрек в том, что Россия блокирует принятие резолюции в Совбезе ООН. Какой резолюции? Ответ очевиден — резолюции с угрозой применения санкций против тех, кто не прекратит боевые действия и вооруженную активность. При этом наши партнеры, высказывающие нам эти упреки, говорят, что без всяких вариантов и при всех обстоятельствах Башар Асад должен уйти, а оппозиция должна продолжать ему сопротивляться. При этом публично заявляется, что оппозиция будет продолжать получать финансовую, материальную и военную помощь в виде поставок оружия.
Мы хотим понять, как призывы к принятию резолюции, которая будет обращена ко всем воюющим сторонам в Сирии с требованием прекратить это делать и остановить кровопролитие, сочетаются с безоговорочно заявляемой позицией о том, что Асад должен уйти, а оппозиция должна получать всемерную поддержку пока не добьется этой цели. Ответа на этот вопрос нет. В этой ситуации мы вынуждены делать вывод сами, что нас пытаются заманить в дискуссию в Совбезе ООН, в результате которой Совет Безопасности поддержал бы одну сторону конфликта. Мы это уже проходили и знаем, как ловко некоторые наши партнеры умеют интерпретировать резолюции Совбеза ООН и как они делают то, что в этих резолюциях абсолютно не разрешено. Поэтому нынешняя ситуация для нас совершенно ясна.
Я говорил об этом в Египте и Иордании, потому что сирийский кризис был одной из центральных тем моих бесед в Каире с президентом Египта Мурси, министром иностранных дел Амром, генеральным секретарем Лиги арабских государств(ЛАГ), со специальным представителем ООН и ЛАГ по Сирии Лахдаром Брахими; в Иордании – с королем Абдаллой II, министром иностранных дел Джодой, а также с бывшем премьер-министром Сирии, а ныне сирийским оппозиционером Риатом Хаджипом, который сейчас находится в Аммане. С ним я провел встречу, как мы встречаемся за границей и в Москве практически со всеми оппозиционными политиками, побуждая их к выполнению договоренностей, достигнутых в Женеве 30 июня с.г. постоянными членами Совбеза ООН, ЛАГ, Турцией, Евросоюзом, бывшим специальным посланником ООН/ЛАГ по Сирии Кофи Аннаном. Цель усилий – заставить всех – и правительство, и оппозицию прекратить насилие, сесть за стол переговоров, предварительно назначив переговорщиков, и согласовывать параметры и другие аспекты т.н. «переходного управляющего органа» и его состав на основе обоюдного согласия. Это записано в Женевском коммюнике.
Мы ровно этим и занимаемся в наших контактах с правительством и оппозицией, требуя от тех и других одного и того же. К сожалению, некоторые другие участники женевской встречи не хотят разговаривать с правительством. Оппозиции же они говорят: «Ваше дело правое, действуйте до победного конца».
Я уже не раз высказывался на эту тему. Если главный приоритет – прекратить насилие, то без всяких резолюций нужно сделать то, о чем договорились в Женеве. Каждый внешний игрок должен «навалиться» на ту сирийскую сторону, на которую он имеет влияние. Необходимо, чтобы все мы сделали это синхронно с одинаковой искренностью и напором, заставив их перестать стрелять. Убежден, что это в наших коллективных силах. Но это возможно, если настоящий приоритет — спасение жизней сирийцев.
Если же приоритет, фигурально говоря, — «голова Башара Асада», его уход или свержение — то сторонники такого подхода должны понимать, что они будут за это платить, но не своими жизнями, а жизнями сирийцев. Потому что Асад никуда не уходит и никуда не уйдет, кто бы ему ни говорил. Его нельзя уговорить на подобный шаг. Он слышит, как его характеризуют западные лидеры, некоторые арабские страны, соседние государства, которые грозят всем, чем можно. Он, так же как и оппозиция хочет воевать до победного конца. Оппозицию настраивает на это Запад, а Асад сам настроен на то, чтобы в этой ситуации биться до победы — хотя победы там быть не может. Буквально вчера Совет Безопасности заслушивал информацию Секретариата ООН о ситуации в Сирии. Представляя свои оценки и оценки, к которым пришел на данном этапе Лахдар Брахими, Секретариат констатировал, что обе стороны вознамерились продолжать военное противостояние в расчете на достижение победы.
Одновременно Брахими делает вывод, что победы там быть не может. Значит, будет идти война на истощение, на уничтожение людей, культурных ценностей, древнейших памятников архитектуры, таких как Алеппо, который, по печальной иронии, находится под охраной ЮНЕСКО. Вот и все, что можно сказать на эту тему.
Надо всем быть честными в выполнении того, о чем договариваемся. Резолюция – это уже «от лукавого». Если нет желания заставить одновременно всех, кто воюет, прекратить это делать, и подобное подменяется призывом принять резолюцию, то мы понимаем, о какой резолюции пойдет речь или как эту резолюцию ее сторонники собираются использовать. Об этом мы честно говорим нашим партнерам.
Не считаю, что это, как Вы выразились, какая-то резкость. Это — честная и откровенная позиция. Мы не хотим недомолвок и прямо заявляем о ней. Наши партнеры немного маскируют свой подход, говоря, что Россия не хочет принимать резолюцию. Звучит, вроде, серьезно: мол, есть желание принять резолюцию, и в этом нет ничего плохого, а вот Россия не хочет. В действительности дело обстоит так, как я рассказываю.
— Складывается ощущение, что в последние две недели на Западе начинает довольно заметно меняться отношение к сирийской оппозиции. С одной стороны, звучит разочарование, что ее невозможно объединить, с другой — растут опасения, что в рядах противников режима начинают доминировать совсем не те силы, на которых вначале делалась ставка. Может ли это как-то изменить позицию Запада?
Во время поездки Вы выступили в поддержку идеи региональной «четверки» в составе соседей Сирии и наиболее вовлеченных стран. Считаете ли Вы реальным объединить Саудовскую Аравию и Иран в одном формате?
— Безусловно, мы полагаем, что оппозицию нужно объединять на платформе готовности выполнять призыв женевской «Группы действий». Пока ее сплачивают на платформе борьбы с Б.Асадом до победного конца. Это неправильно.
Действительно, меняются подходы западных и региональных спонсоров к оппозиции, а также к формам, которые может принять это желаемое объединение. Американцы, как известно, уже сказали, что не считают, что во главе этого процесса должен стоять сирийский национальный совет, который поддерживается некоторыми странами региона – Турцией, Катаром.
В эти дни проходит встреча в Дохе, где присутствуют сирийский национальный совет и другие группы, но не все. Например, крупнейшие внутренние оппозиционные структуры, например, находящийся в Сирии Национальный координационный комитет (НКК), в последний момент отказались ехать в Доху.
Думаю, что усилия зарубежных спонсоров оппозиции по ее объединению будут продолжены, и они займут еще какое-то время. Мы стараемся повлиять на этот процесс. Не присутствуем на этих мероприятиях, но встречаемся индивидуально со всеми их участниками и в России (к нам скоро с очередным визитом должны приехать руководители НКК), и за границей (моя вчерашняя встреча в Аммане с бывшим премьер-министром Сирии Хиджапом), настраивая их на диалог с правительством. Необходимо объединяться именно на такой основе. Пока у большинства из оппозиционеров звучит мантра, что с Асадом никаких переговоров быть не может. Если это так, то мы опять возвращаемся к логике, о которой я уже говорил.
Считаем, что инициативу должны проявлять страны региона, где проживают братские по отношению к сирийцам народы. ЛАГ, которая достаточно активно пыталась заниматься сирийским кризисом, хотя не совсем непредвзято, сейчас не слышна и не видна. Я поинтересовался у Генерального секретаря Лиги арабских государств Набиля Эль-Араби причинами такой пассивности. Он сказал, что, по мнению ЛАГ, египетская инициатива должна какое-то время сейчас поработать. Мы с этим согласны. Египет и лично президент Мурси предложил разумную идею, чтобы Египет, Саудовская Аравия, Турция и Иран сформировали подобную группу, которая бы разрабатывала инициативу по преодолению сирийского кризиса.
Полагаю, что предложенный состав весьма удачен. По крайней мере, это предложение исправляет ошибку, допущенную в ходе подготовки женевской встречи, куда из-за позиции США не пригласили Иран и Саудовскую Аравию, на чем настаивала Россия. Египетская инициатива восполняет данное упущение.
На встрече с президентом Мурси в Каире я высказал российскую позицию в поддержку этого предложения. Он подтвердил, что считает его актуальным, оно остается в силе, и что эта группа из четырех региональных стран является «ядром», которое способно прирастать другими участниками. Он отметил, что был бы заинтересован и в подключении России к инициативе. Об этом можно подумать.
Естественно, если подключаться, то не в одиночку, а с кем-то из стран Запада и, конечно, с Китаем. В идеале – пять постоянных членов Совета Безопасности ООН могли бы работать вместе с этой региональной «четверкой». Но пока «четверка» не может регулярно собираться в полном составе. Как Вы упомянули, у Саудовской Аравии есть противопоказания на предмет контактов с иранцами. Считаю, что здесь надо избавляться от идеологических шор. Трудно решить сирийскую проблему без Ирана, как и без Саудовской Аравии, Турции, Египта, без соседей Сирии и многих других стран. Поэтому важен достигнутый в Женеве консенсус, который, несмотря на отсутствие Ирана и Саудовской Аравии, ими поддерживается, поскольку собрал всех, кто влияет на ситуацию извне. Если мы сможем задействовать этот богатый потенциал, чтобы выправить ситуацию, заставить стороны начать политический диалог, перевести ситуацию в переговорное русло, мы сделаем очень полезный первый шаг.
Нет гарантии, что конфликтующие стороны договорятся. Противники такого подхода говорят, что сначала Башар Асад должен уйти, утверждают, что это все бесперспективно, потому что, если Асад останется и кто-то от его правительства будет вести переговоры с оппозицией, то они будут иметь право вето. Да, они будут иметь право вето, потому что в Женевском коммюнике записано, что итогом, «продуктом» таких переговоров должно быть общее согласие. Но и оппозиция будет иметь право вето. И пока мы их не усадим за стол переговоров, не поймем, есть или нет возможности реализовать этот шанс.
— Сергей Викторович, грядет 2014 год. Приближается срок, когда международный контингент должен вывести большую часть своих войск из Афганистана. В связи с этим контрапункт всех угроз перемещается в регион Центральной Азии, являющийся для нас жизненно важным. Как Вы оцениваете серьезное закрепление России в этом регионе после визитов президента Путина в Таджикистан и Киргизию, зафиксировавшее там российское военное присутствие. Существует расхожее мнение среди элит Центральной Азии, что данный шаг якобы представляет угрозу для региона, т.к. в российском руководстве возрождаются некие имперские тенденции, — Москва силой возвращается в Азию. Как бы Вы ответили на этот вопрос, учитывая, что по сообщениям прессы, Россия готова вложиться не финансами, а вооружениями и подготовкой кадров больше чем на миллиард долларов для переоснащения киргизских вооруженных сил?
— Желающих «мутить воду» хватает не только в этих странах. Россия не утвердила там свое военное присутствие, оно там было утверждено много лет назад по просьбе упомянутых государств. Мы договорились об условиях продления пребывания наших военных баз на территории Таджикистана и Киргизии. Эти базы обеспечивают интересы безопасности, прежде всего Киргизии и Таджикистана, а также других стран, находящихся на южных рубежах Организации Договора о коллективной безопасности. И, конечно же, они, по понятным причинам, отвечают интересам обеспечения безопасности России — угрозы терроризма и наркотрафика перетекают из Афганистана через Центральную Азию к нам и далее в Европу. В известной степени мы еще и работаем на снижение угроз безопасности Европы.
Не вижу причин, по которым какая-то часть региональных элит усматривала бы в наших договоренностях некий скрытый смысл. Потому что, помимо продления пребывания российских военных баз на территории этих двух государств, мы в Киргизии одобрили целый ряд соглашений, касающихся сотрудничества в гидроэнергетической, электроэнергетической, кредитно-финансовой сферах.
Пусть скептики или те, кто высказывают опасения по поводу неких «скрытых замыслов» в этих договоренностях, объяснят, каким образом соглашения по развитию экономики Киргизии, решению кредитно-финансовых проблем поддерживают ту или иную часть элит? По-моему, всем должно быть очевидно, что это в интересах всего киргизского народа и государства. То же относится и к отношениям России с Таджикистаном. Наши страны — союзники, у нас имеются взаимные союзнические обязательства.
Да, не за горами 2014 год, когда Международные силы содействия безопасности (МССБ), выполнив свою миссии — что еще нужно доказать (по-моему, это недоказуемая вещь) – уйдут из Афганистана. Там останется американское военное присутствие в виде, кажется, шести достаточно мощных военных баз, общей численностью порядка 25-30 тыс. военнослужащих. Это немалый контингент.
Мы хотим понять, если миссия по устранению проистекающих из Афганистана угроз считается выполненной, и контингенты выводятся, то об этом, во-первых, необходимо доложить Совету Безопасности ООН, выдавшему мандат на присутствие там МССБ. Во-вторых, с какой целью там остаются мощно оснащенные американские базы? Пока американские коллеги, видимо, были заняты предвыборными хлопотами, мы ответа не получили. Но его нужно иметь, ведь речь идет о регионе, где переплетаются многочисленные интересы.
Нас, прежде всего, волнуют интересы Российской Федерации, наших союзников, которые живут в данном регионе. Эти базы и военно-техническая помощь, которая будет и далее оказываться и Киргизии, и Таджикистану, т.к. она предоставлялась на протяжении всех этих лет, — все это будет нацелено на выполнение наших взаимных обязательств, записанных в статье четвертой Договора о коллективной безопасности. Она гласит, что мы все обязуемся защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность государств-членов ДКБ. Поэтому спекуляции о том, что готовится замена западных контингентов в Афганистане на силы ОДКБ, несерьезны для тех, кто мало-мальски понимают в политике и разбираются в ситуации в регионе.
— Есть вопросы, связанные с Евразийским экономическим союзом в составе России, Белоруссии и Казахстана. В некоторых столицах высказывается серьезное сомнение в том, что тенденция к созданию наднациональных органов, к чему склоняются в Москве, угрожает самостоятельности либо суверенитету этих стран. Как бы Вы ответили на подобные опасения, учитывая, что это довольно существенная часть общественного дискурса в этих странах?
— Начнем с того, что главным инициатором евразийской интеграции был президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев, который многие годы, даже возможно, с легким упреком высказывался о пассивности других членов СНГ в том, что касается углубленного и ускоренного развития интеграционных процессов.
Во-вторых, наднациональные полномочия уже делегированы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), созданной для руководства процессами в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства по вопросам, находящимся в ее компетенции. Это не все вопросы. Но в круг полномочий ЕЭК входит ряд торговых и инвестиционных вопросов. Это признается и нашими партнерами по ВТО и в Европейском союзе, поскольку участие России во Всемирной торговой организации и наши переговоры с ЕС надо выстраивать с учетом этого нового обстоятельства.
Решение о делегировании ЕЭК таких полномочий было принято президентами России, Белоруссии и Казахстана. Это все, что мы сейчас можем сказать на эту тему. Если мы углубляем интеграцию и к 2015 году выходим на создание Евразийского экономического союза — как об этом записано в Договоре о евразийской экономической интеграции — подписанном президентами трех стран в ноябре 2011 г., то количество делегированных этой новой структуре вопросов возрастет в сравнении с тем объемом, который входит в компетенцию ЕЭК. Это будет суверенное решение трех президентов.
Речь не идет о какой-либо насильственной интеграции. Повторю, это была идея Казахстана, и ее активно поддержали Россия и Белоруссия. Я слышал сомнения в необходимости «загонять» всех в единый парламент из опасения, что парламентарии начинают там что-то свое создавать, и входящие в эту «тройку» государства лишаются законодательной суверенности.
В мае с.г. по инициативе парламентов трех наших стран была образована рабочая группа по парламентскому измерению Евразийской экономической интеграции. Это логично, поскольку в рамках создания Таможенного союза было уже подписано большое количество договоров и соглашений. Единое экономическое пространство потребовало и еще потребует значительного объема межгосударственных договоренностей, подлежащих ратификации. Если мы всерьез говорим о Евразийском экономическом союзе, то число договорных документов только возрастет. Поэтому состыковка процедур, применяемых парламентариями, выработка общих подходов, в том числе и к срокам ратификации того, что делается и подписывается на уровне исполнительной власти, — очевидная необходимость. Не нужно видеть в этом попытку искусственно продвигать парламентское измерение Евразийской экономической интеграции.
Уже стали поговаривать о намерении сделать Евразийский парламент по образцу Европарламента, который избирался бы напрямую во всех трех государствах. Я о таких планах не слышал. Наверное, есть смысл в согласовании вопросов, которые появляются в связи с необходимостью ратификационного сопровождения и интеграционных процессов, а также использования имеющегося опыта создания парламентских ассамблей, куда парламенты делегируют своих представителей. Подобные ассамблеи не имеют никакой законодательной роли, но служат площадкой для обмена идеями, информацией и сопоставления подходов. Такая парламентская ассамблея есть у ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ.
— Недавно на одной из встреч с афганскими парламентариями они неожиданно начали горячо критиковать российскую позицию по Сирии. Не возникает ли ситуация, когда наша позиция по сирийскому конфликту, очень четкая, логичная и много раз изложенная Вами, не понимается и не разделяется большинством мусульманских стран? Не теряем ли мы традиционно хорошие отношения с исламским миром, учитывая происходящие сложные процессы внутри России? Есть ли у нас четкое представление о стратегических целях в отношениях России с мусульманским миром?
— Я не ощущаю охлаждения в отношениях России с исламским миром в связи с событиями в Сирии. Наших контактов с мусульманскими странами не становится меньше. Нам высказывают понимание российской позиции и наших действий. Сирийский вопрос в мировом дискурсе просто беспрецедентно политизирован и идеологизирован. Идут подспудные процессы, о которых мало кто хочет говорить, прежде всего, потому что они касаются ситуации внутри исламского мира. Я не хочу вдаваться в детали, но процессы нас волнуют, т.к. чреваты расколом мусульман.
Попытки одного течения в исламе доминировать над всеми или поощряя последних заниматься тем же, ни к чему хорошему не приведут. Об этом доверительно и с большой тревогой говорят все наши собеседники, в том числе из стран ближневосточного региона, а также из других мусульманских государств.
Думаю, сейчас была бы очень востребована Амманская декларация, одобренная королем Иордании, который собрал в 2005 г. под своим председательством всех основных исламских богословов. Документ провозглашал всех мусульман братьями и содержал важные политические констатации необходимости избегать любых попыток подковерной борьбы внутри одной из великих мировых религий. Есть люди, которые на практике исповедуют другие принципы, и это очень печально.
Возвращаясь к основному вопросу, хочу сказать, что у нас не прекращаются контакты с коллегами из мусульманских стран. Они приезжают к нам с той же регулярностью, как и раньше. Только в этом году я, например, принимал своих коллег из Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака. Премьер-министр Ирака был с визитом и провел переговоры с президентом Путиным. На «на полях» саммита ШОС Путин встречался с президентом Афганистана Карзаем. Аналогичные контакты запланированы и на следующий год.
Даже в ходе бесед с представителями сирийской оппозиции они начинают разъяснение своих взглядов с выражения убежденности, что Россия должна оставаться на Ближнем Востоке, и это является уравновешивающим фактором в регионе, помогает обеспечивать стабильность и ощущение комфортности для расположенных здесь государств. И я думаю, это правда. По крайней мере, мы ведь никого не учим, никому уроки не преподаем. И они ценят, что мы ведем разговор взаимоуважительно и на равных, как, собственно, мы стараемся работать со всеми.
— Недавно Вы были с визитом в Пакистане. Наверное, в ходе переговоров шла речь, в том числе, об усилении в регионе роли России и Пакистана. Можно ли рассчитывать, что у Москвы и Исламабада сложатся достаточно доверительные отношения, в том числе по афганскому вопросу, но не потому, что у американцев плохие отношения с Пакистаном, а независимо от этого?
— Мы уже давно выстраиваем с Пакистаном довольно устойчивые отношения. Начали делать это задолго до того, как Пакистан разругался с американцами. Считаю, что использование беспилотников без согласия суверенного государства для ударов по целям на его территории нарушает международное право.
Отношения с Пакистаном мы развиваем не против кого-то, не против Соединенных Штатов, а в интересах собственно возобновления нашего сотрудничества, которое было достаточно разветвленным. Прежде всего, хотим его восстанавливать в торгово-экономической сфере. Есть большой интерес пакистанцев к тому, чтобы российские компании помогли модернизировать Карачинский металлургический комбинат, который создавался еще при техническом содействии Советского Союза.
Безусловно, Пакистан — один из ключевых государств, без которого решать вопросы внешних усилий по содействию стабилизации Афганистане невозможно. Мы всячески поощряем афгано-пакистанский диалог, который с разной степенью интенсивности и результативности все-таки не прерывается. Поощряем диалог между Индией и Пакистаном, нормализацию отношений между этими двумя крупными государствами Южной Азии. И в афганских делах сейчас вырисовывается ситуация, когда все региональные державы, которые мало-мальски могут влиять на процессы в Афганистане, так или иначе, участвуют в Шанхайской организации сотрудничества (либо в качестве членов, либо наблюдателей). И этот факт нужно использовать. В рамках ШОС есть контактная группа по Афганистану, созданная в период, когда Президент Афганистана участвовал в саммитах ШОС в качестве специального приглашенного. С 2012 г. Афганистан получил статус наблюдателя в ШОС вместе с Индией, Пакистаном, Ираном и Монголией.
Это открывает дополнительные возможности, поскольку с ШОС связаны страны Центральной Азии, Россия и практически все соседи Афганистана. А если взять еще и Турцию, которая стала партнером по диалогу, то получается довольно интересная комбинация. Есть общее понимание, что «площадку» ШОС нужно активнее использовать для продвижения коллективных региональных подходов, которые были бы приемлемы афганцам, но которые также важны для внешнего сопровождения происходящих в Афганистане процессов.
— В Китае открывается съезд КПК. Понятно, что там другие система и процедуры, и сюрпризы, скорее всего, невозможны. Тем не менее, налицо очень важные процессы прихода к власти пятого поколения лидеров. По Вашему мнению, можно ли ожидать от нового поколения китайского руководства каких-то нюансов или у нас отношения с Китаем настолько линейные, что все понятно на долгое время вперед?
— Прилагательное «линейные» принято употреблять для обозначения каких-то упрощенных подходов. В данном случае это не так. У нас очень разветвленные, богатые отношения с Китаем, которые имеют характер стратегического партнерства и взаимодействия, как записано в законополагающих российских документах. Эти отношения будут углубляться. В этом заинтересованы и мы, и китайцы. Причем мы хотим повышать высокотехнологичную составляющую нашего сотрудничества, — это крайне важная задача.
Что касается новых китайских лидеров, которые придут буквально в самые ближайшие дни, как я понимаю, по итогам очередного съезда Компартии Китая, то наш диалог с Пекином традиционно выстраивается практически на всех уровнях. Помимо высшего эшелона развиваются контакты, по сути, со всеми членами Политбюро ЦК КПК, из числа которых и формируется резерв для представления кандидатур на съезд. Так что мы не ожидаем сюрпризов. Убеждены, что китайская сторона продолжит углублять партнерство с Россией, обеспечивать преемственность. Мы к этому готовы и в этом заинтересованы.
— В отечественных традициях отношения с партнерами складываются так, что мы предпочитаем иметь дело только с официальной властью. Но сирийский прецедент показывает, что у нас было бы больше возможностей влиять на ситуацию, если бы до этого поддерживали отношения с сирийской оппозицией. Можем ли мы рассчитывать, что в Москве начнут с большим вниманием относиться к политической оппозиции среди наших партнеров, в том числе в странах СНГ? Либо это наш принципиальный подход, и мы имеем дело только с теми, кого мы знаем?
— Мы не работаем против действующих властей где бы то ни было. Это — принцип межгосударственных отношений, и мы его придерживаемся. В то же время мы развиваем контакты с видными политическими деятелями, не входящими в правящие круги, в большинстве стран, включая СНГ — будь то Украина или государства Центральной Азии. И это нормально, если политики работают в конституционном поле своей страны, будучи или оппозиционными, или просто готовящими себя к вхождению во власть. Могут быть самые разные варианты. Нет никаких запретов, наоборот, мы всячески поощряем наших послов и сотрудников посольств и генеральных консульств к такого рода контактам. Заинтересованы, чтобы в странах СНГ мы действительно укрепляли общение между людьми, создавали максимально комфортные условия для этого. Здесь важно вовлекать в диалог всех, кто представляют различные слои населения.
Когда в Сирии, как говорится, «прорвалось», когда начались беспорядки, столкновения, применение далеко не всегда пропорционального насилия (а сила порождает силу), когда спираль закрутилась на политической арене, появились оппозиционеры, тогда оказалось, что мы практически со всеми были знакомы. Нам не составило никакого труда тут же с ними установить контакты. Многие из них были из «спящих ячеек» — никаких политических заявлений не делали, жили в Европе, Америке, где-то еще. Мы работали и с находившимися в Сирии оппозиционерами. Нынешний вице-премьер Джамиль – представитель такой системной оппозиции, сейчас он работает в составе правительства. Мы его знаем десятки лет. То же самое можно сказать и о руководителях Национального координационного комитета: Хасан Абдельазым живет в Сирии, а Хейсам Манаа — в основном в Париже.
Задача наших послов – развивать всевозможные контакты, но мы не используем их, чтобы подзуживать кого-то. Просто получаем информацию и поддерживаем отношения. Я считаю, что это полезно.

Способна ли демократия противостоять ксенофобии?
Сравнение опыта США и России
Резюме: Демократическое правовое государство, контролируемое гражданским обществом и опирающееся на него, создает возможность выживания, самореализации и обеспечения безопасности меньшинств даже в условиях сравнительно высокой ксенофобии как состояния массового сознания.
В России принято размахивать кулаками после драки, вот и после любого массового конфликта на почве ксенофобии разворачивается публичная дискуссия о его причинах. Одни обозреватели (назовем их стихийными приверженцами конструктивизма) во всем обвиняют прессу. Мол, если бы она не подчеркивала этнической, расовой или религиозной принадлежности конфликтующих сторон и вообще не говорила бы о существовании таких проблем, то тем самым не разжигала бы (не конструировала) психологические фобии как источник конфликта. Им возражают сторонники (также в большинстве стихийные) еще более модной ныне неоинституциональной теории. Они настаивают на том, что в основе конфликтов – несовершенство институциональной среды. Будь наше государство по-настоящему демократическим и правовым, исчезли бы фундаментальные предпосылки этнических и религиозных фобий.
Сомнения в обоснованности обеих позиций возникают при попытке применить их к американскому опыту. Соединенные Штаты, бесспорно, входят в число стран с наивысшим уровнем развития либерально-демократических институтов в сфере политики и права. По уровню же ограничений для прессы с позиций политкорректности на использование «hate speech» («языка ненависти, вражды») ей, пожалуй, нет равных в мире. Но с начала 2000-х гг. в этой стране наблюдается заметный подъем ксенофобии в такой ее разновидности, как исламофобия.
Сказанное в какой-то мере объясняет наш выбор для сравнительного исследования (2010–2012 гг.) столь разных стран, как США и Россия. Сопоставив их, мы хотели выявить влияние на ксенофобию, в том числе на исламофобию, фундаментальных политических условий, связанных с типом политического режима. Предполагалось, что страна, занимающая первые строчки мировых рейтингов по уровню демократии, развитию гражданского общества, правовой защищенности граждан и защищаемых государством нормам толерантности, лучше справляется с задачей снижения фобий к представителям ислама, чем страна с заметными признаками авторитаризма и слабым, по сути зачаточным, развитием институтов гражданского общества. Реальность оказалась сложнее гипотетических конструкций. С самого начала исследования выяснилось, что исламофобия (различные формы предубеждения к исламу как идеологии и к его носителям как религиозному сообществу) более характерна именно для Америки, для современной России пока присущи иные проявления ксенофобии, а именно: этнофобия (ненависть, страх, предубеждения к этническим сообществам, объявляемым «чуждыми»), а также мигрантофобия.
«Инородцы» или «иноверцы»
Почти с самого основания Соединенных Штатов основной формой ксенофобии здесь была расовая нетерпимость. К началу XXI века удалось значительно притушить «белый расизм» – проявляющиеся в массовом сознании предрассудки в отношении афроамериканцев. Этому имеется множество свидетельств: данные социологических исследований; фиксируемые ФБР показатели снижения доли преступлений на почве расовой ненависти, включая нарушения норм политкорректности, и, разумеется, рост доли афроамериканцев на высоких государственных постах. Однако некоторое затишье на фронте преодоления ксенофобии было недолгим. После террористического акта 11 сентября 2001 г. в стране наблюдается взрыв нового проявления ксенофобии – исламофобии.
По данным национальных опросов общественного мнения, проведенных исследовательским центром Pew Research Center, менее чем за год после сентябрьского теракта (к началу 2002 г.) неблагосклонность к мусульманам выросла почти вдвое – с 17 до 29%, а к 2007 г. ее стали выражать уже более трети американцев (35%). Несмотря на то, что с 2001 г. террористические акты в США не повторялись, антиисламские настроения не идут на спад. Их во многом подогревают внешнеполитические кризисы, развившиеся как эхо американской трагедии 2001 года. Это вооруженные действия Соединенных Штатов в Ираке и Афганистане, а также немалая вероятность вооруженного конфликта с Ираном. Материалы социологических исследований различных исследовательских коллективов (Pew Research Center, Gallup, Cornell University) за 2008–2011 гг. указывают на следующие тенденции в массовом сознании американцев. Во-первых, ислам оценивается более негативно, чем другие религии («45% опрошенных высказали убежденность в том, что ислам в большей степени, нежели другие религии, поощряет насилие среди своих адептов»). Во-вторых, антиисламские настроения в той или иной форме охватывают все более значительные массы населения – от 40 до 53% американцев (по оценкам разных социологических служб).
Ведущую роль в конструировании и распространении «образа врага» играют масс-медиа. Американские исследования контента трех наиболее влиятельных и респектабельных политических газет – The New York Times, The Los Angeles Times, The Washington Post – показывают, что после событий 11 сентября 2001 г. все три издания изображали мусульман более негативно, чем прежде. Оказалось, что ограничения, вытекающие из строгих американских норм политкорректности, легко обойти. Чтобы испортить имидж, не требуется даже специально употреблять по отношению к мусульманам негативные определения. Достаточно просто соединить в одном тексте такие термины, как «террористы», «экстремисты», «радикалы», «фанатики» и «исламские фундаменталисты». В прессе усилились и так называемые «мифологические репрезентации», которые состоят в том, что те или иные качества человека прямо связывают (или косвенно соединяют упоминанием в другой части текста) не с его социальными характеристиками, местом проживания, образованием, а с вероисповеданием, с исламом.
Если есть спрос, то будет и предложение. После 2001 г. в США проявился массовый спрос на негативный образ мусульманина, и масс-медиа как разновидность бизнеса работает на его удовлетворение (можно сказать – эксплуатацию), тем самым усиливая негативные образы и расширяя зону распространения сложившихся предрассудков. Все заслоны на этом пути оказываются легко преодолимыми.
В Соединенных Штатах примерно 7 млн мусульман (это около 2,5% населения). В списке религиозных сообществ они занимают лишь четвертую строчку по численности верующих, но по притяжению к себе различных фобий – первую. В Российской Федерации намного больше мусульман (не менее 20 млн человек – около 15% населения) – ислам является второй религией по числу приверженцев, но в силу ряда исторических обстоятельств он пока находится в поле преобладания нейтральных и позитивных оценок населения.
В России межрелигиозная вражда сравнительно менее заметна, чем межэтническая, что подтверждается результатами многолетнего мониторинга ксенофобии, проводимого Левада-Центром. Мониторинг свидетельствует об избирательном отношении большинства россиян к представителям ислама, и эта избирательность сугубо этническая. Так, негативное отношение социологи фиксируют с середины 1990-х гг. только к «северокавказской», сравнительно наименьшей группе мусульман (около 6 млн человек), да и то не ко всей, а лишь к отдельным ее народам. К наибольшей же группе коренных российских мусульман, «поволжско-урало-сибирской» (татары, башкиры, коренные поволжские и уральские казахи и другие – всего около 8 млн человек), в массовом сознании россиян устойчиво преобладают нейтральные и позитивные оценки. В США же этнические различия в рамках исламофобии не проявляются или по крайней мере не улавливаются специальными исследованиями. Американские респонденты, как правило, слабо отличают мусульман-арабов от мусульман-иранцев, турок от пакистанцев. Расплывчатость образа порой приводила к курьезам – негативное отношение распространилось даже на индусов-сикхов, только потому, что их религиозный головной убор дастар напоминает исламскую чалму.
В России ксенофобия одно время была сильно сфокусирована на определенные этнические общности. Ее взрыв приходится на период первой «чеченской войны». Мониторинг Левада-Центра показывает, что именно в 1994 г. (начало боевых действий в Чечне) впервые за все годы наблюдений доля негативных оценок по отношению к одной из этнических групп (в то время это были только чеченцы) превысила долю позитивных, составив 51% опрошенных. С конца 1990-х гг. ксенофобия расползлась вширь – негативные оценки стали преобладающими по отношению к большинству других этнических групп Кавказа. В 2000-х гг. список «нелюбимых» национальностей пополнили различные этнические группы мигрантов из региона, который поставляет большую их часть в Россию, – Средней Азии. Такая концентрация этнических фобий на представителях народов, исторически связанных с исламом, неизбежно влечет за собой дополнение этнофобии в России исламофобией.
К этому подталкивала и эскалация внутреннего российского терроризма на всей территории страны, связываемого в масс-медиа с «исламским фактором». Кроме того, на Северном Кавказе этнический сепаратизм уступает место главной идеологической основы для консолидации вооруженного подполья другой идеологии – исламскому фундаментализму. И все это влияет на изменение отношения большинства населения к исламу. Известный исследователь Алексей Малашенко отмечает двойственное отношение к исламу в российском обществе. С одной стороны, он традиционно считается «своим», а с другой – со временем все больше воспринимается как чужеродное явление. Отвечая на вопрос «Какая религия кажется вам наиболее чуждой?», относительное большинство респондентов (26%) указывает на ислам.
И все же пока исламофобия в России не достигла того уровня, который наблюдается в США. В 2011 г. один из авторов этой статьи провел опрос по однотипной анкете интернет-аудитории Соединенных Штатов и России. На вопрос «Как Вы относитесь к мусульманской религии?» ответов, характеризующих отрицательное отношение к исламу в США, было почти вдвое больше, чем в России (40% к 24%), положительное отношение проявили 22% россиян и 18% американцев, нейтральное отношение выразили подавляющее большинство респондентов из России – 52%, а в Америке таких было 35%.
Как справедливо отмечают исламоведы Георгий Энгельгардт и Алексей Крымин, российская ксенофобия направлена на «инородцев», а не на «иноверцев». Наилучшим свидетельством этого является лексикон русской ксенофобии: в нем множество широко известных оскорбительных названий этнических и расовых групп. В последние годы к ним добавились еще и оскорбления в адрес мигрантов («понаехавших»), но в этой лексике нет оскорбительных названий религий.
Past dependence
Этническая основа ксенофобии характерна для постимперского общества. Этнофобии преобладали в Российской империи и в Советском Союзе, которые объединяли в одном государстве разнородные этнические территории. В постсоветское время на некоторых из них отчетливо проявился этнический сепаратизм и на всех – развитое этническое самосознание населения. Религиозное же сознание в России никогда не было чрезмерным, а уж в советское время оно и вовсе было подорвано. Россия не прошла этап Реформации, как многие западные общества, и, возможно, поэтому конфессиональные различия не были столь значимыми для социальной и политической жизни.
Иную роль религия играла в англосаксонской культуре. Как раз со времен Реформации важнейшие политические коллизии на Британских островах тесно переплетались с религиозным противостоянием. На противоборстве протестантов и католиков были густо замешаны политические конфликты Англии с Шотландией, Англии с Ирландией, а затем политическая борьба времен Английской революции XVII века. Она прочно соединялась в массовом сознании с борьбой реформаторов-протестантов («пуритан») с традиционалистами-католиками («папистами»). Как отмечают историки, «радикальный пуританизм, выступавший за углубление Реформации, стал идеологическим знаменем Английской революции 1640–1649 гг.». Пуритане стояли и у истоков Соединенных Штатов. Именно с поселения пуритан в штате Массачусетс фактически началось (1620 г.) английское заселение Северной Америки. Временами пуританизм, консерватизм здесь перерастал в протестантский фундаментализм. Напомним, что и сам термин «фундаментализм» возник в США (1909 г.) применительно к его протестантской разновидности.
В Соединенных Штатах религия и ныне играет важную роль. По данным международного социологического опроса Bertelsmann Foundation (2007 г.), проведенного в 21 стране мира, американцы лидируют по доле верующих даже в сравнении с католическими странами Европы: «Верующими называют себя около 88% населения США, это намного больше, чем в большинстве развитых стран мира». По разным оценкам, от 21 до 41% американцев посещают церковь не реже, чем раз в неделю. В России же доля тех, кто посещает храм не реже одного раза в неделю, среди этнического большинства составляет, по разным оценкам, от 3 до 7%.
Все 44 президента Соединенных Штатов были христианами, из них 43 – протестантами. Социологические исследования показывают, что «идея избрать президентом атеиста или мусульманина пока не поддерживается большинством американцев». Не только религиозная принадлежность, но и религиозные убеждения политика по-прежнему важны для американских избирателей. В России же эти признаки пока не имеют политического значения. Два первых российских президента по характеру службы и партийной принадлежности в советское время обязаны были быть «воинствующими атеистами». В постсоветский период мало кто из россиян ставил им это в укор, также как мало кого из избирателей интересовала мера искренности их демонстративной постсоветской религиозности. Иное дело этничность – к ней присматриваются внимательнее. В периоды понижения популярности российских президентов им непременно придумывают фальшивые биографии – изображая нерусскими, «инородцами».
Различия в соотношении этнических и религиозных фобий (исламофобии) в России и США в немалой мере обусловлены спецификой генезиса исламского сообщества в обеих странах. В России не менее 3/4 мусульман представляют собой коренное население. При этом численно наибольшая и наиболее дружественная русским часть (татары и башкиры) проживает совместно с ними в одном государстве уже более пяти веков. В Америке, напротив, 2/3 мусульман представляют собой исторически недавних мигрантов многочисленных национальностей, прибывших из разных стран почти всех континентов. Вместе с тем особое внимание обращают на себя те 35% американских мусульман, которые являются коренными жителями Соединенных Штатов, – в основном это афроамериканцы. Лишь небольшая их часть – потомки рабов, привезенных в Америку из исламских стран Африки еще в XVII веке. Подавляющее же большинство составляют люди, принявшие ислам в результате активного призыва, проведенного во второй половине XX века афроамериканскими религиозными организациями, такими как Nation of Islam. Подобные организации боролись с расовой сегрегацией, зачастую используя идеологические средства, определяемые рядом авторитетных экспертов как идеология «черного расизма». Крайним, радикальным проявлением такого расизма была левацкая «Партия черных пантер» (Black Panther Party for Self-Defense), которая выступала «за вооруженное сопротивление социальной агрессии белых» в интересах особой «афроамериканской справедливости». Часть членов этой вооруженной, фактически террористической организации также приняла ислам. В то время смена веры была актом демонстративным, символизировавшим не только протест против государственной политики сегрегации, но и разрыв с доминирующими культурными нормами – культурой белого протестантского большинства. Так это воспринималось и многими представителями расового большинства Америки, которые с тех пор оценивают не только афроамериканский ислам, но и всю эту религию в целом как вызов, как свою антитезу. События сентября 2001 г. усилили в массовом сознании этот образ ислама.
Подведем некоторые итоги. Рост ксенофобии в таких разных странах, как Россия и США, как будто бы подтверждает известную гипотезу о несоциальной и неполитической ее природе этого явления. По мнению ряда этологов, ксенофобия является биологически детерминированным феноменом, что объясняет ее иррациональность, неподверженность рациональным доводам. Если это верно, то ксенофобия в принципе неустранима в человеческом сообществе – она лишь переходит из одной формы в другие, например, расизм может трансформироваться в исламофобию. Однако вовсе не биологическая природа играет ведущую роль в проблемах ксенофобии.
Ее структура, а именно соотношение расовых, этнических и религиозных фобий, задается не биологией, а преимущественно историко-культурными особенностями развития той или иной страны. Вместе с тем такая структура слабо связана с типом политического режима и другими важнейшими признаками политического устройства государства.
Подъемы, всплески, взрывы ксенофобии не имеют прямого отношения к биологической природе человека (она-то как раз практически не изменяется), но также не связаны и с типом политического режима. Чаще всего они обусловлены несистемными социально-политическими факторами, радикально изменяющими привычное течение жизни. Это могут быть крупные террористические атаки (например, события 11 сентября 2001 г.); длительные вооруженные столкновения инсургентов с регулярной армией (типа «чеченской войны»); а также различные кризисы – межгосударственных отношений, демографические (когда большинство становится или может стать меньшинством), экономические и др.
Раз так, возникает вопрос: способны ли либерально-демократические институты и другие фундаментальные политические условия демократического государства оказать сдерживающее влияние на распространение ксенофобии, в том числе такой ее разновидности, как исламофобия?
Централизованная беззащитность и сетевая самозащита
Более двух веков в России существует централизованная система организации и православных, и мусульманских сообществ, тесно совмещенная с вертикалью государственной власти. В 1788 г. по аналогии с православным Священным Синодом в России было учреждено «Магометанское Духовное собрание». Почти полтора века Духовное управление мусульман (под разными названиями), так же как и Священный Синод, подчинялось непосредственно императору. После недолгого перерыва на революцию 1917 г. и гражданскую войну централизованное духовное управление возродилось – НКВД РСФСР (!) в 1923 г. утвердил Устав Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ). В дальнейшем в СССР происходили реорганизации управления духовными делами мусульман, но так или иначе сохранялась централизованная структура (ЦДУМ или ДУМ) и контроль над ней со стороны государства. В декабре 1965 г. был создан союзный государственный орган – Совет по делам религий при Совмине СССР – «в целях последовательного осуществления политики Советского государства в отношении религий».
Духовные управления мусульман (ДУМ) сохраняются и ныне, так же как и патерналистское отношение к ним со стороны государства. Основные изменения по сравнению с советскими временами связаны, на наш взгляд, с тем, что нынешние ДУМ больше зависимы от региональных властей, чем от центральной. Эта тесная связь ДУМ с властью делает их малопригодными для защиты мусульман от произвола тех же властей – местных, когда речь идет о беспрецедентном даже для России размахе коррупции, и федеральных – в нередких случаях расширительного толкования силовыми органами «борьбы с экстремизмом». Не находя защиты от произвола со стороны официального ислама, верующие все чаще обращаются к альтернативному течению в исламе – салафизму. Но тогда власть открыто принимает сторону официального суфийского течения ислама, объявляя салафизм врагом. С конца 1990-х гг. едва ли не основным направлением «борьбы с экстремизмом» в республиках Северного Кавказа стали силовые действия против приверженцев салафитского течения ислама. В сентябре 1999 г. был принят республиканский закон «О запрете ваххабитской и иной экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан», по которому религиозное направление было приравнено к экстремизму. Это, по сути, привело к полномасштабной гражданской войне между представителями двух течений ислама. Она обернулась уже тысячами жертв (убитых, раненых, пропавших без вести). Сегодня большинство дагестанских политиков, включая депутатов Федерального собрания и самого президента республики Магомедасалама Магомедова, признают, что закон принес много вреда, но пока он не отменен.
Духовные управления мусульман, воспринимаемые как продолжение государственной власти, оказались в тяжелом положении в условиях роста недоверия к ней населения. Многочисленные исследования показывают, что быстро увеличивающаяся популярность салафитского ислама прямо связана с нарастанием социально-экономического и политического протеста населения северокавказских республик. При этом боевики в Дагестане и ряде других регионов чаще покушаются на жизнь имамов, чем на представителей исполнительной власти. Лишь полицейские несут большие потери, чем имамы мечетей традиционного суфийского толка. Таким образом, без защиты оказываются не только рядовые верующие, но и священнослужители, опирающиеся на единую вертикаль власти и религиозных организаций.
В Соединенных Штатах нет и никогда не было централизованной структуры исламского духовенства, контролируемой государством. Организации исламского сообщества являются частью гражданского общества. Приверженцы ислама шиитского и суннитского, во всех их многочисленных проявлениях, добровольно создают локальные организации и сами же выбирают те общенациональные сети, в которые готовы включиться. Эти структуры намного более независимы от государства (в организационном, правовом и экономическом отношении), чем исламские учреждения в России, и более влиятельны, чем российские.
Исламское сообщество США входит в пятерку крупнейших меньшинств страны, и уже потому с ним вынуждены считаться политики, которые получают свои посты в результате выборов. Кроме того, это сообщество институционально хорошо организовано, что делает его одной из самых влиятельных сил в электоральном отношении. Так, в 2004 г. Совет американо-исламских отношений (CAIR) – одно из множества объединений – провел кампанию в СМИ, затратив единовременно 50 млн долларов. По словам исполнительного директора CAIR Нихада Авада, его организация ежегодно тратит 10 млн долларов на проведение медийных кампаний. Весьма значительными финансовыми ресурсами располагают более крупные общественные объединения исламских организаций, такие как Федерация исламских ассоциаций Соединенных Штатов и Канады (FIAUSC), Исламское общество Северной Америки (ISNA), Совет американских мусульман (AMS), Мусульманский совет по общественным делам (MPAC), Американский альянс мусульман (AMA) и другие.
С 2004 г. в Соединенных Штатах вещает англоязычный общенациональный телеканал для мусульман Bridges TV. (В России, где мусульман втрое больше, у них нет общефедерального телеканала, хотя этого давно добиваются религиозные деятели.) В ряде штатов существуют мусульманские телепрограммы, в некоторых – не только на английском, но и на испанском языке.
Это лишь некоторые штрихи к характеристике институциональных возможностей сети американских исламских организаций. После 2001 г. эта могучая сеть, проявляя недовольство политикой Джорджа Буша, многое сделала для победы его оппонента. По данным исследователей из конфедерации мусульманских организаций США, «почти 90% мусульманских избирателей голосовали за Барака Обаму», что сыграло не последнюю роль в исходе президентских выборов в 2008 году.
Американские объединения мусульман ставят своей целью защиту правоверных от дискриминации и обеспечение их возможности быть услышанными в публичном пространстве. Они же отстаивают точку зрения мусульман в органах законодательной и исполнительной власти. Нужно отметить, они неплохо справляются со своими задачами даже в условиях нынешнего беспрецедентного размаха исламофобии. Согласно исследованию Cornell University 2008 г., около 44% американцев считали необходимым ввести ограничения гражданских свобод в отношении мусульман. Однако ни одно антиисламское требование не переросло в законодательную норму. Оно даже не доходило до рассмотрения ни на федеральном уровне, ни на уровне законодательных органов отдельных штатов, во многом потому, что исламские правозащитные организации, опираясь на антидискриминационное законодательство, пресекали в зародыше такие попытки. Они же помогли переломить сопротивление многих жителей Нью-Йорка идее строительства мечети на месте террористического акта 2001 года.
Сетевые структуры исламских общин играют заметную роль в помощи мигрантам из мусульманских стран, стремящимся адаптироваться к социально-экономическим и культурным условиям Америки. В десятках университетов, колледжей, а также в муниципальных офисах организованы центры такой адаптации, в которых представители общин сотрудничают с органами местного самоуправления и государственной власти.
Принцип партнерства составляет сущность государственной политики США во взаимоотношениях с религиозными и этническими общинами. Этот принцип кардинально отличается от российского патернализма власти, ее стремления к подчинению себе всего общественного.
В наибольшей мере идея партнерства, сотрудничества с исламскими организациями реализуется в политике Соединенных Штатов по предотвращению угроз терроризма. О значении стратегии сотрудничества можно судить по официальным документам, например докладу Государственного департамента от 9 мая 2007 года. В нем отмечается, что «сотрудничество требует создания доверенных сетей для вытеснения и маргинализации экстремистских сетей…» Еще лучше характеризует партнерство американская повседневная практика. Так, при каждом полицейском управлении существует общественная палата из представителей этнических и религиозных общин. Некоторые из них добровольно и безвозмездно являются советниками начальника полиции в том или ином городе.
А теперь попробуйте представить себе это в российских условиях, применительно к отечественным национальным и религиозным меньшинствам и полицейским управлениям. Большинству это покажется просто фантастикой. В Америке же такая практика прижилась. Согласно выводам Pew Research Center, 68% американских мусульман не только готовы к сотрудничеству, но и активно взаимодействуют с правоохранительными органами. Сотрудничество коммунитарных структур с властью дает позитивные результаты. Сколь высокой ни была бы исламофобия, но террористические акты под флагом борьбы за интересы ислама в США не повторяются уже более 10 лет. Заезжие террористы-иностранцы, такие как те, кто задумал, организовал и совершил теракт 11 сентября 2001 г., не имеют достаточной опоры в местном мусульманском сообществе.
К сожалению, принципиально иная ситуация в России. В нашей стране все известные теракты (более двух десятков в разных городах страны) совершили российские граждане. Проблема их вовлеченности в террористические организации, прикрывающиеся идеями исламского фундаментализма, с годами лишь усиливается, поскольку сеть расползается по стране. Об этом свидетельствует, например, проводимый нами мониторинг прессы южных регионов России. Даже если мы ограничимся только последней информацией, полученной непосредственно при подготовке этой статьи, то и она показывает, что в мае–июне 2012 г. в Ставрополе, Астрахани и Волгограде были проведены судебные заседания, установившие, что в этих регионах действовали вооруженные организации, состоящие из местных жителей. Они уже участвовали в террористических актах (нефтекумская вооруженная группировка Ставропольского края) или готовили их. Это значит, что угроза терроризма для населения российских краев и областей исходит ныне не только от заезжих гастролеров из республик Северного Кавказа (еще недавно только их и опасались), но и от своих соседей, местных жителей.
Вертикальное государство – горизонтальные проблемы
Важнейшим условием, предотвращающим перерастание ксенофобии в насильственные действия, является доверие населения к власти. Даже при высоких показателях ксенофобии общество с прочными традициями правовой культуры и законопослушным в своей массе населением не прибегает к насилию, если уверено, что «суд разберется» и «полиция защитит». Во многом этим обстоятельством объясняется тот факт, что в США после 2001 г. не наблюдаются массовые стычки, напоминающие погромы, какие были в России.
Возьмем за точку отсчета тот же 2001 г. и ограничим территорию инцидентов только краями и областями за пределами Северного Кавказа, к тому же выделив исключительно столкновения представителей этнического большинства с меньшинствами, связанными с исламом. При всех этих ограничениях число конфликтов и погромов в Российской Федерации оказывается устрашающе большим в сравнении с американской ситуацией. К 2012 г. насчитывается как минимум десяток таких столкновений с участием более 100 человек.
Одним из основных мотивов нападавшей стороны всегда была месть за то, что этническим меньшинствам покровительствуют коррумпированные власти. На этой же основе в декабре 2010 г. состоялась многотысячная демонстрация на Манежной площади Москвы, а затем волнения охватили 15 городов России. Поводом для них стала уверенность футбольных болельщиков (возможно, неоправданная) в том, что выходцы c Северного Кавказа, участвовавшие в убийстве Егора Свиридова (одного из лидеров движения фанатов), были отпущены на свободу в результате подкупа полицейских. Такие подозрения весьма характерны – для России общий уровень доверия властям оценивается по результатам многочисленных сравнительных исследований как один из самых низких в мире.
Недавнее стихийное бедствие (июль 2012 г.) в г. Крымске Краснодарского края продемонстрировало почти поголовное недоверие жителей этого города к властям. На территориях с полиэтническим и поликонфессиональным составом населения недоверие к власти неизбежно усиливает и «горизонтальное недоверие» к соседям, особенно к «чужакам», и с этим приходится сталкиваться повседневно в различных сферах жизни нашей страны.
Одним из общепринятых в современную эпоху защитных барьеров на пути перерастания ксенофобии как состояния массового сознания в конкретные действия, угрожающие жизни представителей меньшинств или препятствующих реализации их потребностей и интересов, является законодательство в сфере противодействия расовой и религиозной дискриминации.
В мировой практике сложились основные требования к антидискриминационному законодательству. Во-первых, должно быть очень подробно прописано определение дискриминации. При этом помимо прямой обозначается и «косвенная дискриминация», т.е. нормы и практики, которые ставят в менее благоприятное положение представителей меньшинств различного типа. Во-вторых, оно должно содержать указания на сферы общественной жизни, на которые распространяется запрет дискриминации: занятость, профессиональное образование, начальное и среднее образование, доступ к товарам и услугам, включая здравоохранение и жилье, а также социальная защита. В-третьих, важный компонент антидискриминационного законодательства – правоприменительная практика. Прежде всего должны существовать конкретные механизмы, с помощью которых жертвы дискриминации могут защитить свои права, а нарушители антидискриминационного законодательства понесут наказание. В-четвертых, обязательный компонент антидискриминационного законодательства – институционализация политики равноправия. Для этого определяются специальные функции и ответственность органов власти, местного самоуправления, а также предусматривается специализированное независимое ведомство по вопросам равенства. Этот орган должен обладать некоторыми судебными функциями, в частности иметь право на проведение собственного расследования.
В самом полном виде антидискриминационная система сложилась в США и Канаде, а из европейских стран – в Швеции. Менее развита она в других странах ЕС. Что касается России и СНГ, то в них такое законодательство, как целостная система, пока вообще отсутствует.
Ряд федеральных законов России содержит понятие «дискриминация». Наиболее подробные положения, относящиеся к равенству и запрету дискриминации, приводятся в Трудовом кодексе РФ, и, на первый взгляд, они обеспечивают защиту от дискриминации в сфере труда и при приеме на работу. Однако правоведы отмечают два фундаментальных недостатка этих норм. Во-первых, это нормы отраслевого законодательства, не вмонтированного в полноценное антидискриминационное. Во-вторых (и, наверное, это главное), они не имеют практического значения. Как в теории, так и на практике остаются непроясненными вопросы, при каких обстоятельствах, в чей адрес и какие именно требования можно заявлять при предполагаемом нарушении. Не существует установленных процедур выявления дискриминации. В России отсутствуют административные механизмы противодействия ей: на государственные и муниципальные органы управления непосредственно не возложена обязанность решать такие вопросы. В результате дискриминация широко практикуется в России.
Исследования Центра этнополитических и региональных исследований показали, что ксенофобия порождает фактическую дискриминацию национальных меньшинств, прежде всего при найме на работу, а также при покупке и аренде жилья. Так, при экспериментальных исследованиях на 50 предприятиях юга России, дававших объявления о найме работников, было установлено, что в более чем 40% случаев отказ от приема на работу мог быть определен как проявление дискриминации по национальному признаку.
В вертикальном государстве законы защищают власть и политический строй, а не рядового человека. Этим определяется фундаментальная проблема постсоветского, в том числе и российского, правозащитного законодательства – оно декларативно и лишь имитирует защиту гражданина. И поэтому не только не способно предотвратить массовые волнения и межгрупповые конфликты, но и само провоцирует их.
Ксенофобия сознания и ксенофобия действия
Итак, ответим на вопрос, вынесенный в название статьи. На наш взгляд, демократическое правовое государство способно противостоять ксенофобии (исламофобии) – ее разрушительным последствиям, хотя и не может остановить взрывные подъемы фобий в массовом сознании, так же как оно не в силах предотвратить глобальные экономические кризисы или экологические катастрофы. Мы полагаем, что стоит изменить традиционную постановку целей политики в отношении ксенофобии. Такая политика должна быть направлена не столько на манипуляцию массовым сознанием (для выдавливания из него фобии), сколько на предотвращение перехода ксенофобии идей и оценок в ксенофобию действий. Иными словами, речь идет о переносе усилий властей и общества в сторону блокирования опасных последствий любых перемен в массовом сознании. Такой барьер способно выставить демократическое правовое государство, контролируемое гражданским обществом и опирающееся на него. Присущие такому государству политические условия создают возможность выживания, самореализации и обеспечения безопасности меньшинств даже в условиях сравнительно высокой ксенофобии как состояния массового сознания.
В России сложились лучшие, чем в США, историко-культурные предпосылки для дружественного, партнерского взаимодействия исламских меньшинств с большинством населения страны. Но как наши богатейшие природные ресурсы не сделали Россию самой богатой страной, так и историко-культурные предпосылки дружбы народов зачастую не реализуются в реальном взаимодействии людей. В восьмерке ведущих стран мира Россия лидирует, к сожалению, не по своим экономическим достижениям, а по числу террористических актов и крупных межгрупповых столкновений на этнической, а в последние годы уже и на религиозной основе.
В России иная, чем в Америке, история исламского сообщества, его численность, расселение и характер взаимоотношений с большинством населения, но, несмотря на всю российскую специфику, давно назрела необходимость восприятия универсальной тенденции разгосударствления и «гражданизации» религии – включения религиозных сообществ в систему институтов гражданского общества. Еще очевидней необходимость создания и воплощения в реальную судебную практику антидискриминационного законодательства, соответствующего мировым нормам. Вопрос лишь в том, возможны ли эти частные преобразования при сохранении в стране политического режима нынешнего типа?
Э.А. Паин – доктор политических наук, профессор Национального исследовательского университета – Высшей школы экономики, генеральный директор Центра этнополитических исследований.
М.А. Суслова – аспирантка факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ

С оружием
Как Вашингтон не утрачивал позиций на рынке вооружений
Резюме: США – вероятно, самый политизированный и даже идеологизированный экспортер вооружений. Внешнеполитические и идеологические предрассудки и опасения утечки передовых технологий не дают американским компаниям раздавить конкурентов на мировом рынке.
Статья Джонатана Каверли и Этана Кэпштейна «Как Вашингтон утратил монополию в продажах оружия» представляет собой в высшей степени интересный взгляд академических ученых из США на процессы, происходящие на рынке вооружений. Рассуждая главным образом об изменении американской позиции на этом рынке и утверждая, что в нулевые годы Соединенные Штаты утратили монопольное положение, достигнутое в 1990-х гг., авторы затрагивают и более фундаментальные вопросы. Первый – об общей эволюции конфигурации игроков на этом рынке. Второй – уже по сути теоретический – о базовых факторах, как политических, так и экономических, определяющих эту эволюцию. Основной причиной утраты позиции на рынке авторы считают ориентацию американского ВПК на производство слишком сложных дорогих высокотехнологичных вооружений, которые начинают проигрывать более простым и доступным по цене системам европейского, российского, израильского или даже южнокорейского производства.
Девяностые годы: а была ли монополия США?
Можно согласиться, что начало 1990-х гг. действительно было периодом, когда позиции Соединенных Штатов на рынке оружия по сравнению с 1980-ми гг. заметно усилились. Это стало следствием резкого сокращения с 1992 г. российских поставок, а также ухода с рынка игроков второго эшелона, которые в предыдущем десятилетии нарастили военный экспорт благодаря гигантскому спросу, порожденному ирано-иракской войной. На фоне падения советского/российского, китайского и бразильского экспорта, а также некоторого снижения европейских поставок сами США увеличили продажи вооружений в арабские монархии Персидского залива после войны с Ираком 1991 года.
Вообще мировые трансферты вооружений достигли максимальных объемов в 1987–1988 гг. в апогее ирано-иракской войны и многочисленных внутренних конфликтов в развивающихся странах (Афганистане, Анголе, Эфиопии, Кампучии и Никарагуа), где прозападные и прокитайские партизанские движения противостояли ориентированным на СССР правительствам. В начале 1990-х гг. Москва прекратила безвозмездные или сверхльготные поставки квазимарксистским режимам в третьем мире. Крах «мировой социалистической системы» и роспуск Организации Варшавского договора привели также к прекращению продаж бывшим союзникам в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, советский и ранний российский военный экспорт пострадал из-за ухода с рынка попавших под санкции ООН Ирака и Ливии, то есть как раз тех стран, которые вообще придавали советским оружейным поставкам хоть какую-то коммерческую составляющую. Смена советской политической парадигмы экспорта на российскую коммерческую привела также к кратковременному параличу в российско-индийских военно-технических связях. В результате действия всех этих факторов российский экспорт в 1994 г. упал до своего исторического минимума, составив всего 1,7 млрд долларов.
Окончание ирано-иракской войны, которая генерировала ежегодный многомиллиардный спрос на вооружения, нанесло сильный удар по экспортерам оружия второго эшелона, особенно по Китаю и Бразилии. Пострадали также европейские производители. КНР в 1994 г. переходит из разряда чистых экспортеров вооружений в категорию нетто-импортеров. Бразилия вообще уходит с рынка, ее оборонная промышленность практически прекращает существование.
На этом фоне США после победоносного окончания первой войны в Заливе получили крупные саудовские, эмиратские и кувейтские военные заказы, которые отчасти должны были повысить боеспособность армий заливных монархий, но главным образом стали формой благодарности Вашингтону за спасение от Саддама. Таким образом, победив в холодной войне, разгромив Ирак и избежав крупных потерь из-за прекращения ирано-иракской войны, Соединенные Штаты действительно на короткий срок резко усилили позиции на рынке вооружений. Однако это абсолютное доминирование (даже в тот период отнюдь не монополия) продолжалось не все десятилетие, как утверждают американские авторы, а всего лишь три-четыре года.
Уже в 1994 г. начинается восстановление российских позиций на рынке, причем на новых деполитизированных коммерческих началах. Подписывается исторический контракт стоимостью 650 млн долларов на поставку в Малайзию 18 истребителей МиГ-29N, исполняются первые крупные китайские контракты, прежде всего на истребители Су-27СК/УБК, восстанавливается сотрудничество с Индией и Вьетнамом, продолжаются поставки бронетехники и подводных лодок по контрактам, заключенным еще в советское время с Ираном. Россия получает свою долю благодарности от аравийских монархов – ОАЭ и Кувейт закупают крупные партии боевых машин пехоты БМП-3 и реактивных систем залпового огня «Смерч». В середине – второй половине 1990-х гг. отлично сработал специфический российский маркетинговый инструмент – поставки вооружений и военной техники в счет погашения советских долгов. Благодаря этому удалось продвинуть истребители МиГ-29 в Венгрию, танки Т-80У и БМП-3 в Южную Корею, зенитные системы «Бук-М1» в Финляндию. В 1996 г. из 3,6 млрд долларов совокупного российского военного экспорта поставки в счет погашения долга составили 800 млн, или 22%.
Еще более активно наращивают присутствие на рынке Франция и Израиль. Париж получает крупные военно-морские и авиационные контракты на Тайване, саудиты покупают французские фрегаты, а ОАЭ – большую партию новейших танков Leclerc, масштабные поставки идут в Пакистан. Израиль почти одномоментно становится заметным игроком на рынке, активно продавая в КНР и Турцию электронные системы, беспилотные летательные аппараты и решения в области модернизации.
Резюмируем: скачок относительной доли США, которая действительно могла достигать на максимуме 60% мировых трансфертов, наблюдался в очень короткий период примерно с 1990 по 1994–1995 гг. и был девиацией, связанной с одновременным действием трех факторов – победой в холодной войне, победой в первой войне в Заливе и последствиями прекращения ирано-иракского конфликта. Уже к середине 1990-х гг. рынок стал возвращаться в более сбалансированное состояние, когда наряду с Соединенными Штатами крупными экспортерами оставались Великобритания и Франция, начала возвращаться на свои позиции Россия, а Израиль приступил к феноменальному восхождению.
Нулевые годы: а была ли потеря рынков?
Не так однозначно и просто выглядит и динамика американских позиций в нулевые годы. Возможно (хотя далеко не гарантированно), доля США на рынке снизилась, однако не до 30%. Вероятнее всего, она колебалась между 40 и 50%. При этом имеются лишь единичные случаи, когда Соединенные Штаты теряли бы позиции на рынке или проигрывали в прямой конкуренции, почти все эти эпизоды упомянуты авторами. В Юго-Восточной Азии это авиационные закупки Малайзии (которая продолжила приобретение российской авиатехники, заключив контракт на 18 Су-30МКМ, но отказавшись от ожидавшегося заказа на F-18F Super Hornet) и Индонезия, которая в комплектовании своих ВВС начала переориентацию на Россию и Южную Корею. Чехия и Венгрия предпочли американским машинам сверхлегкие и относительно дешевые шведские Gripen. Бразилия в тендере на закупку перспективных истребителей формально выбрала Rafale, но до сих пор не подписала контракт. Возможно, кое-что можно отнести к американским потерям в больших бразильских военно-морских контрактах 2008 г., которые также достались французам. И, конечно, знаменитый индийский тендер MMRCA на закупку 126 средних многоцелевых истребителей, где победу также одержали французы.
При этом США сохраняют прочные позиции на колоссальном рынке монархий Персидского залива. Саудовские закупки британских Typhoon или заказ ОАЭ Mirage 2000-9 (и возможное продолжение эмиратских авиационных приобретений во Франции, на сей раз Rafale) потерями назвать никак нельзя. Это воспроизводство уже сложившейся структуры источников вооружений консервативных арабских нефтяных режимов, допускающих ограниченную диверсификацию, но сохраняющих доминирование Соединенных Штатов, которые единственные в состоянии гарантировать выживание этих режимов. Резервируя часть пирога за Парижем и Лондоном, саудовские и эмиратские шейхи все равно основные деньги тратят на закупку американских F-15SA, F-16 block 60 и систем ПВО.
Boeing нанес унизительное поражение Dassault Aviation на критически важных тендерах в Южной Корее и Сингапуре, военно-воздушные силы этих стран предпочли сырым французским Rafale заслуженные американские истребители F-15. США безраздельно господствуют в Японии и Австралии. Самый большой и единственный растущий в Восточной Европе польский рынок также ориентирован на американские системы. Да, чехи и венгры арендовали в общей сложности 28 шведских Gripen, но поляки купили 48 F-16. Наконец, в нулевые годы американцы вошли на новый для себя индийский рынок, продав здесь всего за пять лет военно-транспортных и базовых патрульных самолетов, а также боевых вертолетов на сумму до 10 млрд долларов.
Фактор low cost систем
Главной причиной потери предполагаемой (но недоказанной) монополии США на оружейном рынке авторы считают уход американских компаний в нишу разработки и производства очень дорогих высокотехнологичных систем вооружений, которые начинают проигрывать более простым и дешевым образцам. Однако из всех приведенных выше примеров неудач лишь единичные можно объяснить действием этого экономического по сути фактора. Как нетрудно заметить, открытые тендеры на авиационные системы в Индии и Бразилии Соединенные Штаты проиграли французам. Но французские Rafale гораздо дороже любых американских истребителей четвертого поколения – будь то тяжелые F-15 и F-18 Super Hornet или средние F-16. Вообще если есть экспортер, который действительно страдает от отсутствия предложений в нише low cost, так это именно Франция. По всей видимости, как раз это обстоятельство и стало причиной относительно низких французских продаж после окончания поставок легких Mirage 2000-5/9 и демонтажа сборочной линии этих относительно дешевых (по французским, конечно, меркам) машин.
Индийские ВВС, которые, кстати, примерно до 2007–2008 гг. отдавали предпочтение именно США, не приняли американское предложение в рамках тендера MMRCA, по всей видимости, по причине неудовлетворенности предложенным уровнем трансферта технологий. Бразильский выбор объясняется наличием устоявшихся промышленных и коррупционных связей с Dassault и опять-таки готовностью французов передать права на лицензионное производство Rafale на Embraer.
Все другие примеры предполагаемых американских неудач – от китайского доминирования на пакистанском рынке до российских успехов в Малайзии и Индонезии – также объясняются политическими, технологическими или промышленными факторами, но только не ценой американских предложений. Стоимость не была определяющим фактором и в таиландском решении купить Gripen: за три года до этого выбора предыдущее тайское правительство почти подписало контракт на закупку более дорогих, особенно в эксплуатации, тяжелых российских Су-30. Так что в тайском выборе решающее значение имеют любые другие, но только не ценовые мотивы.
Получается, что чуть ли не единственным случаем, когда цена сыграла решающую роль, был чешско-венгерский (и не упомянутый авторами швейцарский) выбор в пользу маленького шведского истребителя. Характерная особенность всех трех случаев – требования боевой эффективности закупаемой системы не были приоритетными, потребность в передаче технологий со стороны Чехии и Венгрии отсутствует (швейцарская ситуация более сложная, там предполагается софинансирование покупателем создания новой, более тяжелой версии Gripen NG). При наличии военных, политических, промышленных или технологических мотивов ценовой фактор уходит на второй-третий план. Именно поэтому Индия и Бразилия, которые стремятся создать национальную военную авиационную промышленность, выбрали более дорогие французские самолеты. Именно поэтому небогатая Уганда, которой угрожает вовлечение в конфликты между Северным и Южным Суданом или в Демократической Республике Конго, закупает сложный и недешевый в эксплуатации Су-30МК2.
Кстати, вообще неверно считать, что у США отсутствуют предложения в low cost сегменте. Американские вооруженные силы сохраняют огромные запасы всех видов оружия и военной техники, которые находятся в очень хорошем состоянии и могут поставляться покупателям немедленно или после недорогой модернизации и по весьма приемлемой стоимости. На любое дешевое и простое предложение конкурентов Соединенные Штаты в состоянии ответить продвижением не менее дешевого, но вполне приличного технологического уровня вооружения и техники с баз хранения. Ни в ценовом, ни в технологическом отношении конкурировать с американцами почти невозможно, и в этом смысле Вашингтон действительно мог бы добиться монополии.
Тогда почему же этого не происходит? Главные ограничители американской экспансии на рынке вооружений – это очень жесткое законодательство в отношении трансферта технологий и склонность к постоянному введению санкций и эмбарго. Первое затрудняет продвижение американской техники в государства с растущими национальными оборонными индустриями, например, в Индию или Бразилию. Второе заставляет диверсифицировать источники вооружений государства, имеющие амбиции проведения относительно независимой внешней и оборонной политики – Малайзию, Индонезию или Алжир, например. И, само собой разумеется, исключает возможность поставок в государства-изгои – от Сирии до Северной Кореи. США – это, вероятно, самый политизированный и даже идеологизированный экспортер вооружений. И не потеря позиций на рынке вооружений ограничивает возможности Вашингтона влиять на политику других государств. Все ровно наоборот – внешнеполитические и идеологические предрассудки и опасения утечки передовых технологий не дают американским компаниям раздавить своих конкурентов на мировом рынке. Например, Пентагон препятствует кораблестроительной промышленности строить неатомные подводные лодки из-за опасения, что созданные в интересах экспортных заказчиков и поставленные за рубеж дизельные субмарины будут содержать технологии, используемые на атомных подводных кораблях. В результате растущий перспективный рынок неатомных субмарин оказался разделен между Россией, Германией и Францией, а в прошлом году на нем впервые появилась и Южная Корея.
Типы рынков вооружений
Таким образом, на рынке вооружений действует сложный комплекс переменных. Это чаще всего политические, промышленные, технологические, военные соображения и лишь чуть ли не в последнюю очередь почему-то привлекший к себе все внимание американских коллег ценовой фактор. Важную роль играет сложившаяся традиция отношений импортера и экспортера, коррупционные связи и маркетинговая эффективность. При этом в политике импортеров, как правило, присутствуют сразу несколько из перечисленных мотиваций, однако чаще всего явно доминируют лишь одна-две. При наличии такого явно выраженного доминирования одной мотивации однозначно определяется и тип рынка вооружений. Сложная и динамическая комбинация мотиваций дает промежуточный тип. В целом, как нам представляется, можно выделить следующие модели поведения покупателей на рынке вооружений:
В коррупционной модели при решении о приобретении ВВТ доминируют не рациональные общегосударственные или общенациональные интересы, а корпоративная или личная финансовая заинтересованность высокопоставленных представителей государства-импортера. Данная модель наиболее ярко выражена в странах мусульманского культурного ареала и в Латинской Америке. Кроме того, ощутимое влияние этого типа мотивации наблюдается также в Индии и странах Восточной и Юго-Восточной Азии.
В рамках зависимой модели вооружения и военная техника выступают как своеобразный промежуточный товар, призванный замаскировать истинный предмет торговли. Под видом ВВТ де-факто закупаются гарантии безопасности страны-производителя. Данная модель наиболее характерна для капиталоизбыточных стран, которые в силу демографических и культурных особенностей не в состоянии самостоятельно обеспечить внешнюю военную безопасность. Наиболее яркими примерами являются нефтедобывающие монархии Персидского залива. Соответственно, для успешного продвижения на такой рынок особое значение приобретает военно-политический вес страны-экспортера, а также достоверность ее военно-политических гарантий.
Политическая модель. Принятие решения об импорте того или иного вида ВВТ обусловлено политической ориентацией страны-покупателя. Закупая ВВТ, импортер демонстрирует свои политические и цивилизационные предпочтения, которые могут быть прозападными (ЦВЕ), антиамериканскими (Венесуэла) или подчеркнуто плюралистическими (Малайзия, Индонезия).
Блокадная модель. Как известно, целый ряд государств, армии которых испытывают острую потребность в обновлении или модернизации парка вооружений и военной техники, находятся в ситуации юридической или фактической блокады. К числу таких стран относились в свое время саддамовский Ирак и Ливийская Джамахирия. Элементы блокады в отношении поставок современных конвенциональных ВВТ присутствуют также в случае с Сирией и Ираном. Особое место занимает Тайвань, импортную модель которого следует относить скорее к зависимой, но в которой все же отчетливо присутствуют и признаки блокадного типа.
Промышленно-технологическая модель предполагает приоритет доступа к передовым военным и общепромышленным технологиям. Соответственно, ключевую роль начинают играть готовность экспортера к передаче технологий, продаже лицензий и реализации офсетных программ. Наиболее яркими примерами этого типа импортеров являются сейчас КНР, Бразилия, Индия. В последнее время к этой модели быстро эволюционируют также Южная Корея и Турция.
Наконец, собственно военная модель импорта вооружений предполагает приоритет боевых качеств закупаемых систем. В экстремальных случаях, когда импортер находится в состоянии вооруженного конфликта или существует высокая вероятность его возникновения, особое значение приобретает быстрота поставки и способность военного персонала быстро освоить закупаемое вооружение.
Перспективы
Рассуждая далее в рамках предложенной мотивационной модели рынков вооружений, нетрудно заметить, что Соединенные Штаты имеют наиболее прочные позиции на части политических и зависимых рынков. К первым прежде всего относятся государства англосаксонского цивилизационно-культурного поля, некоторые европейские союзники США и Япония. Эталонными примерами американских клиентов с зависимой мотивацией остаются аравийские нефтяные монархии, прежде всего, конечно, Саудовская Аравия. Сильны позиции и в странах, где приоритетом является обеспечение военной безопасности: американское вооружение эффективно, испытано в боях, тактика его применения отработана самыми мощными на планете вооруженными силами. Поэтому Индия предпочла проверенные ударные вертолеты Apache сырым российским Ми-28NE, по той же причине на Вашингтон ориентированы Израиль и Южная Корея, хотя эти два рынка также имеют признаки политической и даже зависимой мотивации. Нет оснований полагать, что в будущем конкурентоспособность Соединенных Штатов на указанных типах рынков снизится.
А вот государствам, для которых приоритетом является создание собственной промышленности, придется из-за американских ограничений развивать отношения прежде всего с Европой, особенно с Францией. Сейчас это наиболее заметно в случае с Бразилией, в некоторой степени в Индии. Но далее можно ожидать активизации европейского вектора таких ориентированных сегодня преимущественно на США стран, как Южная Корея или Сингапур. В общем можно предполагать, что структура покупателей американских вооружений останется в целом прежней, изменения возможны главным образом в случае политической переориентации стран (например, краха саудовского королевского дома).
Динамика российских рынков выглядит менее привлекательно. Бум продаж в нулевые годы обеспечивался за счет мощного китайского и индийского спроса, при этом обе страны решали главным образом задачи развития национальной промышленной и технологической базы. На сегодня в КНР эта задача в некоторой степени решена, а Индия повышает планку технологических требований, которые все чаще уже не могут удовлетворяться российской промышленностью. Это не значит, что в ближайшие годы индийский и даже китайский спрос на российские системы и технологии совсем исчезнет, но объемы торговли, особенно с Пекином, уже никогда не повторят тех эпических значений, которые были достигнуты в нулевые годы. Можно предположить, что промышленно-технологическая модель сотрудничества будет развиваться в отношениях с такими растущими странами, как Вьетнам и Индонезия (впрочем, для Индонезии приоритетным партнером уже стала Южная Корея), но понятно, что эти государства не компенсируют падение китайских и индийских закупок.
Другой большой группой российских клиентов, обеспечивших диверсификацию российского оборонного экспорта в минувшем десятилетии, стали государства, проводящие независимую или антизападную внешнюю и оборонную политику. Антизападная политическая мотивация при закупках присутствует у Венесуэлы и Ирана (до введения эмбарго на поставки оружия). В значительной степени политически мотивированными были и сирийские приобретения, хотя сирийская модель содержит также военные и блокадные мотивы. Вьетнам, Алжир, Малайзия и Индонезия относятся к странам с независимой внешней и оборонной политикой.
«Антизападные» рынки один за другим закрываются в результате введения международных эмбарго или политической переориентации соответствующих стран. Оставшиеся (как Венесуэла) отличаются высочайшими политическими рисками и экономической нестабильностью. Алжирский рынок близок к насыщению, а индонезийский и малайзийский открыты для конкуренции, и в последнее время успех россиянам здесь не сопутствует. В прошлом году, например, Россия проиграла южнокорейцам тендер на поставку Джакарте двух подводных лодок. Стабильным и предсказуемым в этом кластере остается только Вьетнам, который в ближайшие пять-семь лет останется ориентированным преимущественно на закупки российских вооружений. Таким образом, можно прогнозировать, что Россия, вероятно, будет терять свои позиции в пользу европейцев (прежде всего французов) и израильтян, оставаясь при этом одним из ключевых игроков на рынке.
К.В. Макиенко – заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий.

Без оружия
Как Вашингтон утратил монополию в военно-технической сфере
Джонатан Каверли – доцент Северо-Западного университета.
Этан Кэпштейн – профессор Техасского университета в Остине, приглашенный профессор Джорджтаунского университета и старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности.
Резюме: Создание небольшого количества супероружия, не имеющего аналогов, которое хотят иметь лишь немногие страны и которое подрывает военный бюджет государства, – это не большая стратегия, это политика, лишенная стратегии вообще.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 5, 2012 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
В последние 20 лет Соединенные Штаты пользовались бесспорным конкурентным преимуществом в производстве и экспорте современного обычного вооружения. Распад СССР и Организации Варшавского договора привел к резкому сокращению военных расходов России и уменьшению оружейных поставок Москвы региональным союзникам. В то же время глобализация способствовала процветанию крупных фирм, позволив американским оборонным подрядчикам получать прибыль благодаря своим мощностям и большим заказам от вооруженных сил разных стран. Формула была проста: производя различные виды доступного, но современного вооружения, Пентагон и его подрядчики могли превзойти любого соперника. На кону стояло доминирование в мировой торговле оружием и связанные с этим экономические и геополитические выгоды, которые США не хотели терять.
Но преимущество постепенно утрачивается. В 1990-е гг. Соединенные Штаты контролировали 60% мирового рынка в этой сфере. Сегодня – лишь около 30%. Сосредоточившись на передовых технологиях и разработке невероятно дорогих оборонных систем, Вашингтон дал иностранным конкурентам возможность выйти на рынок с практичным предложением по доступной цене. Вследствие этого Россия постепенно восстановила свои позиции, а ряд других государств, в том числе Китай, Израиль и Южная Корея, превращаются в важных поставщиков.
Ни в одной программе не было такого количества ошибок, угрожающих американской оборонной промышленности, как в проекте ударного истребителя F-35, который, как признают сейчас даже его самые оптимистичные сторонники, стал катастрофой по закупкам. В конце холодной войны эксперты рассуждали об F-35 как о самолете, который изменит мировой рынок. Он предназначался для замены трех американских истребителей, и его планировалось длительное время производить дома. Это, в свою очередь, позволило бы реализовывать F-35 за границей по относительно низкой цене, поскольку затраты на разработку амортизировались бы за длительный период производства. Как говорили тогда, единственное, что оставалось бы иностранным производителям, – это выбросить планы создания собственного вооружения, провести переоснащение и стать частью глобальной цепи поставок F-35.
Однако после 11 сентября 2001 г. ограничения военных расходов были сняты, а стоимость F-35 резко подскочила, и он превратился в одну из печально известных «золотых» американских систем вооружения. Различные военные подразделения США настаивали на дополнительных технических характеристиках F-35, который стал финансовой «черной дырой». Процесс оборонных закупок настолько сложен, что дать оценку стоимости чрезвычайно трудно, но даже по самым оптимистичным расчетам F-35 обойдется на 75% дороже, чем предполагалось в 2001 году. Сегодня на программу приходится 38% закупочного бюджета Пентагона, включающего все нынешние системы вооружений. Шок от цены заставил многих покупателей, в том числе ключевых союзников – Австралию, Италию и Великобританию, – отложить или сократить заказы.
F-35 – отнюдь не уникальный случай. По данным Главного контрольного управления США, половина программ материально-технического оснащения Пентагона выходит за рамки своего бюджета. Утрачиваемые Соединенными Штатами позиции в мировой торговле оружием – не просто еще один удар по уже ослабевшей внутренней экономике (в аэрокосмической промышленности страны заняты более 600 тыс. человек). В прошлом способность вооружать союзников позволяла Вашингтону укреплять мощь своих друзей и при этом получать деньги. Утратив лидирующие позиции на мировом рынке вооружений, Соединенные Штаты лишились важного инструмента внешней политики.
Проклятие монополиста
После войны в Персидском заливе (1991 г.) потребителям во всем мире было очевидно, что американское оружие – лучшее на рынке. А учитывая, что США тратили на военные исследования и разработки больше, чем весь остальной мир, неудивительно, что американские фирмы могли похвастаться такими возможностями, как технология «стелс», которые не мог предложить никто другой.
Но поскольку американский военный бюджет был раздут после 2001 г., когда Вашингтон начал «войну против терроризма», оборонные компании и Пентагон перестали обращать внимание на цену вооружений. Конгресс открыл кошелек, внутренний спрос на высокотехнологичное вооружение возрос, а финансовые ограничения на приобретение новинок сняты. Имея в распоряжении огромный объем средств, индустрия предвкушала золотую эру продаж. Включились и инвесторы. После 11 сентября акции крупных оборонных подрядчиков резко выросли в цене.
Сегодня обычные вооружения, такие как самолеты и ракеты, требуют использования последних инженерных достижений. Поскольку затраты на разработку возрастают до астрономических значений, стоимость единицы может быть снижена только за счет наращивания производства. Поэтому экспорт становится жизненно важным – каждая дополнительная продажа уменьшает стоимость единицы вооружения. Объем заказов Пентагона существенно превышает закупки министерств обороны России или европейских стран, а потому американские оружейные программы имеют довольно длительный срок жизни, даже если единственным покупателем остаются собственные вооруженные силы. Уже благодаря этому фактору стоимость единицы американского оружия должна быть относительно ниже.
Однако в последние 10 лет Соединенные Штаты, уверившись, что у покупателей просто нет других альтернатив, стали жертвой «проклятия монополиста». Поскольку Вашингтон дал карт-бланш Пентагону, который вел войну в Афганистане и Ираке, представителям военных структур не приходило в голову, что большинство стран может обойтись без усовершенствованных истребителей «стелс» и новейших боевых кораблей. Как правило, вполне достаточно менее масштабных технологий. Таким образом, рост цен на американскую продукцию вынудил иностранных потребителей обращаться к другим поставщикам. В январе 2011 г., например, вместо заказа у американских фирм Lockheed Martin и Boeing Индия решила потратить 11 млрд долларов на истребители Rafale французской компании Dassault Aviation. Это стало первой продажей Rafale за рубеж, и благодаря сделке самолет неожиданно приобрел конкурентоспособность в мире.
Разумеется, некоторые покупатели по-прежнему в состоянии платить за первоклассное американское оружие. Страны Персидского залива сохраняют свои заказы благодаря высоким ценам на нефть и нестабильной обстановке в регионе. К примеру, в 2010 г. Конгресс США одобрил рассчитанную на 10 лет 60-миллиардную сделку с Саудовской Аравией, которая включает приобретение самых передовых истребителей в мире. Но даже саудовцы стремятся диверсифицировать базу своих поставщиков, приобретая истребители Eurofighter у Великобритании и собираясь закупать вертолеты у России. Нужно отметить, что таких покупателей, как страны Персидского залива, немного и их пример становится менее значимым, так как стратегический фокус Вашингтона смещается в сторону Азии.
Новая гонка вооружений
Если бы сокращение американской доли рынка являлось чисто экономической проблемой, можно было бы не обращать на это особого внимания, полагая, что оборонная отрасль, которая имеет обязательства перед своими акционерами, рано или поздно будет вынуждена реформировать бизнес-стратегию и урезать расходы. Но в отличие от других секторов, торговля оружием имеет геополитическую составляющую, особенно учитывая экспортный бум в Азии на фоне общего экономического роста.
Если Вашингтон заключает сделку по продаже вооружения, страна-партнер вряд ли будет использовать его против интересов Соединенных Штатов, поскольку это ставило бы под угрозу сам доступ к этому оружию. Таким образом, чем больше оружия продает Вашингтон, тем в большей степени он контролирует решения в сфере безопасности, принимаемые за рубежом. Иными словами, используя свою мощь на рынке, американцы могут добиваться важных внешнеполитических целей. Так, в 2005 г. Вашингтон приостановил доступ Израиля к программе F-35, чтобы заставить его прекратить продажу комплектующих для беспилотников Китаю. Похожую тактику США использовали, чтобы не допустить поставки бразильских и испанских самолетов Венесуэле.
Со смещением интересов Вашингтона в сторону Азии продажи оружия дали ему возможность оснастить своих тихоокеанских союзников и одновременно держать в изоляции Пекин. Это можно делать напрямую, например, когда Соединенные Штаты используют доступ на свой внутренний рынок вооружений, чтобы заставить страны Евросоюза придерживаться эмбарго на поставки оружия Китаю, введенного еще в 1989 г. после событий на площади Тяньаньмэнь. Но есть и непрямые способы. Используя свое конкурентное преимущество, чтобы уменьшить экспортный рынок России, США могут сделать основного поставщика оружия Китаю менее привлекательным.
В последние годы Россия добилась значительных успехов в странах Азии. Такие компании, как «Сухой», крупный российский производитель самолетов, понимают, что не могут существовать, полагаясь только на внутренние заказы. В последние 10 лет компания успешно продавала относительно недорогие истребители Индонезии и Малайзии. Активизировались и европейские производители. С 1990 г. компании Европы разработали по меньшей мере два новых истребителя в дополнение к французскому Rafale. Швеция поставила свой однодвигательный Gripen Венгрии и Таиланду; истребитель Eurofighter, который собирают на четырех сборочных линиях в Европе, что весьма неэффективно, тем не менее был продан Австрии и Саудовской Аравии.
Тем временем признаки того, что Соединенные Штаты теряют позиции в сфере вооружений, стали заметны и в Азии. Крупнейшим поставщиком оружия Пакистану сегодня является Китай, Сингапур покупает французские корабли, а Филиппины впервые в истории ищут неамериканских продавцов самолетов. Этим странам не очень нужно новейшее высокотехнологичное вооружение, их интересует оружие среднего уровня, которое они могут себе позволить. Вашингтон, разумеется, не продает оружие Китаю или России, а Индия делает лишь ограниченные закупки. Южная Корея, давний союзник США, создала собственную быстрорастущую военную промышленность и производит, к примеру, дизельные подлодки, которые экспортируются в Индонезию. Если Вашингтон хочет сохранить лидирующую роль в Азии, необходимо восстановить утраченные позиции на рынке вооружений.
Все эти изменения могут оказать дестабилизирующее воздействие. В то время как Соединенные Штаты рискуют утратить роль основного поставщика вооружений в регионе, количество производителей будет только расти, поскольку у небольших стран, выходящих на рынок, нет иного выбора, кроме как ориентироваться на экспорт, чтобы выжить и постепенно расширять бизнес. Им необходимо производить как можно больше. Американские компании, напротив, могут позволить себе быть более избирательными в подходе к экспорту благодаря огромным объемам внутреннего рынка. Вашингтон может ограничить поставки, сократив объем новейшего вооружения в мире. С точки зрения безопасности и стабильности это выигрышно.
Проще, но лучше
Но есть и хорошие новости: многие конкурентные преимущества американской оборонной промышленности – масштабы экономики, бюджеты разработок, которые по-прежнему превышают расходы всего остального мира, и доказанное качество продукции – сохранятся и в обозримом будущем. Вашингтон может и должен использовать эти качества, чтобы доминировать в глобальной сети военной продукции, при этом Европу и другие государства среднего уровня следует включить в эту систему, российский экспорт оставить за ее пределами, а оборонные возможности Китая – держать под контролем.
Каждая администрация призывает реформировать процесс закупок Пентагона, но результат не оправдывает надежд. Вместо борьбы за полную трансформацию политикам стоит сделать своей целью изменения с высокой степенью отдачи. Белый дом (при поддержке Конгресса) должен заставить Минобороны и его поставщиков заняться тем, что они не были склонны делать в прошлом: под жестким гражданским контролем работать над более простым и рентабельным оружием для глобального рынка вместо разработки и производства излишне сложного вооружения для домашнего использования.
Увеличение военных расходов не поможет. Сроки серийного производства вооружения в США уже давно превышают конкурентный период, а опыт последнего десятилетия позволяет предположить, что любые достижения эффективности, связанные с крупными закупками, превращаются лишь в высокие доходы оборонных компаний и все более фантастическое оружие для Пентагона. Секрет не в том, чтобы потратить больше денег, а в том, чтобы потратить их наиболее разумно.
Парадоксально, но, чтобы увеличить долю зарубежного рынка, Вашингтон должен быть готов закупать некоторое количество оружия за границей. Угроза импортировать продукцию иностранных конкурентов вынудила бы американских производителей контролировать затраты и повысила бы их конкурентоспособность в мире. Важно понимать, что как только Соединенные Штаты решат покупать оружие за границей, размер заказа гарантирует, что Вашингтон немедленно станет самым важным клиентом. Чтобы обеспечивать американское влияние, оружие необязательно должно быть американского производства. Кроме того, другие государства будут охотнее покупать у Вашингтона, зная, что их собственная продукция имеет возможность попасть на огромный рынок США.
Возьмем тендер по закупке невысокотехнологичных винтовых самолетов для контртеррористических операций афганских ВВС, недавно проведенный Пентагоном. Американские ВВС отказались от первоначального решения приобрести A-29 Super Tucano бразильской компании Embraer – самолет, проверенный в боевых действиях и используемый ВВС еще шести стран, который должны были практически полностью собирать в Америке, – после протестов базирующейся в Арканзасе компании Hawker Beechcraft, аналогичный самолет которой находится в стадии разработки. Вероятным результатом станет увеличение расходов, задержки, несоразмерность цены продукта и его миссии, повышение шансов «Талибана» на победу и охлаждение отношений с Бразилией, одной из быстрорастущих мировых держав и крупного импортера обычных вооружений.
В процессе перехода от дорогих систем вооружения американская оборонная промышленность не должна забывать, что простое – не значит примитивное. Оружие должно быть доступным по цене, эффективным и привлекательным для мирового рынка. Помимо увеличения экспорта, более простая продукция имеет еще одно преимущество: ее легче производить. Меньше вероятность задержки поставок из-за неготовности технологий или необходимости пересмотреть нормы технического обслуживания. Но самое главное – программы попроще уменьшат информационное преимущество оборонной отрасли и Пентагона и сделают гражданский контроль более продуктивным.
В конечном итоге именно гражданские руководители, а не представители вооруженных сил и оборонной промышленности должны определять, какое оружие будет разрабатываться, и нести за это ответственность, поскольку такие решения могут иметь серьезные стратегические последствия. Нынешний подход – создание небольшого количества супероружия, не имеющего аналогов, которое хотят иметь лишь немногие страны и которое подрывает военный бюджет государства, – это не большая стратегия, это политика, лишенная стратегии вообще. Сейчас Америка разрабатывает настолько передовое вооружение, что оно, вероятно, будет устрашать противника, не позволяя применить собственное оружие в приступе гнева. Вместо этого нужно сосредоточиться на том, чтобы препятствовать созданию значительной части иностранного оружия.

Перед новым стартом
Резюме: Сотрудничество между державами уже становится основной тенденцией международного развития. КНР, США и Россия должны шагать в ногу с ней. Китайское изречение гласит: разумного человека заставляет меняться время, а мудрый человек меняет себя сам.
Масштабные изменения, происходящие на мировой арене, способствуют трансформации стратегических подходов к международным отношениям. На этом фоне стабильно развиваются трехсторонние связи между Китаем, Соединенными Штатами и Россией, между ними углубляется взаимодействие. В этом процессе открываются возможности, но он чреват и новыми вызовами, на которые надо активно реагировать.
Специфика развития трехсторонних отношений
Торговля и сотрудничество между КНР, США и Российской Федерацией непрерывно развиваются, несмотря на отдельные досадные сбои (связанные, например, с поставками американского оружия Тайваню). Вслед за государственным визитом в Вашингтон председателя КНР Ху Цзиньтао в начале 2011 года весьма плодотворным стал обмен поездками вице-президента Джона Байдена и зампредседателя КНР Си Цзиньпина. Расширению диалога способствовали два раунда консультаций по делам АТР и переговоров по стратегической безопасности в 2011 году. Мировой экономический кризис не помешал росту товарооборота между Китаем и Америкой, он в очередной раз побил рекорд и превысит в этом году 500 млрд долларов. И Пекин, и Вашингтон содействуют выстраиванию отношений сотрудничества и партнерства, которые характеризовались бы взаимным уважением и обоюдной выгодой.
Китайско-российские отношения плодотворно и глубоко развиваются во многих областях. Во время государственного визита в Россию председателя КНР Ху Цзиньтао в июне прошлого года стороны выразили готовность развивать равноправное взаимодействие и партнерство, основанные на доверии и ведущие к процветанию и вечной дружбе. Определен курс и на следующее десятилетие. Во время визита премьер-министра Владимира Путина в Пекин стороны подписали «Меморандум о сотрудничестве в области модернизации экономики». Объем двусторонней торговли в прошлом году достиг 83,5 млрд долларов, увеличившись на 40% по сравнению с предыдущим годом. Второй год подряд Китай остается крупнейшим торговым партнером России.
После перезагрузки продолжают улучшаться и американо-российские отношения. Между Вашингтоном и Москвой имеются серьезные разногласия по поводу создания системы противоракетной обороны в Европе, зато в начале прошлого года вступил в силу Договор СНВ. Лидеры двух стран подписали ряд совместных деклараций по сотрудничеству в противодействии терроризму и обеспечению региональной безопасности. При содействии США и других стран Москва и Тбилиси заключили двустороннее соглашение, открывшее России путь в ВТО после 18 лет переговоров. Членство в организации полезно для ускорения трансформации российского народного хозяйства и углубления его участия в глобальной экономике.
По мере повышения статуса и общей мощи Азиатско-Тихоокеанского региона ему уделяется все более пристальное внимание. Отрадно, что наметилась тенденция к пересечению и совпадению стратегических интересов трех стран.
Соединенные Штаты рассматривают АТР в качестве приоритетного направления своей внешней политики. Они защищают здесь свои стратегические интересы путем укрепления отношений с союзниками и упрочения связей с новыми партнерами. Вашингтон участвует в многосторонних механизмах стимулирования торговли и инвестиций. При этом американцы наращивают и военное присутствие.
Для Москвы Азиатско-Тихоокеанское пространство также является приоритетом, о чем свидетельствует «Программа действий по укреплению позиций России в АТР». Особое внимание уделяется развитию политических отношений с Китаем, Индией, Вьетнамом, Монголией, Москва активно участвует в региональных многосторонних форумах. Россия углубляет кооперацию по вопросам энергетики с Китаем, Японией и Южной Кореей. Кроме того, США и Россия получили статус официальных участников Восточноазиатского саммита, это еще одно свидетельство вовлеченности в дела АТР. Китай приветствует тот факт, что Америка и Россия играют конструктивную роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В Пекине полагают, что три державы должны прилагать совместные усилия для сохранения мира, стабильности, развития и процветания, а также содействовать взаимовыгодному сотрудничеству между всеми государствами.
Между КНР, Соединенными Штатами и Россией имеется, конечно, и определенный дисбаланс. Двусторонние связи, безусловно, содействуют становлению трехсторонних, однако развиваются несинхронно. Барьером служит недостаток доверия между США и Россией. Их реальные интересы не создают прочного фундамента для сотрудничества, уровень двусторонней торговли и инвестиций не соответствует экономическим потенциалам. В прошлом году объем российско-американской торговли составлял меньше одной десятой соответствующего китайско-американского показателя. А это не позволяет заложить прочные основы для политического диалога.
Китаю и Америке необходимо, в свою очередь, повысить уровень стратегического доверия. Экономическая взаимозависимость углубляется, но Вашингтон с тревогой наблюдает быстрое возвышение Пекина.
Китай и Россия активно налаживают политическое взаимодействие, они занимают одинаковые или схожие позиции по важным международным проблемам. Однако, хотя экономические и торговые связи развиваются быстро, их уровень не соответствует возможностям столь могучих держав. В настоящее время российско-китайский товарооборот составляет меньше четверти объема торговли между КНР и США и меньше одной пятой китайско-европейского показателя.
Мышление в логике «игры с нулевой суммы», идеологические разногласия и геополитические концепции, сохранившиеся со времен холодной войны, долго тормозили развитие двусторонних и становление трехсторонних отношений. Так, между Соединенными Штатами, с одной стороны, и Китаем и Россией, с другой, существуют серьезные расхождения по вопросам Ливии, Сирии и по ядерной проблеме Ирана. Противоречия по поводу системы ПРО в Европе, а также в связи с легитимностью и прозрачностью думских и президентских выборов в России вбивают клин между Вашингтоном и Москвой. В свою очередь Пекин и Вашигтон по-разному смотрят на права человека, торговлю, поставки оружия Тайваню и т. д.
Шансы и вызовы для будущих трехсторонних отношений
Все три страны способны оказывать влияние на структурные изменения в мире. США – крупнейшая держава, определяющая глобальные процессы, Китай и Россия – страны с активно нарождающимися рынками, воздействие которых на международные дела непрерывно растет. Большой потенциал взаимодействия существует по следующим проблемам.
Глобальная стратегическая стабильность. Три страны способны создать эффективный механизм взаимного доверия в военной области, особенно в вопросах ядерного разоружения, создания системы ПРО, предотвращения милитаризации космоса и обеспечения кибернетической безопасности. Для этого им следует с уважением относиться к предметам озабоченности друг друга.
Региональная безопасность. КНР, Соединенные Штаты и Россия пользуются большим влиянием в таких взрывоопасных регионах, как Северо-Восточная Азия, Южная Азия, Центральная Азия, Ближний Восток и т. д. Эти три страны играют важную роль в различных международных органах, например в ООН. По мере эскалации напряженности увеличивается насущная необходимость принимать меры для обеспечения региональной безопасности.
Экономика и торговля. Экономики трех стран взаимно дополняют друг друга. Китайско-американские экономические и торговые отношения обладают огромным потенциалом. Присоединение России к ВТО позволяет и ей стать более активным участником.
Вызовы для дальнейшего развития отношений. Кроме уже существующих противоречий, значительное влияние могут оказать внутриполитические факторы. Текущий год в Америке избирательный. Ожесточенная политическая борьба повлияет на формирование внешней политики. Часть консервативных сил может усилить критику нынешнего курса, попытаться в собственных интересах скорректировать линию в отношении Китая и России. В последнее время опять дает себя знать американский протекционизм, явно увеличивается давление на Пекин по торгово-экономическим вопросам. Требования ужесточить политику на российском направлении звучат все громче. В марте президентом России был избран Владимир Путин, и внутри- и внешнеполитический курсы подвергнутся некоторым изменениям. Стабильное развитие американо-российских связей и активное взаимодействие между Москвой и Вашингтоном важно для развития трехсторонних отношений.
КНР – существенный фактор здорового развития трехсторонних отношений. Предстоящий осенью XVIII съезд КПК станет очень важным событием в жизни страны. Могу утверждать, что внутренняя и внешняя политика не изменится. Китай продолжит диалог с мировыми державами во имя укрепления стратегического доверия, расширит сферы сотрудничества и будет содействовать долгосрочному, нерушимому и здоровому развитию двусторонних и многосторонних связей. Для продолжения реформ и успешного развития нам нужна мирная и стабильная внешняя обстановка, поэтому Китай прилагает усилия для выстраивания и сохранения здоровых и прочных трехсторонних контактов. Недавно Владимир Путин в своей авторской статье подчеркнул, что рост китайской экономики для России – отнюдь не угроза, а вызов. Схожие точки зрения официально выразили президент Барак Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон.
Мысли по дальнейшему развитию трехсторонних отношений. Три великие державы должны укрепить стратегическое доверие друг к другу, углубить взаимовыгодное сотрудничество, надлежащим образом разрешить разногласия, совместно продвигать и укреплять связи, чтобы они полностью преобразовались из «треугольника» времен холодной войны в трехсторонние отношения с активным взаимодействием. Необходимо сосредоточиться на общем, отбросив в сторону разобщающее. Нам следует шагать в ногу с эпохой, расширять содержание и укреплять фундамент кооперации в таких областях, как борьба с терроризмом и пиратством, кибернетическая и космическая, энергетическая и экологическая безопасность.
Развитие и процветание АТР отвечает коренным интересам Китая, Соединенных Штатов и России. Для этого требуется согласовывать действия, используя любые механизмы диалога и консультаций, прежде всего для обеспечения мира и стабильности Северо-Восточной Азии, содействия региональному экономическому сотрудничеству, противодействия терроризму и т.д.
Сотрудничество между державами уже становится основной тенденцией развития международных отношений. КНР, США и Россия должны шагать в ногу с этой тенденцией, совместно проложить путь нового типа, характеризующийся мирным сосуществованием, активным взаимодействием, сотрудничеством и общим выигрышем. XXI век вообще является веком сотрудничества во имя общих интересов. Китайское изречение гласит: разумного человека заставляет меняться время, а мудрый человек меняет себя сам.
В настоящее время отношения между КНР, США и РФ находятся на новой стартовой линии. Давайте воспользуемся шансами и общими усилиями укрепим взаимовыгодное сотрудничество, внесем вклад в дело сохранения мира, стабильности и процветания планеты.
Сюн Гуанкай - бывший заместитель начальника Генерального Штаба Народно-освободительной армии Китая (НОАК), профессор Университета Синьхуа и Пекинского Университета.

Пределы универсализма
О консерватизме Берка
Резюме: Адаптировать американскую внешнюю политику к внутренним обстоятельствам других обществ и иным аналогичным факторам, в том числе связанным с национальной безопасностью, не значит отказаться от принципов.
В основе материала – речь, произнесенная на торжественной церемонии в честь 30-летия журнала The New Criterion (26 апреля 2012 г.) по случаю вручения автору первой премии имени Эдмунда Бёрка «За заслуги перед культурой и обществом». Публикуется с любезного разрешения автора.
Пытаясь постигнуть сложные проблемы современности, полезно обратиться к консерватизму Эдмунда Бёрка. Его эпоха сравнима с нынешней: Французская революция смела сложившееся общественное устройство и монархию. Американская революция перевернула господствующий международный порядок.
Бёрк столкнулся с парадоксом консерватизма: ценности универсальны, но, как правило, должны воплощаться в жизнь как процесс, то есть постепенно. Если ценности вводятся без оглядки на историю и обстоятельства, они лишают законных оснований все традиционные ограничения. Бёрк сочувствовал Американской революции, поскольку рассматривал ее как естественное развитие и распространение английских свобод. И не принял Французскую, поскольку, по его мнению, она разрушила то, что создавалось поколениями, а заодно и перспективу органичного роста.
Для Бёрка общество было и достоянием предыдущих поколений, и отправной точкой дальнейшего развития. В «Размышлениях о французской революции» он писал: «Идея наследия обеспечивает неоспоримый принцип сохранения, как и неоспоримый принцип передачи, совсем не исключая принципа совершенствования». Общество, развиваясь в таком духе, обнаружит, что «совершенствуясь, мы никогда полностью не обновляемся; а в том, что оставляем, мы никогда полностью не сохраняем устаревшее».
Отсюда расчетливость – «есть добродетель во всем, а в политике – первейшая добродетель». На практике расчетливость порождает политику, которая, как писал Бёрк в 1789 г., «заставляет нас, скорее, дать молчаливое согласие на какой-нибудь ограниченный план воплощения абстрактной идеи, нежели предусматривающий доведение ее до полного совершенства, которого невозможно достигнуть, не разорвав ткань общественного устройства».
В этом уточнении – суть разногласий между консерватизмом и либерализмом в нашем обществе, между взглядом на историю как на органичный процесс или как на цепь эпизодов, произошедших по чьей-то воле. В некоторой степени это и объясняет разницу, которая существует между консерватизмом Бёрка, как я его понимаю, и некоторыми аспектами неоконсерватизма.
Эти расхождения чем-то сродни семейной ссоре. Многие неоконсерваторы – мои близкие друзья, я часто соглашаюсь с их анализом какой-либо конкретной ситуации и уважаю их убеждения. Я также довольно близко их узнал, поскольку время от времени становился объектом нападок с обеих сторон идеологической линии. Различие наших взглядов главным образом касается вопроса о роли истории в достижении общих целей.
Это различие зачастую находит выражение в отвлеченных спорах о том, что доминирует в международных отношениях – сила или ценности. Сторонников реалистической внешней политики карикатурно ассоциируют с немецким термином Realpolitik, как я полагаю, чтобы упростить выбор, какой из сторон отдать предпочтение. В этом утрированном изображении международные отношения представляются как последовательность периодически сталкивающихся бильярдных шаров, траекторию и силу ударов которых можно рассчитать и усовершенствовать. Утверждается, что ценности нерелевантны для «реалистической» внешней политики; баланс силы является для нее доминирующим, даже единственным мотивирующим фактором.
Альтернативный подход часто представляется как «идеализм», или «ценностно-ориентированная» внешняя политика. Для его сторонников американские ценности универсальны, их можно распространять с помощью предсказуемых механизмов и, как правило, в конечный отрезок времени. Стратегические вопросы рассматриваются в целом путем анализа внутриполитических структур. В соответствии с неоконсервативной школой, с теми обществами, где демократия несовершенна, отношения неизбежно будут враждебными; но они наверняка улучшатся по мере расширения демократии. Геополитический анализ отвергается, поскольку его сторонники исходят из того, что в некоторых странах еще существует правление, далекое от совершенства. Приверженцы школы «идеализма» призывают Америку распространять свои ценности, спонсируя революции, а если необходимо, и при помощи военной силы. Однако, как мне представляется, ни один из этих двух подходов не отвечает критериям Бёрка, которые предполагают учет всего разнообразия человеческого опыта и сложности управления государством.
Аналогия с бильярдным столом соблазнительна. Но в реальной внешней политике «бильярдные шары» реагируют не только на физическое воздействие. Акторы, подразумеваемые под бильярдными шарами, в реальной жизни руководствуются также и собственным культурным наследием: историей, инстинктами, идеалами, характерным для них национальным подходом к стратегии, то есть их национальными ценностями. Подлинная внешняя политика нуждается в мощной системе ценностей, которая могла бы служить руководством в любых, часто двусмысленных, обстоятельствах. Даже Бисмарк, самый яркий представитель реализма, подчеркивал предельную моральную основу реалистичной государственности: «Лучшее, что может сделать государственный муж, – это внимательно прислушаться к шагам Бога, ухватиться за край Его плаща и пройти с Ним несколько шагов пути».
Позиция неоконсерваторов построена на том, что всеобщего мира можно достигнуть через инженерию системы демократических институтов, а если история развивается недостаточно быстро, ее можно подтолкнуть военной силой. На практике эта конечная цель настолько удалена, а способ ее достижения настолько неясен, что все сводится к интервенционизму, который истощает наше общество, а в конечном счете ведет к отказу от принципов, как это было во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Различие не столько в конечных целях, сколько в темпах их осуществления. Дело не в том, что существующий порядок нельзя изменить, а в том, что необходимые для этого усилия будут более обстоятельными при умелом сочетании нацеленности на перспективу с признанием разнообразия и сложности обстоятельств.
Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке поучительна. «Арабскую весну» приветствовали с энтузиазмом как региональную революцию, которую вершит молодежь и которая руководствуется либерально-демократическими принципами. Но, как считал Бёрк, революция успешна только в том случае, когда в один поток сливаются многочисленные поводы для недовольства; крушение старого режима неизбежно вызывается необходимостью извлечь из этого недовольства повод для смены власти в стране. Процесс часто сопровождается насилием и отнюдь не автоматически создает традицию гражданской терпимости и личных прав человека; в лучшем случае речь идет лишь о начале путешествия к цели. Америка может и должна обеспечивать помощь в этом путешествии. Но нас постигнет неудача, если исходом демократических перемен окажутся однопартийные выборы и доминирование одной религии.
Попытки трансформировать политические системы во Вьетнаме, Ираке и Афганистане в условиях конфликта часто давали сбой, когда общественное мнение в Америке стало выражать сомнение относительно продолжительности, затрат и двусмысленности действий США. Сейчас Соединенные Штаты взяли на себя ряд новых обязательств по формированию характера будущей эволюции других государств – в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Я не ставлю под сомнение искренность или благородство наших усилий. Но попытки распространять ценности гуманизма ни к чему не приведут, если на протяжении длительного времени их нельзя будет поддерживать. Чтобы усилия носили устойчивый характер, они должны предприниматься с учетом иных традиционных национальных интересов Америки и осознания того, готова ли американская общественность к длительным интервенциям.
По мере того как разворачиваются события «арабской весны», возникают серьезные вопросы, на которые надо дать ответ. Есть ли у нас предпочтения относительно того, какие группировки придут к власти? Или мы нейтральны, коль скоро механизмы основаны на выборах? Если это так, что нужно сделать, чтобы не поощрять новый абсолютизм, который станет легитимным в результате управляемых плебисцитов? Какой исход событий отвечает коренным стратегическим интересам Америки? Возможно ли сочетать стратегический уход из ключевых стран, таких как Ирак и Афганистан, и уменьшение военных расходов с доктринами всеобщей гуманитарной интервенции?
«Арабская весна» не отменила традиционные реалии политической жизни и не ликвидировала отдельные устоявшиеся группировки в недрах обществ, переживающих переворот. Поэтому наибольшее доверие внушает подход, который предполагает готовность направить наши усилия на более эволюционные – порой едва ощутимые – меры, чем те, которые обязательно удовлетворят поколение YouTube и Twitter. Адаптировать американскую внешнюю политику к внутренним обстоятельствам других обществ и иным аналогичным факторам, в том числе связанным с национальной безопасностью, не значит отказаться от принципов.
Речь, в конечном счете, идет о принципах мирового порядка и прогресса человечества. Радикальная реалистичная модель предполагает международное равновесие, периодически осложняемое конфликтами. В соответствии с ней Соединенные Штаты не могут направить ход истории в русло гуманизма и демократии, поскольку историей нельзя управлять, она вершится по собственным законам. Неоконсервативная модель приходит на смену демократической телеологии истории; в соответствии с этой моделью на Америку возложена ответственность (и ей это по силам) всячески поощрять революции дипломатическими средствами, в крайнем случае – с помощью военной силы.
Американский консерватизм в духе Бёрка может внести заметный вклад, если преодолеет это расхождение (с либерализмом во взглядах на историю). Мировой порядок, при котором государства участвуют в международном сотрудничестве, в соответствии с согласованными правилами, вселяет надежду и должен стать источником нашего вдохновения. Поступательное движение к установлению такого порядка возможно и желательно. Но потребуется целая серия промежуточных этапов. В любой конкретный промежуток времени мы добьемся большего, если, как писал Бёрк, дадим «молчаливое согласие на какой-нибудь ограниченный план воплощения абстрактной идеи, нежели предусматривающий доведение ее до полного совершенства», или столкнемся с угрозой краха и отречения от принципов, если будем настаивать на незамедлительном достижении конечных результатов. Мы нуждаемся в такой стратегии и дипломатии, которые учитывали бы сложность предполагаемого «путешествия» – благородство цели, но также и несовершенный характер человеческих усилий, посредством которых эта цель будет достигнута.
Попытки опираться в своих действиях только на принципы силы окажутся несостоятельными. Но и продвижение ценностей без учета культуры и всех нюансов – включая такие неосязаемые факторы, как обстоятельства и шансы – закончится разочарованием и отступлением от принципов.
Расхождения между идеализмом и реализмом противоречат историческому опыту. У идеалистов нет монополии на моральные ценности; реалисты же должны признать, что идеалы – тоже часть действительности. Разочарования будут не столь частыми, если мы сделаем выбор в пользу внешнеполитического курса, нацеленного на то, чтобы зачислять в свой актив не столько яркие события на грани апокалипсиса, сколько оттенки и полутона; и наши ценности выиграют в долгосрочной перспективе.
Такая внешняя политика должна строиться на осознании нашего культурного наследия, сбережение которого – огромная проблема в век социальных сетей и интернета. Поколения, воспитанные на книгах, знакомились с понятиями и сложными идеями, над которыми размышляли их предшественники. Когда информацию можно получить, посмотрев в интернете, создается ее избыток, способный препятствовать приобретению знаний, и оно перестает внушать уважение. Когда факты отделяются от контекста и используются по мере необходимости, есть опасность утратить связь с исторической перспективой. Как писал Бёрк, «кто не оглядывается на предков, не думает о потомках».
Когда источником идентичности становится консенсус, возникший во время обсуждения в кругу случайных «друзей» на страницах социальных сетей, сиюминутное может взять верх над чем-то очень важным. Поведение по типу стимул–реакция заслоняет собой размышления о сущности. Преодоление этой опасности, возможно, самая главная культурная задача для консерватора – последователя Бёрка.
Генри Киссинджер – глава Kissinger Associates, бывший госсекретарь США и помощник по национальной безопасности.

Государство на службе глобализации
Как сочетаются базовые тренды современности
Резюме: Никем не предсказанные в рамках социальной и политической науки события последних десятилетий могут показаться доказательством неэффективности любых теорий. В действительности вопрос лишь в ущербности парадигм мышления эпохи Просвещения.
Последние десятилетия перспективы мирового развития все менее предсказуемы. В 1980-е гг. практически никто не предвидел распада советской системы союзов, а затем и самого СССР. Да, задним числом можно найти симптомы, говорившие о высокой вероятности такого исхода, но хорошо известно, что проще объяснить произошедшие события, чем заблаговременно выявить их возможность.
Почти никем – за редкими исключениями – не был предсказан и глобальный кризис, начавшийся в 2008 г., хотя цикличность в принципе присуща рыночной системе. В 2010 г. многим экспертам показалось, что потрясения завершились, а в мировой экономике наметились признаки оживления. Но уже в 2011 г. неприятным сюрпризом для большинства экономистов стал бюджетный кризис на юге Европы, поставивший под вопрос само существование единой европейской валюты. В прогнозах на 2012 г. все чаще попадался невнятный, но звучащий научно термин «волатильность». Его можно трактовать как «неопределенность», «разнонаправленность тенденций», хотя по сути дела речь идет о «непредсказуемости».
Непредсказуемыми, но типичными для современного мира становятся вооруженные или сопряженные с массовыми беспорядками внутригосударственные конфликты (порой – с ограниченным внешним военным вмешательством) в странах, где, казалось, нет условий для перемен. Только в 2011 г. правящие режимы свергнуты в Тунисе, Египте, Ливии и Йемене, начались столкновения в Сирии, в богатых нефтью областях Судана, граничащих с новообразованным Южным Суданом. Мало кто ожидал и подъема общественно-политической активности в России.
Ареал распространения внутригосударственных конфликтов постепенно расширяется, это уже не только государства Африки и Азии, страны СНГ; риски начинают проявляться и в рамках Евросоюза, Северной Америки, в том числе и США.
Разумеется, в каждом конкретном случае есть свои, национально-специфические причины напряженности. Однако нельзя пренебрегать обстоятельствами, связанными с глобализацией и вызванным ею мировым кризисом. Эти факторы политического, экономического и этносоциокультурного характера подрывают как международную стабильность, так и перспективы «устойчиво-безопасного» развития многих государств.
Учет перечисленных обстоятельств и тем более способность обратить их в свою пользу – условие успешного функционирования любого государства, а также крупной корпорации, имеющей интересы за границами страны своего происхождения.
Исчерпание парадигм Просвещения
Общепринятые объяснения многих конфликтных ситуаций в современном мире нередко носят поверхностный характер. Обычно выделяются две стороны, вовлеченные в ту или иную коллизию.
Вот самые традиционные «парные» категории. «Сторонники демократии» против «недемократических сил». «Сепаратисты» против «приверженцев территориальной целостности». «Экстремисты» против «защитников правопорядка» и т.д. Противостояние рассматривается в качестве игры с нулевой суммой, когда успех одной из сторон расценивается как поражение другой.
Разумеется, подобный подход всегда был присущ идеологизированным СМИ, а также школьной и отчасти студенческой аудитории. Однако менталитет многих экспертов также сложился под влиянием упрощенных представлений. Кроме того, за недиалектическим подходом к реальности стоит явление, которое можно определить как «понятийный кризис» современной политической, да и всей социальной науки. Даже самые передовые идеи и представления исходят из парадигм, зародившихся в эпоху Просвещения и с того времени почти не претерпевших существенных изменений.
Эти парадигмы выросли из естественно-научного подхода, который строился на смелом для своего времени отрицании «божественного промысла», убежденности в возможности разложить исследуемые явления на простые элементы, вычленить среди них ведущие факторы, построить относительно простые алгоритмы их взаимодействия и дать на этой основе прогноз ожидаемых изменений. В ХХ веке после открытия радиоактивности, законов микромира от подобных примитивно-механистических подходов к объяснению законов природы пришлось отказаться. И не случайно именно из естественных наук в гуманитарные перешли идеи синергетики, бифуркаций, отвергающие примитивный детерминизм.
Традиция объяснять процессы общественного развития некими императивами, которые якобы заложены в «природе человека», зародившаяся в эпоху Просвещения, была ничем не лучше ссылок на «волю Всевышнего». Вероятно, первыми, кто сумел дать формально-механистическое, материалистическое толкование истории, были Карл Маркс и Фридрих Энгельс, что и обеспечило их учению долгую жизнь. Другой вопрос, что основоположники марксизма располагали довольно ограниченным конкретно-историческим материалом – в основном касающимся Европы. Чтобы уложиться в заданную схему, им пришлось ввести в дополнение к «пятичленке» формаций такие категории, как «азиатская формация», «реакционные народы».
Современные отечественные историки, не скованные догмами формационной теории, признают, что в так называемую рабовладельческую эпоху далеко не везде – в том числе в Древнем Египте, греческих городах-государствах, Древнем Риме – рабовладение было основой хозяйственной жизни. Большую роль играли крестьянские общины, присутствовал наемный труд, свободные ремесленники и т.д. Ныне уже в учебниках признается, что классический феодализм существовал только в государствах Европы, но не Азии.
Однако и новейшие попытки «модернизировать» просвещенческий подход к общественному развитию во многом страдают тем же механицизмом, что и марксизм. Речь идет, в частности, о теории смены «господствующих укладов» Валлерстайна, волн развития Тоффлера, «конца истории» Фукуямы и других. Желание начертить жесткую схему «вертикального прогресса» человечества чаще всего привязано к конкретной политике той или иной супердержавы, которая признается носителем и защитником самых передовых идей.
Никем не предсказанные в рамках социальной и политической науки события последних десятилетий могут показаться доказательством неэффективности любых теорий и кризиса научного знания. В действительности вопрос состоит лишь в ущербности парадигм мышления эпохи Просвещения. Видимо, следует признать, что универсальных законов общественного развития не существует. Есть лишь определенные взаимодействующие (порой диаметрально противоположные) тренды в социально-экономической, общественно-политической, социокультурной жизни, международных отношениях, имеющие определенные временные и пространственные показатели действия. Их реализация зависит от цивилизационных или, точнее, этносоциокультурных характеристик общества. Именно они определяют, как индивиды и группы индивидов, составляющие социум, относятся к изменениям в реальном бытии. Некоторые тенденции порой становятся доминирующими, но лишь на период времени.
Например, международное разделение труда, ставшее значимым трендом мирового развития в XIX–XX веках, мало влияло на жизнь раннесредневековой Европы в эпоху преобладания в ней натурального хозяйства. Торговые маршруты – такие как Великий шелковый путь – существовали, но длительность и опасность следования по ним исключали возможность превращения их в значимый элемент развития. Аналогичным образом тенденция к обострению социальных антагонизмов во вступивших на путь промышленного развития странах очень четко прослеживалась в Европе XVIII–XIX веков. Однако провозглашение Марксом и Энгельсом классовой борьбы в качестве универсальной «движущей силы истории» явно было ошибкой. В Средние века в Европе намного большее значение имели религиозные различия, а во второй половине ХХ века с подъемом тяготеющего к конформизму и компромиссам «среднего класса», который составил свыше половины населения индустриальных стран, на смену конфликтам пришло социальное партнерство.
Проблема большинства теоретико-аналитических конструктов состоит в том, что их авторы, гениально (без всяких кавычек) выделившие некий базовый тренд современности и сделавшие на этой основе ряд блестяще оправдавшихся прогнозов, начинают абсолютизировать собственные выводы. Особенно грешат этим последователи той или иной научной школы. Строится определенная система «первичности», «вторичности» и «третичности» факторов мирового развития – правильная для определенного, но все же конечного периода. С его завершением приверженцы сложившейся парадигмы миропонимания оказываются в тупике – что и наблюдается в современных условиях.
Основным источником проблем и сложностей мира начала XXI века выступает неравномерность или несбалансированность процессов глобализации в различных сферах общественной жизни. В публицистической литературе глобализацию порой рассматривают как следствие тайных договоренностей (или заговора) некоей «мировой закулисы», высшей элиты транснациональных корпораций и банков (ТНК и ТНБ) и связанных с ней политиков.
Если бы такие «договоренности» существовали, то мировое развитие было бы намного менее хаотичным, поскольку ситуация менялась бы по четко определенному плану. И хотя не афишируемых соглашений между отдельными корпорациями и правительствами наверняка немало, к сожалению, их недостаточно, чтобы обеспечить плавное, упорядоченное течение перемен на планетарном уровне.
Как возникала глобализация
Вызревание предпосылок глобализации наметилось достаточно давно. Еще в XIX веке начала складываться система международного разделения труда, крупнейшие корпорации и банки Западной Европы и США создали сеть зарубежных филиалов. Однако столкновения геополитических интересов ведущих держав, конкурентная борьба за внешние рынки между национально-ориентированными финансовыми и экономическими группами неоднократно (особенно во время Первой и Второй мировых войн) приводили к разрыву единства мирового рынка. Появление стремящихся к автаркии режимов (гитлеровская Германия) и стран с централизованно планируемой экономикой (СССР, а затем и его союзники) ограничивало возможности углубления международного разделения труда. Тем не менее этот, в принципе позитивный процесс, содействующий оптимизации территориального размещения производительных сил в рамках стран с рыночной экономикой, постепенно набирал обороты после Второй мировой войны.
На место чреватой конфликтами «свободной конкуренции» между государствами пришло регулирование конкурентных отношений на договорной основе в рамках Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), которое затем сменила система Всемирной торговой организации (ВТО). Противоборство между ведущими странами мира за зоны «своего» валютного контроля заменили договоренности о ведущей (доллар) и резервных валютах, упорядоченности системы международных расчетов. Были созданы такие структуры, как Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР), призванные, на основе унификации политики формирования бюджетов, помогать странам, которые сталкивались с внутренними сложностями. Началось формирование институтов региональной интеграции (в Европе – ЕЭС, затем Евросоюз, в Юго-Восточной Азии – АСЕАН, в Северной Америке – НАФТА) и другие. В их рамках, особенно в ЕС, наметился переход от союза национальных государств к единым пространствам перемещения товаров, капиталов и рабочей силы, постепенного сближения законодательств. Это значительно расширило рамки национальных рынков отдельных стран при регламентации конкурентных отношений (введение квот на масштабы производства и пр.).
Можно предположить, что масштабы инициированной правительствами стран Запада (отчасти под влиянием стремления предотвратить войны между ними, отчасти из-за противостояния с СССР) деятельности по упорядочению конкуренции на международной арене оказались оптимальны для следующей нормам рыночной экономики зоны мира. Именно в этот период, 1950–1970-е гг., острота циклических кризисов снизилась до минимума, произошли «экономические чудеса» в ФРГ, Японии и Италии.
Наконец, началось становление современных ТНК, они более или менее сформировались уже в 1970–1980-е годы. В отличие от крупных корпораций прошлого, создающих свои филиалы в зарубежных странах, они разделяли ранее единый производственный цикл на сегменты, размещавшиеся в разных государствах сообразно экономической рациональности. Создавались конвейеры, растянутые на десятки государств, объемы внутрифирменной международной торговли деталями и узлами оборудования приблизились к показателям продаж готовой продукции.
Процессы развития и усиления ТНК стимулировались совершенно объективными материальными факторами. С одной стороны – совершенствованием транспортной инфраструктуры, удешевлением перевозок в ХХ веке (появление контейнеровозов, автоматизация их разгрузки и т.д.), с другой – возникновение информационных технологий, позволивших оптимизировать управление филиалами корпораций, улучшить маркетинг выпускаемой ими продукции.
Вопрос о том, какую роль ТНК играют в современной мировой экономике, относится к числу дискуссионных. По данным школы бизнеса в Мюнхене, в 2008 г. (до начала глобального кризиса) в мире насчитывалось 79 тыс. ТНК, имеющих около 790 тыс. филиалов за границами страны происхождения. Они обеспечивали свыше 10% роста мирового валового внутреннего продукта (ВВП), ежегодный рост числа занятых на их предприятиях достигал 82 млн человек. Общая стоимость продаж предприятий, принадлежащих ТНК, достигла 31 трлн долларов. Здесь уместно напомнить, что весь мировой ВВП в настоящее время составляет около 70 трлн долларов.
Самый мощный импульс глобализации дали переход КНР к рыночным реформам, коллапс централизованно планируемой экономики в СССР и странах Восточной Европы, прекращение холодной войны и распад Советского Союза, то есть восстановление единства мировой рыночной экономики. На интенсификацию глобальных процессов большое влияние оказали решения Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющей наиболее развитые страны с рыночной экономикой, о либерализации банковской деятельности (конец 1990-х гг.), а также курс ВТО на углубление либерализации внешней торговли.
Ускорение темпов глобализации имело как позитивные, так и негативные последствия, которые при объективном подходе нет оснований ни идеализировать, ни демонизировать, хотя для теоретиков про- или антиглобалистски ориентированных политических сил не составляет труда создавать внешне убедительные концепты.
Глобальный кризис, начавшийся в 2008 г., был не только очередным потрясением, присущим циклически развивающейся рыночной экономике. Речь идет о системном кризисе, который вызревал в течение примерно двух десятилетий. Он затрагивает базовые принципы функционирования государства, общественного развития, применения международно-правовых норм, функционирования основных институтов мировой экономики.
Здесь следует уточнить, что понимается под «системным кризисом». В свое время Владимир Ленин определял революционную ситуацию как положение, при котором «верхи» не могут, а «низы» не хотят жить по-старому. В принципе симптомы подобной ситуации намечаются и в России. «Верхи» начали понимать: при существующем уровне коррупции, сырьевой ориентации экономики, продолжающемся оттоке капиталов страна скоро превратится в третьестепенную державу, неспособную сохранить территориальную целостность, а это может привести и к утрате ими власти. «Низы» все более явно проявляют нежелание терпеть коррумпированных чиновников, да и саму власть, демонстрирующую ограниченную способность решить стоящие перед нацией проблемы.
«Системный кризис», как представляется, существенно отличается от «революционной ситуации». Он подразумевает наличие противоречий, которые не могут быть разрешены в рамках преобладающих парадигм мировосприятия, но совершенно не факт, что данные противоречия незамедлительно вызовут какие-либо серьезные коллизии. Они, скорее всего, становятся их источником опосредованно, проявляются неодинаково в странах, принадлежащих к различным цивилизационным общностям.
Большая часть дискуссий связана с вопросом о том, в какой степени государство утрачивает свой суверенитет под влиянием происходящих в мире перемен, как меняются его функции. В действительности изменения касаются фундаментальных основ развития мировой цивилизации. На протяжении многих веков они были связаны с эволюцией и совершенствованием государства. Именно государство выступало главным структурообразующим фактором социума, взаимодействовало с обществом на контролируемых территориях, влияя на него – и меняясь в соответствии с его требованиями и запросами. Взаимоотношения государств определяли характер международных отношений, их тип и эволюцию. Такая ситуация сохранялась вплоть до середины ХХ века.
Затем, исподволь и не очень заметно для современников, началась эрозия государства, т.е. утрата им способности выступать системообразующим звеном мировой цивилизации. Этот процесс можно сравнить с постепенным разрушением несущих конструкций очень старого дома из-за действий жильцов, непродуманно модернизирующих свои квартиры.
Государства добровольно передавали часть своих функций наднациональным, международным организациям, принимая обязательства выполнять их решения; либерализовывали внешнюю торговлю и международные финансовые транзакции, порой получая от этого немалые дивиденды. В итоге уже сейчас начала складываться парадоксальная ситуация, когда страны мира формально суверенны, вроде бы выступают системообразующей структурой мировой цивилизации, но по сути большинство из них начинают превращаться в беспомощные «пустышки».
Прежде всего при достигнутом уровне международного разделения труда государства стали экономически взаимозависимыми и взаимоуязвимыми, что уже ограничивает свободу не только маневра на международной арене, но и выбора внутренней социально-экономической политики. Ключевые позиции в мировой экономике перешли в руки транснациональных корпораций и банков, которые далеко не всегда действуют в интересах стран своего происхождения, обладают ресурсами, позволяющими им диктовать волю правительствам формально суверенных государств. Последние уже утратили контроль над транзакциями капитала, их «утечка» или «приток» поддаются лишь приблизительным оценкам. Потеряна монополия и на применение насилия: частные военные и охранные структуры действуют самостоятельно, более того, государство нередко прибегает к их услугам. На мировую арену вышли силы международного терроризма, пиратства, систематически прибегающие к насилию.
В значительной мере неэффективным стал и контроль над миграционными процессами, большинство ранее мононациональных государств, регионов и городов уже превратились в конгломераты конфликтующих этносоциокультурных общин.
Собственную роль в мировой политике приобрели неправительственные, негосударственные образования, что уже фактически получило официальное признание. Так, США, сильнейшее государство современности, де-факто находятся в состоянии войны с «Аль-Каидой» и иными структурами наркокриминального и террористического «Интернационала», не имеющими ни государственности, ни собственной территории.
В ситуации информационной глобализации государства не в состоянии контролировать контент интернета, в том числе и несущий вызовы властным структурам. На национальной и международной арене все чаще в качестве влиятельных субъектов выступают различные сетевые сообщества, НПО.
Если суммировать происходящие перемены, то, вероятно, придется говорить не о «десуверенизации» государства, а о «деэтатизации» мирового развития, ограничении возможностей государства влиять на ход процессов, протекающих в том числе и на его территории.
Наиболее точно суть протекающих процессов передает термин «глокализация», предложенный английским социологом Роландом Робертсоном в книге «Глобализация: социальная теория и глобальная культура» (1992). Он предполагает, что глобализация, повышающая роль наднациональных политических, военных и экономических институтов, сочетается с партикуляризацией регионов (областей), стремящихся, помимо своих государств, принять участие в глобализационных процессах и в то же время сохранить собственную самобытность.
В современном мире, бесспорно, налицо тенденция «перетекания» властных полномочий во всех сферах общественной жизни от государств к наднациональным и транснациональным структурам, а одновременно – роста стремлений отдельных районов крупных государств к автономии или даже независимости. Также очевидно, что многие политические лидеры стремятся противостоять трендам, которые они рассматривают как противоречащие национально-государственным интересам своих стран и народов. Но данные тренды существуют как объективная реальность, они просчитываются на базе современных методик мир-экономического, социологического и социокультурного анализа. Стремление противостоять тенденциям к переменам лишь делает осуществление этих перемен более тернистым, чреватым дестабилизацией на обширных территориях.
«Пробел демократии»
Современный переходный период характеризуется наибольшей турбулентностью и непредсказуемостью.
Большинство государств, за исключением крупнейших, являющихся по сути дела самобытными цивилизациями (США, Китай, возможно, Индия) уже оказались в положении, когда способность контролировать собственное развитие становится чисто декларативной. В то же время международные и наднациональные организации, даже наиболее развитые в зоне Евросоюза, в условиях кризиса продемонстрировали недостаточную эффективность, что поставило на повестку дня вопрос об их реформировании, вектор которого пока остается неопределенным.
Главная проблема дня сегодняшнего – разнонаправленность импульсов, влияющих на перемены в современном мире. Большинству государств свойственны противоречивые стремления.
С одной стороны, восстановить (усилить) национальный контроль над экономикой: ожидается, что это позволило бы решить и обостряющиеся внутренние проблемы социального, этносоциального и регионального развития.
С другой – существует понимание, что нарушение ранее принятых международных обязательств, ограничение участия в глобализированном разделении труда крайне негативно скажется на экономическом положении соответствующих стран и на возможности пребывания у власти правящих элит.
В принципе большинство политических лидеров современности не исключают дальнейшего расширения функций наднациональных институтов и даже введения более жестких санкций за саботирование их решений. Но при одном условии: должны быть созданы благоприятные возможности выхода из кризиса и повышения глобальной конкурентоспособности государств. Однако поскольку проблемы ведущих стран мира неодинаковы, то прийти к согласию удается крайне редко. Кроме того, сказывается лоббирование ТНК и ТНБ своих интересов, которые также неоднозначны. Современные транснациональные суперкорпорации не хотели бы изменения принципов функционирования либерализированной и контролируемой только ими мировой экономики, но они вынуждены считаться с риском социальных взрывов в зонах тотальной депривации, созданных их стремлением к получению сверхприбыли, угрозой общей дестабилизации миропорядка. По этой причине определенный уровень социальной ответственности большинство ТНК все же вынуждены проявлять.
Мнимая «антагонистичность» существующих в современном мире импульсов влияния и соответствующих трендов не должна вводить в заблуждение.
Строго говоря, стремления «державников» и приверженцев более жестко ориентированной социальной политики, которая требует более «сильного» государства, нисколько не противоречат тенденции к усилению роли и функций наднациональных, международных институтов – при условии, что само государство станет своего рода исполнительным органом выполнения их решений. То есть транснационализированные элиты корпораций и наднациональных структур не имеют ничего против расширения полномочий государства – если оно будет исполнять их волю. Вполне вероятно, что трансформация государства в течение ближайших десятилетий приведет к изменению структуры и функций гражданского общества, функционирования институтов демократии.
На государственном уровне они, скорее всего, будут становиться все более формальными. С неизбежным провалом популистских обязательств (наподобие принятых избранным президентом Франции социалистом Франсуа Олландом) усугубится дискредитация традиционных политических партий. Рано или поздно избиратели поймут: какие бы радужные перспективы им ни рисовали, на национально-государственном уровне могут быть выполнены лишь решения, поддержанные транснациональными элитами. Возможность доступа в их среду и влияния на их решения определяется конкурентными возможностями крупнейших частных и государственных корпораций на мировом рынке, а отнюдь не волей граждан. Как писал еще в 1999 г. Энтони Гидденс, «народы и государства остаются мощным фактором, но между ними и глобальными силами, воздействующими на жизнь их граждан… возникает широкий “пробел демократии”».
В этой ситуации весьма вероятно, с одной стороны, что активность гражданского общества сконцентрируется на низовом уровне, решении местных, локальных проблем, в том числе и в жестком противостоянии с общегосударственными «центрами власти». Решение проблем зон «социального бедствия», противодействия экологически опасным проектам «центра», сохранение местной этносоциокультурной специфики станет основным вопросом внутригосударственной политики. С другой стороны, влиятельной, системообразующей силой нового века, способной воздействовать на глобальную повестку дня наднациональных управляющих структур, станут реальные и виртуальные трансграничные сетевые сообщества. Противоборствующие трансграничные сетевые структуры, способные организовывать спонтанные массовые акции (в том числе и в поддержку местных, локальных выступлений) на территории десятков государств, скорее всего, превзойдут по своему влиянию современные политические партии.
Спорный вопрос – возможность демократизации наднациональных институтов. Во всяком случае, в современном мире политика МВФ, Всемирного банка, оказывающих очень большое влияние на ход мирового развития, определяется размерами взноса государств в их фонд, а не голосованием избирателей. Деятельность ООН также далека от демократичности. Постоянные члены Совета Безопасности обладают привилегией – предпринимать все что угодно, обладая иммунитетом от применения против них санкций. Не вполне демократична и деятельность Генеральной Ассамблеи ООН – разве соответствует принципам демократии положение, при котором государства с населением в несколько сотен тысяч человек обладают таким же весом, как и страны с населением в сотни миллионов?
Едва ли стоит рассчитывать в обозримой перспективе на глубинное реформирование существующих международных организаций. Скорее, с учетом развития технологий трансграничного общения, можно ожидать упрочения структур глобального гражданского общества, способных воздействовать на ход мирового развития.
Роль института государства в этих условиях должна быть переосмыслена, но не им самим, а прежде всего в рамках разгорающихся дискуссий внутри все более глобальных структур гражданского общества. На них ложится дополнительная ответственность аккумулировать накопленный опыт переформатирования государства не только в рамках транснациональных инициатив, но и на низовом уровне (регионы, муниципалитеты и т.п.). Достойное место в этом обсуждении необходимо обеспечить и бизнесу (от мелкого до ТНК и ТНБ). Возможно, единственная роль государства в этом процессе должна заключаться в предоставлении формализованных площадок для такого рода дискуссий.
Это не значит, что государство как институт низводится до роли технической прислуги. Для формулирования и подготовки точных решений крайне необходим его профессионализм (точнее: профессионализм лучшей части чиновничества). Это тем более верно в отношении эффективной реализации того нового общественного интереса, который рано или поздно будет оформлен в требуемые решения.
Н.В. Загладин – доктор исторических наук, заведующий Центром ИМЭМО РАН.
Е.Ш. Гонтмахер – доктор экономических наук, заместитель директора ИМЭМО РАН.

Неопределенность в теории и на практике
Резюме: Слово, которое наиболее емко характеризует происходящее в мире, – «неопределенность».
Слово, которое наиболее емко характеризует происходящее в мире, – «неопределенность». И дело не только в скорости и обилии событий, хотя и по этим показателям ситуация не имеет аналогов. Международная среда переживает качественные изменения, ставя под сомнение классические методы анализа. Они как минимум требуют совершенствования, если не кардинального обновления.
Ульрих Бек призывает к принципиально новому взгляду – методологический национализм, на котором базируется современное изучение общественных процессов, не соответствует реалиям глобального мира. Евгений Гонтмахер и Никита Загладин утверждают, что исчерпалась сама парадигма, заданная эпохой Просвещения, – и снова причина в неравномерности и нелинейности явлений глобализации. Генри Киссинджер в поисках ответа на сегодняшние вопросы, напротив, обращается к наследию классиков консерватизма, однако и он признает, что привычное мировоззренческое деление на реалистов и идеалистов устарело.
Главный вопрос, с которым сталкивается и исследователь международных отношений, и их непосредственный участник, касается роли и содержания фактора силы в мировой политике. Хотя никто не отменял и не отменит военную мощь, информационное общество выдвигает на передний план и другие инструменты. Константин Косачев обращается к понятию «мягкой силы», которая считается все более важным элементом успеха любого государства на глобальной арене, и анализирует российский ресурс в этой сфере. Опыт Пекина по наращиванию «мягкой силы» описывают Ольга Борох и Александр Ломанов – с середины прошлого десятилетия КНР прилагает целенаправленные усилия для распространения китайского видения по всему миру. Примером тому может служить статья Сюн Гуанкая – автор, затрагивая многогранную проблему отношений в треугольнике Китай–США–Россия, ненавязчиво продвигает китайское представление о гармонии в международных делах.
Лидером в области «мягкой силы» всегда считалась Европа, которая призывала идти за собой, ссылалась на рецепт собственного успеха. Сейчас Европейский союз едва ли в состоянии предложить себя в качестве образца для подражания. Констанца Штельценмюллер фантазирует о том, какой может стать единая Европа через 10 лет, обобщая предположения в трех сценариях – от умеренно безнадежного до относительно оптимистического. Себастьян Маллаби прямо заявляет, что судьбы Старого Света зависит исключительно от Берлина.
У Америки свой букет проблем, особняком среди них – Иран и Афганистан. Кеннет Уолтц, вступая в полемику с большинством специалистов, доказывает, что обретение Ираном ядерного оружия укротит страсти и обеспечит стабильность на Ближнем Востоке. Джон Подеста и Стивен Хэдли размышляют над тем, как уйти из Афганистана, чтобы, с одной стороны, сохранить там свое присутствие, с другой – обеспечить внутреннее спокойствие. Вероятность достижения стабильности обратно пропорциональна степени внешнего, прежде всего американского участия, полагает Иван Сафранчук. Афганцам надо дать возможность самим установить баланс сил у себя дома. Махмуд Сохейл сетует, что официальный Исламабад не способен вести тонкую и дальновидную игру в Афганистане.
При неблагоприятном сценарии эта страна может превратиться в источник террористической и экстремистской угрозы для всей Центральной Азии, а через нее и России. Основная структура, которая обязана противостоять дестабилизации – Организация Договора коллективной безопасности, – остается ограниченно дееспособной. Аркадий Дубнов пытается понять, есть ли вообще шанс консолидировать ОДКБ на какой-либо идейно-политической основе, приемлемой для всех стран-участниц. Рафик Сайфулин объясняет недавнюю приостановку членства Узбекистана неверием в потенциал ОДКБ, однако выступает за укрепление связей на двусторонней основе. Мурат Лаумулин подчеркивает важность организации, но признает наличие трудностей с выстраиванием эффективной работы. Анатолий Адамишин вспоминает события в Центральной Азии начала 1990-х гг., когда Москва возглавила усилия по прекращению жестокого междоусобного противостояния в Таджикистане. Многие угрозы того времени актуальны и теперь. Так, в середине позапрошлого десятилетия борьба за власть в Афганистане катализировала нестабильность в соседних государствах, ситуация может повториться.
Марк Катц проводит неожиданную параллель. Так же, как вторжение СССР в Афганистан в 1979 г. свело на нет политические успехи Кремля на Ближнем Востоке в предшествующие десятилетия, так и поддержка Россией сирийского режима Башара Асада подрывает то немалое, чего достиг в этой части мира Владимир Путин. Руслан Курбанов размышляет, может ли «весна» начаться в самой консервативной державе Ближнего Востока – Саудовской Аравии. А Геворг Мирзаян разбирает события в Египте, в политическом устройстве наиболее населенной и потенциально крайне влиятельной страны арабского мира происходит тектонический сдвиг.
В следующем номере мы обратимся к состоянию БРИКС, снова взглянем на политику Азиатско-Тихоокеанского региона, привлекающего все больше внимания, затронем проблемы национализма и другие темы.
Ф.А. Лукьянов - главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Выпускник филологического факультета МГУ, с 1990 года – журналист-международник, работал на Международном московском радио, в газетах "Сегодня", "Время МН", "Время новостей". Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России.

Заседание Международного консультативного комитета НИУ ВШЭ, в котором принимают участие ученые-эксперты из разных стран, проходит в Москве 30-31 мая. О том, какие проблемы существуют в современной российской системе высшего образования, о том, почему Россия пока не входит в первые сотни мировых рейтингов вузов, и шагах, которые ей для этого необходимо предпринять, рассказали в интервью РИА Новости директор и почетный профессор Центра международного высшего образования при Бостонском колледже Филип Альтбах и координатор проектов Всемирного банка в сфере высшего образования по Восточной Европе Джамил Салми.
- Расскажите, пожалуйста, по каким критериям составляются международные рейтинги вузов и какие параметры при этом учитываются?
Альбах: Существует три основных международных рейтинга, а также и национальные рейтинги. В настоящее время в России действует рейтинг Reuters. Помимо этого, Высшая школа экономики планирует составить еще один новый рейтинг. Россия составляет свои национальные рейтинги, потому что ей пока не удается достигнуть высоких позиций в мировых рейтингах, но хочется, чтобы у российских университетов был лучший имидж.
Если же говорить о международных рейтингах, то я хотел бы упомянуть QS, рейтинг издания The Times Higher Education (разработан совместно с Thomson Reuters - ред.) и Академический рейтинг университетов мира, который составляется в институте высшего образования Шанхайского университета. Для составления QS важна репутация университета - проводится опрос ученых по теме, какой ВУЗ лучший; в Times учитывается как репутация, так и научные исследования, а шанхайский рейтинг основывается на фактических данных и он самый объективный. Его единственное слабое место - то, что его составители отдают предпочтение англо-саксонским странам.
Салми: Предпочтение отдается и университетам, где развиты прикладные и естественные науки, и куда меньше внимания уделяется гуманитарным и социальным дисциплинам.
Альтбах: Могу привести в пример мой университет (Бостонский колледж), который занимает 28-е место в рейтинге национальных университетов. При этом мы не занимаем мест в международных рейтингах, поскольку у нас не развиты медицина и технические специальности.
- Что вы думаете относительно идеи выхода российских университетов в первые сотни мировых рейтингов? Как это реализовать? Что для этого необходимо сделать руководству университетов и потребует ли это вложения материальных и человеческих ресурсов?
Альтбах: По правде говоря, у российских университетов есть проблемы. Так, недавно было проведено сравнение зарплат ученых, и зарплаты преподавателей в России довольно низкие, российские ученые не могут выжить на свою зарплату. Я считаю, что до тех пор, пока российские университеты будут платить низкие зарплаты, они не смогут войти в первую сотню мировых ВУЗов. Я хотел бы отметить и то, что российская система образования достаточно бюрократична, а чем меньше у университета независимости, тем сложнее ему попасть в мировые рейтинги. Под бюрократией я подразумеваю и чрезмерный контроль со стороны ректоров, и иерархию в должностном положении, и, в некоторых случаях, прямое влияние государства на не самые важные академические решения.
Салми: В свою очередь, я считаю, что слабость российской системы высшего образования заключается в ее обособленности от Российской академии наук. А ведь в лучших университетах мира обучение и исследовательская работа идут бок о бок.
Альтбах: Мы считаем, что лучшее образование именно в тех университетах, где есть и обучение, и исследовательская работа, а то время как в российской системе высшего образования это пока представляется сложным.
- Однако есть ли какие-то шаги, которые помогли бы России улучшить ситуацию в сфере образования?
Альтбах: Конечно, объединить академиков и университеты.
Салми: Необходимы и ресурсы. В последнее время российское руководство вложило немало средств в систему образования и исследований. Также, об этом уже упоминал профессор Альтбах, необходимо сделать более гибким и современным менеджмент в ВУЗах. Вчера, когда я посещал один из университетов, мне сообщили, что ректор лично подписывает дипломы всем студентам. Считаю, что этот процесс необходимо модернизировать. Также следует решить и вопрос заработной платы преподавателей. Мировой академический рынок очень конкурентоспособен, и на сегодняшний день лучшие российские профессора сейчас не в России, они преподают в Гарварде или Оксфорде. В то время как конкурентоспособные зарплаты смогут привлечь как российских ученых, живущих за пределами страны, так и иностранных специалистов. Также России стоит упростить визовую и налоговую системы для ученых. В качестве примера - иностранному ученому, преподающему в Высшей школе экономики, приходится платить более высокие налоги, нежели его российским коллегам. Все эти факторы сделают российские ВУЗы более привлекательными на мировом уровне. Также университетам, которые хотят улучшить свои позиции на внешнем рынке, стоит улучшить преподавание английского языка.

Когда могут состояться первые встречи технических экспертов для обсуждения совместной работы США и РФ по ЕвроПРО, а также какой будет реакция Вашингтона на "упреждающие удары" Москвы по американским противоракетным системам в Европе, в интервью корреспонденту РИА Новости Елизавете Исаковой рассказали помощник министра обороны США Мадлен Кридон и специальный представитель США по вопросам стратегической стабильности и противоракетной обороны Элен Тошер. Представительницы Пентагона и Госдепа возглавляют делегацию США на международной конференции "Фактор противоракетной обороны в формировании нового пространства безопасности", проводимой 3-4 мая в Москве под эгидой Минобороны РФ.
- Генштаб ВС РФ заявил в четверг, что в случае обострения обстановки не исключает упреждающего применения средств поражения по системам ПРО в Европе, но считает это крайней мерой. Как вы могли бы прокомментировать данное заявление?
Мадлен Кридон: Мы уже говорили о том, что сейчас немного неподходящее время для того, чтобы говорить о какой-то конкретной реакции с нашей стороны на такие заявления, но с другой стороны, нам странно слышать о каких-либо угрозах, которые даже не являются таковыми для России.
Элен Тошер: Да, мы уже сказали, что реализация первой фазы (ЕвроПРО) состоится только в 2015 году. Так что у нас еще есть немного времени, чтобы убедить Россию, что мы и продолжим делать.
Первая фаза Европейского поэтапного адаптивного подхода (ЕПАП) начнет действовать в 2015 году, следующая - в 2018-м, затем в 2020-м.
Мы знаем об озабоченностях РФ (по проблеме ЕвроПРО), и мы относимся к ним с уважением. Мы слышим эти озабоченности уже в течение долгого времени и работаем над тем, чтобы лучше объяснить России возможности нашей системы, наши намерения, то, что мы подразумеваем под сотрудничеством, а также политическую конъюнктуру. Все это сложно, но я думаю, что важно понимать также, насколько они (угрозы со стороны РФ) серьезны. Поэтому мы благодарны России за это.
Я полагаю, что в действительности мы сможем говорить о каких-то конкретных вещах (контрмерах на возможные угрозы со стороны РФ), как мы полагаем, только после начала эксплуатации первой фазы ЕПАП в 2015 году.
- Российские представители также предупредили США о возможности приостановки информационных обменов по СНВ в случае, если Вашингтон продолжит развивать свою систему ПРО в Европе. Как на это будут реагировать США?
Э. Тошер: Было бы жаль, если это произойдет. Я думаю, есть много тем, по которым наши страны достигли согласия. Однако "домашней работой" наших отношений на сегодняшний день остаются "перезагрузка" и работа по новому договору об СНВ. И прежде, чем принимать крайние меры, необходимо проработать эти пункты.
У нас, конечно, нет бесконечности, но какой-то запас по времени для урегулирования вопросов остается.
Мы уже и так тратим много времени и энергии для решения данных вопросов, причем с обеих сторон. И я без преувеличения могу сказать, что на сегодняшний день мы все рассчитываем на успех.
Но у нас также есть примеры того, где прогресса нет. К примеру, все больше людей в этом отношении говорят о ПРО, но эту "домашнюю работу" мы еще не завершили.
Так что я полагаю, мы продолжим начатое, продолжим серьезный настрой (на сотрудничество с РФ). Но я не думаю, что сейчас подходящее время для того, чтобы говорить о какой-то возможной реакции на что-то.
- Вашингтон не раз заявлял о том, что заинтересован в сотрудничестве РФ с НАТО и США по ПРО. Но в чем конкретно это сотрудничество должно выражаться?
М. Кридон: Что касается специфики подобного сотрудничества, то у нас уже проходит много дискуссий по этому поводу. В них, в частности, участвует и спецпосланник Элен Тошер, и представители Пентагона. Мы проводим такие консультации везде: в Женеве, Колорадо, Вашингтоне, РФ. И мы намерены продолжить разговоры на эту тему.
Даже ваш президент Дмитрий Медведев сказал, что надеется, что обе стороны решат проблему ПРО и смогут выработать формулу, которая исключит любое разделение на проигравшего и победителя в этом вопросе. Так что нам ясно видна заинтересованность Москвы в этом процессе.
Но я хотела бы добавить, что мы с РФ уже больше года работаем над соглашением о сотрудничестве в области технологий по безопасности. Этот документ нам необходим во многих отношениях, в том числе для того, чтобы начать технические дискуссии с РФ (по сотрудничеству в области ПРО). И мы хотели бы заключить это соглашение, так как его отсутствие создает нежелательный барьер для дальнейшего диалога с Россией.
- Вы отметили успех московской конференции по ПРО и, в частности, ее представительность. Не хотите ли провести аналогичную встречу у себя, вне зависимости от саммита НАТО в Чикаго?
Э. Тошер: Конечно. Даже наши президенты говорят о необходимости технических дискуссий по этой теме.
Но мы на московской конференции указывали, что за один раз не получится преодолеть то невероятное количество недоверия, которое накапливалось годами и сегодня приводит к просчетам. И в этом виноваты обе наши страны.
Так что все это гораздо сложнее, чем просто показать какую-то картинку и рассказать, что на ней изображено.
Мы твердо уверены в том, что физические параметры и география нашей системы ПРО очевидны. И с этим согласны 28 стран НАТО. Но русские нам не доверяют и не хотят нам верить. Но мы должны преодолеть это недоверие.
Просто так это, конечно, не произойдет. Во многом этому процессу (преодоления недоверия) помог диалог президентов Медведева и Обамы. Кстати, сразу после инаугурации в США приедет и Владимир Путин (на саммит "большой восьмерки"). Так что многое в заявлениях нашего руководства указывает на необходимость двигаться вперед. И часть этого движения - это не информация, а как раз доверие. И чтобы завоевать его, необходимо время.
- Так есть ли планы проведения подобной конференции по ПРО в США?
Э. Тошер: Мы можем провести подобную конференцию, но я не думаю, что новая встреча, по следам московского форума, продвинет наш диалог по ПРО. Нам нужно разрабатывать меры по укреплению уверенности и доверия, и нам надо определить области, в которых мы согласны, и те, в которых наши мнения расходятся.
Мы уже делаем многое в этом направлении: работаем по линии министерств обороны, МИД, в НАТО, а также на самом высоком уровне.
Но, как мы уже сказали, 2015 год - год введения в эксплуатацию первого позиционного района ПРО. Он у нас уже, собственно, есть - это радары в Турции и корабли, оснащенные системой "Иджис", в Средиземном море, однако диалог между нашими странами не прекратился. И до 2015 года у нас еще есть время. Конечно, мы не будем ждать до последней секунды, но время еще есть.
М. Кридон: Да, действительно, конференция была очень успешной. Была проделана громадная работа, собраны эксперты из 50 стран мира, дискуссии шли на очень высоком уровне.
Там были те, кто говорил, что наша система вообще не заработает, другие уверяли, что ПРО будет выполнять свои функции. Но я думаю, что для следующего шага в предстоящие 9-10 месяцев необходимо будет сфокусироваться на обработке данных с этой конференции и провести технические дискуссии, вычислить время начала работы и состав различных рабочих групп для них. Потому что сегодня нам необходимо, что называется, копнуть поглубже. Так что в ближайшие месяцы необходимо заняться именно этим.
- Многие российские эксперты полагают, что до избрания в США нового президента ни о каком прогрессе по ПРО с РФ речи быть не может. Вы согласны с такими мнениями?
Э. Тошер: Нам необходимо работать на различных направлениях, и многие из упомянутых Мадлен Кридон технических дискуссий будут проходить без участия наших президентов.
Дело в том, что нельзя ничего построить на неустойчивой поверхности. Так что нам необходима прочная основа для дальнейшей работы. С этим согласны и в Москве, и в Вашингтоне.
Эту основу мы сможем создать как раз с помощью технических дискуссий. Но это займет какое-то время, также как и осознание того, какие из направлений сотрудничества по этому вопросу (ПРО) приоритетны для каждой из сторон.
Многое из этого произойдет как раз в ближайшие 9-10 месяцев. У нас появится новый президент - и это произойдет вне зависимости от результатов этих технических дискуссий. И к тому времени, я надеюсь, мы придем к необходимости создания политической наполненности для нашей технической основы. Потому что нельзя говорить о каких-либо политических шагах без прочной основы.
Так что многое из того, что будут согласовывать на своем уровне технические эксперты и официальные лица, станет основой для политических решений, принимать которые будут уже президенты.
- Известно уже, когда состоятся первые технические дискуссии?
М. Кридон: У нас нет еще расписания таких встреч. Мы ожидаем, что этот вопрос будет обсуждаться как раз на встрече наших президентов в мае в США. Кроме того, необходимо учитывать и мнение НАТО, так как альянс играет в этом процессе свою роль.
- То есть окончательное решение будет принято после саммита НАТО в Чикаго?
М. Кридон: Да.
Елизавета Исакова.

Арабская весна – первый год
Опасное время для жизни
Резюме: Римский историк Тацит однажды точно подметил, что «лучший день после свержения плохого императора – это самый первый день». Нынешнее третье арабское пробуждение лежит на весах истории. В нем есть опасности и перспективы, опасность оказаться в застенках, но и возможность обрести свободу.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 2, 2012 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
На протяжении всего 2011 г. из арабского мира доносилось ритмичное скандирование: «Народ – за свержение режима». Этот клич легко преодолевал границы, нашел отражение на страницах газет и журналов, в социальных сетях Twitter и Facebook, звучал на телеканалах «Аль-Джазира» и «Аль-Арабия». Арабский национализм недооценивали, зато налицо были все признаки панарабского пробуждения. Молодые люди, жаждавшие политической свободы и экономических возможностей, уставшие просыпаться каждый день в монотонной действительности, восстали против своих склеротичных господ.
Все произошло неожиданно. На протяжении почти двух поколений волны демократии захлестывали другие регионы – от Южной и Восточной Европы до Латинской Америки, от Восточной Азии до Африки. Однако до Ближнего Востока они не докатывались. Местные тираны взяли под контроль политический мир и стали владельцами своих стран – если не по форме, то по сути. Сложилась довольно унылая картина: ужасные правители, подавленное население, террористы-маргиналы, в отчаянии бросающиеся под каток нелегитимного режима. Арабы почувствовали, что над ними тяготеет проклятье, они обречены на деспотизм. Исключительность региона оборачивалась не только гуманитарной катастрофой, но и моральной ущербностью.
Внешние державы закрывали глаза на происходящее, полагая про себя, что это лучшее, на что арабы способны. Внезапный порыв вильсонианства привел к тому, что в течение нескольких лет Соединенные Штаты своей властью провозгласили в Ираке свободу. Саддама Хусейна удалось вытравить из его «паучьей щели», сирийские террористы и вымогатели были изгнаны из Ливана, деспотизму Хосни Мубарака, который долгое время был столпом американского влияния, также был положен конец. Но Ирак после Саддама представлял собой противоречивую смесь демократии с кровью на улицах и религиозным противостоянием. Автократии ушли в глухую оборону и сделали все возможное, чтобы новый иракский проект окончился провалом. Ирак оказался в огне, и арабские «самодержцы» указывали на него как на предостережение – к чему приводит свержение даже худшего из деспотов. Более того, Ирак нес двойное бремя унижения из-за ослабления арабов-суннитов – США принесли свободу, и война усилила позиции шиитов в арабском мире. Результатом оказалась ничья: арабы не могли затушевать или игнорировать проблески свободы, но пример Ирака не стал маяком надежды для простых людей, на что многие рассчитывали.
Сами арабы говорят, что Джордж Буш вызвал цунами в регионе. Это верно, но арабы хорошо умеют пережидать бури, и вскоре уже сами американцы упали духом и решили не продолжать экспериментировать. На выборах 2006 г. в Палестинской автономии победу одержало движение ХАМАС, и администрацию Буша постигло еще одно разочарование. Наращивание контингента в Ираке стало весьма своевременным спасением всей военной кампании, но от более честолюбивых планов реформирования арабского мира пришлось отказаться. Автократиям удалось пережить короткий период наступательного порыва Соединенных Штатов, и вскоре новый знаменосец американской власти Барак Обама принес утешительную весть: США изменят свою политику, установят мирные отношения со всеми имеющимися режимами, обновят партнерство с дружественными автократами и даже попытаются взаимодействовать с враждебными режимами в Дамаске и Тегеране. Какое-то время Америке еще потребуется для завершения миссии в Кабуле, но Большой Ближний Восток оказался предоставлен самому себе.
В первое лето президентства Обама был захвачен врасплох мятежом против засилья аятолл в Иране и не знал, что предпринять. Твердо взяв курс на умиротворение правителей, он не нашел нужных слов для переговоров с мятежниками. Тем временем сирийский режим, отказавшийся под нажимом мирового сообщества от владычества в Ливане, жаждал восстановить там утраченные позиции. Тайная кампания терактов и убийств, доминирование «Хезболлы» и субсидии Ирана способствовали подавлению «Кедровой революции», которая была гордостью дипломатии Буша.
Изучая баланс сил в регионе в конце 2010 г., наблюдатели могли побиться об заклад, что автократия просуществует еще долго. Имея перед собой пример Башара Асада в Дамаске, они невольно приходили к выводу, что аналогичная участь ждет Ливию, Тунис, Йемен и даже законодателя мод в арабской политической и культурной жизни – Египет. Однако за внешней стабильностью скрывались нищета и бесплодность политической мысли. Арабы не нуждались в каких-либо докладах о «развитии человечества», и без того осознавая свое жалкое положение. В обществе отсутствовало согласие; единственное, что связывало правителей и их подданных, – это страх и подозрительность. Не было и намека на какие-либо проекты по общественному переустройству, которые можно было бы завещать будущему поколению, и это в арабских странах, где молодое население столь многочисленно.
Затем грянул гром. В декабре 2010 г. в Тунисе отчаявшийся торговец фруктами Мохаммед Буазизи не смог найти иного выхода, как совершить самосожжение в знак протеста против несправедливого уклада жизни. Вскоре миллионы его безымянных соотечественников вышли на улицы, избрав другой способ выражения протеста. Внезапно деспоты, владычеству которых, казалось бы, ничто не угрожало, без пяти минут небожители, вынуждены были спасаться бегством. Со своей стороны, Соединенные Штаты поспешили оседлать эту волну. «В слишком многих странах, и везде по-разному, фундамент региона проседает и уходит в песок,» – заявила государственный секретарь Хиллари Клинтон, выступая в Катаре в середине января 2011 г., когда буря только начиналась. Вскоре события в арабском мире стали красноречивой иллюстрацией к ее словам. Единственное, что упустила госсекретарь, так это то, что в песок ушли и наработки нескольких поколений американской дипломатии.
На этот раз огонь
Мятеж был сведением счетов между властью и населением, которое твердо решило покончить с засильем деспотов. Первый взрыв произошел в маленькой стране, расположенной на периферии арабского политического пространства, более образованной, процветающей и связанной с Европой, чем большинство других государств Магриба. Когда волна восстаний начала продвигаться на восток, она поначалу обогнула Ливию и обрушилась на «мать мира» Каир. Там продолжающееся представление обрело достойные подмостки в соответствии с амбициями мятежников.
Часто списываемый со счетов как страна, преимущественно покорная, Египет столкнулся с беспрецедентными по своей жестокости беспорядками. То, что народ терпел Мубарака три десятилетия, можно отнести за счет везения диктатора. Будучи преемником Анвара Садата, Мубарак проводил осторожную политику, но со временем у него возникли династические амбиции. В течение 18 дней в январе и феврале египтяне всех профессий, как завороженные, собирались на площади Тахрир, требуя избавления от Мубарака. Ведущие военачальники сместили его с президентского поста, и он разделил участь тунисского деспота Зин эль-Абидина Бен Али, кабинет которого пал месяцем ранее. После Каира пробуждение охватило весь арабский мир – восстания вспыхнули в Йемене и Бахрейне. Последний, будучи монархией, стал редким исключением, поскольку весной 2011 г. беспорядками были охвачены только республики, управлявшиеся автократами. Но если в большинстве монархий действовал общественный договор между властью и подданными, Бахрейн оказался расколот противостоянием шиитского большинства и суннитских правителей. Таким образом, страна уязвима, и в порядке вещей, что социальный взрыв в ней вылился в межрелигиозное противоборство. Тем временем беднейшая из арабских стран, Йемен, раскололась на два лагеря вследствие буйствующих на севере и на юге изоляционистских течений и политики лидера страны, Али Абдуллы Салеха, ничем не примечательного, кроме владения искусством политического выживания. Феодальная вражда в Йемене вспыхивала в основном из-за ссор между племенами и их вождями. Широкие волнения в арабском мире дали йеменцам, жаждущим избавиться от правителя, мужество, чтобы бросить ему вызов.
Затем волна с удвоенной силой обрушилась на Ливию. Это было царство безмолвия, где безраздельно правил психически неуравновешенный Муаммар Каддафи, самопровозглашенный «староста арабских правителей». Четыре мучительных десятилетия ливийцы находились под началом тюремного надзирателя – полутирана, полуклоуна. Каддафи разграбил богатейшую в Африке страну и довел ее население до ужасающего обнищания. В период между мировыми войнами Ливия столкнулась с жестоким колониальным господством итальянцев. После небольшой передышки при аскетичном короле Идрисе страну в конце 1960-х гг. охватила революционная лихорадка. Главный лозунг тех лет звучал так: «Иблис ва ла Идрис» – лучше дьявол, чем Идрис. И Ливия получила то, чего хотела. Наличие больших запасов нефти лишь подливало масла в огонь безумия: европейские лидеры и американские интеллектуалы всячески обхаживали ливийских заправил. На сей раз в 2011 г. поднялся Бенгази – город, находящийся на некотором удалении от столицы – и история дала ливийцам еще один шанс.
Египетские воротилы заявили, что их страна – не Тунис. Каддафи сказал, что его республика – не Тунис и не Египет. Башар Асад также уверял, что Сирия – это не Тунис, не Египет и не Ливия. Асад молод, его режим был более легитимен в глазах ислама, потому что противостоял Израилю, а не сотрудничал с ним. Но он явно поторопился со своим суждением, и в середине марта настала очередь Сирии. Туда ислам пришел сразу после того, как преодолел пределы Арабского полуострова, но раньше, чем его центр переместился из арабского мира в Персию и Турцию. Вместе с тем несколько десятилетий тому назад отец Башара Хафез – чрезвычайно изворотливый и опытный политик – привел военных и партию Баас к абсолютной власти, создав режим алавитов, народа, составляющего меньшинство. Объединение деспотизма и религиозного фанатизма породило самое страшное государство на арабском Востоке.
Когда в 2011 г. вспыхнуло восстание, оно имело четкие географические границы, как доказывал французский политолог Фабрис Баланше. Главными очагами стали городские кварталы и территории, населенные арабами-суннитами. Сначала социальный взрыв произошел в южном провинциальном городке Дераа, затем мятеж перекинулся на такие города, как Хама, Хомс, Джиср эль-Шугур, Растан, Идлиб и Дейр-аз-Зор, минуя курдские и друзские территории, а также горные селения и прибрежные города, считающиеся оплотом алавитов. Наиболее ожесточенные столкновения произошли в третьем по величине городе Сирии Хомсе из-за его взрывоопасной демографии – две трети суннитов, четверть алавитов и 10% христиан.
Конечно, дело не только в религиозной вражде. В Сирии один из самых высоких показателей рождаемости в регионе; ее население выросло почти вчетверо с 1970 г., когда к власти пришел Хафез Асад. У режима, образно говоря, произошла закупорка сосудов, поскольку в политике и экономике доминировал военно-торговый комплекс. Финансовые средства государства значительно сократились, после того как под знаменами приватизации, проводимой в последние годы, государство самоустранилось от решения злободневных проблем. Мятеж явился выражением чувства экономической обездоленности и гнева суннитского большинства, твердо решившего избавиться от власти нечестивого меньшинства.
Нынешнее положение дел
Никакого единого сценария по смене режимов в арабском мире, конечно, не существовало. Тунис с его глубокими традициями государственности и ярко выраженной национальной самоидентификацией решил все проблемы сравнительно легко. Было избрано учредительное собрание, в котором большинство получила исламистская партия «Ан-Нахда». Ее лидер Рашид Ганнуши оказался мудрым и предусмотрительным человеком; годы, проведенные в изгнании, научили его осторожности, и партия сформировала коалиционное правительство совместно с двумя светскими партиями.
В Ливии иностранная интервенция помогла повстанцам свергнуть режим. Каддафи вытащили из трубы коллектора, где он скрывался, и зверски убили. Та же участь постигла одного из его сыновей. Диктатор пожал ненависть и ярость, которую сам сеял. Богатство, небольшая плотность населения и помощь иностранных государств – вот те плюсы, на которые может рассчитывать Ливия. Годы правления Каддафи – худшее, что могло приключиться с этой страной.
Над Бахрейном витают тени Ирана и Саудовской Аравии. Массового террора нет, но политический порядок малопривлекателен. Имеет место религиозная дискриминация, да и правящая верхушка ведет себя по меньшей мере странно. Династия Халифа, завоевавшая эти территории в конце XVIII века, до сих пор не заключила мирного соглашения с местным населением. Силы безопасности комплектуются иностранцами, и до настоящей стабилизации еще очень далеко.
Что касается Йемена, то это государство несостоятельно по определению. Правительство почти не вмешивается в дела населения, оно неплатежеспособно, зато в стране почти нет такого понятия, как террор. Заканчиваются запасы пресной воды, джихадисты, бежавшие из предгорий Гиндукуша, нашли здесь пристанище. Это тот же Афганистан, но с протяженной береговой полосой. Люди, высыпавшие на улицы Санаа в 2011 г., требовали восстановления правопорядка, более достойной политики, чем та, которую проводил циничный фигляр, стоявший у руля больше трех десятилетий. Будут ли их требования выполнены, неясно.
Сирия по-прежнему в хаосе. Палестинское движение ХАМАС ушло из Дамаска в декабре, потому что оно боялось оказаться на неправильной стороне укрепляющегося среди арабов консенсуса, который направлен против сирийского режима. «Никакого Ирана, никакой «Хезболлы», мы хотим правителей, боящихся Аллаха», – так звучит одно из наиболее осмысленных требований протестующих. Власть алавитов незаконна. Режим, жестоко подавляющий восстания, позволяющий силам безопасности осквернять мечети, стрелять в молящихся и приказывающий несчастным заключенным скандировать: «Нет Бога, кроме Башара», сам себя изжил. Хафез Асад тоже совершал жестокости, но всегда умудрялся оставаться в арабском правовом поле. Башар ведет себя иначе – совершенно безрассудно и безответственно, так что даже Лига арабских государств, которой свойственно закрывать глаза на некоторые бесчинства и авантюры своих членов, приостановила членство Дамаска.
Битва продолжается, Алеппо и Дамаск пока еще не восстали, и осажденный правитель, похоже, убежден, что сможет бросить вызов законам гравитации. В отличие от Ливии, на горизонте пока не маячит иностранная гуманитарная миссия. Но несмотря на всю неопределенность, одно не вызывает сомнений: устрашающая система государственной безопасности, которую построил Хафез Асад, партия Баас, солдаты-алавиты и главари спецслужб канули в Лету. Потеряв народную поддержку, режим какое-то время держался на страхе, но люди победили страх и вышли на улицы. Узы, некогда связывавшие властителей Сирии с ее населением, теперь разорваны окончательно.
Что после фараона
Тем временем Египет, возможно, утратил былой блеск, но об этой арабской эпохе будут судить по конечным результатам. При катастрофическом сценарии революция приведет к образованию исламской республики: копты будут вынуждены бежать, о доходах от туризма можно будет забыть, и египтяне будут жаждать железной хватки фараона. Большое число голосов, которые получили на недавних парламентских выборах «Братья-мусульмане» и еще более экстремистская партия салафитов, наряду с расколом светского и либерального электората, похоже, оправдывают опасения по поводу возможного развития политической ситуации. Но египтяне с гордостью вспоминают о либеральных периодах своей истории. Шесть десятилетий военный режим лишал их преимущества проведения открытой политики, и вряд ли они теперь легко откажутся от нее.
Выборы были прозрачными и представительными. Либеральные и светские партии оказались не готовы к борьбе, тогда как «Братья-мусульмане» десятилетиями ждали благоприятного исторического шанса и не преминули им воспользоваться. Не успели салафиты выйти из катакомб, как население возмутилось, и им пришлось отказаться от некоторых экстремистских взглядов. События на площади Тахрир ошеломили мир, но, как выразился молодой египетский интеллектуал Самуэль Тадрос, «Египет – это не Каир, а Каир – это не площадь Тахрир». Когда осядет пыль, за будущее Египта будут бороться три силы: армия, «Братья-мусульмане» и широкая светская коалиция либералов, лозунгами которой являются отделение религии от политики, гражданская форма правления и спасительные добродетели нормальной политической жизни.
«Братья-мусульмане» привносят в политическую борьбу проверенную временем смесь политической хитрости и искреннего стремления установить политический порядок по канонам ислама. Основатель этой партии Хасан аль-Банна был убит в результате покушения в 1949 г., но до сих пор служит ориентиром для мусульманского мира. Неутомимый заговорщик, он говорил о Божьем правлении, но подспудно совершал сделки с королем Египта против Вафд – господствующей партии тех дней. Он играл в политические игры, собрав грозное ополчение и попытавшись найти сочувствующих в офицерском корпусе, к чему с тех пор стремятся и его последователи. Вне всякого сомнения, его бы восхитило тактическое искусство преемников, маневрирующих между либералами и Высшим советом Вооруженных сил. Они приобщились к мятежу на площади Тахрир, но не участвовали в погромах и эксцессах, подчеркивая приверженность трезвости и общественному порядку.
Правда в том, что Египту не хватает финансовых средств для построения успешного современного исламского порядка. Исламская Республика Иран опирается на нефтяные доходы, и даже умеренное усиление Партии справедливости и развития в Турции обеспечивается процветанием благочестивой буржуазии из нагорной Анатолии. Египет находится на перекрестье международных сообщений и во многом полагается на доходы от туризма, судоходства по Суэцкому каналу, зарубежную помощь и денежные переводы от египтян, живущих за рубежом. Добродетель вынуждена идти на поклон к необходимости: в прошлом году золотовалютные резервы снизились с 36 до 20 млрд долларов. Инфляция стучится в дверь, цена импортной пшеницы очень высока, и приходится платить по счетам. Желание стабильности сегодня уравновешивает пьянящий восторг от низложения деспота.
Лидерам Египта придется решать грандиозные проблемы, и нежелание «Братьев-мусульман» и военных принять всю полноту власти говорит о многом. Вместе с тем здравый смысл и прагматизм может возобладать. Разумное разделение полученной в результате выборов легитимности и ответственности обещает оставить за «братьями» министерские портфели, которые им наиболее дороги: образование, социальное обеспечение и судебно-исполнительную власть, тогда как генералы будут контролировать оборону, разведку, мирный договор с Израилем, военные связи с США и сохранение экономических прерогатив офицерского корпуса. Светские либералы сохранят за собой значительное число сторонников, влияние в повседневной жизни, которая с трудом поддается регламентации и организации, а также возможность выставить сильного кандидата на предстоящих президентских выборах.
На протяжении двух веков кряду Египет борется за современное общество и достойное своих амбиций место в международной жизни. До сих пор это напоминало Сизифов труд, но египтяне упорствуют. В августе прошлого года страна стала свидетелем сцены, которая продемонстрировала великодушие египтян, что может их утешить. Перед судом на инвалидной коляске предстал, если так можно выразиться, последний фараон. Мубарака не вытащили из трубы коллектора, чтобы расправиться, как с Каддафи, он не затаился со своей семьей и не убивал свой народ, как это делал Асад. По словам писателя Эдварда Моргана Форстера, египтяне всегда демонстрировали способность примирять противоречия и могут сделать это еще раз.
Третье великое пробуждение
Это третье пробуждение в новейшей истории арабского мира. Первое – культурно-политический ренессанс, порожденный желанием быть частью современного мира – началось в конце 1800-х годов. Возглавляемое книжниками и законниками, мнимыми парламентариями и христианскими интеллектуалами, оно задалось целью реформировать политическую жизнь, отделить религию от политики, эмансипировать женщин и восстановить мусульманский мир после развала Османской империи. Не случайно это великое движение, важнейшими центрами которого были Каир и Бейрут, основал его летописец Георг Антониус, христианский писатель, родившийся в Ливане, выросший в Александрии, получивший образование в Кембридже и служивший в британской администрации на территории Палестины. Написанная им в 1938 г. книга «Арабское пробуждение» остается главным манифестом арабского национализма.
Второе пробуждение началось в 50-е гг. прошлого столетия и набрало силу в последующее десятилетие. Это была эпоха Гамаля Абдель Насера в Египте, Хабиба Бургибы в Тунисе и ранних лидеров партии Баас в Ираке и Сирии. Лидеры того времени не были демократами, но они энергично занимались политикой, стремясь решать насущные проблемы своего времени. Они были выходцами из среднего класса или даже ниже среднего и мечтали об индустриализации и избавлении своего народа от комплекса неполноценности, который развился в годы колониального господства, и еще раньше – в эпоху правления Османов. Простое обращение к их деяниям не способно раскрыть всего величия проекта. Их грандиозные свершения были отчасти сведены на нет демографическим взрывом, поползновениями авторитаризма и другими недостатками. Когда режим зашатался, образовавшийся вакуум заполнили полицейские государства и политический ислам.
Нынешнее, третье, пробуждение произошло как никогда вовремя. Арабский мир стал мрачным и пугающим. Население ненавидело своих правителей и их иностранных покровителей всеми фибрами души. Банды джихадистов, прошедшие закалку в жестоких тюрьмах зловещих режимов, распространились повсюду, сея смерть. Мохаммед Буазизи призвал своих собратьев творить новую историю, и миллионы людей в этом регионе услышали его и откликнулись. В июне прошлого года алжирский писатель Буалем Сансал написал Буазизи открытое письмо: «Дорогой брат, пишу тебе эти строки, чтобы ты знал, что у нас в целом все хорошо, хотя день на день не приходится: иногда меняется ветер, начинается дождь, и жизнь пробивается из всех пор… Давай задумаемся на мгновение о будущем. Может ли найти путь тот, кто не знает, куда идти? Разве изгнание диктатора – это все, что нам нужно? Теперь, когда ты второй после Бога, Мохаммед, тебе, наверно, стало очевидно, что не все дороги ведут в Рим, и за изгнанием тирана автоматически не последует свобода. Узники любят менять одну тюрьму на другую ради перемены обстановки, и чтобы получить возможность чему-то научиться, приобрести новый опыт».
Римский историк Тацит однажды точно подметил, что «лучший день после свержения плохого императора – это самый первый день». Это третье арабское пробуждение лежит на весах истории. В нем есть опасности и перспективы, опасность оказаться в застенках, но и возможность обрести свободу.
Фуад Аджами – старший научный сотрудник Института Гувера при Стэнфордском университете и сопредседатель Рабочей группы Герберта и Джейн Дуайт по исламизму и мировому порядку при Институте Гувера.

Будущее американо-китайских отношений
Конфликт – это выбор, а не необходимость
Резюме: США и Китай должны быть готовы воспринимать деятельность друг друга как естественную часть международной жизни, а не повод для беспокойства. Неизбежная тенденция к столкновению не должна приравниваться к сознательному стремлению сдерживать или доминировать.
Это эссе – адаптированное послесловие к готовящейся к изданию в мягкой обложке его последней книге «О Китае» (Penguin, 2012). Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 2, 2012 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
19 января 2011 г. президент США Барак Обама и председатель КНР Ху Цзиньтао представили заявление по итогам визита китайского лидера в Вашингтон. В нем декларировалась совместная приверженность развитию «позитивных и всеобъемлющих отношений Соединенных Штатов и Китая». Касаясь основных вопросов, стороны заверили друг друга, что «США приветствуют сильный, процветающий и успешный Китай, играющий более заметную роль в мировых делах. Китай приветствует Соединенные Штаты как азиатско-тихоокеанскую державу, способствующую миру, стабильности и процветанию региона».
С этого момента оба правительства приступили к реализации обозначенных целей. Высокопоставленные официальные лица обменивались визитами и институционализировали обмен мнениями по ключевым стратегическим и экономическим вопросам. Возобновились военные контакты, открыв важный канал для коммуникаций. На неофициальном уровне специальные группы изучали возможности эволюции отношений.
Однако одновременно с увеличением сотрудничества обострились и противоречия. Значительное число людей в обоих государствах заявляли, что борьба за превосходство между КНР и США неизбежна и, возможно, уже началась. В этом контексте призывы к американо-китайскому сотрудничеству выглядят устаревшими и даже наивными.
Взаимные обвинения обусловлены различным, хотя и параллельным анализом ситуации, который делают в каждой из стран. Некоторые американские стратеги заявляют, что Пекин преследует две долгосрочные цели: вытеснить Соединенные Штаты как доминирующую силу из западного Тихоокеанского региона и консолидировать Азию в эксклюзивный блок, действующий в соответствии с экономическими и внешнеполитическими интересами Китая. Согласно этой концепции, Пекин может представлять неприемлемый риск в случае конфликта с Вашингтоном, хотя абсолютный военный потенциал КНР формально не равен американскому, и, кроме того, Китай разрабатывает усовершенствованные средства, которые позволят лишить США традиционных преимуществ. Неуязвимый потенциал нанесения ответного ядерного удара в конечном итоге будет дополнен противокорабельными баллистическими ракетами увеличенной дальности и асимметричными возможностями в таких новых сферах, как киберпространство и космос. Некоторые опасаются, что Китай обеспечит себе доминирующее положение на море благодаря грядам отдаленных островов. Если это произойдет, соседям, которые зависят от торговли с КНР, но не уверены в способности Америки реагировать, возможно, придется приспосабливать свою политику к предпочтениям Пекина. В конечном итоге возникнет китайскоцентричный азиатский блок, который будет доминировать в западном Тихоокеанском регионе. Последний доклад об оборонной стратегии Соединенных Штатов отражает (по крайней мере косвенно) некоторые из этих опасений.
Ни один официальный представитель китайского правительства никогда не декларировал подобную стратегию как фактическую политику. На самом деле они провозглашают совершенно противоположный курс. Однако в околоофициальной китайской прессе и исследовательских институтах собрано достаточно материалов в поддержку теории о том, что отношения идут, скорее, к конфронтации, а не к сотрудничеству.
Стратегические опасения Соединенных Штатов усугубляются их идеологической предрасположенностью вести борьбу со всем недемократическим миром. Авторитарные режимы, считают некоторые, по своей сути нестабильны и вынуждены обеспечивать поддержку внутри страны на основе национализма и экспансионизма – как в риторике, так и на практике. Согласно этим теориям (варианты которых пользуются популярностью в определенных кругах американских и левых, и правых), напряженность и конфликт с Китаем обусловлены его внутренней структурой. Мир во всем мире, гласят упомянутые теории, наступит благодаря глобальному триумфу демократии, а не призывам к сотрудничеству. Политолог Аарон Фридберг пишет, например, что «у либерально-демократического Китая не будет причин бояться своих демократических коллег, тем более применять против них силу». Поэтому «без всякой дипломатической деликатности, конечной целью американской стратегии должно быть ускорение революции, хотя и мирной, в результате которой в Китае будет разрушено однопартийное авторитарное государство, а на его месте появится либеральная демократия».
Конфронтационные интерпретации в Китае следуют противоположной логике. Они рассматривают США как уязвленную супердержаву, намеренную помешать подъему любого соперника, КНР же выглядит самым реальным из них. Независимо от того, насколько активно Пекин стремится к сотрудничеству, заявляют некоторые китайцы, блокирование растущего Китая посредством размещения военных сил или договорных обязательств будет неизменной целью Вашингтона, дабы помешать КНР играть историческую роль Срединной империи. С этой точки зрения любое устойчивое сотрудничество с Соединенными Штатами равносильно самоубийству, поскольку оно будет служить лишь первостепенной американской задаче по нейтрализации Китая. Считается, что системный антагонизм даже стал неотъемлемой частью американского культурного и технологического влияния, которое иногда рассматривается как форма планомерного давления, направленного на подрыв внутреннего консенсуса и традиционных ценностей. Самые решительные голоса твердят о том, что Пекин был чересчур пассивным на фоне антагонистических тенденций. КНР должна (например, по территориальным вопросам в Южно-Китайском море) вступать в конфронтацию с теми соседями, к кому у него есть территориальные претензии, чтобы затем, по словам аналитика Лон Тао, «аргументировать, продумывать свои действия и наносить удар первым, пока ситуация не вышла из-под контроля, развязывая мелкие битвы, которые позволят не допустить провокаций в дальнейшем».
Прошлое не должно быть прологом
В таком случае есть ли смысл стремиться к сотрудничеству в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем? Разумеется, в истории подъем держав не раз приводил к конфликтам со странами, уже занимавшими ведущие позиции. Но условия изменились. Вряд ли лидеры, которые столь беспечно вступили в мировую войну в 1914 г., сделали это, зная, как изменится мир к ее концу. У современных руководителей нет подобных иллюзий. Крупная война между развитыми ядерными державами принесет жертвы и потрясения, несопоставимые с просчитанными целями. Превентивный удар практически исключен, в особенности для плюралистической демократии, такой как США.
Столкнувшись с вызовом, Соединенные Штаты сделают все необходимое для защиты собственной безопасности. Однако не следует использовать конфронтацию как предпочтительную стратегию. В лице Китая американцы столкнутся с противником, за многие века мастерски овладевшим стратегией пролонгированного конфликта, особое место в доктрине которого занимает психологическое изматывание оппонента. В реальном конфликте обе стороны обладают возможностями и умением нанести друг другу катастрофический ущерб. К моменту окончания подобного гипотетического столкновения все его участники будут обессилены и истощены. Тогда им снова придется решать задачу, стоящую перед ними сегодня: строительство международного порядка, значимыми элементами которого будут обе страны.
Стратегии сдерживания, разработанные на основе опыта холодной войны, когда обе стороны противостояли экспансионизму Советского Союза, в нынешних условиях не подходят. Экономика СССР была слабой (кроме военного производства) и не оказывала влияния на глобальную экономику. С тех пор как Китай разорвал связи и отправил домой советских консультантов, немногие страны, кроме принудительно включенных в орбиту Москвы, были в значительной степени связаны экономически с Советским Союзом. Современный Китай, напротив, является динамичным экономическим фактором. Это ключевой торговый партнер всех соседних стран и большинства индустриальных государств, в том числе США. Длительная конфронтация между Пекином и Вашингтоном изменит мировую экономику, и последствия будут негативными для всех.
Вряд ли и сам Китай будет считать подходящей для конфронтации с Соединенными Штатами стратегию, использованную им в конфликте с Советским Союзом. Лишь немногие страны – и ни одна в Азии – станут воспринимать американское присутствие в этой части мира как «пальцы», которые нужно «отрубить» (по яркому высказыванию Дэн Сяопина о советских передовых позициях). Даже те азиатские государства, которые не входят в альянсы с США, стремятся получить заверения их политического присутствия в регионе и наличия американских сил в близлежащих морях как гаранта мира, к которому они привыкли. Общий подход выразил, обращаясь к своему американскому коллеге, высокопоставленный индонезийский чиновник: «Не оставляйте нас, но не заставляйте нас выбирать».
Наращивание военной мощи, происходящее в последнее время в КНР, само по себе не является чем-то неожиданным: наоборот, было бы странно, если бы вторая по величине экономика мира и крупнейший импортер природных ресурсов не преобразовывал свою экономическую мощь в военный потенциал. Вопрос в том, ограничено ли это наращивание какими-либо сроками и для каких целей оно проводится. Если Соединенные Штаты будут воспринимать любое совершенствование военного потенциала Китая как враждебный шаг, они быстро окажутся вовлеченными в бесконечную череду споров о тайных целях. Но Пекин, опираясь на свой исторический опыт, должен осознавать, где проходит тонкая грань между оборонительным и наступательным потенциалом и какими могут быть последствия безудержной гонки вооружений.
У китайских лидеров будут весомые причины отвергать раздающиеся в стране призывы к антагонистическому подходу – как они и заявляли публично. Исторически имперская экспансия Китая достигалась путем постепенного проникновения, а не завоевания, или через обращение в свою культуру завоевателей, которые затем присоединяли свои владения к китайской территории. Военное доминирование в Азии стало бы очень сложным начинанием. Советский Союз во время холодной войны граничил с целой группой слабых стран, истощенных войной и оккупацией и зависящих от американских обязательств по их обороне. Сегодня Китай окружают Россия на севере, Япония и Южная Корея, имеющие военные альянсы с США, на востоке, Вьетнам и Индия на юге, неподалеку Индонезия и Малайзия. Такой расклад отнюдь не благоприятствует завоеваниям. Скорее он напоминает окружение и может внушать опасения. Каждая из этих стран имеет давние военные традиции и станет серьезным препятствием, если под угрозой окажется ее территория или способность проводить независимую политику. Милитаризация внешней политики КНР укрепит сотрудничество между всеми или по крайней мере некоторыми из этих государств, пробудив старые страхи Китая, как это случилось в 2009–2010 годах.
Вести дела с новым Китаем
Еще одна причина сдержанности Китая, по крайней мере в среднесрочной перспективе, – это проблема внутренней адаптации, которая стоит перед страной. Идея Ху Цзиньтао о «гармоничном обществе» кажется обязывающей и одновременно труднодостижимой из-за разрыва между развитыми прибрежными районами и неразвитыми западными провинциями. Проблему осложняют культурные изменения. Ближайшие десятилетия в полном объеме продемонстрируют, как политика «одного ребенка» повлияет на взрослое китайское общество. Изменятся культурные модели, поскольку большие семьи традиционно заботились о пожилых и больных. А когда две пары бабушек и дедушек борются за внимание одного ребенка и вкладывают в него все свои устремления, раньше распределявшиеся между многочисленными внуками, может возникнуть новая ситуация настойчивой тяги к достижениям и огромных, вероятно неоправданных, ожиданий.
Все эти аспекты усугубят проблемы реформирования органов власти, которое начиная с 2012 г. затронет институт председателя и вице-председателя КНР; произойдет существенное обновление состава Политбюро КПК, Госсовета, Центрального военного совета; тысячи других ключевых постов на национальном и региональном уровне займут новые люди. Группа новых руководителей в значительной степени будет состоять из представителей первого за 150 лет китайского поколения, жившего в мирное время. Главной проблемой станет поиск путей взаимодействия с обществом, которое революционизируется на фоне меняющихся экономических условий, беспрецедентных и быстро распространяющихся коммуникационных технологий, нестабильной глобальной экономики и миграции сотен миллионов людей из сельской местности в города. Новая модель управления, вероятно, окажется синтезом современных идей и традиционных китайских политических и культурных концепций, и стремление к синтезу обеспечит продолжение драматической эволюции страны.
В Вашингтоне за этими социальными и политическими преобразованиями должны следить с интересом и надеждой. Прямое американское вмешательство не станет мудрым или продуктивным шагом. Соединенным Штатам следует по-прежнему оглашать свою позицию по вопросам прав человека и конкретным ситуациям. Таким образом, повседневное поведение США будет отражать национальную приверженность демократическим принципам. Но системный проект трансформации китайских институтов посредством дипломатического давления и экономических санкций может иметь негативные последствия и привести к изоляции либералов, для содействия которым он изначально предназначался. В КНР это будет интерпретироваться подавляющим большинством через призму национализма и воспоминаний о предыдущих периодах иностранного вмешательства.
Такая ситуация побуждает не к отказу от американских ценностей, а к осознанию разницы между осуществимым и абсолютным. Американо-китайские отношения не должны рассматриваться как игра с нулевой суммой, а само по себе появление процветающего и мощного Китая не может восприниматься как стратегическое поражение Соединенных Штатов.
Подход, основанный на сотрудничестве, бросает вызов предубеждениям, существующим с обеих сторон. В национальной истории США было лишь несколько примеров отношений со страной, сопоставимой по размеру, уверенности в себе, экономическим достижениям и международному влиянию, и при этом с совершенно иной культурой и политической системой. В китайской истории тоже нет опыта отношений с равной великой державой, имеющей постоянное присутствие в Азии, представление об универсальных идеалах, не совпадающее с китайскими концепциями, и альянсы с несколькими соседями Китая. До Соединенных Штатов подобная позиция какой-либо страны предшествовала попытке взять Китай под свой контроль.
Самый простой подход к стратегии – настаивать на подавлении потенциальных противников с помощью превосходящей ресурсной и материально-технической базы. Но в современном мире это вряд ли возможно. КНР и США продолжат существовать друг для друга как неизбежная реальность. Ни та, ни другая страна не может доверить свою безопасность оппоненту – ни одна великая держава не сделает такого надолго или навсегда, – и каждая по-прежнему будет преследовать собственные интересы, иногда в некоторой степени за счет другого. Но оба государства должны учитывать страхи друг друга и осознавать, что риторика, так же как и фактическая политика одного, может подпитывать подозрения другого.
Главный стратегический страх Китая – это внешняя сила или силы, которые разместят военные контингенты вокруг китайских границ, окажутся способны проникнуть на территорию КНР или вмешаться во внутреннюю ситуацию. Когда Пекин осознавал подобную угрозу в прошлом, он прибегал к войне, не рискуя дожидаться результата того, что рассматривалось им как усиливающиеся тенденции, – в Корее в 1950 г., против Индии в 1962 г., на северной границе с СССР в 1969 г., против Вьетнама в 1979 году.
Страх США, иногда выражаемый только косвенно, – быть вытесненными из Азии ограничительным блоком. Соединенные Штаты участвовали в мировой войне против Германии и Японии, чтобы не допустить подобного исхода, и при администрациях обеих политических партий использовали наиболее действенные методы дипломатии холодной войны против Советского Союза. Стоит отметить, что в обоих случаях значительные совместные усилия США и Китая были направлены против осознаваемой угрозы гегемонии.
Другие азиатские страны будут настаивать на прерогативе развития своего потенциала в собственных национальных интересах, а не в рамках соперничества двух внешних сил. Они не пойдут добровольно на возвращение к подчиненному положению. Кроме того, они не воспринимают себя как элементы американской политики сдерживания или американского проекта изменения внутренних институтов Китая. Они стремятся к хорошим отношениям и с Пекином, и с Вашингтоном и будут сопротивляться любому давлению, вынуждающему их сделать выбор.
Можно ли как-то смягчить страх перед гегемонией и боязнь военного окружения? Можно ли найти пространство, в котором обе стороны смогут достичь своих главных целей, не милитаризируя стратегии? Где находится грань между конфликтом и отказом от своих прав для великих держав с глобальными возможностями и различными, отчасти противоборствующими устремлениями?
То, что Китай сохранит значительное влияние в прилегающих регионах, обусловлено его географией, ценностями и историей. Однако пределы воздействия формируются обстоятельствами и политическими решениями. Именно они будут определять, превратится ли неизбежное стремление к влиянию в намерение блокировать или сводить на нет другие независимые источники силы.
На протяжении почти двух поколений американская стратегия опиралась на локальный и региональный потенциал наземных сил США – в основном чтобы избежать катастрофических последствий ядерной войны. В последние десятилетия конгрессмены и общественное мнение заставили положить конец подобным обязательствам во Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Сегодня финансовый аспект еще больше ограничил возможности использования этого подхода. Приоритет американской стратегии сместился с защиты территории на угрозу неотвратимого наказания для потенциальных агрессоров. Для этого требуются мобильные силы быстрого развертывания, а не базы вдоль границ Китая. Чего Вашингтон не должен делать, так это сочетать оборонную политику, основанную на бюджетных ограничениях, с дипломатией, ориентированной на неограниченные идеологические цели.
В то время как китайское влияние в соседних странах вызывает опасения в связи с угрозой доминирования, усилия по продвижению традиционных американских национальных интересов также могут восприниматься как форма военного окружения. Оба государства должны понимать нюансы, при которых вполне традиционный и разумный курс способен серьезно обеспокоить другую сторону. Им следует постараться определить сферу, которой ограничивается их мирное соперничество. Если это удастся сделать, военной конфронтации из-за угрозы доминирования можно избежать; если же нет – эскалация напряженности неминуема. Задача дипломатии – обнаружить это пространство, по возможности его расширить и не допустить, чтобы отношения были подчинены тактическим и внутриполитическим императивам.
Сообщество или конфликт
Нынешний мировой порядок был построен в основном без китайского участия, поэтому иногда Пекин ощущает себя менее связанным его правилами, чем другие. Там, где порядок не соответствует предпочтениям Китая, он устанавливает альтернативные правила, как, например, отдельные валютные каналы с Бразилией, Японией и другими странами. Если схема станет привычной и получит распространение во многих сферах деятельности, возникнут конкурирующие мировые порядки. При отсутствии общих целей и согласованных ограничительных норм институционализированное соперничество способно выйти далеко за рамки планов и расчетов его инициаторов. В эпоху беспрецедентного развития наступательных потенциалов и технологий вторжения наказание за такой курс может быть радикальным и даже необратимым.
Кризисного менеджмента недостаточно, чтобы поддерживать отношения настолько глобальные и находящиеся под воздействием многочисленных факторов внутри и между двумя странами, поэтому я выступаю за концепцию Тихоокеанского сообщества и выражаю надежду, что Китай и США смогут выработать чувство общей цели, по крайней мере по вопросам глобального значения. Но целей такого сообщества невозможно достичь, если одна из сторон рассматривает проект как более эффективный способ нанести поражение или подорвать силы оппонента. Ни Пекин, ни Вашингтон не в состоянии систематически подвергаться вызовам и при этом их не замечать; если подобный вызов замечен, он вызовет сопротивление. Обеим сторонам необходимо взять на себя обязательства по реальному сотрудничеству и найти способы поддерживать контакт и доводить свою точку зрения до сведения друг друга и всего мира.
Пробные шаги уже предприняты. Например, Соединенные Штаты присоединились к нескольким другим странам, начавшим переговоры о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), пакте о свободной торговле, связывающем Северную и Южную Америку с Азией. Такое соглашение может стать шагом к Тихоокеанскому сообществу, поскольку снизит торговые барьеры между наиболее производительными, динамичными и богатыми ресурсами экономиками мира и свяжет две стороны океана общими проектами.
Обама пригласил КНР присоединиться к ТТП. Однако некоторые условия, представленные американскими экспертами, как показалось, требуют фундаментальных изменений во внутренней структуре Китая. Поэтому на данном этапе ТТП может рассматриваться Пекином как часть стратегии изоляции. В свою очередь, Китай продвигает сопоставимые альтернативные предложения. Он ведет переговоры о торговом пакте с АСЕАН и начал обсуждение соглашения о торговле в Северо-Восточной Азии с Японией и Южной Кореей.
Важные внутриполитические факторы влияют на всех участников. Но если Китай и США будут воспринимать стремление друг друга заключить торговые пакты как элементы стратегии изоляции, Азиатско-Тихоокеанский регион превратится в зону соперничества антагонистических блоков. Как ни парадоксально, особая проблема возникнет, если Китай удовлетворит часто раздающиеся призывы Соединенных Штатов перейти от экономики, основанной на экспорте, к экономике, стимулируемой потреблением, как позволяет предположить последний пятилетний план. Такая ситуация чревата сокращением доли КНР на экспортном рынке США, при этом другие азиатские страны будут еще больше ориентировать свою экономику на Китай.
Ключевые решения, принять которые предстоит Пекину и Вашингтону, – двигаться ли к реальному сотрудничеству или скатиться к новой версии старых моделей международного соперничества. Обе страны используют риторику партнерства. Они даже создали для этого форум высокого уровня – Стратегический и экономический диалог, который проводится дважды в год. Он оказался продуктивным при решении актуальных вопросов, однако путь к реализации основной задачи по созданию действительно глобального экономического и политического порядка только начат. И если глобальный порядок не появится в экономической сфере, преграды для достижения прогресса по более эмоциональным вопросам и проблемам с менее положительной суммой, таким как территория и безопасность, могут оказаться непреодолимыми.
Риски риторики
Двигаясь по этому пути, оба государства должны осознать влияние риторики на восприятие и расчеты. Американские лидеры периодически выступают с потоком антикитайской пропаганды, включающей предложения по антагонистическому курсу, когда этого требует внутриполитическая ситуация. Это происходит даже – или в особенности – когда основным намерением является умеренная политика. Темой являются не конкретные вопросы, с которыми необходимо разобраться по существу, а атаки на основополагающие побудительные мотивы китайской политики, например, объявление Китая стратегическим противником. Цель этих атак – выяснить, потребуют ли рано или поздно заявления о враждебности, обусловленные внутриполитическими императивами, враждебных действий. Аналогичным образом угрожающие заявления Пекина, в том числе в полуофициальной прессе, должны интерпретироваться с точки зрения подразумевающихся действий, а не внутренних факторов и намерений, которые их вызвали.
В американских дебатах представители обеих партий часто называют Китай «поднимающейся державой», которой нужно «достичь зрелости» и научиться играть ответственную роль на мировой арене. Однако Китай видит себя как возвращающуюся державу, которая занимала доминирующее положение в регионе на протяжении двух тысячелетий, но временно утратила этот статус из-за колониальных эксплуататоров, воспользовавшихся внутренними конфликтами и упадком в стране. Перспектива мощного Китая, пользующегося влиянием в экономической, культурной, политической и военной сферах, рассматривается скорее как возвращение к норме, а не как необычный вызов мировому порядку. Американцам не обязательно соглашаться с каждым аспектом китайской аналитики, чтобы понять, что лекции о необходимости «повзрослеть» и вести себя «ответственно» вызывают в стране с многотысячелетней историей совершенно ненужное раздражение.
Заявления на государственном и неофициальном уровне о намерении «возродить китайскую нацию» и вернуть ей традиционно высокое положение может иметь различный подтекст внутри Китая и за границей. Пекин по праву гордится успехами в возрождении национальной идеи после столетия, которое принято считать периодом унижения. Однако немногие азиатские страны ностальгируют по эпохе, когда они были вассалами китайских правителей. Как ветераны антиколониальной борьбы многие азиатские государства очень трепетно относятся к сохранению независимости и свободы действий перед лицом какой-либо внешней силы, неважно, западной или азиатской. Они стараются участвовать как можно в большем количестве пересекающихся структур в экономической и политической сфере; они приветствуют американскую роль в регионе, но стремятся к равновесию, а не к крестовым походам или конфронтации.
Подъем Китая в меньшей степени является результатом увеличения его военной мощи. Скорее он обусловлен постепенной утратой США своей конкурентной позиции под воздействием таких факторов, как устаревшая инфраструктура, недостаточное внимание к исследованиям и разработкам и разлаженный процесс государственного управления. Соединенным Штатам следует активно и решительно заняться этими проблемами, а не винить во всем мнимого противника. Нужно постараться не повторять в политике в отношении Китая схем конфликтов, которые начинались при огромной поддержке общества и с масштабными целями, а заканчивались, когда американский политический процесс требовал перейти к стратегии выпутывания, предполагающей в конечном итоге отказ от заявленных целей или их полный пересмотр.
Пекин может черпать уверенность в истории своей стойкости и терпения, а также в том факте, что ни одна американская администрация никогда не стремилась изменить реалии Китая как одной из ключевых мировых стран, экономик и цивилизаций. Американцам стоит помнить, что даже когда ВВП Китая сравняется с американским, он будет распределяться между населением, которое в четыре раза больше, старше и переживает сложные внутренние трансформации, связанные с ростом страны и урбанизацией. Практическое следствие этого заключается в том, что энергия Китая по-прежнему в значительной степени будет направлена на внутренние нужды.
Обе стороны должны быть готовы воспринимать деятельность друг друга как естественную часть международной жизни, а не повод для беспокойства. Неизбежная тенденция к столкновению не должна приравниваться к сознательному стремлению сдерживать или доминировать, пока стороны способны разграничивать эти понятия и соответствующим образом соизмерять свои действия. Китаю и США не обязательно удастся выйти за рамки обычного процесса соперничества великих держав. Но ради самих себя и ради мира они должны хотя бы попытаться это сделать.
Генри Киссинджер – глава Kissinger Associates, бывший госсекретарь США и помощник по национальной безопасности.

Мирное столкновение
США и КНР: за какой моделью будущее?
Резюме: В ближайшие годы, примерно до начала 2020-х, Китай будет стремительно и динамично догонять Соединенные Штаты, а затем наступит перелом. Опираясь на новейшие технологии и разработки, в следующем десятилетии США вместе с Японией и «тиграми» Юго-Восточной Азии могут вновь серьезно потеснить КНР.
Когда-то император Наполеон назвал Китай «спящим гигантом» и предупредил, что когда гигант проснется, то он потрясет мир. Похоже, что предсказание сбывается. В начале XXI века Китай всерьез претендует на роль «индустриальной мастерской мира», а Соединенные Штаты предлагают ему совместно управлять миром в рамках G2. И хотя Пекин отказывается от формата «Большой двойки», он постепенно усиливает свое экономическое и политическое влияние во многих странах.
В 2010 г. Китай располагал государственными облигациями США на сумму более чем 800 млрд долларов, являясь их крупнейшим кредитором, а недавно пообещал скупать государственные облигации Греции, Ирландии, Португалии и других проблемных стран ЕС. В мире все больше говорят и пишут о китайском вызове, о возможностях и перспективах китайской модели экономического и социально-политического развития. При этом оценки и прогнозы будущей роли Китая радикально расходятся. Одни авторы прочат ему через 10–20 лет статус самой мощной экономической и политической державы мира. Другие полагают, что Китай в 2020-е гг. (а возможно, и раньше) ожидают крупные социальные и политические потрясения, которые его серьезно ослабят.
Существует распространенная точка зрения, согласно которой Китай быстро эволюционирует в направлении либеральной демократии. Но даже если это так, китайская модель развития, основанная на конфуцианстве и уникальном трехтысячелетнем опыте государственного строительства, еще долгое время будет существенно отличаться от американской или европейской. И это затруднит взаимодействие между КНР и США, Китаем и Евросоюзом по некоторым важным вопросам. Следует также учитывать, что Соединенные Штаты и Китай принадлежат к двум разным цивилизациям – западной и дальневосточной (конфуцианской). У них разные традиции, ценности и институты. Однако процессы финансовой, экономической, информационной глобализации вынуждают воспринимать одни и те же технологии, технические инновации, формы организации финансов, производства и торговли. Кроме того, Китай, как и Америка, развивает рыночную экономику, а наличие преимущественно мусульманского Синьцзян-Уйгурского автономного района с его сепаратистскими тенденциями заставляет Пекин выступать против исламского фундаментализма и международного терроризма. Поэтому наиболее вероятным сценарием является не лобовое «столкновение цивилизаций» по Самюэлю Хантингтону, а их интенсивное взаимодействие, которое вовсе не исключает достаточно острой конкуренции и борьбы за сферы влияния и даже столкновения интересов Вашингтона и Пекина, которое уже проявляется в подходах ко многим политическим и экономическим проблемам. Тайвань, конфликт на Корейском полуострове, статус Тибета, иранская ядерная программа, отношения между Китаем и Индией, обменный курс юаня, свободный доступ иностранных фирм на китайский рынок, экспорт технологий и эмбарго на поставки оружия в целый ряд стран, программа КНР по строительству авианосцев, которая может нарушить монополию США на море... Список можно продолжить.
Старый завет Дэн Сяопина китайскому руководству «не высовываться» уже не работает. Важным фактором является также значительный рост военного бюджета Китая на протяжении последних 20 лет. В стране сформировался мощный военно-промышленный комплекс, который имеет собственные интересы и активно участвует в формировании внешней и внутренней политики.
Какая модель – американская или китайская – окажется в ближайшие десятилетия более динамичной, гибкой и в конечном счете более перспективной? От ответа на этот вопрос зависит многое, в том числе перспективы развития Европейского союза и России, их экономическая и внешнеполитическая ориентация. Попробуем подойти к ответу на этот вопрос по возможности непредвзято, научно и объективно, основываясь на фактах, а не на идеологических суждениях и ценностных предпочтениях. Прежде всего необходимо определить основные преимущества и недостатки каждой из моделей, взвесить их сильные и слабые стороны. В нашу задачу не входит детальный разбор американской и китайской моделей как таковых, нас интересует сопоставление их возможностей и оценка перспектив будущего развития.
Сильные и слабые стороны американской модели
В таблицах 1 и 2, а также на рисунке 1 приведены важнейшие макроэкономические показатели США и Китая в 2008 году. Очевидно, что пока Соединенные Штаты намного опережают КНР по размерам ВВП, хотя темпы роста ВВП Китая значительно превосходят темпы роста ВВП США на протяжении длительного периода времени. В то же время по размерам инвестиций Китай почти догнал США, а норма накопления в Китае значительно выше.
Таблица1. Важнейшие макроэкономические показатели США и Китая в 2008 г.

Подсчитано по The 2011 Statistical Abstract of the United States, China Statistical Yearbook 2009.
Таблица 2. Важнейшие инновационные и социально-экономические показатели США и Китая в 2008 г.
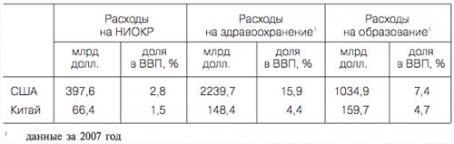
Подсчитано по The 2011 Statistical Abstract of the United States, China Statistical Yearbook 2009.
Рисунок 1. Темпы годового прироста ВВП США и Китая в 1990–2010 гг., %
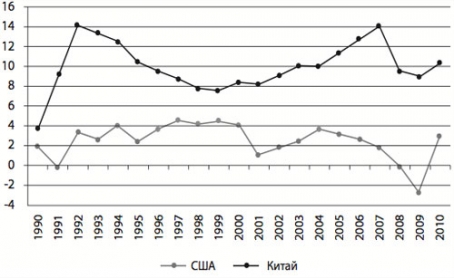
Подсчитано по The 2011 Statistical Abstract of the United States, China Statistical Yearbook 2009.
Значительный интерес представляют данные об уровне и распределении доходов среди различных групп населения (таблица 3). I дециль соответствует 10% населения с наиболее низкими доходами, а X дециль – 10% населения с наиболее высокими доходами. Приведенные данные показывают, что степень имущественного расслоения (соотношение X и I дециля) в США и в Китае примерно одинаковая, но при этом доходы самых богатых 10% населения КНР лишь ненамного превышают доходы самых бедных 10% населения США. Правда, при этом следует также учитывать уровень цен, который в Китае в целом заметно ниже, чем в США.
Как известно, после Второй мировой войны и особенно после распада Советского Союза в 1991 г. Соединенные Штаты являются мировым финансовым, экономическим, политическим и военным лидером. Как бы ни относиться к внешней и внутренней политике США, следует констатировать, что это положение страна в немалой степени занимает за счет универсализма, гибкости и высокого динамизма своей модели экономического и социально-политического развития. Универсализм проявляется уже в самом формировании американской нации как сообщества эмигрантов из множества стран. Благодаря этому Соединенные Штаты на протяжении многих лет эффективно используют опыт, способности и навыки людей из всех стран мира, разрабатывают и совершенствуют разнообразные технологии, социальные институты, законы, средства воздействия на сознание людей (взять хотя бы кинофильмы, производимые в Голливуде, или американское телевидение). Вместе с тем благодаря присущей Америке философии и практике прагматизма американцы проявляют гибкость и реагируют на многочисленные вызовы, быстро мобилизуя ресурсы для достижения определенных целей и объединяясь для противодействия возникающим угрозам. Стратегическими преимуществами США, которые обеспечивают им особое, исключительное положение, являются огромные вложения в образование, медицину, науку и в НИОКР (см. таблицу 2), сохраняющийся статус доллара как мировой резервной валюты, военная мощь (сейчас они значительно превосходят все остальные страны по силе своей армии и военно-морского флота). Важным элементом является развитая система политических и военных союзов, прежде всего НАТО.
Таблица 3. Распределение ежемесячных доходов на душу населения в 2008 г.по децилям (1), долл. (2)
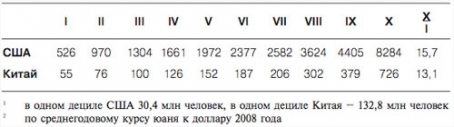
Подсчитано по World Development Indicators 2010.
Гибкость и динамизм американской модели проявились в том, что Соединенные Штаты успешно преодолели такие серьезнейшие испытания, как Гражданская война Севера и Юга 1861–1865 гг., мировой кризис и Великая депрессия 1930-х гг., Вторая мировая война, поражение во Вьетнаме и кризисная эпоха 1970-х годов. Во второй половине XX века во многом преодолен раскол американского общества по расовым и этническим признакам. Президент Барак Обама, несмотря на значительное сопротивление, пытается осуществить ряд новых важных реформ. Разумеется, из этого не следует, что США автоматически справятся с сегодняшними и будущими кризисными явлениями в экономике, социальной сфере, во внутренней и внешней политике. Это свидетельствует лишь о том, что американская экономическая и политическая система до сих пор обладала высокой способностью привлекать и мобилизовать ресурсы (прежде всего интеллектуальные и финансовые) для преодоления возникающих кризисов и потрясений.
В чем слабые стороны американской модели? Как это нередко бывает, некоторые недостатки являются продолжением достоинств. Открытое для эмигрантов из разных стран американское общество вынуждено бороться с массовой нелегальной иммиграцией, особенно из Мексики и других стран Латинской Америки. Вдоль границы с Мексикой пришлось даже построить «великую американскую стену». В результате массовой миграции из стран Латинской Америки и снижения рождаемости среди белого населения происходят значительные демографические, социальные и культурные изменения, которые быстро меняют структуру и идентичность американского общества. Другая проблема – соблазн преодолевать возникающие экономические трудности за счет различных манипуляций на финансовых рынках (например, за счет выпуска деривативов) и печатания долларов, такая тактика ведет к надуванию различного рода финансовых пузырей. На протяжении многих лет Америка гораздо больше импортирует, чем экспортирует, а возникающее отрицательное сальдо компенсирует за счет эмиссии долларов и привлечения капиталов со всего мира. Но вряд ли так может продолжаться до бесконечности: необходимость реформы финансовой системы и сокращения бюджетного дефицита США признают многие, в том числе президент Обама.
Однако более серьезной проблемой является размежевание, даже поляризация американского общества. При этом, как отмечают американские специалисты, линии разлома проходят не только по социальному или партийно-политическому признаку, но и по географическому (Север против Юга, центр против периферии). К тому же в последние годы политическая элита и более широкие слои общества разделены на радикальных неоконсерваторов («неоконов») и сторонников более умеренного и взвешенного курса. Массовое движение «чайников», телевизионные программы бывшего кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Сары Пейлин, растущее недовольство линией Барака Обамы служат тревожными признаками усиливающейся социально-политической поляризации. По мнению некоторых историков и социологов, подобные явления свидетельствуют о неоднократно наблюдавшихся в прошлом «перепроизводстве» элит и образовании враждующих элитных группировок, конкурирующих за власть и ресурсы.
Вместе с тем в истории страны подобные явления уже происходили, например, в 1920-е и в 1970-е годы. И каждый раз американская политическая и экономическая система менялась, но в целом оказывалась достаточно прочной. По-видимому, в течение 10–15 лет американская система в очередной раз изменится, но вряд ли произойдет ее крушение. Наиболее серьезные испытания ожидают социально-политическую систему в середине XXI века – где-то в 2040–2050-е гг., когда заметно изменится этнический состав нации и в мире произойдут значительные демографические, экономические и политические сдвиги.
Сильные и слабые стороны китайской модели
Китайская модель экономического и социально-политического развития имеет целый ряд крупных преимуществ. Это огромные ресурсы дешевой рабочей силы, высокие и относительно стабильные темпы роста (см. рисунок 1), хороший инвестиционный климат, наличие во многих странах китайской диаспоры (хуацяо), играющей значительную роль в экономической жизни азиатских стран, растущая и потенциально очень большая емкость внутреннего рынка с числом жителей около 1,3 млрд человек. Более того, с 1 января 2010 г. Китай участвует в зоне свободной торговли, охватывающей всю Восточную Азию, активно проникает на рынки США, ЕС, Латинской Америки, Австралии и Африки. Пекин расширяет свое экономическое присутствие и в странах СНГ, особенно в России (в 2010 г. Китай стал крупнейшим внешнеторговым партнером России, потеснив с первого места Германию) и в странах Центральной Азии. В частности, КНР осваивает природные богатства Восточной Сибири и российского Дальнего Востока, а также Казахстана и Туркмении.
Еще одним важным преимуществом Китая является наличие мощного государства, которое способно переживать самые драматические события, включая даже временный распад страны. В истории было множество ситуаций, когда единая империя распадалась на несколько враждующих друг с другом государств. Тем не менее затем единое государство восстанавливалось, причем его территория, как правило, увеличивалась. Происходило это во многом благодаря способности государства эффективно взаимодействовать с обществом и вместе с тем воспринимать важные нововведения, сохраняя при этом традиции и преемственность.
Следует, однако, учитывать, что современный Китай начал свое бурное экономическое развитие с весьма низкой отметки, и до сих пор уровень жизни большинства китайцев (а следовательно, и емкость внутреннего рынка) остается не слишком высокой (см. таблицу 3). В последние годы в этом отношении происходят сдвиги, формируется китайский средний класс, численность которого составляет, по некоторым оценкам, не менее 200–300 млн человек. Для Европы или Соединенных Штатов это очень много, но для КНР мало. В целом же Китай похож на велосипедиста, который крутит педали изо всех сил, но любая остановка или серьезное препятствие грозит падением.
Слабые стороны китайской модели обнаруживаются в недостаточной способности создавать принципиально новые технологии. Китайцы искусно копируют и успешно дорабатывают заимствованные технику и технологии, но сами пока не в состоянии создать действительно новые, оригинальные технологии. Это обстоятельство способно заставить КНР развиваться по пути «догоняющей модернизации» и повторить судьбу Японии. Как известно, Япония бурно развивалась в 1950–1970-е гг., но затем «споткнулась». Причиной пробуксовки японской экономики в 1990-е и 2000-е гг., наряду с другими факторами, стала недостаточная способность генерировать принципиально новые идеи, которые легли бы в основу разработки новых технологий и, соответственно, принципиально новых товаров и услуг. Одной из причин такого положения стала японская система воспитания, которая не терпит «выделяющихся» и не поощряет индивидуальное новаторство. Китай отчасти находится в таком же положении, хотя китайская система образования и воспитания проявляет большую гибкость, чем японская. КНР уже сейчас вкладывает огромные средства в науку, образование и НИОКР. Так, по расходам на НИОКР страна уже вышла на второе место в мире после США и поставила перед собой весьма амбициозные задачи. Можно сказать, что Китай предпринимает отчаянную попытку технологической модернизации за счет экономии на социальных расходах (в том числе пенсионных), которую не могут себе позволить развитые страны с высоким уровнем социальной защиты.
Кроме того, внутри самого Китая существуют значительные диспропорции в уровне доходов между различными слоями населения, между городом и деревней, а также между более развитыми восточными провинциями и менее развитыми западными. Политика ограничения рождаемости создала проблему значительной гендерной асимметрии. Хотя китайское государство осуществляет политику, направленную на ускоренное развитие наиболее отсталых провинций, разрыв в уровне жизни и в экономическом развитии продолжает сохраняться. Еще одной, пожалуй, наиболее серьезной и острой проблемой остается экологическая ситуация. Загрязнение атмосферы, которое вызывает рост болезней дыхательных путей, является в КНР самым значительным в мире. К этому добавляется загрязнение воды и почв. В последние годы регулярно происходят аварии на химических предприятиях, которые приводят к выбросу огромного количества вредных, токсичных для человека и животных веществ.
К тому же одна из главных проблем Китая в перспективе – сырьевые ресурсы. Чтобы обогнать Соединенные Штаты и обеспечить высокий уровень потребления хотя бы половине своего огромного населения, КНР могут потребоваться ресурсы всей планеты. Уже в первом пятилетии XXI века зависимость Китая от импорта составляла по железной руде и бокситам – 50%, по меди – 60%, по нефти – 34%. По ряду прогнозов, если не переломить существующие тенденции, в ближайшие 30 лет сырьевые и топливные потребности Китая в несколько раз превысят возможности собственного производства. Таким образом, дальнейший рост возможен только за счет природных ресурсов всего мира. Но выдержит ли это планета? И захотят ли все страны мира обеспечивать Китай своими ресурсами?
Перспективы США и Китая: наиболее вероятные сценарии
Итак, и американская, и китайская модели развития имеют свои сильные и слабые стороны. Каков будет баланс сил и какая модель окажется наиболее перспективной в ближайшие десятилетия? Как уже отмечалось в начале статьи, разные авторы, даже в самих Соединенных Штатах, по-разному отвечают на этот вопрос.
Во-первых, существует несколько возможных вариантов трансформации как американской, так и китайской модели. Во-вторых, само экономическое и политическое развитие двух стран в ближайшие десятилетия, скорее всего, будет неравномерным и нелинейным, включающим колебания и зигзаги. В результате на одном временном отрезке более динамично может развиваться одна модель, а на другом – вторая. В-третьих, и США, и Китай в разное время могут столкнуться с различными внутренними и внешними кризисами. Все это делает задачу определения перспектив американской и китайской модели весьма сложной.
Однако задача несколько упрощается, поскольку нас интересует не развитие Америки и Китая как таковых, а сравнительная динамика моделей. Иными словами, в данном случае важны не детали внутреннего развития Соединенных Штатов и КНР или отношений между ними, а то, какая из двух держав сможет более эффективно внедрить новейшие технологии, обеспечивающие мировое лидерство. В то же время весьма вероятно, что в ближайшие годы бурное экономическое развитие Китая почти наверняка продолжится, поскольку страна располагает достаточными людскими и материальными ресурсами. Кроме того, необходимо учесть, что период 2010–2020-х гг. имеет сходные черты с кризисным периодом 1970-х годов. А в такие времена развивающиеся экономики растут более динамично, чем развитые. Отсюда число наиболее вероятных сценариев резко уменьшается. Выбор остается всего лишь между двумя сценариями.
Суть первого сценария заключается в том, что в ближайшие десятилетия Китай, несмотря на отдельные экономические и социальные потрясения, в целом будет развиваться более высокими темпами, постепенно догоняя США по производству ВВП (но не по производству ВВП на душу населения и не по вложениям в науку, образование, медицину). В этом случае Соединенные Штаты вплоть до 2030–2040-х гг. сохранят свое финансовое, технологическое, политическое и военное лидерство, но будут вынуждены все больше считаться с растущей экономической и политической мощью Китая. Более того, в кризисный период 2008–2020 гг. США, вероятнее всего, будут в большей степени, чем Китай, испытывать финансовые и экономические трудности. Такая ситуация может подтолкнуть Пекин к широкой экономической и политической экспансии в различных регионах мира, прежде всего в стратегически важном для мировой экономики и политики регионе Восточной Азии. Однако после 2020 г. в результате внедрения новейших технологий Соединенные Штаты снова получат преимущество над Китаем, и их развитие станет более быстрым и динамичным. При этом КНР в 2020-х гг., а возможно и раньше, вероятно, столкнется с рядом внутренних социальных потрясений (некоторые признаки проявляются уже сейчас), которые способны ослабить его и несколько замедлить его развитие. США же серьезные социальные и демографические проблемы ожидают позже, где-то в 2040–2050-е годы.
Согласно второму сценарию, Америку уже в ближайшие десятилетия подстерегает целый ряд внутренних социальных и политических проблем, связанных с упомянутым выше «перепроизводством элит», а также с внутренними политическими расколами и размежеваниями. Это даст возможность Китаю конкурировать с Соединенными Штатами в области внедрения новейших технологий и даже превзойти их в отдельных важных отраслях. Более того, при определенных условиях США придется отчасти «поделиться» с Китаем своим мировым лидерством. В таком случае возможен новый вариант биполярного мира, но без холодной войны. Соединенные Штаты и КНР будут не только конкурировать, но и тесно взаимодействовать, сотрудничать во многих областях экономики, финансов и политики.
Если взвесить все рассмотренные сильные и слабые стороны американской и китайской модели, более вероятным все же представляется первый сценарий. Роль ключевых факторов здесь выполняют способность разрабатывать и внедрять принципиально новые технологии, а также широкая система экономических, политических и военных союзов. Преимущество США и в том и в другом случае очевидно. Однако еще раз обратим внимание, что в ближайшее десятилетие, т.е. примерно до 2020 г., Китай, скорее всего, будет развиваться более динамично. Это создает видимость того, что Китай догоняет и обгоняет Америку в экономике, политике и военной сфере. Иными словами, развитие двух стран в ближайшие десятилетия (до 2040-х гг.) будет нелинейным и неравномерным, то ускоряющимся, то замедляющимся. Это создаст трудности как для оценки перспектив мирового развития, так и для осуществления разными странами их политического и экономического курса.
Выводы для Европы и России
Таким образом, наиболее вероятным выглядит сценарий, согласно которому в ближайшие годы (примерно до начала 2020-х гг.) Китай, несмотря на отдельные социальные и экономические потрясения, будет стремительно и динамично догонять Соединенные Штаты, а затем наступит перелом. Опираясь на новейшие технологии и разработки, после 2020-х гг. США вместе с Японией и «тиграми» Юго-Восточной Азии могут вновь серьезно потеснить Китай, который к тому же, скорее всего, будет сталкиваться с целым рядом внутренних проблем, в том числе с социальными и экологическими кризисами.
Однако в любом случае в ближайшие годы и десятилетия страны Европейского союза и Россия вынуждены будут считаться с растущей финансовой, экономической и политической мощью Китая. При этом особенный напор Китая наиболее вероятен в период до начала 2020-х годов. В настоящее время Китай уже осваивает природные богатства России – в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Экономика Германии, ведущей страны ЕС, уже сейчас во многом зависит от заказов из Китая, китайские товары все больше завоевывают европейский рынок, а в недалеком будущем Китай, скупающий государственные облигации «неблагополучных» европейских стран, может стать фактическим кредитором объединенной Европы. Последствия такого «тихого» проникновения КНР в экономику Евросоюза и России пока трудно оценить в полной мере. Ясно лишь, что чрезмерная экономическая зависимость от Китая чревата деградацией многих предприятий и отраслей, а также утратой возможности принимать стратегические решения в сфере экономики и политики.
Кроме того, в перспективе (в начале 2020-х гг.) чрезмерная зависимость экономики европейских стран и России от Китая может привести к тому, что они будут испытывать негативные последствия социальных и экономических потрясений в самом Китае. Иными словами, не исключена ситуация, при котором ЕС и Россия, будучи привязанными к экономике Китая, окажутся не в состоянии в полной мере внедрить новейшие технологии, которые появятся в Соединенных Штатах или в других странах. Пока что это выглядит фантастикой, но мир быстро меняется, и то, что еще вчера казалось невероятным, сегодня становится реальностью.
Наиболее серьезным испытанием станет период до 2020 года. Прежний мировой порядок будет стремительно меняться благодаря переходу к новым технологиям, изменению ситуации на Большом Ближнем Востоке, крупным потрясениям в Азии, Африке и Латинской Америке, изменениям в международных экономических и политических институтах (в МВФ, Всемирном банке, НАТО, ООН и др.). Еще одним фактором станет сильный напор Китая и ряда других азиатских стран. В переходный период вероятны многочисленные вызовы. Это кризисные явления в зоне евро, нестабильная экономическая ситуация в России из-за колебания цен на энергоносители, дальнейшие революции и перевороты на Ближнем Востоке, дестабилизация в Центральной Азии, усугубление положения в Афганистане и Пакистане, рост исламского фундаментализма и международного терроризма, социальные конфликты в странах Африки и Латинской Америки.
Отсюда следует вывод: странам Европейского союза и России придется проявлять большую гибкость и высокий динамизм, адаптируясь к быстро меняющейся ситуации. Период 2012–2020 гг., скорее всего, станет ярко выраженной «эпохой турбулентности». Важную роль будет играть согласованность внешней политики ЕС и России, акцент не на взаимных претензиях и различиях в ценностях, а на общих интересах. Основная проблема заключается в том, что в условиях стремительного роста двух гигантов – США и Китая – объединенной Европе и России придется мобилизовать все силы и ресурсы для сохранения своих экономических и политических позиций в мире, обеспечения самостоятельного и стабильного развития. Достижение этой цели требует координации действий между европейскими странами, имеющими развитые технологии, и Россией, обладающей значительными природными ресурсами. С этой целью России и странам Евросоюза стоило бы создать специальные инструменты и институты, обеспечивающие более быстрое, согласованное и эффективное решение многочисленных экономических и политических проблем современной эпохи. К сожалению, и в России, и на уровне ЕС бюрократия часто работает не слишком быстро и эффективно. Поэтому необходимы новые формальные и неформальные каналы взаимодействия политических лидеров, государственных и надгосударственных институтов, а также бизнеса, научных структур и других неправительственных организаций. В противном случае все может потонуть в бюрократической волоките, мелких взаимных претензиях, а необходимые решения, как это неоднократно бывало в прошлом, не будут своевременно воплощаться в жизнь.
Александр Дынкин, Владимир Пантин

Америка в плену инерции
Будущее глобального лидерства Соединенных Штатов
Резюме: Приближаясь к кризису «середины жизни» в ранге господствующей сверхдержавы, Соединенные Штаты, подобно стареющей звезде Голливуда, не хотят признать, что не могут вечно играть одну и ту же роль. Чувствуя, что «что-то не так», Америка все еще находится в состоянии отрицания, под сладким наркозом огромного богатства и влияния.
Мир, ввергнутый в водоворот кризисов, социальных волнений и неопределенности, мечтает о мудром лидере. Непререкаемое лидерство США со времен Второй мировой войны до начала нынешнего века основывалось на способности этой страны встать во главе мировой системы экономических и политических отношений и быть локомотивом роста. Но когда американские политики заявляют сегодня, что хотят руководить миром, нужно спросить у них: способны ли они играть такую роль?
На лидерство может претендовать страна, которая смогла бы мобилизовать мировое сообщество для решения фундаментальных проблем человечества, создать условия для его поступательного развития. Такое лидерство предполагает понимание того, что здоровье всей глобальной экосистемы является залогом своего собственного успеха.
Выступая 14 октября 2011 г. в Нормандии по случаю вручения премии Токвиля, Збигнев Бжезинский, наверное, один из лучших современных американских стратегов, открыто поставил под сомнение способность Соединенных Штатов заботиться о будущем мира. Цитируя лауреата Нобелевской премии в области экономики Джозефа Штиглица, Бжезинский утверждает, что первоначальное процветание и лидерство Америки опиралось, по выражению Алексиса де Токвиля, на «правильно понимаемое своекорыстие» – то есть «общее благополучие мира фактически является предпосылкой для благополучия и процветания американского общества».
По мнению Бжезинского, в мире, который мучительно пытается приспособиться к новым реалиям – растущей независимости различных акторов, изменению баланса экономической мощи и влияния, политическому пробуждению масс – способность Америки к лидерству будет зависеть от умения «правильно» соотнести собственные интересы и успехи мирового сообщества. Мир нуждается в природных ресурсах, страдает от вопиющего неравенства и хаотичной миграции, прежде всего жаждет стабильности и безопасности, без которых невозможно развитие. Устойчивое процветание требует создания предсказуемых условий, основанных на власти закона и всеобщем мире во благо всех народов.
Может ли Америка быть лидером, отстаивающим интересы всех стран? Насколько адекватно американское видение того, как следует решать фундаментальные проблемы международного сообщества? И не станут ли США, напротив, фактором нестабильности в будущем мире?
Американские альтернативы
В 2004 г. в своей книге «Выбор: мировое доминирование или мировое лидерство?» Бжезинский изложил две альтернативы для Соединенных Штатов. Самое время посмотреть, какой путь был избран, а также оценить направление дальнейшего движения. Сегодня изменились не только США, но и весь мир. Если роль «защитника свободного мира» потеряла актуальность, а глобальное владычество, о котором пишет Бжезинский, более неприемлемо, да и не по карману, что предпримет Америка?
Лидерство – это не право на получение некой ренты, которую остальные народы должны вносить в американскую казну. Его необходимо заслужить. Соединенным Штатам придется сделать выбор: хотят ли они поставить будущее мировой экосистемы выше собственных узко понимаемых интересов?
Но чтобы «правильно осмыслить» свои стратегические интересы, Америке прежде всего нужно иметь желание их обсуждать. Новая модель лидерства потребует нового консенсуса среди американских элит о роли, которую страна призвана играть в меняющемся мире и, возможно, нового национального самосознания.
Первые предложения были сделаны в прошлом году капитаном Уэйном Портером и полковником Марком Майклби, выступившими под псевдонимом «Мистер Y». В своей статье «Национальная стратегическая идея» (опубликована по-русски под заголовком «США как стезя обетования и маяк надежды» в журнале «Россия в глобальной политике, № 3, 2011 г.) они оптимистично оценивают перспективы отношений между Вашингтоном и остальным миром. «Мистер Y» предлагает посмотреть на проблемы безопасности и процветания Америки в долговременной перспективе, с точки зрения нового поколения. Он исходит из необходимости отстаивать непреходящие национальные интересы – безопасность и процветание – в рамках единой «стратегической экосистемы» у себя дома и за рубежом. В условиях глобальной конкуренции, взаимных интересов и сложностей взимного влияния, залог успеха будущей внешней политики авторы видят в новых инвестициях во внутреннее, особенно экономическое, процветание страны. «Мы не можем отделить наше процветание и безопасность от процветания и безопасности глобальной системы, – пишет «Мистер Y». – В наших интересах добиться процветания всего мира».
Неудивительно, что призыв к новому подходу звучит из уст военных. Новое поколение военной интеллигенции, к которой принадлежат и авторы цитируемой статьи, – это лучшие и наиболее «просвещенные» представители современного американского общества. Подобно тому как в 1980-е гг. советские службы разведки и безопасности были той частью истеблишмента, которая лучше других понимала истинную привлекательность и возможности СССР, 30 лет спустя «глобализировавшийся» американский офицерский корпус искренне озабочен тем, как Америка сможет вписаться в меняющийся мир.
«Мистер Y» предлагает новое видение глобальной роли своей страны, но сегодня он находит отклик лишь у незначительного меньшинства тех, кто стоит у руля политической системы США. Президент Обама, по всей вероятности, разделяет многие взгляды «Мистера Y», но этого нельзя сказать о подавляющем большинстве американских политиков. Гиганская системная инерция и традиционные интересы групп влияния направляют политический курс в русло, которое подрывает глобальную стабильность и повышает вероятность будущего конфликта Соединенных Штатов с остальным миром.
Проблема в том, что «перезагрузка» в отношениях с миром, равно как и внутреннее возрождение США, требуют политической воли, долгих согласованных усилий и нового национального консенсуса. Для продолжения отношений с миром, к которым Америка привыкла, особых усилий не требуется. Этот «вариант по умолчанию» и есть то поведение, к которому «приучена» вся американская внешнеполитическая система. Оно опирается на незыблемые постулаты, сформировавшиеся в течение последних 50 лет, когда Вашингтон фактически правил миром.
Приближаясь к кризису «середины жизни» в ранге господствующей сверхдержавы, Соединенные Штаты, подобно стареющей звезде Голливуда, не хотят признать, что не могут вечно играть одну и ту же роль. Сталкиваясь с многочисленными внутренними и внешними вызовами, уже чувствуя, что «что-то не так», Америка все еще находится в состоянии отрицания, под сладким «наркозом» ее огромного богатства и влияния.
Америка в эпоху перемен
Нынешний кризис американского самосознания имеет как экономические, так и социальные корни. В конце долгого экономического цикла страна сталкивается с новыми вызовами своей конкурентоспособности. Автомобильная, электронная промышленность и даже сектор информационных технологий, которые позволили американским корпорациям занять доминирующее положение в мире, больше не являются локомотивами быстрого роста. Технологии следующего цикла пока не готовы прийти им на смену в качестве главных производителей национального богатства. Тем временем, по мере того как центр экономической активности смещается на восток, традиционные и новые соперники все жестче конкурируют с американцами. Не в силах дальше поддерживать привычный образ жизни, глубоко погрязшие в долгах, США монетизируют свое уникальное положение поставщика международной резервной валюты для покрытия дефицита. Америке все труднее конкурировать с остальным миром за инвестиции.
Тем временем в демографическом плане Соединенные Штаты становятся другой страной. Консерватор Патрик Бьюкенен в своей новой книге «Самоубийство сверхдержавы: доживет ли Америка до 2025 года?» порицает изменения, вследствие которых исчезает Америка, дорогая ему и многим другим представителям так называемого атлантического поколения. Американцы европейского происхождения перестают быть большинством, бедняки множатся и находятся на грани отчаяния, а «плавильный котел» наций грозит превратиться в коллекцию этнических групп, соревнующихся за влияние. Все это, как представляется Бьюкенену, не вселяет оптимизма. Популярность его книги – симптом страха и неуверенности стареющих белых, правящих элит, с ужасом наблюдающих вторжение многочисленных пришельцев из внешнего мира.
Как американский политический класс будет реагировать на тектонические сдвиги? В этом смысле интересен подход Рональда Хейфеца, профессора факультета государственного управления имени Кеннеди в Гарварде и, наверное, одного из самых авторитетных экспертов по вопросам лидерства. Хейфец различает два вида лидерства: «техническое» и «адаптивное».
Одно дело разбираться с проблемами, решение которых, в общем-то, известно, и нужно лишь должным образом организовать людей. Такой стиль руководства можно назвать «техническим». Реакция Джорджа Буша на события 11 сентября – хрестоматийный пример лидера, сплачивающего народ и предпринимающего необходимые меры для того, чтобы отвести от страны «прямую и явную угрозу».
Но что делать, когда организация или государство сталкивается с вызовом, природа которого непонятна и на который нет готового ответа? «Адаптивное» руководство – это поиск новой парадигмы. Подобные ситуации почти всегда означают, что сама страна не только не способна решить проблему – она даже не видит и не понимает ее и вынуждена переживать болезненный внутренний кризис. (Германия после Второй мировой войны являет собой прекрасный пример такого «адаптивного» вызова.) Чтобы снова встать на ноги, стране, возможно, придется переосмыслить свое прошлое и настоящее, выработать новые общественные ценности и политический язык, а также понять, кто в действительности ее друзья и недруги. Роль «адаптивного» лидера заключается в том, чтобы спровоцировать и поддерживать стратегический диалог с целью объяснить широким слоям населения реальные стратегические интересы нации. «Адаптивный» стиль руководства требует исключительных качеств, способности слушать и, самое главное, умения терпеть и дать шанс новым идеям.
Страны, которые проходят через период мучительного самоанализа, не бывают счастливыми. Лидеры, ставшие инициаторами внутренней перезагрузки и обновления, обычно сталкиваются с решительной и ожесточенной оппозицией, взывающей к старым ценностям и истории. Согласно Хейфецу, организации – особенно те, которые раньше были чрезвычайно успешными, – упорно сопротивляются дискомфортным внутренним реформам. Им свойственно отрицать необходимость перемен, они пытаются избавиться от лидеров, поднимающих болезненные вопросы, и жаждут «спасителей», способных предложить быстрый и легкий выход. Это именно то, что случилось с немцами в Веймарской республике, когда они поверили харизматическому лидеру – Адольфу Гитлеру.
Страх перед системным сопротивлением заставляет многих руководителей прибегать к хорошо знакомым «техническим» решениям, когда на самом деле требуется «адаптивная» реакция. Большинство американских политиков отрицают необходимость перемен, упорно придерживаясь старых политических клише и мечтая о более решительном президенте. Вместо переосмысления взаимоотношений с миром элиты видят внешние угрозы, которые следует устранить.
Национальный стратегический диалог?
Национальный стратегический диалог для принятия «адаптивных» решений требует наличия трех необходимых составляющих: заинтересованных сторон, мотивации и лидеров.
«Мистер Y» полагает, что для победы в новом мире Америке нужно прежде всего «хорошо информированное гражданское общество». Главными заинтересованными лицами в диалоге о будущем обычно являются элиты и активная часть среднего класса.
Со времени окончания Второй мировой войны средний класс видел во внешнем мире хорошую площадку для ведения бизнеса и привлекательное место для отдыха и развлечений, которые к тому же были вполне по карману. Эти люди считали, что Америка несет другим народам модернизацию и демократизацию. США делали деньги на взаимодействии с внешним миром – американские компании его завоевывали. Для среднего класса это был положительный опыт, поддерживавший лестный образ отчизны, сложившийся в умах граждан.
С 2000-х гг. начались важные изменения. Во-первых, средний класс стал терять почву под ногами. Многие ведущие американские корпорации вывели производственные мощности из страны чтобы лучше конкурировать на мировых рынках. Финансовый кризис 2008 г. поколебал основу достояния среднего класса – недвижимость. На уровне инстинктов американский средний класс видит во внешнем мире недобросовестного конкурента, которого их стране к тому же приходится защищать за свой счет. Американцы утратили интерес к загранице, и это не осталось без внимания политиков. Задача элит – начать стратегический диалог о будущем курсе. Однако у них нет согласия по поводу того, что делать с остальным миром. Элиты США состоят из нескольких групп: бизнес-элита, чиновничья или административная, военная, научная и медиа-элита.
Интересы тянут бизнес-элиту в разные стороны в том, что касается выстраивания отношений с внешним миром, поскольку она делится на промышленную и финансовую часть. Рынок, на котором оперирует финансовая элита, поистине глобален. Ее представители одинаково комфортно чувствуют себя в Нью-Йорке, Гонконге, Париже и на Сен-Барте. Финансовая элита была главной движущей силой глобализации, ведомой Соединенными Штатами, хотя до конца прошлого века американские промышленные корпорации с таким же энтузиазмом участвовали в глобальной экспансии.
Однако, как пишет Джеймс Курц в статье «Внешняя политика плутократии», опубликованной в журнале The American Interest, в первой декаде нашего века банки Уолл-стрита предпочли инвестировать в продвижение уже проверенных технологий за пределами США или вкладывать капиталы в недвижимость. Они не хотели дожидаться, пока плоды принесут вложения в более рискованные технологии следующего индустриального цикла. Промышленная элита, ослабленная «выхолащиванием» производственной базы, пытается боротся с «недобросовестной» конкуренцией, требуя поддержки у правительства.
Курц приводит интересный аргумент. Анализируя отношения США с миром начиная с 1890-х гг., когда фактически начиналась американская экспансия, он утверждает: если речь заходит о внешней политике и международной роли, «большое значение имеет источник доходов плутократии – индустрия или финансы».
«Финансовая плутократия, – пишет Курц, – не сможет осуществлять действенное руководство в глобальной конкуренции между великими державами, прежде всего в силу ее пренебрежительного отношения к созданию сбалансированной промышленности в самих Соединенных Штатах. Второй фактор – это ее чрезмерная привязанность к мировой резервной валюте. Третий фактор заключается в том, что финансовая элита предпочитает малые войны и поддержание порядка в своей империи тому, чтобы готовить страну к сдерживанию других великих держав и большим войнам».
Военная элита, которую поддерживает элита промышленная, все отчетливее видит неизбежную в будущем конкуренцию с нарождающейся великой державой – Китаем. И население с помощью медиа-элиты все ближе подходит к принятию этого сценария. Совершенно иная точка зрения у финансовой элиты, которая полагает, что КНР сможет интегрироваться в мировую экономическую систему без крупных конфликтов. Задача финансистов – нейтрализовать «мировую дугу нестабильности», которая препятствует прибыльным инвестициям в быстрорастущие развивающиеся рынки. Их позицию разделяют представители научной элиты, корни которой тянутся в разные страны мира. Что касается чиновничьей элиты, ее представителей можно найти в обоих лагерях.
Если американская промышленная элита достаточно разнородна и разобщена, то финансовая – это тесно спаянное сообщество, сосредоточенное в центрах административной власти. Оно оказывает бесспорное влияние на людей, принимающих серьезные политические решения, – их дружба началась со студенческой скамьи в лучших университетах Новой Англии, продолжалась карьерным восхождением в таких компаниях, как Goldman Sachs или Baker & McKenzey, и укреплясь общим членством в престижном Совете по международным делам.
Симпатии широких масс населения явно не на стороне Уолл-стрит, но средний класс, готовый поддержать промышленную элиту, плохо организован для того, чтобы потеснить финансистов с влиятельных позиций. Маловероятно, что группы, находящиеся у власти, рискнут подрывать позиции финансовых структур, которые оказывают им поддержку в год выборов.
Разобщенность американских элит не дает возможности начать стратегический диалог. Джордж Фридман, генеральный директор компании «Стратфор», не слишком оптимистично оценивает их готовность приспосабливаться к новой парадигме. По его мнению, они «не понимают политического давления, под которым находятся элиты других стран,… совершенно не сознают степени отчуждения широкой общественности и думают, будто по всем проблемам можно договориться между элитами. У нас кризис элит».
Если средний класс сегодня занят собственным выживанием, а элиты борются за влияние, откуда в стране возьмется мотивация для переосмысления той роли, которую она играет в мире? Кого ни послушаешь – президента Обаму или его республиканских оппонентов – складывается впечатление, что Соединенные Штаты не видят для себя никакой другой функции кроме единственного лидера глобального сообщества. Идея исключительности и «божественной миссии» Америки пронизывает все политические дискуссии.
Нынешний политический класс – победитель коммунизма – просто не может принять мир, который не находится под его контролем. По его мнению, измениться должна не Америка, а все остальные. Даже в Давосе и Бильдерберге заметна растущая пропасть в представлениях между американской и международной политической верхушкой. Оптимистичный исторический опыт США, относительная географическая изоляция и все еще высокий, хотя и не растущий уровень жизни приводят к тому, что американоцентричная картина преобладает в Вашингтоне даже в век глобальных интернет-сообществ.
Збигнев Бжезинский обращает внимание на другое явление, снижающее «способность Соединенных Штатов реагировать на этот непредсказуемый, меняющийся мир». Говоря о влиянии большинства, он цитирует де Токвиля: «Я не знаю ни одной страны, где высказывалось бы меньше независимых суждений и было бы меньше реальной свободы дискуссий, чем в Америке». «Сегодня этот “деспотизм мысли” проявляется в игнорировании американской общественностью окружающего мира и в ее нежелании идти даже на кратковременные и равномерно распределенные социальные жертвы в обмен на долговременное обновление», – негодует Бжезинский.
«Политкорректность» – фактическое табу на некоторые темы в средствах массовой информации – и то, что «Мистер Y» называет «сортировкой» или навешиванием идеологических ярлыков на оппонентов, делают переосмысление глубоко укоренившихся стереотипов большинства практически невозможным. Политический тупик, ярко выраженные партийные пристрастия и популизм не способствуют серьезным общественным дебатам.
Но как быть с третьей предпосылкой для диалога о будущем: лидерством идей в области внешней политики? К сожалению, главный орган принятия политических решений, Конгресс США, не способен взять на себя ответственность лидера. Глубоко расколотый по партийному принципу, сосредоточенный на внутриполитических вопросах, он скорее играет роль трибуны для популистских лозунгов и арены для краткосрочных компромисов, чем центра серьезных дебатов. Для большинства конгрессменов, нацеленных на получение мандатов от своих округов каждый второй год, проблемы долгосрочной устойчивости на планете не являются приоритетом.
Академическое сообщество тоже не предлагает новых идей. Постулаты внешнеполитической мысли принадлежат прошедшей эпохе. Они зиждутся на двух столпах. Первый – вера в уникальность американской демократии и в миссию Америки защищать добро и преследовать зло во всем мире. Другой столп – представление о глобальности национальных интересов США. Если первый олицетворяет собой романтичное, почти религиозное призвание модернизировать мир по своему образцу, то второй предполагает только один центр силы на планете – американский.
Сегодня, когда у Вашингтона нет больше главного идеологического противника, призыв к демократизации может служить целям Соединенных Штатов только в тех странах, где нет представления о фундаментальных правах и свободах личности. Что касается остального мира, то американская идея о свободе и демократии просто стала частью общепринятых норм цивилизованного сообщества. Тем временем авторитет Америки в области соблюдения прав человека подорван во время «войны с террором», да и образ самой современной державы в мире, которым так дорожат США, заметно потускнел в глазах всех тех, кому довелось бывать в европейских и особенно бурно растущих азиатских столицах.
Как быть со вторым столпом американской внешней политики? Перечень «жизненных» и других важных интересов обновляется каждые несколько лет группой ученых, дипломатов и политиков, имена которых читаются как справочник «Кто есть кто в американском истеблишменте». Но какими бы блестящими личностями они ни были, их политический опыт и стереотипы приобретены в годы идеологической конфронтации. Перечень национальных интересов Соединенных Штатов ясно демонстрирует чего страна хочет от мира, но не дает никакого представления о том, чем она готова пожертвовать во имя его благополучия.
Внешняя политика на автопилоте
Страны – это очень сложные системы, сотканные из паутины организационной, материальной и, самое главное, человеческой взаимозависимости. Они имеют собственную инерцию устоев и традиций, свою логику государственного управления и организации практической жизни. Государственная политика создает человеческие и материальные активы, которые, в свою очередь, влияют на проводимый курс.
Накопленные возможности – учреждения, системы, оборудование и множество умных, квалифицированных и мотивированных людей – начинают жить собственной жизнью, искать свое место под солнцем, ставить перед собой определенные цели и становиться независимыми действующими лицами. Не секрет, что взгляды президента Обамы не разделяют большинство силовиков, голосующих за республиканцев. Люди, являясь частью системы, тем не менее действуют сообразно своим интересам и убеждениям, своим представлениям о том, что нужно их стране.
Если Конгресс молчит и бездействует, у администрации и ее ведомств появляется свобода в отстаивании тех национальных интересов, которые совпадают с их политическими приоритетами. При отсутствии политического руководства бал правит бюрократия. В то время как общественность обвиняет весь остальной мир в проблемах своей страны, внешняя политика США летит «на автопилоте».
Американское военно-политическое сообщество, несмотря на предпринятые недавно попытки приспособить его к происходящим в мире переменам, действует почти так же, как в 1947 г., когда был принят Закон о государственной безопасности. Вся система «заточена» на конфронтацию и агрессивное навязывание другим воли Соединенных Штатов. Ведомства, занимающиеся внешним миром – Государственный департамент, Министерства обороны, юстиции и финансов, Министерство внутренней безопасности и другие организации, такие как ЦРУ и Агентство международного развития – это независимые и зачастую конкурирующие между собой игроки. В отсутствии новой долгосрочной национальной доктрины они предоставлены сами себе и действуют в соответствии с прежним мандатом; инерция побуждает их двигаться в направлении, которое задано в прошлом. Каждое ведомство делает все, что в его силах, чтобы оправдать роль защитника американских интересов за рубежом и одновременно наращивать собственные влияние и бюджет.
Без национального стратегического диалога бюрократия не может понять, как работать с системой международных отношений, которую она больше не контролирует. Она не в восторге от того многополярного мира, который формируется в течение последних 10 лет. Эпоха конфронтации лучше подходила Америке как доминирующей мировой державе. С тех пор ее конкурентоспособность по отношению к Евросоюзу и Китаю снизилась, а соперничество за природные ресурсы обострилось. Если дальше идти тем же путем без изменений во внутренней политике, позиции США продолжат слабеть. Однако внешнеполитическая бюрократия не может влиять на выработку внутренней стратегии. Для повышения конкурентоспособности страны она вынуждена как-то адаптировать внешнеполитический ландшафт к возможностям Соединенных Штатов.
Вместо того чтобы сосредоточиться на долгосрочных интересах США в будущей «стратегической экосистеме», американские ведомства инстинктивно пытаются заставить мир стать более подходящим местом для конкурентных преимуществ Соединенных Штатов. Они защищают свои сегодняшние интересы в том узком смысле, как их понимает бюрократия. На практике это выражается в навязывании экстратерриториальности юрисдикции США, применении силы, не считаясь с суверенитетом других государств, и попытках контроля над мировыми природными ресурсами и инфраструктурой – от транспортной до информационной.
Соединенные Штаты реагируют на перемены в мире как рациональная система, занятая самосохранением, защищающая свои конкурентные преимущества. Однако, ведя себя эгоистично и близоруко, американская бюрократия создает стратегические проблемы собственной стране. Так, она предоставила американским компаниям полную свободу инвестиций в китайскую экономику, превратив КНР в главного стратегического конкурента намного быстрее, чем к этому оказались готовы США, азиатские соседи Китая и даже он сам. В итоге Вашингтон стоит сегодня перед непростым выбором: бросить все оставшиеся силы на конфронтацию с Пекином или сделать своего основного кредитора по сути наследником в правлении мировой системой.
Несмотря на долговременную потребность в России как будущем союзнике – балансире в Азии и партнере в стабилизации наиболее беспокойных регионов мира, которая, к тому же, вряд ли станет основным экономическим конкурентом, американцы продолжают подрывать российскую внутреннюю стабильность и внешнюю безопасность.
Тот же недальновидный оппортунизм привел к тому, что Соединенные Штаты сначала помогли радикальным мусульманским экстремистам стать региональной военной силой, затем принялись бороться с ними, возбуждая негодование в мусульманском мире, и наконец, по сути, содействовали приходу к власти на Ближнем Востоке и в Южной Азии исламских режимов.
Многие в США, включая самого президента Обаму, осознают противоречия, от которых страдает внешняя политика страны. Их заявления свидетельствуют о том, что они понимают потребность в новых подходах к глобальному сотрудничеству. Но американская система принятия решений такова, что без одобрения Конгресса никакие инициативы не могут быть воплощены в жизнь.
Американская внешнеполитическая машина хочет изменить мир, чтобы он играл по американским правилам и на американском поле. Подобная политика – скорее инстинктивная реакция бюрократии, не готовой менять свои привычки, чем следствие сознательного выбора Америки. К сожалению, именно такие политические установки легче всего «протащить» через Конгресс – ведь они создают впечатление, что Вашингтон все еще «рулит». Политика американской бюрократии идет вразрез с требованиями всеобщего процветания – она мешает приспособить «атлантический» мировой порядок к нуждам все более «неатлантического» мира.
Но насколько устойчиво глобальное положение США, если их возможности неуклонно снижаются в сравнении с финансовым потенциалом остальных, а влияние уменьшается по мере становления государств БРИКС и других развивающихся держав?
Краткосрочные интересы Соединенных Штатов противоречат их долгосрочным интересам. В настоящий момент лишь небольшая часть американских элит понимает, что это противоречие усугубляет конфронтацию США с остальным миром, тем самым подрывая основы возможнрго лидерства в будущем. Что случится, если вектор американской политики не изменится? В настоящее время идеи капитана Портера и полковника Майклби явно проигрывают в коридорах вашингтонской власти. Новый национальный консенсус неизбежен, но это будет не завтра.
Когда Фрэнсис Фукуяма объявил о конце истории, его слова совпали с мироощущением американских элит, наслаждавшихся ощущением триумфа. Им казалось, что ход событий наконец-то вошел в естественное русло. Пока мировая экономика развивалась, Америка снимала сливки с непрерывно растущих фондовых рынков, в страну текли реки дешевых китайских товаров, а частные дома росли в цене. Однако это процветание было в большей степени следствием привилегированного положения в мире, а не упорного труда. С тех пор, не желая жертвовать высоким уровнем жизни, Соединенные Штаты попыталась в полной мере воспользоваться своим положением, направо и налево расходуя деньги, занимаемые у мира, и используя свой вес и влияние, чтобы запугивать несогласных.
В конце концов человечество найдет свой путь – с Америкой во главе или без нее. В последнем случае могут сбыться худшие опасения Збигнева Бжезинского. Ослабление влияния США в конечном итоге спровоцирует переоценку американской общественностью позиций страны в мире. Когда это произойдет, Америке, правильно понимающей свои национальные интересы, с ее духом предпринимательства и восстановленной уверенностью в своей экономике, не понадобится постоянно искать врагов и давить на других чтобы добиться успеха.
А.О. Безруков – специалист по стратегическому планированию.

«Я причастен к сценарию «Обострение нюха»
Давид Ян рассказал «МН», почему верит не в те проекты, на которых зарабатывают деньги, а в те, которые могут сделать мир лучше
Борис Пастернак
— У вас удивительная биография. В 1989 году, будучи студентом четвертого курса Московского физтеха, вы создали компанию BitSoftware, позже переименованнyю в ABBYY. Сейчас у ABBYY четырнадцать международных офисов в 11 странах, свыше 1100 сотрудников. Оборот ее, по оценкам экспертов, превышает $100 млн. Один из самых известных продуктов компании — программа ABBYYFineReader, число пользователей которой более 20 млн. Еще одна ваша компания iiko занимается разработкой программных продуктов для ресторанов. Все так?
— Примерно так.
— Как должно быть устроено высшее учебное заведение, чтобы его студент так стартовал?
— Как в Физтехе. Здесь со второго курса студент попадает «на базу», в научную среду. На лекциях в комнате сидят пять-шесть человек, а читает действующий ученый, нередко академик. Помню, в Черноголовке я сдавал экзамен, выпал билет про эффект Гантмахера. Отвечать пришлось автору этого эффекта, академику РАН Всеволоду Феликсовичу Гантмахеру.
Нобелевские лауреаты Капица, Семенов и Ландау, которые стояли у истоков Физтеха, хотели создать новую систему подготовки научных работников. И, конечно, они первым делом перерезали пуповину и вынесли физико-технический факультет МГУ в Долгопрудный. Убежден, что в МГУ они не смогли бы создать то, что удалось за его пределами. За результатом было правильнее идти в чистое поле.
— За результатом в экономике нам тоже придется идти в чистое поле?
— Производство в России в упадке. Новые станки и приборы практически не разрабатываются, все покупается — денег много. При этом стоимость труда инженеров и программистов высокого класса растет столь быстро, что это становится для России угрозой. Зарплата программистов у нас все еще меньше, чем в Кремниевой долине, но уже выше, чем в Китае, и давно выше, чем в Индии. И это большая проблема.
— В чем же она?
— Точкой роста российской экономики может быть только высокоинтеллектуальная деятельность. Но сегодня основной спрос на нашу работу из-за рубежа. В нашей компании, к примеру, большая часть продаж приходится на международный рынок. В Лаборатории Касперского похожая ситуация. Но поскольку у российских программистов неадекватно растут зарплаты, в какой-то момент вести разработки здесь становится невыгодно — заказы уходят в Китай, Индию, Вьетнам. Остается просто сидеть на нефтяной трубе, сознавая, что деградируем?
— А мы это сознаем? По-моему, напротив: Россия из сырьевого придатка как-то незаметно преобразилась в гордую энергетическую сверхдержаву.
— Зачастую руководство корпорации понимает, что ее традиционный рынок безвозвратно исчезает, но движется навстречу собственной гибели. Недавний пример — Kodak. Уже в начале 2000-х было очевидно, что с пленкой покончено, цифра победила. Но они выжимали свое, пока не обанкротились. Россия сейчас переживает похожий кризис. Только решения нужно принимать на порядок сложнее, чем у компании Kodak.
— Вот возникло Сколково. Я разговаривал с человеком, который собирался там поработать. Он разочарован: какой-то миллионерский клуб с полем для гольфа и кофе за $10. В Кремниевой долине ребята в майках и кроссовках пришли на встречу с нашим президентом Медведевым. Снова декорация, что ли?
— Не могу согласиться, что в Сколкове строится декорация. Задача — собрать образование, бизнес и науку в одном месте. Пока не появится высококлассная образовательная среда на уровне Стэнфорда и Массачусетского института технологий (MIT), в России будет дефицит инженеров и менеджеров мирового класса. Значит, мы не увидим инвесторов мирового класса. В Кремниевую долину они вкладывают более $30 млрд в год. Надо отметить, что «Сколково» — один из проектов, которому доверяют за рубежом. Редчайший случай, когда МIT согласился стать партнером при создании Сколковского института науки и технологий — Сколтеха. А компания ABBYY стала одним из первых резидентов Сколкова, мы с 1995 года занимаемся разработкой системы понимания, анализа и перевода текстов ABBYY Compreno и уже инвестировали в эту технологию более $50 млн собственных средств. Преимущество получают молодые компании, стартапы. Крупные компании должны стать соинвесторами — ничего нельзя делать на деньги только «Сколково». В случае ABBYY это 50 на 50.
— Я смотрю, MIT для вас образцовый вуз?
— Мне очень импонирует в нем слияние академической и прикладной науки. В MIT есть свобода и творческое безумие. Вы слышали, скажем, про MIT Medialab? Представьте 15-этажное здание, где происходит «баловство» (по-другому не назовешь), но с бюджетами в $2–3 млн. Профессор набирает студенческую группу и делает проект на стыке науки, инженерии и искусства. Причем компания-спонсор не имеет права диктовать, что именно надо делать.
— Что-нибудь толковое получается?
— Электронные чернила, которые используются сегодня во всех электронных книгах (Amazon Kindle или PocketBook). Умные подушки безопасности, которые сегодня распространяются всем во всем мире, родились в MIT Medialab как артпроект. Или такая разработка: женская куртка, которая понимает, как с девушкой обращаются. Нежно взяли за руку — куртка бездействует, грубо — она бьет обидчика электрическим разрядом. Очень многое связано с информационными технологиями, искусственным интеллектом. Но при этом все на стыке искусств и наук.
— Есть ли принцип, который помогает вам двигаться к цели?
— Мои наставники говорили, что нельзя делать два дела хорошо, нужно выбрать одно и делать его на 200%.
— Что-то я не заметил, что вы этому совету следуете.
— Нет-нет, я воспринял его очень серьезно. Мой тренер по теннису семь лет твердил: пока вы на корте, для вас ничего не должно существовать. Полная отдача. Когда я в старших классах занялся физикой серьезно, тренер сказал: решай! А когда в Физтехе я увлекся программированием (мы с моим партнером Александром Москалевым начали разрабатывать словарь Lingvo), мой шеф тоже потребовал, чтобы я определился. В физику я так и не вернулся, кандидатскую защитил уже по искусственному интеллекту, правда, тоже в Физтехе.
— Потом тоже были точки развилок?
— Да, когда я начал заниматься Cybiko. Компании ABBYY было уже восемь лет, наладился более-менее стабильный бизнес. И мне показалось, что я как генеральный директор могу заняться еще чем-то параллельно — например, сделать первый в мире коммуникационный компьютер-наладонник. Мои друзья Георгий Пачиков и Александр Кутуков сказали, что готовы вкладывать в это деньги при условии, что я уйду из ABBYY и займусь только Cybiko. Это был ультиматум. Офис Cybiko должен был находиться не ближе какого-то расстояния от ABBYY, я обязан был в него переехать, более того, написать приказ о своем увольнении и чуть ли не объявить об этом в прессе. В ABBYY имел право проводить не более одного дня в месяц. Я эти условия принял.
— То решение вы считаете верным?
— Абсолютно. Только спустя год я понял, насколько в тот момент мои друзья были мудрее меня. На заре ABBYY был момент, когда я не спал три ночи и четыре дня. Я тогда думал: это максимум того, что может вынести мой организм. Но в Cybiko выяснилось, что бывает и хуже: в течение месяца из-за постоянных перелетов из России в Америку и на Тайвань спал по два часа в сутки. Ни о каком совмещении не могло быть и речи. Что касается ABBYY, то от моего ухода компания только выиграла, она стала взрослее. Это еще один урок: отцы-основатели обязательно должны уходить вовремя. Иначе компания так и останется подростком-переростком. Хотя есть и исключения. Apple получила второе дыхание только с возвращением Стива Джобса.
— Вы занимаетесь только тем, что вам интересно?
— Цели перепробовать все на свете точно нет. Евангелист Apple Гай Кавасаки советует верить не в те стартапы, которые ставят своей целью заработать деньги, а в те, которые хотят сделать мир лучше, или, скажем, исправить какую-нибудь ошибку природы.
— Вы в чем-нибудь улучшили мир? Что вы можете поставить себе в безусловную заслугу?
— У iiko заслуги еще впереди. Тут ошибка природы известна: индустрия гостеприимства в мире хаотична и не систематизирована. Все держится на простом персональном гостеприимстве. Сегодня этого мало. У мира нет шансов во всех заведениях иметь только по-настоящему радушных людей, и iiko должна дать возможность гостеприимным рестораторам тратить свое время на гостеприимство, а не на техническую работу.
— Как только вы внедрили систему iiko в своем первом ресторане, из заведения уволилось несколько барменов, сменилось несколько шеф-поваров. А без системы нельзя было понять, что эти люди...
— Воруют? Ребята везде хорошие, но сколько-то денег они всегда кладут в кассу, а сколько-то — в карман. Если же система дает им возможность получать мотивационную часть зарплаты, пропорциональную их эффективности, и им не надо рисковать, проносить, к примеру, в бар свою водку — это меняет отношение людей к делу. В коллективе, где 80% людей не воруют, остальные тоже перестают воровать. Или уходят.
— А коммуникатор, который можно взять в руку и понимать, что говорит собеседник на другом языке, вам удалось сделать?
— Технически это уже достижимо. Абсолютно уверен, что мы будем первыми в этой области. Сейчас в Сколкове осуществляем пилотные проекты, которые показывают очень хорошие результаты.
— Это программное обеспечение, которое заряжается в ноутбук?
— Нет, все операции идут на сервере, а результат виден на компьютере клиента. Мы создаем независимую от конкретного языка универсальную семантическую иерархию понятий — систему знаний о мире, позволяющую делать анализ текстов. По сути, мы вырастили дерево понятий, универсальное для всех языков.
— Тем временем на дереве ваших личных интересов выросли такие экзотичные ветви, как перфомансы, флешмобы.
— Это чистое хобби. Впервые мы с ребятами поставили в Физтехе перфоманс «Стулья». Под джазовую композицию Игоря Бриля люди ходили вокруг строгой геометрической инсталляции из стульев. Стулья начинали смещаться, зрители вскоре уже бегали в проходах, сдвигали их. Сценарий был написан лишь до середины, поэтому представление начиналось как перфоманс, а заканчивалось как хеппенинг. Когда включился полный свет, в центре зала высилась скульптура из торчащих во все стороны стульев, похожая на башню Татлина. Зрители стояли вокруг, кто-то лежал на полу, кто-то стоял на голове и вверх тормашками читал книгу на английском. Пауза — и аплодисменты. Потом было еще несколько перфомансов, а в 2003 году идея вышла на улицы в виде флешмобов. Тогда в наших акциях участвовало до пятисот человек.
— Как же это вписывалось в вашу теорию «одного дела на 200%»?
— Спокойно вписывалось. За два года до появления Facebook я был в Барселоне на конференции, где активно обсуждалась проблема будущего общения — базовой функции человека. Как раз тогда мне под руку попалась книга Говарда Рейнгольда «Умная толпа: следующая социальная революция». Речь в книге шла о том, что умные толпы состоят из людей, способных действовать согласованно, даже не зная друг друга. Меня как током пробило, когда я обнаружил, что на 150-й странице Рейнгольд пишет о нас: «В нью-йоркском магазине увидел устройство Cybiko, позволяющее незнакомым людям знакомиться и сорганизовываться на расстоянии». Вот так для меня сошлось все: и искусство действия, и акционизм, и социально-коммуникационная тема. Вскоре в интернете появился сайт fmob.ru, где люди могли публиковать свои сценарии флешмобов. И «умные толпы» начали собираться в нужное время в нужном месте.
— Наверное, нужно пояснить, что такое Cybiko.
— Карманный компьютер-наладонник с клавиатурой и антенной. Парень вводит информацию о себе, о девушке своей мечты, и этот компьютер вибрирует, если находит подходящую девушку на расстоянии 150 м. Разумеется, если у нее тоже есть такой компьютер. Дальше можно общаться на расстоянии. Мы придумали Cybiko в 1998 году, а в 2000-м запустили на Тайване массовое производство. За четыре месяца мы продали в США 250 тыс. таких компьютеров. Тогда еще не было ни социальных сетей, ни Bluetooth, ни sms. Успех был такой, что нас узнавали на улицах, в школах появились надписи No Cybiko in School. Сейчас процессорные мощности сетей позволяют связываться по радио и общаться по многу часов, тогда же wi-fi на мобильных устройствах был в принципе невозможен, и мы создали энергосберегающий радиопротокол, который позволял нашему устройству весом 125 граммов работать в течение пяти часов. Это была очень сложная инженерная задача. Но проект закончился с крахом NASDAQ в 2001 году, когда были уволены первые 140 тыс. инженеров из IT-индустрии. Стало понятно, что начинается большая рецессия и ввязываться в производство «железяки» — безумие.
— Цукерберг ведь тоже не ввязывался в производство «железяки»?
— Cybiko сопоставляют не столько с Facebook, сколько с Foursquare — это геопозиционная социальная сеть, она знает, где ты сейчас находишься. В продвинутых современных мобильных устройствах есть и GPS, и интернет. Но тогда наше устройство было как глоток свежего воздуха для тех, кто сидел в ICQ. Теперь они могли сидеть не только дома, а где угодно — в сквере, в кино. Следующий шаг был очевиден — совместить эту технологию с мобильным телефоном, сделать мобильный телефон для молодежи, которого до сих пор в общем-то нет. Этого не случилось просто потому, что нужны были новые инвестиции, невозможные в условиях кризиса. Но все-таки мы нащупали правильные кнопки. Правда, инвесторы деньги обратно не получили.
— Такой правильный проект оказался экономически несостоятельным?
— Стив Джобс пытался сделать планшетный компьютер Apple Newton еще в 1993 году, и это был экономически провальный проект. Хотя идея планшетника была правильной. И спустя почти двадцать лет появляется iPad, который выстреливает и резко увеличивает капитализацию Apple. Вопрос: в 1993 году он ошибся с Apple Newton или нет?
— Вернемся к флешмобам. Вы их организовывали или просто участвовали?
— Как администратор я участвовал под своим именем, а как автор сценариев — под псевдонимом. Расскажу сценарий «Круговые движения» известного акциониста Максима Каракулова, псевдоним Enjoy. В «Атриуме» на Курской люди, которые родились в четные дни, собирались на галерее второго этажа, а те, что в нечетные, — на третьем. По команде один этаж начинал двигаться по часовой стрелке, другой — против. Мы подложили под это целую философию. Говорили, что флешмоб — это искажение социокоммуникативного пространства. Это как если бы все молекулы кислорода случайным образом собрались в углу комнаты. Что теоретически возможно, но абсолютно нереально. И созерцание такого явления становится удивительным фактом биографии.
— В какой момент, простите, ловится кайф?
— В любой, от сценария до наблюдения — сплошной адреналин. Я причастен к сценарию «Обострение нюха». Представьте: парфюмерный магазин «Арбат Престиж», люди нюхают пробники духов. Единственное искажение, которое надо внести в их поведение, — нюхать не пробники, а ценники. Собрались человек 150, поставили телефоны на вибрацию, и когда они просигналили, сценарий начал выполняться. Охранник, понимая, что надо что-то предпринять, командует покупателю: «Ну-ка положите на место, зачем вы их нюхаете?» А покупатель нашелся и отвечает: «Да вы сами понюхайте!» И охранник, а следом весь персонал начинает нюхать ценники. Такого красивого развития уже никто не ожидал!
Моб уже заканчивался, спускаюсь по эскалатору и вижу, что наверх поднимается взвод милиции. Когда они пришли, никого из наших уже не было. Они попытались кого-то задержать. «Это вы нюхали ценники?» — «Какие ценники?» Собственно, с этих флешмобов и начались мои FAQ-сafe, потому что вечеринки по 70 человек у меня дома уже не помещались.
— Сколько ресторанов у вас сейчас в Москве?
— Пять. Они все по-разному называются.
— Вы кем себя ощущаете? Отец — китаец, мама — армянка, родной язык — русский. Знаю, что вы помогаете физмат-школе в Армении. Значит, родина там?
— Да, моя первая родина — Армения. Там я родился и вырос. И ереванская физмат-школа дала возможность мне и еще сотням ребят поступить в лучшие вузы.
— А вторая родина Китай?
— Нет, вторая родина — Россия. Но если вы спросите меня, кем я себя ощущаю по национальности, отвечу — китайцем.

Майкл Макфол, недавно назначенный послом США в России, в эксклюзивном интервью корреспонденту английской редакции РИА Новости Анастасии Маркитан поинтересовался, почему "загадочные" русские СМИ до сих пор не могут забыть его январскую встречу с оппозицией.
- Думаю, не будет преувеличением сказать, что Ваш приезд в Москву в январе стал медиа-сенсацией в России, во многом после встречи с оппозицией на второй день после приезда. Оглядываясь назад сейчас, было ли что-то в те первые дни, что Вы бы сделали по-другому?
- Мой приезд наделал много шума в вашей прессе не потому что я что-то делал не так, а возможно потому что пресса так отреагировала на мое присутствие. Хочу напомнить, что такая "политика двойного вовлечения" (когда общение идет не только с официальными властями, но и представителями гражданского общества, бизнеса и культуры), давно практикуется администрацией президента США Барака Обамы.
Я не помню такого ажиотажа в СМИ в июле 2009 (во время визита президента Обамы в Москву, когда наряду с президентом Дмитрием Медведевым и премьер-министром Владимиром Путиным, он встречался с представителями оппозиции и правозащитных организаций), как и не помню похожего внимания к своей встрече с оппозицией в феврале 2009. Я возможно пятнадцатый раз встречался с этими людьми (представителями оппозиции)...и для меня было неожиданностью, что из этого сделают такую громкую новостную историю.
Как-то однажды я обедал с Вашим послом в Вашингтоне (Сергеем Кисляком) и должен сказать, что большинство присутствующих на этой встрече были республиканцы, бывшие лидеры республиканских партий. Я был, пожалуй, единственным из администрации. Это нормально. Почему здесь из этого делают историю, для меня загадка. Расскажите мне, я хочу понять Вашу страну.
- Возможно, главную роль сыграло то, что в это время по всей стране проходили митинги оппозиции, плюс достаточно жесткие заявления Владмира Путина о возможном иностранном "следе" в организации протестов подлили масла в огонь. Вспомним недавнюю историю о журналистах из НТВ, которые преследуют Вас повсюду. Вы им на прошлой неделе сказали, что Россия "дикая страна оказалась", такого поведения журналистов нет больше нигде. Жалеете сейчас об излишне эмоциональном высказывании?
- Да. Если мы говорим об этом, я во многом сожалею, что тогда неточно выразился. Я не жил в вашей стране 17 лет, и мой русский слегка загрубел... Я не профессиональный дипломат и сделал ошибку, признаю это.
А то, что касается того, были ли это действительно журналисты или нет, не знаю. Когда они подошли поприветствовать меня, там была не одна камера и не один человек, а несколько. В моей стране, телеканал обычно отправляет на съемки одного оператора и журналиста.
- Давайте поговорим о том, что тесно ассоциируется с именем Майкла Макфола. Я сейчас говорю о российско-американской перезагрузке. У нас есть список решенных вопросов, включая договор по сокращению стратегических наступательных вооружений, вступление России во Всемирную Торговую Организацию, и, надеюсь, скорая, отмена поправки Джексона-Веника. А что будет дальше? Какие темы будут на повестке дня в следующем этапе нашей перезагрузки?
Здесь две категории вопросов. Первая - это проблемы и вызовы, на которые мы как сильные державы, должны реагировать. Эти вопросы оказываются на повестке дня не потому что мы лично так решили, а потому что другие страны посчитали их крайне важными. Сейчас это, в первую очередь, Иран и Сирия.
Другая категория - про-активные вопросы, к которой я бы отнес две темы: противоракетную оборону (ПРО) и российско-американское экономическое сотрудничество. В том, что касается ПРО у нас еще много работы. Но я уверен, что ПРО - это именно та тема, которая поможет нам перейти от противостояния к сотрудничеству, потому что не в наших интересах создавать систему противоракетной обороны, направленную против ядерного потенциала России.
Одна из главных моих задач здесь в Москве - это укрепление экономического сотрудничества между нашими странами. Нам нужны более крепкие торговые отношения, инвестиции, не просто связи на уровне контроля вооружений, а связи между людьми, занимающимися бизнесом.
- В недавней истории с включенным микрофоном во время встречи Обамы и Медведева, американский президент пообещал своему русскому коллеге "большую гибкость" в вопросах ПРО в случае его избрания Обамы на второй срок. Что эта гибкость будет означать для России?
- Это будет означать, что мы будет строить ту систему ПРО, которая нужна нам для защиты наших союзников и нас самих от реальных ракетных угроз. И мы не примем никаких ограничений в этой области, потому что безопасность наших граждан и союзников является нашим главным приоритетом.
В то же время мы уверены, что сможем...сделать все необходимое без каких бы то ни было угроз для так называемой стратегической стабильности между Россией и США.
-Вы всегда говорите, что не перестаете учиться, находясь в России. А что, на Ваш взгляд, русские делают лучше всего? В чем они наиболее преуспели?
- Как я уже говорил, последний раз я жил в России 17 лет назад. За это время в вашей стране произошли фантастические изменения. Я бы сказал, что двадцать лет назад...был стереотип, что русские, например, не любят много работать. Но этот стереотип для меня ужен е существует, глядя на то, что происходит сейчас в Москве.
Русские в своей частной жизни и во многом, что касается построения карьеры, похожи на американцев. Я замечаю наши сходства, особенно у молодежи, поскольку большую часть своей жизни провел, преподавая в Стенфорде.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

























