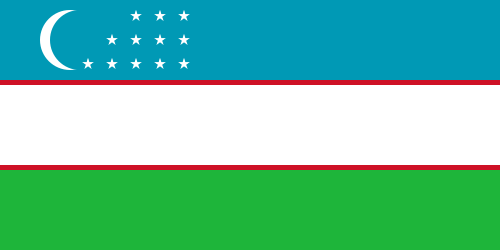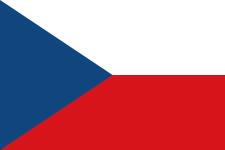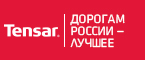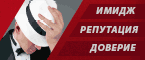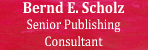Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Дмитрий Медведев встретился с Президентом США Бараком Обамой. Встреча состоялась в Сеуле, куда главы двух государств прибыли для участия в саммите по ядерной безопасности. Заявления для прессы по итогам встречи
Д.МЕДВЕДЕВ: В очередной раз мы с моим другом и коллегой Бараком Обамой провели содержательное обсуждение самых разных вопросов международной повестки дня и вопросов двустороннего сотрудничества между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки.
Я сказал, что, несмотря на то что та перезагрузка, о которой довольно много говорили в последние три года, оценивается по-разному, я считаю абсолютно полезным то, что мы делали в последние три года. Считаю, что это были, может быть, лучшие три года в истории взаимоотношений между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки за последнее десятилетие. Нам действительно удалось многое сделать, начиная Договором об ограничении стратегических наступательных вооружений и заканчивая нашим сотрудничеством по наиболее чувствительным международным вопросам.
Отдельно я хотел бы поблагодарить Президента Соединённых Штатов Америки за огромную работу и поддержку, которая была оказана Российской Федерации на пути к вступлению во Всемирную Торговую Организацию. Это для нас очень важная тема. Рассчитываю на то, что столь же успешно мы сумеем преодолеть и оставшиеся проблемы, включая существующую в настоящий момент проблему закона Джексона–Вэника.
Нам ещё очень многое предстоит сделать для того, чтобы вывести торгово-экономические отношения между Россией и Соединёнными Штатами Америки на принципиально новый уровень как по размеру торгового оборота, так и по интенсивности сотрудничества. Российская Федерация в этом весьма заинтересована. Думаю, что это было бы полезно и для американских компаний, и для американских граждан, особенно в период общей экономической нестабильности.
Мы обсудили, естественно, как обычно, и вопросы международного сотрудничества, говорили о некоторых наиболее проблемных вопросах, включая Сирию. Вчера я встречался со спецпосланником Генсека ООН господином Аннаном. Мы с Президентом Соединённых Штатов Америки исходим из того, что это хороший способ достичь хотя бы первой точки успокоения и проложить дорогу для коммуникаций между различными общественными силами, в настоящий момент существующими в Сирии. Мы готовы оказывать господину Аннану всяческую поддержку. Об этом я сказал ещё вчера.
В любом случае мы должны действовать таким образом, чтобы не создать больших проблем и постараться сделать так, чтобы угроза гражданской войны, существующая в настоящий момент в Сирии, не была реализована, а чтобы, наоборот, эта миссия завершилась развитием полноценного диалога между всеми группировками, существующими в стране, и правительственными властями.
Мы говорили, естественно, и о ситуации на Ближнем Востоке, коснулись ситуации вокруг иранской ядерной программы, говорили о северокорейской ядерной программе, говорили о некоторых других чувствительных вопросах, говорили о нашем сотрудничестве в Афганистане – в общем, прошлись практически по всем основным позициям.
Затронута была, конечно, и проблематика противоракетной обороны. Мы говорили о том, что время не упущено. Сотрудничество и обсуждение всех аспектов, связанных с реализацией идеи европейских ПРО, может быть более активным, договорились о том, что в настоящий момент время для работы специальных технических экспертов. В любом случае, конечно, мы остаемся на своих позициях: Россия – на своей позиции, Соединённые Штаты Америки – на своей позиции. Но диалог на эту тему не только возможен, но и необходим. И если говорить предельно прямо – у нас ещё есть время для того, чтобы договориться и прийти к сбалансированному решению, имея в виду тот опыт, хороший опыт, который мы с Бараком накопили при подготовке Договора об СНВ, и который, надеюсь, будет использован и для нахождения решения этой весьма непростой проблемы.
Пользуясь случаем, хотел бы сказать, что мне доставляет большое удовольствие общение с моим коллегой Бараком Обамой, и, как мне представляется, тот уровень взаимопонимания, который сложился у нас за эти годы, помог решению целого ряда важнейших двусторонних и международных вопросов. Надеюсь, что такой характер отношений сохранится между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки, между лидерами государств и в будущем. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы, Барак, ещё раз пригласить тебя посетить Российскую Федерацию, даже понимая, что этот год – предвыборный и сложный. У нас есть много хороших мест. Я приглашал тебя в Санкт-Петербург и от своего имени, и от имени избранного Президента Владимира Путина, и я делаю это ещё раз.
Б.ОБАМА (как переведено): Спасибо!
Во-первых, хотел бы сказать, что действительно в последние три года мы очень продуктивно работали с Президентом Медведевым, и эти три года были чрезвычайно продуктивными.
Президент Медведев уже говорил о тех достижениях, которые имели место. Во-первых, это Договор об СНВ, который позволил уменьшить ядерные арсеналы, что, в свою очередь, будет способствовать достижению мира и безопасности не только в отношениях между нашими странами, но и по всему миру. Речь также шла о наших обязательствах по договору о нераспространении.
Кроме того, было упомянуто вступление России в ВТО. Это очень важно для укрепления наших торгово-экономических отношений, это создаст рабочие места в обеих странах. Речь шла также о поправке Джексона–Вэника, о том, как от неё избавиться, для того чтобы американские компании смогли воспользоваться открытым и либерализированным российским рынком.
Действительно, имели место периоды, когда в наших отношениях наблюдалась напряжённость. Этого можно было ожидать. Такое происходит в отношениях между странами, тем более что в наших отношениях, в нашей истории когда-то имела место «холодная война». У наших отношений долгая история, однако нам нужно смотреть вперёд, а не оглядываться назад.
Говоря о продвижении вперед: разумеется, нам нужно проделать большую работу в том, что касается наших двух стран. И Президент Медведев уже говорил о тех вопросах, которые вызывают трения между нами, в частности, по вопросу о ПРО. И сейчас наступило время, когда наши команды начнут дискуссии по техническим вопросам.
Следует также упомянуть о работе двусторонней президентской комиссии. Её сопредседателями являются Министр иностранных дел Сергей Лавров и Госсекретарь Хиллари Клинтон. Работа этой комиссии направлена на расширение торговых отношений между нашими странами, решение торгово-экономических проблем. Речь идёт не только о ВТО, но и о том, как более энергично укрепить инвестиции, как укрепить сотрудничество в экономической области, которое идёт на пользу обеим нашим странам.
Что касается международной арены, то мы согласились в том, что как двум ведущим мировым державам нам необходимо постоянно иметь друг с другом контакты и постоянно координировать то, как мы будем реагировать на возникающие в мире серьёзные ситуации и проблемы.
Что же касается проблематики, относящейся к Сирии, то, несмотря на то что существуют определённые трудности в наших подходах к этой проблеме, особенно в течение последних нескольких месяцев, мы согласились в том, что нам стоит поддерживать миссию Кофи Аннана, который собирается попытаться положить конец кровопролитию в Сирии и продвинуться вперёд к созданию такого механизма, который позволил бы сирийскому народу иметь действительно легитимных представителей, иметь легитимное правительство в Сирии.
Что касается Ирана, то мы согласились в том, что следует приветствовать переговоры с Ираном в формате «пять плюс один». Об этом будет объявлено в скором времени. Речь идёт о том, чтобы добиться дипломатического решения проблемы, добиться того, чтобы Иран выполнял свои международные обязательства, с тем чтобы он смог вернуться в Содружество наций, и для того, чтобы у Ирана могла быть мирная ядерная энергия, а не ядерное оружие.
Что касается Северной Кореи, то мы оба согласились направить сигнал о том, что Северная Корея должна воздержаться от ракетного запуска, о котором шла речь и который будет являться нарушением резолюции Совбеза ООН. И мы надеемся, что именно это произойдёт, что Северная Корея воздержится от этого. Мы надеемся, что этот вопрос будет решён дипломатическим путём.
Что же касается сотрудничества между нашими странами, то оно является чрезвычайно важным и для мира и стабильности во всём мире. И в этой работе я не мог бы даже желать лучшего партнёра, который способствует укреплению наших отношений, чем Дмитрий. И я не сомневаюсь в том, что он в своей новой роли, на своей новой работе будет продолжать осуществлять позитивное влияние на то, что происходит в мире, и будет продолжать работать в целях укрепления отношений между нашими странами.
Конечно, я очень хотел бы посетить Санкт-Петербург, но боюсь, что я это сделаю уже только после выборов. Желаю вам всего самого лучшего.

Опыт лакировки истории
Как США и Россия относятся к своему неприглядному прошлому
Резюме: Используя державную риторику, российские элиты прежде всего руководствуются своекорыстным прагматизмом. Не удалось разработать последовательную великодержавную идеологию, вплетенную в драматический исторический контекст.
Автор выражает в этой статье собственные взгляды, которые не всегда и не во всем совпадают с точкой зрения американских правительственных структур. Часть раздела о России была опубликована в журнале Washington Quarterly, весна 2011 года.
Россия и Соединенные Штаты часто критикуют друг друга за манипулирование историей, за стремление приукрасить события прошлого и закрыть глаза на неприглядные явления. В подобных обвинениях есть доля правды, но хватает упрощений и преувеличений. Избавиться от них нужно не только ради точного изложения фактов, но и потому, что здравая оценка культурного ландшафта той или иной страны необходима для понимания ее характера и намерений, а также для проведения рациональной внешней политики.
Средства массовой информации и (особенно) школьные учебники часто замалчивают неприглядные или позорные страницы истории. Политические элиты, конечно, как правило, стремятся представить прошлое в нужном свете, чтобы узаконить собственную власть. Но подобные усилия не всегда приводят к идеализации или замалчиванию, они могут способствовать и более открытому обсуждению мрачных эпизодов прошлого.
Америка: от ура-патриотизма к объективной оценке
В популярной книге «Ложь, которой обучал меня учитель» социолог Джеймс Лёвен сурово оценивает американские школьные учебники. Он, в частности, утверждает, что история Соединенных Штатов предстает в виде «упрощенного моралите», призванного помочь юным гражданам вписаться в господствующий политический и социально-экономический порядок.
Разделяя точку зрения многих, возможно, большинства россиян, Лёвен утверждает, что большинство американских учебников истории по-прежнему основаны на самодовольном и триумфалистском изложении национальной идеи. Примером служит книга Джеймса Дэвидсона и др. под названием «Американский народ» (2005). Выдержанная в традиционном духе бравого ура-патриотизма, который до недавнего времени преобладал в преподавании истории, она описывает холодную войну в назидательном ключе. Хотя авторы признают, что «иногда» этот конфликт вносил раскол в американское общество (в частности, в эпоху маккартизма и вторжения во Вьетнам), нацию сплачивала вера: свобода стоит того, чтобы за нее сражаться, прежде всего с Советским Союзом, который изображен экспансионистским тоталитарным государством. А после окончания холодной войны Соединенные Штаты стали «единственной сверхдержавой и образцом для всех других демократий». В начале XXI века «Америка остается маяком нашего мира, призывая другие страны встать на путь свободы».
Хотя подобное самолюбование еще распространено, появляются и пособия с менее прямолинейным изложением. В таких авторитетных и распространенных учебниках для учащихся 11-го класса общеобразовательных школ (16-летние подростки), как «Американская мечта» (Джойс Эпплби и др., 2010 г.), история США подчас подается в мрачных тонах. Авторы подробно разбирают темы расизма и социальной несправедливости. Хотя одно из главных замечаний Лёвена заключается в том, что американцев по-прежнему воспитывают на «праздничной и парадной евроцентричной истории», в «Американской мечте» акценты смещены в другую сторону.
Так, общепринятым становится отрицательное отношение к Христофору Колумбу, которого некогда героизировали как воплощение славной европейской цивилизации. Прибытие Колумба к берегам Нового Света спровоцировало столкновения, «губительные» для коренных народов Америки, «культура которых была изменена или уничтожена войной, болезнями и порабощением». Их положение не улучшилось и после создания Соединенных Штатов Америки. «Бедность, отчаяние и нечестный бизнес, который вели американские торговцы» в XIX веке, спровоцировали тщетные попытки сопротивления индейских племен.
Как жестокое и унизительное описывается обращение с рабами на Юге. Хотя Гражданская война принесла освобождение от рабства, следующее за ней столетие показало, как мучительный путь прогресса с периодическими откатами в виде расовых мятежей и линчеваний чернокожих, пытавшихся добиться политических прав и экономических возможностей.
Авторы учебника уважительно, но без лишней героики оценивают победу США во Второй мировой войне. Они сообщают школьникам, что Советский Союз нес основное бремя войны в Европе, Сталинградская битва стала переломным моментом, а СССР потерял больше людей, чем любая другая страна. Почти две страницы посвящены атомной бомбардировке Японии: приводятся мнения президента Трумэна, который поддержал этот акт ради спасения жизни многих американских солдат, и Уильяма Лихи, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами США, который написал, что, сбросив бомбы на мирное население, Америка «взяла на вооружение этические стандарты варваров средневековья».
Исследуя внутриполитические условия в годы Второй мировой войны, авторы «Американской мечты» уделяют большое внимание проблеме расизма, положению афроамериканцев и американцев мексиканского происхождения. Немало говорится о несправедливом интернировании граждан японского происхождения. Ни один из них не был судим за шпионаж в пользу Японии или за подрывную деятельность, а из всех американских частей и соединений времен Второй мировой войны наибольшее количество наград получил Сотый японский батальон. Авторы также напоминают, что Соединенные Штаты официально извинились за незаконную политику интернирования.
В отличие от традиционных школьных пособий, таких как «Американское государство», авторы «Американской мечты» не описывают развал Советского Союза с триумфалистских позиций. Однополярный мир, где доминируют США, создает новые вызовы, говорится в пособии, на которые Вашингтон часто не способен ответить. Обсуждая вторжение в Ирак 2003 г., авторы отмечают, что оно спровоцировало широкую критику во всем мире, оружие массового уничтожения так и не было найдено, а авторитет Америки оказался еще больше подорван откровениями заключенных тюрьмы Абу-Грейб, которые подвергались издевательствам.
В учебнике дается взвешенный анализ развития общества после Второй мировой войны и до нашего времени, отмечаются преимущества и недостатки американской системы. Крупные разделы посвящены резкому росту среднего класса, научным достижениям и появлению популярной массовой культуры. В то же время авторы уделяют внимание значительной прослойке бедного населения, а также росту подростковой преступности. В учебнике рассматриваются все плюсы и минусы программы Великого общества, которую президент Линдон Джонсон осуществлял в 1960-е годы. Стремление Джонсона предоставить с помощью федерального бюджета льготы малоимущим описывается с явной симпатией. Однако авторы цитируют и комментатора, сделавшего вывод о невозможности «одним росчерком президентского пера избавиться от наследия многих десятилетий социально-экономических лишений и неравенства в смысле доступа к образованию».
Акцент на культурное многообразие, а также попытка учитывать интересы обездоленных свойственны многим учебникам, написанным людьми с разной идеологической ориентацией. Хотя авторы «Американской мечты» беспристрастно оценивают провалы и неудачи, они отмечают постоянный прогресс в отношении к беднейшим слоям населения.
Еще более критичный подход характерен для учебников по программе углубленного изучения истории старшеклассниками. Многие из этих учащихся, зарабатывающие благодаря данной программе баллы для колледжа, в конечном итоге пополнят ряды американской элиты. Книги, предназначенные для данной аудитории, зачастую рисуют неоднозначную картину внешней политики США, критически отзываются о пропасти между ценностями и реальностью.
Учебник Алана Бринкли «Незаконченная нация» – хороший пример объективного исследования, подробно освещающего темы несправедливости и бедности, пропущенные через фильтр таких категорий, как расовая и половая принадлежность. Автор приходит к выводу, что перед лицом «нарастающего материального и социального неравенства» Америка столкнулась в начале XXI века с серьезным «расколом и возмущением в обществе, угрожающим единству нации и приводящим некоторых американцев к выводу о том, что страна распадается на несколько фундаментально разнородных культур». Бринкли также заявляет, что после трагедии 11 сентября 2011 г. внешняя политика «не только разделила американское общество», но и усилила «глубокую международную неприязнь к Соединенным Штатам, которая медленно накапливалась несколько десятилетий». Однако автор отмечает, что острота этих проблем сглаживается богатством, силой и устойчивостью страны, а также тем, что Америка предана идеям свободы и справедливости.
Другие популярные учебники с углубленной программой содержат больше сомнений в перспективах Америки. В книге под названием «Америка: прошлое и настоящее» (Роберт Дивайн и др., 2010 г.) подробно исследуется трагедия рабства, а также белый террор, захлестнувший Юг после периода восстановления. Фотография чернокожего, которого готовят к линчеванию, сопровождает текст, описывающий жестокую сегрегацию и отказ федерального правительства «остановить волну расового угнетения на Юге», начавшуюся в середине 70-х гг. XIX века. В разделе, озаглавленном «Уничтожение коренных американцев», приводятся документальные подтверждения страданий индейцев, численность которых из-за войн, болезней и разрушения привычного уклада жизни сократилась с 600 тыс. человек в 1800 г. до 250 тыс. человек в 1900 году. В учебнике также говорится, что в 1492 г., когда Колумб высадился на берегах Нового Света, на территории современных США, по примерным оценкам, проживали 5 млн индейцев.
Даже «Новый курс» (New Deal) Франклина Рузвельта приводится как пример хронической неспособности американской системы обеспечивать социальную справедливость: «Несмотря на всю привлекательную риторику о “забытом человеке”, Рузвельт сделал немногим больше для удовлетворения нужд и потребностей обездоленных и незащищенных слоев населения, чем президент Герберт Гувер». Хотя авторы признают существенный экономический прогресс американцев африканского происхождения за последние 50 лет, они подчеркивают, что чернокожие по-прежнему значительно отстают от белого населения по средним доходам и намного превосходят белых по числу заключенных в тюрьмах.
Что касается истоков холодной войны, то в учебнике почти ничего не сказано о репрессивной внутренней и внешней политике Сталина как важной причине конфронтации. Зато авторы заявляют, что, применив атомную бомбу против Японии, «Соединенные Штаты, по сути, сделали неизбежной послевоенную гонку вооружений с Советским Союзом». Михаилу Горбачёву приписывается главная заслуга в окончании холодной войны, и ни слова не говорится о торжестве американской системы ценностей над коммунизмом. В заключение авторы учебника «Америка: прошлое и настоящее» отмечают, что США вступили в XXI век, раздираемые идеологической борьбой между консерваторами и либералами, тогда как различные этнические, расовые и социальные группы предлагают «конкурирующие модели американского плюрализма». Экономика так и не «выполнила обещания добиться равенства всех людей», и вопрос о том, смогут ли Соединенные Штаты когда-нибудь решить эту важную проблему, остается открытым.
Будучи самой богатой и могущественной страной мира, Америка медленно, но верно избавляется от националистического и триумфалистского изложения собственной истории – по крайней мере в школьных учебниках. Чем объяснить подобный сдвиг в представлении американцев о себе? Аналогичные процессы происходят и в Западной Европе, но по другим причинам и значительно быстрее. Первая и Вторая мировые войны, а также деколонизация оказали глубокое влияние на представление европейцев о себе и своем прошлом. От гипернационализма и шовинизма, которыми были пронизаны школьные учебники в XIX и начале XX века, не осталось и следа. Переосмысление истории и изменение культурных парадигм ускорилось и в России после крушения Советского Союза.
В США, напротив, внешние потрясения были не столь важны, поскольку они вышли победителями из двух мировых и холодной войны. Вызов позитивному нарративу был брошен по другим причинам. Особенно важным представляется приток в американское высшее образование после Второй мировой войны большого числа молодых историков, представителей среднего класса, которые не разделяли англосаксонскую (и часто аристократическую) культуру университетских преподавателей, игравших первую скрипку при составлении учебников истории в XIX и большей части XX века. Консервативные историки из высшего класса постепенно были вытеснены новыми учеными разного культурного и этнического происхождения. Они не доверяли господствующей версии событий, а также расовым и этническим предрассудкам старших коллег. Эта демографическая и интеллектуальная перемена помогла сместить главный акцент в учебниках на культурное многообразие и более критичную оценку истории Соединенных Штатов в целом.
Традиционный исторический нарратив также понес урон в 60-е гг. прошлого века из-за движения за гражданские права и Вьетнамской войны. Длительная борьба афроамериканцев разоблачила расизм, который все еще был силен, что заставило многих историков усомниться в том, действительно ли Америка привержена принципам равенства и справедливости. Проблема дискриминации вынудила многих авторов пересмотреть историю американских меньшинств и представить их скорее жертвами, чем бенефициарами социально-экономической и политической системы. Аналогичным образом горький урок Вьетнамской войны, а также травмирующий опыт Уотергейтского скандала и слушания дела об импичменте президента Ричарда Никсона во многом изменили отношение американцев к прошлому.
Растущее влияние постмодернизма и деконструктивизма в американских академических кругах – еще одно серьезное идеологическое течение. По мнению его теоретиков, интеллектуальные дебаты – всего лишь завуалированная борьба за политическую власть. Школа – это площадка, а учебник истории – инструмент гегемонистской социализации в поддержку мощных репрессивных групп в обществе. Общественное развенчание доминирующих социальных теорий (о том, что Соединенные Штаты – это демократия, обеспечивающая всем людям равные возможности и справедливость) необходимо в интересах угнетенных групп.
Неудивительно, что авторы учебников, профессиональное становление которых проходило в этот неспокойный период, часто отличались по своему мышлению и трактовке событий от авторов предыдущих поколений. Более того, в отличие от великодержавных традиций России, децентрализованная система образования в Америке не позволяла государству вмешиваться в процесс этих глубоких культурных преобразований. Мультикультурализм, возобладавший в мышлении либерально настроенных интеллектуалов, вызвал огонь критики. Консерваторы говорят о том, что он разрушает положительный образ страны, подчеркивая исторически незавидное положение многих меньшинств. Мультикультурализм также обвиняют в преуменьшении роли европейских идей и институтов в развитии американской демократии.
Россия: история как производная политики
Русские зачастую неправильно понимают, как американцы относятся к своему прошлому, но аналогичные заблуждения присущи и американцам. На Западе часто полагают, что Кремль всячески замалчивает болезненные факты советского прошлого, особенно эпохи сталинизма. Так, Анна Эпплбаум в книге «ГУЛАГ: история» (2003) делает вывод, что «бывшие коммунисты заинтересованы в сокрытии прошлого, так как оно пятном ложится на их репутацию и подрывает их влияние, хотя они лично не причастны к совершенным в прошлом злодеяниям». В этом утверждении есть доля правды, но оно не учитывает всей сложности культурной политики.
После распада Советского Союза, чему в немалой степени способствовало раскрытие правды об эпохе ленинизма и сталинизма при Михаиле Горбачёве, Российская Федерация столкнулась с проблемой разработки национальной идеи. Эта важная задача так и не была выполнена официальными лицами и пропагандой. Вместо этого президент Борис Ельцин проводил нерешительные параллели с историческими образами царской России, осуществляя фундаментальную, однако эпизодическую критику советского прошлого. Подобные робкие попытки так и не стали крупномасштабным и последовательным национальным проектом, который направил бы энергию и внимание общества на выработку твердой гражданской позиции и самоопределение. Точно так же новое государство не сумело должным образом почтить память жертв советского режима или предпринять решительные действия, направленные на национальное примирение.
Хотя Ельцин предпочитал не слишком распространяться на исторические темы, формальная легитимация его режима опиралась на идеологию либеральной демократии и антикоммунизма, пусть и хаотично сформулированную и непоследовательно проводимую в жизнь. Постсоветские учебники истории, написанные в условиях широкой культурной свободы, создавали нормативный и эмпирический фундамент для этой раздробленной идеологии. Либерализм в сочетании с умеренным или гражданским национализмом был основной философией. Книги этого периода довольно «просто» и прямолинейно излагали историю, избегая углубленного анализа, и чем-то напоминали повествование, которое было свойственно советским учебникам, изображавшим Коммунистическую партию как олицетворение исторической мудрости и тем самым оправдывавшим однопартийное правление.
Учебники постсоветского периода просто перевернули все вверх дном и представили советскую эпоху как исключительно негативное явление. Внутренняя логика обеспечивалась вынесением на нравственный суд читателей определенных фактов и событий, таких как массовые преступления сталинского режима и другие случаи грубого нарушения прав человека советской властью.
Типичный пример – «История отечества» Валерия Островского. Эта книга была издана в 1992 г. тиражом 3 млн экземпляров и стала одним из основополагающих текстов, сформулировавших идеологию и зарождавшееся самоопределение нового Российского государства.
С приходом к власти Владимира Путина на смену описанному нарративу стали приходить учебники, предлагавшие все более неоднозначную оценку событий прошлого. Это было следствием давления со стороны новой элиты, а также тех слоев российского общества, которые испытывали все большее разочарование в либеральных реформах и отвергали мрачную, чуть ли не мазохистскую трактовку советской истории, свойственную ельцинской эпохе. Хотя в новых учебниках также говорится о массовых репрессиях сталинизма, советское время не подвергается беспощадной критике. Преступления рассматриваются в более широком контексте социально-экономического, технического и культурного прогресса.
Популярный учебник с неоднозначной оценкой фактов и событий – «История отечества: XX – начало XXI века», изданный в 2003 г. Никитой Загладиным, Сергеем Козленко, Сергеем Минаковым и Юрием Петровым. В нем большое внимание уделяется вкладу СССР в науку, спорт, искусство и литературу, но главный акцент делается на социально-экономической модернизации. Оценивая советскую модель, авторы напоминают, что после экономической разрухи и ужасающих человеческих потерь двух мировых войн Россия восстановила экономический потенциал и превратилась в одну из двух мировых сверхдержав. Во многих отраслях научно-технического развития Советский Союз «обогнал своих конкурентов», включая Соединенные Штаты.
Авторы не обходят молчанием преступления сталинизма, однако само построение учебника, ставящего во главу угла идею модернизации, существенно ограничивает исследование нравственных границ поведения государства и внутренней ценности демократии. Концепция модернизации, служащая объединяющим началом, а также и определенной рамкой, делает центральным стержнем повествования Российское государство, а не массовые преступления или проблему демократии.
В начале 2007 г. Кремль стал проявлять особый интерес к исторической учебной литературе. Вышли новые пособия для учителей и учащихся: «Новейшая история России, 1945–2006: книга для учителя» (Александр Филиппов, 2008 г.), «История России, 1900–1945 годы: книга для учителя» (Александр Данилов, Александр Филиппов, 2009 г.), «История России, 1945–2008 годы», «История России», 1900–1945 годы» (Александр Данилов, Александр Филиппов, 2009 г.), «История России, 1945–2007 годы» (Александр Данилов, Анатолий Уткин, Александр Филиппов, 2008 г.).
В контексте откровенно антизападной и особенно антиамериканской риторики представление о целесообразности и даже безотлагательности защиты сталинизма во многом стало реакцией авторитарного режима на давление однополярного мира под руководством Вашингтона, расширение НАТО и «продвижение демократии». Эту гремучую смесь поджигало политизированное и все более решительное осуждение советской империи экс-республиками СССР и некоторыми бывшими сателлитами из Восточной Европы. Уязвимость Кремля перед внешними силами, а также мировая нестабильность и неопределенность формируют условия, в которых новые учебники излагают национальную историю с позиции «осажденной крепости». Так, характеризуя отношение Запада к России во времена Горбачёва, Ельцина и Путина как последовательное предательство, авторы подчеркивают, что Россия по-прежнему находится во враждебном окружении, и этим обосновывается сосредоточение политической и экономической власти в руках государства.
Хотя в учебниках, рекомендуемых официально, достаточно информации о жертвах сталинизма, авторы рационализируют репрессии как неизбежное следствие стремления защититься от враждебно настроенного внешнего мира. Избегая нравственного осуждения, они встают на позиции морального релятивизма, выдвигают аргументы в духе «сам такой» и советуют читателю не анализировать события прошлого с точки зрения современных этических принципов. Иными словами, цель – подготовка к войне с фашистской Германией – оправдывала средства – использование массового террора против советской элиты и общества. Сравнивая милитаризированную, репрессивную сталинскую систему с другими странами, Филиппов выдвигает аргумент, согласно которому «в аналогичных условиях серьезной угрозы… происходит эволюция государства… в направлении ограничения прав личности в пользу усиления государства, как это случилось в Соединенных Штатах после известных событий 11 сентября 2011 года». Сталин также сопоставляется с Отто фон Бисмарком, ведь подобно тому, как немецкий канцлер в XIX веке ковал унитарное государство «кровью и железом», Сталин был «беспощаден в стремлении укрепить советское государство». В «Истории России: 1945–2008 годы» говорится, что демократизация была возможна сразу после окончания войны; однако новые угрозы со стороны Запада заставили отложить «оттепель» на более позднее время.
Это спорное изложение истории содержало заметную политическую составляющую. Однако в 2009 г. Кремль начал менять курс. Постепенный отказ от державно-националистической идеологии «суверенной демократии» с ее менталитетом «крепости» можно объяснить внутриполитическими факторами. Пособие для учителя в изложении Филиппова подверглось резкой критике со стороны академической и широкой общественности, либеральных средств массовой информации. Руководство Русской православной церкви также решительно осудило сталинские репрессии, хотя оно, как правило, очень осторожно в публичных высказываниях относительно советского прошлого. Архиепископ Иларион, руководитель Отдела внешних церковных сношений РПЦ, в июне 2009 г. назвал Сталина духовно неполноценным чудовищем, создавшим страшную, бесчеловечную систему правления страной.
Мировой экономический кризис 2008 г. заставил российские власти отойти от практики использования истории в качестве инструмента государственной политики. Россия оказалась наиболее пострадавшей в экономическом отношении среди индустриальных стран, что поставило под сомнение долгосрочную жизнеспособность путинской модели модернизации, всецело зависящей от экспорта нефти и газа. Кремль пришел к выводу, что Россия не сможет конкурировать с другими державами, если не добьется постоянного роста западных инвестиций, торгового оборота и импорта передовых технологий. Между тем, разногласия в трактовке истории представляют собой «мину замедленного действия» в отношениях с Западом.
Смена администрации в Вашингтоне и отказ Барака Обамы от некоторых аспектов политики, питавших менталитет осажденной крепости, подкрепило намерение исторической «разрядки». В сентябре 2009 г. Дмитрий Медведев в статье под названием «Россия, вперед!» впервые публично выступил с осуждением сталинизма: «Две величайшие модернизации в истории страны, осуществленные соответственно Петром Первым и советской властью, обернулись разрухой, унижением и гибелью миллионов наших соотечественников».
Путин также частично осудил «массовые преступления» Сталина, объясняя, что достичь экономического развития посредством репрессий «невозможно», да и «неприемлемо». И Медведев, и Путин употребляли в отношении советской системы понятие «тоталитарная», хотя в свое время это определение отвергалось как идеологический штамп, который Запад применял для очернения Советского Союза, а значит, и России. Использование термина «тоталитаризм» важно, поскольку ставит высказывания Кремля в один ряд с антикоммунистическим либерализмом эпохи Ельцина, когда этот термин стал политически узаконенным ярлыком, а также с языком критиков России в странах, которые были частью Советского Союза или советской сферы влияния в Восточной Европе.
Сегодня Кремль не только поощряет всю более открытую и беспристрастную информацию об эпохе сталинизма, но и переосмысление его сути и значения. В апреле 2010 г., когда отмечалось 70-летие трагедии в Катыни, где были казнены несколько тысяч представителей гражданской и военной элиты Польши, Москва присоединилась к траурным мероприятиям и осуждению преступлений. Находясь там с польским коллегой Дональдом Туском, Путин подчеркнул, что здесь в местах массовых захоронений лежат польские и советские граждане, то есть от сталинского режима пострадали все народы, в том числе и русский. Мысль об общих страданиях можно воспринимать как попытку изменить имидж России как виновника совершенных преступлений на образ одной из их жертв.
Эта тема была развита в статье Сергея Караганова, опубликованной в июле 2010 года. Он призвал преодолеть «проклятое наследие XX века» и устанавливать памятники жертвам сталинского террора, подобные тем, что появились в Катыни. В конце 2010 г. Дмитрий Медведев назначил Михаила Федотова, известного юриста и дипломата либеральных взглядов, главой Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Вскоре Федотов объявил, что предложит всеобъемлющую правительственную программу по официальной оценке сталинизма, а также меры по устранению пережитков этой эпохи – в частности, путем учреждения специального дня памяти жертв террора. Если этой программе дадут зеленый свет, она наполнит современным содержанием дебаты о прошлом, сделав главным объектом анализа не столько самого диктатора, сколько сталинскую политическую и социально-экономическую систему.
Работа над прошлым продолжается
Ницше говорил, что «любое прошлое достойно осуждения», благоговейное отношение к нему и усердное поддержание мифов порождает нефункциональное общество. Эта дилемма – игнорировать неприятное прошлое или осудить его – особенно актуальна для современной России. Во многих американских учебниках сегодня объективно исследуется несправедливость – в частности, ужасы рабства, репрессии в отношении индейцев и охота на ведьм в эпоху маккартизма. Наиболее вдумчивые авторы также признают, что реальность далека от идеалов, провозглашаемых Соединенными Штатами, особенно если учесть увеличивающееся социально-экономическое неравенство. В российских учебниках признаются преступления сталинизма, но пока не дается последовательная и однозначная оценка советской эпохи.
Трудно сказать, получат ли развитие более открытые дискуссии о советском прошлом. С учетом слабой демократической легитимации кремлевской власти настоятельная потребность накапливать символический капитал служит для находящихся у власти элит стимулом «санировать» прошлое, осудив преступления против человечности. Однако, как мы уже убедились, этот интерес вступает в противоречие с другими склонностями. Если Москва и дальше будет считать углубление экономических связей с Западом важным условием модернизации, возможно, она продолжит обсуждение прошлого, стремясь отчасти демонтировать барьеры, отделяющие Россию от соседей. Курс, вероятно, сохранится, если Кремль не будет опасаться усугубления внешних вызовов – в частности, новой волны «продвижения демократии», расширения НАТО и проецирования американской силы.
Используя державную риторику, российские элиты прежде всего руководствуются своекорыстным прагматизмом, а не объединяющими нормами и ценностями, выраженными в убедительных исторических образах. В отличие от советской системы нынешняя власть не способна навязывать обществу культурные ограничения. Режиму не удалось разработать последовательную великодержавную идеологию, вплетенную в драматический исторический контекст. Учебники истории, составленные по настоянию Кремля, были важной попыткой сконструировать такой нарратив на основе государственного национализма в «осажденной крепости». Попытка оказалась неудачной, но она может быть предпринята вновь – национал-консервативные настроения, направленные на возвеличивание империи в контексте геополитической борьбы с Западом, довольно сильны.
Шовинистическим трактовкам благоприятствует неспособность авторов российских учебников уделить должное внимание культурному и этническому многообразию страны, как это делается в Америке. В то же время официальные заявления Путина и Медведева о репрессиях советского периода затрудняют гегемонистское изложение истории, игнорирующее масштабы трагедии.
Режим, вероятно, так и не решил, какую часть советского наследия ему выгоднее защищать. До сих пор правящая элита была заинтересована в том, чтобы умерить критику сталинизма и не разрушать главный миф о Великой Отечественной войне, и ей необходимо в какой-то мере защищать советскую историю в целом, поскольку Россия – правопреемница СССР. Вместе с тем Кремлю нужно умело балансировать, показывая, что нынешнее Российское государство – законное выражение народной воли, а советская идеология и институты не могут и не должны воскрешаться. Так, даже в учебниках, противостоящих «очернению» Советского Союза, его упадок объясняется прежде всего системной патологией, но не действиями внешних сил. Несмотря на антизападный пафос, авторы официоза руководствовались оборонительным национализмом, но не реваншизмом и не неоимпериализмом.
Вполне вероятно, что общественные силы и какая-то часть элиты потребуют переоценки Советского Союза и, в частности, болезненной эпохи сталинизма, поскольку подлинная модернизация, основанная на гуманистических ценностях, потребует критического осмысления великодержавных образов и самоопределения, сформированных в советское время. Однако в отличие от эпохи Горбачёва и начала ельцинского времени, когда либеральная интеллигенция формировала значительную часть элиты и зачастую в союзе с Кремлем играла существенную роль в публичной дискуссии о советском прошлом, сегодня политический вес и численный состав этой группы значительно уменьшился.
В этой вязкой среде участь зарождающегося антисталинизма будет зависеть от прагматических соображений Кремля. Власть может отвернуться от исторической правды, если экономическое давление, мотивировавшее политическое руководство критиковать сталинизм, ослабеет, и необходимость модернизации, основанной на более энергичном гражданском обществе в России и западных инвестициях, станет менее очевидной. Хотя нынешний политический и экономический беспорядок на Западе уменьшает его привлекательность для России в качестве партнера, собственные экономические проблемы очень глубоки, и их трудно решить без регионального и глобального взаимодействия. Но еще больше зависит от того, как станет реагировать Кремль, если массовые антиправительственные демонстрации будут распространяться. В таком случае может появиться соблазн взять на вооружение агрессивный великодержавный нарратив с целью дискредитации оппозиции.
Характер американского исторического повествования также меняется. С точки зрения многих критиков, акцент на расовых и этнических отличиях (и осуждение репрессивной политики в отношении меньшинств) в конечном итоге приведет к политической балканизации Соединенных Штатов. Мыслящие обозреватели отвечают, что, если взвесить все «за» и «против», то упадок традиционной социализации компенсируется повышением способности американцев проверять действительностью утверждения о своей непревзойденной демократии. В некоторых учебниках для углубленного изучения истории легитимность американских институтов ставится под сомнение. Оценивая социально-экономические условия в США с 70-х годов прошлого века, учебник «Одна из многих» (Джон Фаражер и др., 2011 г.) подчеркивает, что процент американцев, живущих в бедности, и разрыв между богатыми и бедными значительно увеличился за последние три десятилетия. Но хотя авторы не рисуют картину убедительного прогресса Америки, они стремятся преподать важный урок – демократия должна постоянно обновляться ответственными элитами и просвещенными гражданами, которые принимают в ней деятельное участие. Что касается России, то у нее появится больше шансов двигаться к демократическому правлению, если уроки истории будут освещать этот путь к светлому будущему.
Томас Шерлок – профессор политологии в Военной академии США в Вест-Пойнте. Автор книги «Исторические нарративы в Советском Союзе и постсоветской России» (издательство Palgrave-McMillan).

Лабиринт, которого нет
Зачем и кому нужна война с Ираном
Резюме: Соскальзывание ситуации к войне или к эскалации напряженности вокруг Ирана не отвечает интересам России. Поэтому Москве важно не самоустраняться, но продолжать предотвращать силовой сценарий, насколько это в ее силах, играя ответственно и – главное – не по чужим нотам.
«Ядерное оружие – отнюдь не источник достоинства и силы. Обладание ядерным оружием отвратительно, аморально, позорно». Так говорил… нет, не какой-нибудь европейский пацифист. Так говорил действующий иранский президент Махмуд Ахмадинежад. Причем произнес он эти слова не тихо за чаем в Тегеране, а в Нью-Йорке, с трибуны Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), обращаясь к делегатам, представляющим более чем 180 стран – участниц Договора. Он был единственным главой государства на этой конференции, и поэтому – ирония протокола – первым получил слово.
Делегаты, впрочем, слушали его вполуха. А многие и вовсе покинули зал. Ирану верят все меньше и меньше – даже те, кто относится к нему без предубеждения. И по всему миру крепнет убеждение, что иранское руководство сделало ставку как раз на то, что оно клеймит позором с высоких трибун, – на обладание ядерным оружием, причем уже в ближайшей перспективе.
А раз так, то – Тегеран надо остановить. Любой ценой. И чем раньше, тем лучше. Потому что Иран с ядерным оружием (говорят) неприемлем с точки зрения ключевых игроков международных отношений.
Соскальзывая к войне
Последнее время я провел в дороге, чтобы разобраться: а что, действительно мир так напуган Ираном? Действительно верит в его чудодейственную ядерную способность? И готовится к войне?
Если не считать Кубы с Венесуэлой и примкнувшей к ним Никарагуа, явных сторонников у Тегерана негусто. В сухом остатке «блестящая иранская дипломатия» слабо сыграла в государствах Движения неприсоединения, едва-едва наскребывая считанные очки в свою пользу. А Латинская Америка все-таки далековато будет от зоны предполагаемых боевых действий.
Наиболее впечатлили меня соседи Ирана по Персидскому заливу. Там – прежде всего в Саудовской Аравии – антииранский настрой оказался даже сильнее, чем об этом можно было судить из Москвы. «Ату его!» – таков лейтмотив разговоров и с дипломатами, и с военными, и с политологами. И хотя некоторые авторитетные эксперты, в первую очередь принц Турки аль-Фейсал, утверждают, что «военные удары по Ирану будут совершенно контрпродуктивными», все же складывается впечатление, что большинство его соотечественников были бы только рады подобному развитию событий. К тому же исход войны в Ливии и происходящее в Сирии укрепляют их настрой на то, что Иран – как его ядерная инфраструктура, так и его политический режим – должен и может быть разрушен.
С другой стороны, в регионе войны с Ираном боятся. Она не выгодна Объединенным Арабским Эмиратам, которые, хотя и имеют нерешенный территориальный спор с Ираном, но выигрывают от торговли с ним, даже и в санкционные времена. Она не выгодна Оману, имеющему свой «контрольный пакет» в Ормузском проливе и проводящему самостоятельную внешнюю политику. Она страшит Бахрейн, чья правящая семья, держась на саудовских и американских штыках против воли шиитского большинства, может стать первой жертвой иранских «асимметричных действий». Она заставляет нервничать даже Катар, обычно нагло-самоуверенный, благодаря умелой конвертации сверхбогатства в политические инвестиции: не вполне комфортно будет прикрывать строительство объектов для чемпионата мира по футболу силами ПВО. Но против иранского блицкрига, да еще чужими руками, в Дохе, думаю, сегодня бы не возражали.
Если кто и посочувствует Тегерану, так это Европа. «Присоединятся ли европейские государства к войне против Ирана? – задавал вопрос на проходившей в начале февраля конференции в Брюсселе бывший генеральный директор МАГАТЭ швед Ханс Бликс. – К войне против Ирака несколько европейских правительств присоединились, чтобы ликвидировать оружие массового уничтожения, которого не было. Готовы ли европейцы сейчас присоединиться к пресечению иранских ядерно-оружейных намерений, которые, возможно, существуют, а возможно, и не существуют? Иран не осуществлял нападения против кого бы то ни было, и не похоже, что собирается на кого бы то ни было нападать, так что решения со стороны Совбеза ООН о применении силы против Ирана ожидать не следует». Европейская аудитория встречает слова Бликса аплодисментами. Но ответ на его вопрос: с кем ты, Европа? – повисает в воздухе. Другой европейский эксперт, венгерка Эржебет Роза, иранист по образованию, представляет блестящий анализ контрпродуктивности санкций ЕС против Ирана. Тоже аплодисменты. Между тем, санкции уже одобрены Евросоюзом.
Погрязшая в экономических проблемах Европа, не признаваясь в этом, изображая деятельную суету, по сути самоустраняется от решения иранского вопроса. Кивает на «мудрых» Бразилию с Турцией. Но Бразилия с уходом президента Лулы к иранской теме интерес теряет. Турция – да, вот она играет свою игру, и играет соло.
Вашингтон. Здесь я рассчитывал как минимум узнать о совместной кропотливой работе, которую в ближайшие месяцы могут проделать Россия и США, о пунктирной линии, намеченной «планом Лаврова»… Но вместо этого пришлось выслушать, что Россия опять недостаточно сотрудничает с Соединенными Штатами по Ирану. Что она «зациклилась» на отказе от новых санкций. Что время истекает. Что в предвыборный год администрация Обамы не сможет остановить «израильских друзей»… Будто бы на дворе были девяностые, и Москву учили вытаскивать каштаны из костра для Вашингтона, под разговор о борьбе с «общей угрозой». При этом никто из моих собеседников в Вашингтоне не хотел войны… или, может быть, втайне хотел, но, работая на нынешнюю администрацию, отчетливо понимал, что позволить себе войну с Ираном Обама не может.
Но в целом – фантасмагорическое впечатление. Израилю с его десятками (если не сотнями) ядерных боеголовок, с ракетами, пересекающими Европу, – ему все позволено. Развязывать кибервойну. Угрожать ударами. Выкрадывать, убивать ученых и инженеров. Потому что он – важный и неприкосновенный фактор в год выборов. Иран – враг. А если враг не сдается…
Наконец, иранские собеседники. Я спрашивал, зачем Иран провоцирует своих соседей и мировое сообщество. Хочет нарваться на военный конфликт? Но слышал в ответ, что Тегерану военный конфликт не выгоден, потому что он к нему не готов и чувствует себя увереннее, проецируя влияние невоенными средствами.
Я вернулся в Москву с ощущением, что мало кто в мире хочет войны против Ирана, – а если вынести за скобки Эр-Рияд, то, может быть, и никто не хочет. Даже в Израиле воинственно-голливудский Нетаньяху остается в меньшинстве. Никто не готов к войне, одни по причинам экономическим, другие – внутриполитическим, но нарастание турбулентности вокруг Ирана скоро достигнет той точки, когда мир соскользнет к войне.
В чем причина? В климате тотального недоверия. Если даже мы в России недоверчиво усмехаемся на высказывания иранского президента об «аморальности» обладания ядерным оружием, чего же тогда ожидать от американцев, на десятилетия ошпаренных захватом заложников в их посольстве в Тегеране? Иранцы не имеют ни малейших оснований доверять саудовцам, готовым втихаря «сдать» их израильтянам. Саудовцам, в свою очередь, мерещится наступление воинственных персов-шиитов на зону их традиционного влияния. Разрушено хрупкое доверие, которое существовало между иранцами и немцами; французы пестуют иранскую оппозицию, в ответ иранцы переходят на личности, включая личность жены французского президента. Апогей взаимного недоверия – отношения между Израилем и Ираном. Тегеран ставит под сомнение право Израиля на существование, в то же время Израиль фактически развязал тайную войну против Ирана, включая кибератаки, взрывы на ракетных шахтах, убийства ученых-ядерщиков.
Климат тотального недоверия заставит инстинктивно спустить курок, когда тот, кто напротив, всего-то полез в карман… А ведь у него могло и не быть там никакого ствола.
В этой ситуации нам, в Москве, надо бы ответить на три вопроса. Первый: чего хочет Иран? Второй: есть ли решение у иранского ядерного вопроса? Третий: как вести себя России?
Чего хочет Иран
У нынешнего руководства Ирана имеется четыре круга ключевых и связанных между собой стратегических задач, которые оно последовательно решает или пытается решать.
Первый круг связан с внутриполитической устойчивостью. До последнего времени Иран оставался одним из наиболее демократических государств Ближнего Востока. Парламентские и президентские выборы в сочетании со сложной многоуровневой системой принятия решений делают систему потенциально уязвимой. Иранское руководство уже прошло первый тест на уязвимость, когда малочисленная, но шумная оппозиция пыталась перехватить инициативу. Сегодня возможности оппозиции минимизированы. Но иранский режим крайне болезненно реагирует на подкармливание оппозиции извне. В этой связи у иранского руководства нет никаких причин начинать широкий диалог с Соединенными Штатами, поскольку те своей конечной целью (по крайней мере, как это видится в Тегеране) ставят демонтаж правящего режима, а раскручивание «ядерного вопроса» – это лишь метод для смены власти. Это не «паранойя мулл». У Ирана есть реальные основания для опасений. Этому их учит история: от свержения Мосаддыка до поддержки шаха. Такая ли уж разница для Ирана, кто сейчас правит в Белом доме? Как хорошо заметил (в New York Times) Билл Келлер, позицию в отношении Ирана в Вашингтоне как определял, так и будет определять коллективный «Обамни» (собирательный образ Обамы и его наиболее вероятного оппонента-республиканца Митта Ромни. – Ред.). Есть нюансы, но по большому счету курс на смену режима в Тегеране остается.
Второй круг связан с технологическим прогрессом и самодостаточностью. Иран хочет играть первую скрипку в мировых делах XXI века, а для этого считает принципиально важным обладать собственными передовыми технологиями, так как только они обеспечат независимость, самодостаточность и свободу рук (еще один исторический урок, который иранцы хорошо усвоили). Иран трудно входит в мир передовых ядерных, ракетно-космических и биотехнологий. При всех консолидирующих нацию технологических прорывах «самостоятельная работа» дается Ирану куда более тяжело, чем его руководители готовы признать. Скачок в ядерной области (достигнутый отчасти благодаря плохим пакистанским технологиям) сменяется мучениями и стагнацией. Отчасти ограничителем становится «вынужденная самодостаточность» в результате санкций. Иранцам уже не хватает собственных знаний. В отличие от Кубы, которая когда-то, будучи зажата в блокаде, подняла на мировой уровень свои биотехнологии и медицину, впитывая помощь Советского Союза, пока не обогнала его, Ирану не удается положиться здесь ни на кого. Бушерская АЭС – одно из считанных исключений, да и ту, по правде говоря, вряд ли можно назвать вершиной инженерной мысли. Скорее уж вершиной русской инженерной смекалки, когда отечественную конструкцию пришлось скрещивать с полуразбомбленным немецким «каркасом».
Третий круг связан с обеспечением внешней безопасности и минимизацией риска вооруженных конфликтов по периметру границ и извне. Это третий исторический урок, который выучил Тегеран, испытав на своей шкуре, что значит, когда врагу-соседу (саддамовскому Ираку) помогали все, а ему, Ирану, никто. Именно тогда, в середине 1980-х гг., когда Ирак безнаказанно применял оружие массового уничтожения (химическое) против Ирана, в глубинах иранского военно-политического руководства и возникла мысль о разработке собственного ядерного оружия.
Проблему с Ираком Иран парадоксальным образом решил благодаря американцам. Теперь их отношения вполне добрососедские, и ОМУ-аргументов не требуют. Но иранская дипломатия не смогла наладить столь же добрососедские отношения со всеми странами Персидского залива (возможно, за исключением Омана и Дубая из ОАЭ). Впрочем, по мнению иранцев, их главный сосед сегодня – Соединенные Штаты, представленный Пятым флотом и военными базами, не говоря уже о войсках в Афганистане и беспилотниках в Пакистане. То есть для Тегерана решение вопросов внешней безопасности жестко завязано на отношения с Вашингтоном.
Наконец, четвертый круг задач связан с экспансией влияния в регионе, утверждением в качестве региональной сверхдержавы и магнита притяжения для всех мусульман Ближнего Востока, вне зависимости от того, сунниты они или шииты. Так как весь регион находится в брожении, рано делать заключения, проиграл ли Иран в результате так называемой арабской весны или выиграл. Пока иранский «выигрыш», о котором любят многозначительно поговорить в Тегеране, представляется эфемерным. «Каирская улица», еще недавно, при Мубараке, завистливо глядевшая в сторону Тегерана и ему внимавшая, несмотря на религиозные различия, сегодня увлечена собственным национальным строительством. Влияние Ирана на арабские государства Ближнего Востока присутствует, но оно гораздо скромнее турецкого. И проецирование будущего влияния Тегерану удается куда хуже, чем Турции. «Выпадение» асадовской Сирии из зоны иранского влияния внешнеполитической катастрофой для Тегерана не будет, но болезненным ударом, конечно, станет. Иранское руководство предпочитает делать хорошую мину при скверной игре.
Не следует мешать Ирану решать первые три задачи. Как раз наоборот, нужно способствовать тому, чтобы он спокойно их решил. Это стабилизирует обстановку в регионе, сделает ее более предсказуемой. Что касается четвертой задачи, то иранские региональные амбиции должны быть вписаны в реальный (а не сочиненный Тегераном) ближневосточный контекст, и поощрять их не следует, так как это приведет к еще большему раскачиванию региональной лодки.
Решение иранского ядерного вопроса
Подозреваю, что многие читатели споткнулись, когда я только что говорил об иранской стратегической задаче по развитию технологического прогресса и самодостаточности. «А как же ядерное оружие? Ведь даже МАГАТЭ намекает, что Иран втайне работает над ним».
Попытаемся посмотреть на ситуацию, чтобы «суп – отдельно, а мухи – отдельно».
На сегодняшний день у Ирана отсутствует не только ядерное оружие (это знают все), но и политическое решение о его создании (такой гипотезы придерживается большинство международных экспертов, занимающихся ядерным нераспространением; хотя это и не аксиома). Иран не занимается тайно разработкой ядерного оружия (таково мое мнение, но с ним многие эксперты, особенно израильские и американские, будут спорить). Сегодня для обеспечения своих стратегических задач иранскому руководству ядерное оружие не нужно. Потому что среди этих задач нет задачи нападения на США, на Израиль и, главное, нет задачи самоубийства режима.
Действительно, на протяжении более двух десятилетий Иран рассматривал различные научно-прикладные аспекты, связанные с ядерным оружием (хотя началось все еще раньше, при шахе и под присмотром американцев). Не могу исключать, что лет 25 тому назад иранское руководство рассматривало вопрос о целесообразности тайного создания собственного ядерного арсенала. Возможно, определенные круги автономно возвращались к этому проекту и позже. При этом аргументы, предположу, могли быть различны и могли меняться в зависимости от региональной динамики. Например, соперничество с Саддамом Хусейном, который имел химическое и биологическое оружие и работал над ядерным оружием. А потом, когда Саддам пал: «Чем мы, персы, хуже Пакистана?». А в какой-то момент: «Ну неужели же мы, персы, глупее северных корейцев?».
Как бы то ни было, дело далеко не продвинулось.
Действительно, за Ираном тянутся «хвосты» лукавства, а то и прямой лжи во взаимоотношениях с МАГАТЭ. Сколько бы ни ворчал Тегеран на МАГАТЭ, на гендиректора Юкия Амано (даже если на то есть веские причины), он должен продолжить сотрудничество с агентством, чтобы все сомнения прояснить, а где-то и честно покаяться в прошлых прегрешениях (как бы это ни ущемляло гипертрофированное у иранцев чувство собственного достоинства).
Но, с другой стороны, – кто без греха? Подобное «лукавство» в разные годы было замечено и за некоторыми другими членами международного сообщества – например, за Южной Кореей. Но Сеул грамотно отчитался о «работе над ошибками», и теперь этот случай помнят разве что узкие специалисты. Бразилия упорно отказывается ввести у себя Дополнительный протокол к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ, что по меньшей мере странно; но в регионе царит совершенно иной климат, и недоверия в отношении намерений Бразилии (справедливо) не возникает.
Итак, первым шагом к решению иранского ядерного вопроса должно быть широкое, без пререканий сотрудничество Ирана с МАГАТЭ. Иран время от времени делает полушаги (в августе прошлого года, в январе нынешнего). Это шаги в правильном направлении, но их недостаточно для того, чтобы все мировое сообщество, включая Россию, смогло убедиться, что все иранские прегрешения остались в прошлом. Иран должен ратифицировать Дополнительный протокол, а до этого добровольно пойти на исполнение его положений, как если бы он был ратифицирован. Частично и выборочно иранцы, кстати, так и действуют, теперь надо уйти от выборочности.
Иранские коллеги и публично, и особенно в частных разговорах сетуют на то, что МАГАТЭ «раздевает» их перед американской и британской разведкой и что в конечном итоге все данные сливаются Израилю. Это Тегеран унижает. Но, помимо эмоционального негатива, речь ведь идет еще и о том, что в условиях, когда Израиль прямо заявляет о вероятности ударов по иранским ядерным объектам, иранцам просто опасно вот так «раздеваться».
Многие упрекают Иран в том, что он сначала строит ядерные объекты, а лишь потом сообщает о них в МАГАТЭ. Но, мне кажется, можно понять, почему Иран так делает.
Можно ли выйти из этого противоречия? Да. И Россия может сыграть здесь ведущую роль. Ниже я вернусь к этому.
Вторым шагом должно стать снятие требований к Ирану отказаться от обогащения урана. Это нереалистично, да и не нужно. Если Тегеран не нарушает своих обязательств по ДНЯО (а в этом остаются сомнения, как минимум в «исторической» части), то не следует добиваться от него того, что не является и не будет в обозримой перспективе международной нормой. Экономически Иран может действовать не вполне разумно, но политически его стремление к самодостаточности не уважить нельзя. На это мне указывают многие коллеги из развивающихся государств, прежде всего из Египта. Самоограничения в части отказа от уранового обогащения были бы, с моей точки зрения, правильным и важным шагом, но они могут быть только добровольными.
Третьим шагом должна стать резолюция Совета Безопасности ООН о недопустимости применения силы или угрозы применения силы (включая и кибератаки) против любых атомных объектов Ближнего Востока, находящихся под гарантиями МАГАТЭ либо продемонстрированных инспекторам МАГАТЭ по их запросу, как построенных, так и находящихся в процессе строительства, а также против персонала этих объектов. Эта резолюция должна быть принята до начала работы международной Конференции по вопросам зоны, свободной от ОМУ (ЗСОМУ) на Ближнем Востоке, которая запланирована на конец текущего года в Хельсинки. Иначе участие Ирана в этой важной конференции окажется под вопросом: в самом деле, нормальна ли ситуация, когда твоя ядерная промышленность, твои ученые находятся под постоянным прицелом и угрозой атаки, а тебя как ни в чем не бывало приглашают за стол переговоров?
Четвертым шагом должно быть добровольное решение Ирана о временном замораживании уровня обогащения урана, а также замораживании на нынешнем уровне количества центрифуг, отказ от введения в каскады новых центрифуг, создания новых каскадов, запуска вращающихся (но пока без газа) центрифуг. О важности подобного шага говорил, в частности, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, когда встречался с членами Международного клуба «Триалог» под эгидой ПИР-Центра. Такой шаг станет мерой укрепления доверия, но не юридически обязывающей нормой.
Пятым шагом должно быть решение Совета Безопасности ООН о временном приостановлении действия санкций в отношении Ирана, при условии удовлетворительного сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ (такой подход предлагают сейчас некоторые европейские эксперты); а при закрытии вопросов «иранского файла» МАГАТЭ – и полная отмена санкций.
Шестым шагом должно быть формирование климата доверия в регионе в вопросах ядерной безопасности. Коллеги из Кувейта, других государств Персидского залива высказывали мне опасения по поводу надежности и безопасности Бушерской АЭС, построенной при участии России. Они предлагают провести стресс-тесты станции с участием наблюдателей из заинтересованных сопредельных государств. Ирану и России следует ответить на такие запросы позитивно и доброжелательно.
Наконец, седьмым шагом должно стать начало регионального ближневосточного диалога по всему комплексу ядерных вопросов: от формирования зоны, свободной от ядерного и других видов ОМУ на Ближнем Востоке (с участием всех арабских государств, Ирана и Израиля) до формирования «ближневосточного МАГАТЭ» по примеру Евратома. «Увертюрой» этого процесса имеет шанс стать конференция по ЗСОМУ в Хельсинки – конечно, если ее рассматривать не как единоразовое собрание, но как начало долгого процесса восстановления доверия, открытости и диалога.
Не надо мешать Ирану развивать ядерную энергетику. Тегеран все равно замкнет ядерный топливный цикл (ЯТЦ), даже после израильских бомбардировок и парочки уничтоженных ядерных объектов. Только после бомбардировок он наверняка проведет корректировку своей стратегической калькуляции. Как точно заметил уже цитировавшийся мной Билл Келлер, отвечая на статью Мэтью Крёнига в Foreign Affairs, «бомбить Иран – это лучший способ обеспечить именно то, что мы пытаемся предотвратить».
Надо учесть и попытаться научиться уважать стратегические задачи Ирана: три из четырех не создают проблем ни для региона, ни для международного сообщества в целом.
Если стратегические задачи Ирана хотя бы отчасти будут учтены и уважены, у Тегерана не будет мотивации переключать свой ЯТЦ на военные рельсы. А жить с иранским ЯТЦ всем его соседям – включая и Россию – нужно будет просто привыкнуть; ведь живем же мы по соседству с японским ЯТЦ, при этом некоторые – даже не имея мирного договора. И ведь если и боимся, так новой Фукусимы, а не ядерных бомб.
Как вести себя России
Начну с «наивного» вопроса: а чем для России плох Иран с ядерным оружием? На этот вопрос важно ответить сразу, чтобы мои последующие выводы и идеи были понятны.
С одной стороны, может показаться, что Иран, создай он ядерное оружие, интересам России действительно не угрожает. Да, иранские ракеты не долетят до Парижа, зато долетят до Сочи. Но не на Сочи же они будут нацелены. Далее, на Ближнем Востоке установится система регионального сдерживания по линии Израиль–Иран. Сдерживание работало в самые худшие дни холодной войны в отношениях между СССР и США; работает между Индией и Пакистаном; будет работать и на Ближнем Востоке, может быть, даже облегчит путь Израилю и Ирану к взаимным договоренностям по контролю над вооружениями (что сегодня немыслимо). Наконец, последние пять лет Россия живет бок о бок с ядерной КНДР – сначала было как-то некомфортно (особенно Приморью, где пришлось вспомнить про учения гражданской обороны), но теперь уже привычно. А ведь уровень ответственности Тегерана будет, безусловно, выше, чем северокорейского режима, и никаким другим игрокам (в отличие от безответственного, нестабильного Пакистана) Иран свои ядерные знания и технологии продавать не будет.
Так-то оно так. Но я придерживаюсь иного взгляда. Появление у Ирана ядерного оружия взорвет ДНЯО, который, по моему глубокому убеждению, продолжает оставаться краеугольным камнем международной безопасности. Благодаря ДНЯО Москва имеет исключительное положение в качестве члена «ядерной пятерки».
Я не разделяю мнения тех экспертов, которые предвидят, будто в случае появления в Иране ядерного оружия его вскоре создадут Саудовская Аравия или Турция. Проблема будет хуже: сам ДНЯО обесценится и перестанет существовать. И дело не в том, что за Ираном непременно последует Саудовская Аравия, но в том, что в ядерных вопросах по всему миру воцарится хаос. А вот это – против жизненных интересов России.
России трудно с Ираном. Ни российские политики, ни крупный российский бизнес не стремятся плотно работать с Ираном: разговоры о «близких отношениях» двух стран – во многом миф. При выборе системы координат «свой»–«чужой» и российский дипломат, и российский бизнесмен интуитивно присвоят Ирану код «чужой». В лучшем случае: «не-свой».
Иран не раз обманывал Россию, умалчивая о своих ядерных объектах и исследованиях двойного характера: так можно лукавить с врагом или конкурентом, но не с тем, кого ты называешь партнером и другом. Иранцы презрительно скривились, когда Россия пригласила их сотрудничать по обогащению урана в международном центре в Ангарске. Иранцы сначала согласились, а потом отказались от предложения по топливу для Тегеранского исследовательского реактора, изначально выработанного при активном вовлечении России.
Россия не раз подводила Иран: затягивала строительство Бушерской АЭС, не продала современные противоракетные системы. Не встретила Тегеран с распростертыми объятиями, когда он запросился в ШОС. Да что уж там: Россия голосовала за все четыре санкционные резолюции Совета Безопасности ООН по Ирану.
России далеко не всегда понятно, как и кем принимаются решения в Тегеране (даже после многочисленных стараний разобраться). Ирану мерещится, что Москва «сливает» часть полученной от него конфиденциальной информации в Вашингтон и Тель-Авив.
В последнее время Москва и Тегеран неоднократно обменивались колкостями. Но это не помешало России сохранить хладнокровие, выступить с «планом Лаврова» по Ирану, основанном на «поэтапности и взаимности». Наверное, иранцам было трудно в полной мере оценить усилия России, так как вскоре – в ноябре прошлого года – последовал доклад МАГАТЭ, принятие которого, как рассчитывали в Тегеране, Москва просто обязана была заблокировать.
Трудно. Но России все же следует, наступив на горло предубеждениям, посмотреть на сегодняшний Иран как на своего серьезного и долгосрочного партнера в регионе – не на декларативном уровне, а на уровне действий. Такие попытки периодически происходят, но то и дело прерываются из-за, по-моему, ложной боязни обидеть американцев. По-моему, Россия уже и так максимально плотно и конструктивно сотрудничает с Соединенными Штатами по Ирану и его ядерной программе. Сворачивать это сотрудничество не надо; наоборот, пришла пора усилить его созданием двусторонней рабочей группы «креативщиков» с обеих сторон по поиску сценариев выхода из лабиринта (или того, что выглядит как лабиринт).
Но когда разговор от важного обсуждения ядерных объектов типа Фордо как-то сам собой сбивается на требования отхлестать Иран за «поддержку терроризма», а затем и вовсе скатывается к пожеланиям видеть в Тегеране «другой режим», – думаю, в таких обсуждениях Москве с Вашингтоном не по пути.
Когда западные партнеры России по переговорному процессу с Ираном (пока еще не публично) радуются гибели иранских ученых-ядерщиков, с гордостью говорят о качестве (мы доподлинно не знаем, кем осуществленных) кибератак против иранских ядерных объектов, и тогда России с ними, думаю, не по пути.
Когда, с одной стороны, приглашают Иран к диалогу «без предварительных условий», а другой, советуют Москве подумать насчет новой резолюции Совета Безопасности, где фигурировали бы меры против Ирана по Главе 7 Устава ООН, – думаю, тут России следует и вовсе решительно отойти в сторону. В условиях нагнетания турбулентности, имеющего целью психологическое давление на Тегеран, России стоило бы подумать не только о том, что все возможные санкции по пресечению доступа Тегерана к ядерным и ракетным технологиям уже приняты и действуют, но и о том, на пользу ли все эти санкции в нынешних конкретных условиях. Ни США, ни Евросоюз не вняли настоятельным пожеланиям России не вводить санкции вне Совета Безопасности ООН. Их право. Право России – пересмотреть свой подход к ныне действующим санкциям Совета Безопасности ООН, и если окажется, что часть из них исчерпала себя, действовать в Совете Безопасности ООН соответственно.
К слову, в свое время в Нью-Йорке санкции прописывались таким образом, что не затрагивали права России на поставки Ирану оборонительных комплексов, в частности, С-300 или С-400. Президент Медведев своим указом решил, что Россия должна воздержаться от таких поставок, что и было сделано. В условиях, когда Ирану прямо угрожают ракетными ударами, не пришло ли время такие поставки осуществить, да и вообще помочь Тегерану укрепить обороноспособность (при условии, что эти поставки не будут передаваться третьей стороне)?
В свое время Россия уклонилась от заявки Ирана на вступление в ШОС; причем было принято решение, не позволяющее принимать в эту организацию государства, находящиеся под санкциями Совета Безопасности ООН. Эту временную норму можно было бы пересмотреть. У России, как и у других действующих членов ШОС, есть много общих тем с Ираном: это и энергетическая безопасность, и борьба с наркотрафиком, и стабилизация ситуации в Афганистане после ухода оттуда НАТО. Конечно, прежде чем инициировать этот процесс, России следовало бы понять настроение Ирана по ряду нерешенных двусторонних экономических вопросов, в частности, по Каспию.
Наконец, российским экспертам, как неправительственным, так и правительственным, стоило бы собраться вместе, чтобы – пока неформально – обсудить вопрос, а не устарел ли механизм «шестерки», в рамках которого сейчас в основном обсуждается иранская ядерная программа, да и другие вопросы по Ирану. Ведь даже от американских партнеров часто приходится слышать: «Давайте решать этот вопрос (по Ирану) без участия европейцев, от них проку мало, и они ни на что не влияют». Так что с американцами Россия могла бы продолжать обмены по двусторонней линии, как это сейчас успешно и делается.
Многосторонний подход к решению иранского ядерного вопроса важен. Сейчас он более важен, чем когда-либо. Просто в мире есть ведь и другие силы, у которых много конструктивных идей и которые могут быть лучше услышаны в Тегеране.
К примеру, в переговорах с Ираном вместо «шестерки» можно было бы использовать уже имеющийся формат БРИКС. Здесь, помимо России, присутствуют представленный, как и она, в «шестерке» Китай, ранее участвовавшая в диалоге с Ираном Бразилия (если Дилма Русеф не окончательно утратила интерес к этой теме), и поддерживающая плотный диалог с Ираном Южная Африка. Индия в последнее время является оппонентом Ирана, но в этом качестве она и может быть полезна – особенно учитывая ее близкие связи с США в сочетании с традиционно взвешенной линией в международных делах.
Москве следует плотнее, чем сейчас, вести двусторонний диалог с Пекином по иранской проблематике. При этом надо помнить прописную истину, что у КНР – собственные интересы, которые могут и не совпадать с российскими. Так, Пекин успешно диверсифицирует источники импорта углеводородов, и его энергетические потребности в Иране скоро могут быть замещены поставками из Саудовской Аравии. Для КНР главное направление на ближайшее десятилетие – никакой не Ближний Восток, а продвижение в Южно-Китайское море и в Юго-Восточную Азию, а может, и на Тайвань. Тут везде мешают США – при нынешней администрации больше, чем когда-либо. Что делать? Затянуть Соединенные Штаты в длительную сухопутную военную операцию, из которой выбраться сложнее, чем из Ирака или Афганистана. Так что поддержка Китаем Ирана, столь очевидная сегодня, не является константой. С другой стороны, диалог России и КНР по Ирану, не исключено, помог бы скорректировать такую точку зрения в Пекине или как минимум удостовериться в том, что она не является доминирующей, как не являются доминирующими в Москве взгляды тех, для кого «война в Иране» – приятный синоним роста цен на нефть.
Не исключаю, что более продуктивной, чем БРИКС, могла бы стать группа по диалогу с Ираном, которую создали бы Россия и Турция. В нее могли бы войти те же Бразилия, Южная Африка, а также такие авторитетные (в мире и в Иране) игроки в вопросах ядерного нераспространения, как Казахстан, Индонезия, а также (но здесь большой знак вопроса) Египет.
Конечно, надо быть реалистами и отдавать себе отчет в том, что такая группа не принесет Ирану «на блюдечке» главное, что нужно сейчас Тегерану: гарантии безопасности со стороны Вашингтона (включая отказ от применения силы и вмешательства во внутренние дела). Однако при активном участии России она могла бы предоставить как минимум эффективное обеспечение первого, самого срочного шага по решению иранского ядерного вопроса. А именно – прозрачности ядерной программы, уверенности, что в сегодняшнем виде она не направлена на оружейные цели, и при этом уважительного отношения к той информации, которая будет получена от Ирана в рамках такого «прозрачного» подхода. Каждая из названных стран имеет авторитетных технических экспертов, которые могли бы получить беспрецедентный доступ к объектам ядерной инфраструктуры Ирана – даже тем, прежде всего строящимся, которые Иран никому показывать не обязан. Ни в коей мере не замена МАГАТЭ, но подспорье для МАГАТЭ на тот переходный период, пока доверие полностью не восстановлено, – так я вижу работу группы экспертов.
Недавно за ужином в Эр-Рияде иранская оппозиционерка, проживающая в Лос-Анджелесе, бросила мне: «России должно быть стыдно, что она поддерживает прогнивший режим в моей стране». Сидевшие рядом саудовцы и кувейтяне оживленно закивали. Я не выдержал: «России не должно быть стыдно. Хотя бы потому, что она столько сделала и делает, чтобы бомбы не падали на головы ваших соотечественников».
Цинично говоря, Россию могла бы устраивать нынешняя ситуация вокруг Ирана – «ни мира, ни войны». Но это только если знать, что у всех игроков стальные нервы, и никто не сорвется. Сегодня есть противоположное ощущение. Один удар по Араку или пррименение новых типов глубоко проникающего высокоточного оружия в районе Кума – и следующим шагом Иран… нет, не обязательно бьет по Тель-Авиву или высаживается на Бахрейне. И даже не перекрывает Ормузский пролив. Он выходит из ДНЯО. Из договора, который его не защитил. Ответственность за этот сценарий будет лежать и на России, одном из трех депозитариев – хранителей ДНЯО.
Соскальзывание ситуации к войне ли, к эскалации напряженности вокруг Ирана не отвечает интересам России. Поэтому России важно не самоустраняться, но продолжать предотвращать силовой сценарий, насколько это в ее силах, играя ответственно и – главное – не по чужим нотам.
В.А. Орлов – президент ПИР-Центра (Центра политических исследований России), член Международной академии по ядерной энергии, член Общественного совета при Министерстве обороны РФ.

Уравновесить Восток, обновить Запад
Национальная стратегия США в век потрясений
Резюме: Соединенным Штатам необходимо решить двойную задачу: сыграть роль проводника и гаранта более широкого и прочного единения Запада с включением в него России, а также выполнить функцию миротворца, сохраняющего равновесие между крупнейшими державами Востока.
Книга «Стратегический план: Америка и кризис мировой власти», на которой основан данный очерк, будет издана этой зимой издательством Basic Books. Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 1 за 2012 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Главная задача Соединенных Штатов на ближайшие десятилетия – это восстановление жизнеспособности идеи «Большого Запада» при одновременном продвижении ее и поддержании сложного равновесия на Востоке с учетом глобального усиления Китая. Если действия США по расширению Запада от Северной Америки и Европы в сторону Евразии (с последующим включением Турции и России) до самой Японии и Южной Кореи увенчаются успехом, это будет способствовать росту привлекательности главных ценностей Запада для других культур и постепенному возникновению всеобщей демократической культуры.
В то же время Соединенным Штатам следует продолжить взаимодействие с экономически динамичным, но потенциально конфликтным Востоком. Если США и Китай сумеют договориться по широкому спектру вопросов, перспективы стабильности в Азии значительно возрастут. Особенно если Америка добьется искреннего примирения между Китаем и Японией и смягчит растущее соперничество между КНР и Индией.
Чтобы успешно взаимодействовать как с западной, так и с восточной частью такого стратегически важного континента, как Евразия, Соединенным Штатам необходимо решить двойную задачу: сыграть роль проводника и гаранта более широкого и прочного единения Запада, а также выполнить функцию миротворца, сохраняющего равновесие между крупнейшими державами Востока. Обе эти миссии Америки чрезвычайно важны и взаимно дополняют друг друга. Но чтобы преуспеть на обоих направлениях и заслужить всеобщее доверие, США должны продемонстрировать наличие воли к внутреннему обновлению. Американцам необходимо уделять больше внимания наиболее деликатным аспектам национального могущества, таким как инновационная деятельность, образование, баланс силы и дипломатии и качество политического руководства.
Большой Запад
Чтобы справиться с ролью проводника и гаранта идеи обновленного Запада, Соединенным Штатам следует поддерживать тесные связи с Европой, неукоснительно блюсти обязательства перед НАТО и управлять совместно с европейцами процессом постепенного вовлечения Турции и реально демократизирующейся России в западное сообщество. Активное укрепление европейской безопасности поможет Вашингтону обеспечить геополитическую релевантность Запада. Важно способствовать более глубокому сплочению в рамках Европейского союза: тесное сотрудничество между Францией, Германией и Великобританией – центральным политическим, экономическим и военным эшелоном Старого Света – должно быть продолжено и расширено.
Взаимодействие с Россией при сохранении тесного единства западного сообщества потребует конструктивных усилий со стороны Парижа, Берлина и Варшавы в деле содействия продолжающемуся, но все еще эфемерному примирению Польши и России. При поддержке Евросоюза российско-польское примирение могло бы по примеру немецко-польского стать действительно всеобъемлющим. Тем более что оба процесса должны способствовать укреплению стабильности Европы. Но для того чтобы российско-польское примирение углублялось, процесс должен перейти с межправительственного на общественный уровень посредством расширения гуманитарных связей и воплощения в жизнь совместных инициатив в области образования. Взаимовыгодные компромиссы между правительствами, которые не подкрепляются фундаментальными изменениями в установках и сознании простых граждан, не будут прочными и долговременными. Моделью могли бы послужить франко-германские отношения после окончания Второй мировой войны. Инициатива, рожденная в высших политических сферах Парижа и Бонна, успешно прижилась в обществе и на культурно-бытовом уровне.
По мере того как Соединенные Штаты и Европа стремятся расширить рамки Запада, России самой следует эволюционировать в сторону налаживания более тесных связей с ЕС. Ее политическому руководству придется признать тот факт, что будущее страны весьма туманно, пока она остается сравнительно пустынным и неосвоенным пространством между богатым Западом и динамично развивающимся Востоком. Ситуация не изменится, даже если России удастся заманить некоторые страны Центральной Азии в Евразийский союз, который является новой эксцентричной идеей премьер-министра Владимира Путина. Кроме того, хотя значительная часть российской общественности приветствует членство в ЕС, опережая в этом свое правительство, большинство россиян не отдают себе отчета в том, насколько строги многие критерии членства в Европейском союзе, особенно по части демократических преобразований.
Сближение Евросоюза и России, скорее всего, будет периодически буксовать, затем снова двигаться вперед, развиваясь поэтапно и включая переходные договоренности. По возможности оно должно происходить на общественном, экономическом, политическом и оборонном уровнях. Можно рассмотреть и ряд других возможностей в сфере взаимодействия обществ, сближения правовых и конституционных систем, совместных военных учений НАТО и российских Вооруженных сил, а также создания новых институтов для координации политики в рамках постоянно расширяющегося Запада. Все это подготовит Россию к будущему полноправному членству в ЕС.
Вполне реалистично представить себе расширение Запада после 2025 года. В течение следующих нескольких десятилетий Россия могла бы вступить на путь всеобъемлющих демократических преобразований на основе законов, совместимых со стандартами Европейского союза и НАТО. Турция тем временем присоединилась бы к Евросоюзу, и обе страны начали бы интеграцию в трансатлантическое сообщество. Но еще до того, как это случится, вполне возможно постоянно углубляющееся геополитическое объединение по интересам с участием США, Европы (включая Турцию) и России. Поскольку любому движению Москвы в сторону Запада, скорее всего, будут предшествовать более тесные связи между ЕС и Украиной, в Киеве, древней столицы Киевской Руси, целесообразно разместить коллективный консультативный орган (или как минимум поначалу расширенный Совет Европы). Это было бы символично в свете обновления и расширения Запада, а также его новой динамики.
Если Соединенные Штаты не будут способствовать воплощению идеи расширенного Запада, это приведет к пагубным последствиям. Возродится взаимная историческая неприязнь, возникнут новые конфликты интересов, образуются недальновидные конкурирующие друг с другом партнерства. Россия попытается эксплуатировать свои энергетические активы и, воодушевленная разобщенностью Запада, быстро поглотить Украину. Пробуждение в ней имперских амбиций и инстинктов приведет к еще большему хаосу в мире. В поисках торговых и коммерческих выгод и при бездействии Евросоюза отдельные европейские государства могут попытаться заключить двусторонние соглашения с Россией. Не исключен сценарий, при котором своекорыстные экономические интересы Германии или Италии сподвигнут их, например, на развитие особых отношений с Россией. В этом случае Франция, скорее всего, сблизится с Великобританией, и обе страны начнут искоса смотреть на Германию, в то время как Польша и страны Балтии в отчаянии бросятся к США за дополнительными гарантиями безопасности. В итоге мы получим не новый и более сильный Запад, а все более раскалывающийся и пессимистично настроенный западный лагерь.
Восток – дело тонкое
Такой разобщенный Запад не смог бы соперничать с Китаем за глобальное лидерство. До сих пор Китай не предъявил миру идеологию, которая примирила бы всех с его свершениями последних лет. А Соединенные Штаты стараются не ставить идеологию во главу угла в отношениях с КНР. Вашингтон и Пекин поступают мудро, приняв концепцию «конструктивного партнерства» в мировой политике. Хотя США критикуют нарушения прав человека в Китае, они избегают решительного осуждения социально-экономического устройства в целом.
Но если Соединенные Штаты, обеспокоенные чрезмерно самоуверенным поведением Китая, встанут на путь обострения политического противостояния с ним, высока вероятность того, что обе страны ввяжутся в опасный для них обеих идеологический конфликт. Вашингтон станет обличать Пекин за приверженность тирании и подрыв экономического благополучия США. Китай истолкует это как угрозу политическому строю КНР и, возможно, как стремление расколоть страну. Он, в свою очередь, не упустит случая напомнить об избавлении от западной зависимости, апеллируя к тем странам развивающегося мира, которые уже сделали исторический выбор в пользу крайне враждебного отношения к Западу в целом и к Соединенным Штатам в частности. Подобный сценарий контрпродуктивен, он повредил бы интересам обеих стран. Следовательно, разумный эгоизм побуждает Америку и Китай проявлять идеологическую сдержанность, не поддаваться искушению акцентировать различие социально-экономических систем и демонизировать друг друга.
США следует взять на себя в Азии роль гаранта регионального равновесия, которую Великобритания играла в свое время в европейской политике XIX и начала XX века. Соединенные Штаты могут и должны помочь азиатским странам не ввязываться в борьбу за доминирующее положение в регионе, выполняя функцию посредника в урегулировании конфликтов и сглаживая дисбаланс сил между потенциальными соперниками. Вашингтон при этом должен уважать особую историческую и геополитическую роль Китая в поддержании стабильности в материковой части Дальнего Востока. Начало диалога с КНР о стабильности в регионе помогло бы снизить вероятность не только американо-китайских конфликтов, но и просчетов в отношениях между Китаем и Японией, Китаем и Индией и в какой-то степени – недопонимания между КНР и Россией относительно ресурсов и независимого статуса стран Центральной Азии. Таким образом, уравновешивающее влияние США в Азии в конечном итоге отвечает также и интересам Китая.
В то же время Соединенным Штатам необходимо признать, что стабильность в Азии больше не может обеспечиваться неазиатской державой – тем более посредством военного вмешательства США. Такие усилия не просто могут оказаться контрпродуктивными, но и способны ввергнуть Вашингтон в дорогостоящий римейк военных сценариев прошлого. Потенциально это чревато даже повторением трагических событий ХХ века в Европе. Если США вступят в союз с Индией (или, что менее вероятно, с Вьетнамом) против Китая или будут способствовать антикитайской милитаризации Японии, подобные действия грозят опасной эскалацией взаимной неприязни. В XXI веке геополитическое равновесие на азиатском континенте не может зависеть от внешних военных союзов с неазиатскими державами.
Руководящим принципом политики в Азии должно быть сохранение американских обязательств в отношении Японии и Южной Кореи, но не ценой втягивания в континентальную войну между азиатскими державами. Соединенные Штаты укрепляли свои позиции в этих странах более 50 лет, и в случае возникновения каких-либо сомнений по поводу неизменности долговременных обязательств Вашингтона независимость и уверенность этих стран, равно как и роль Америки в Тихоокеанском регионе, были бы сильно поколеблены.
Особенно важны отношения между США и Японией. Они должны служить трамплином для слаженных усилий по развитию сотрудничества в треугольнике Соединенные Штаты – Япония – Китай. Подобный треугольник стал бы жизнеспособной структурой, способной ослабить стратегическую озабоченность стран Азии в связи с растущим присутствием КНР. Также как политическая стабильность в Европе после Второй мировой войны была бы невозможна без постепенного расширения процесса примирения между Германией и Францией, Германией и Польшей и другими странами, так и сознательная подпитка углубляющихся отношений между Китаем и Японией может способствовать стабилизации на Дальнем Востоке.
Примирение между Пекином и Токио в контексте трехстороннего сотрудничества позволило бы обогатить и укрепить более полноценное американо-китайское сотрудничество. Китай хорошо осведомлен о нерушимости обязательств США перед Японией, а также о том, что связи между двумя странами искренни и глубоки и безопасность Японии напрямую зависит от Соединенных Штатов. Понимая, что конфликт с КНР был бы пагубен для обеих сторон, Токио также не может отрицать, что взаимодействие США с Китаем косвенно обеспечивает безопасность самой Японии. Поэтому Пекину не следует воспринимать как угрозу тот факт, что Америка заботится о спокойствии Токио, а Япония не должна считать более тесное партнерство между Соединенными Штатами и КНР угрозой своим интересам. По мере углубления трехсторонних отношений озабоченность Токио по поводу того, что юань со временем станет третьей резервной валютой мира, могла бы быть нивелирована. Тем самым ставка Китая в существующей системе международных отношений возрастет, что снимет тревогу США относительно его будущей роли.
С учетом расширяющегося регионального взаимодействия, а также углубления двусторонних американо-китайских отношений необходимо найти решение трех болезненных проблем, омрачающих отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Первую из них необходимо разрешить в ближайшем будущем, вторую – в течение следующих нескольких лет, а третью – возможно, в предстоящем десятилетии. Во-первых, США следует оценить, насколько целесообразны разведывательные операции на границе китайских территориальных вод, равно как и периодическое военно-морское патрулирование, осуществляемое Соединенными Штатами в международных водах, которые также входят в зону китайских экономических интересов. Пекин воспринимает это как провокацию. Очевидно, что Вашингтон точно так же отнесся бы к подобным маневрам другой державы в непосредственной близости от его территориальных вод. Более того, военно-воздушные разведывательные операции США таят в себе серьезную угрозу непреднамеренных столкновений, поскольку китайские ВВС обычно реагируют на подобные операции поднятием в воздух своих истребителей с целью инспектирования, а иногда и задержания американских самолетов.
Во-вторых, ввиду того что продолжающаяся модернизация военного арсенала Китая может в конечном итоге вызвать вполне законную озабоченность Америки, включая угрозу их обязательствам перед Японией и Южной Кореей, американцам и китайцам следует проводить регулярные консультации относительно долгосрочного военного планирования. Необходимо вести поиск эффективных мер, которые помогли бы обеим державам заверить друг друга во взаимной лояльности.
В-третьих, яблоком раздора может стать будущий статус Тайваня. Вашингтон больше не признает Тайвань суверенным государством и разделяет точку зрения Пекина, согласно которой Китай и Тайвань – это части единой нации. И в то же время Соединенные Штаты продают оружие Тайваню. Таким образом, любое долгосрочное соглашение между США и Китаем столкнется с тем фактом, что сепаратистский Тайвань, защищаемый неограниченными поставками американских вооружений, будет провоцировать постоянно усиливающуюся враждебность Китая. Решение этого вопроса по формуле «одна страна – две системы», предложенной китайским лидером Дэн Сяопином, которая сегодня может звучать как «одна страна – несколько систем», способна заложить основу для окончательного воссоединения Тайбэя и Пекина.
При этом Тайвань и Китай будут отличаться по своему политическому, общественному и военному устройству (не говоря уже о том, что на острове не могут быть развернуты части Народной армии освобождения Китая). Независимо от того, по какой формуле это произойдет, учитывая растущую силу КНР и быстро расширяющиеся связи между Тайванем и материковым Китаем, сомнительно, что Тайбэй сможет бесконечно избегать установления более формальных связей с Пекином.
Движение к сотрудничеству
Более полутора тысяч лет тому назад политика относительно цивилизованных частей Европы определялась в основном сосуществованием двух разных половин Римской империи – западной и восточной. Западная империя, со столицей преимущественно в Риме, была раздираема конфликтами с мародерствующими варварами. Риму приходилось постоянно держать многочисленные гарнизоны за рубежом, строить гигантские и дорогостоящие укрепления. В итоге он надорвался, потерпев политическое фиаско и оказавшись в середине V века на грани полного банкротства. Тем временем внутренние конфликты между христианами и язычниками подрывали социальную однородность и сплоченность империи. А тяжкое налоговое бремя и коррупция привели экономику к краху. В 476 г. с убийством варварами Ромула Августула агонизирующая Западно-Римская империя окончательно пала.
В тот же период Восточно-Римская империя, позднее известная как Византия, демонстрировала более динамичный рост городов и экономики и более впечатляющие успехи на дипломатическом поприще и в оборонной политике. После падения Рима Византия процветала еще несколько столетий. Она частично отвоевала территорию прежней Западной империи и просуществовала (пусть впоследствии и в условиях постоянных конфликтов) вплоть до усиления османских турок в XV веке.
Предсмертные муки Рима в середине V века не омрачили более радужных перспектив Византии, потому что мир в те дни был географически раздроблен, а отдельные его части разобщены политически и экономически. Печальная участь одних не сказывалась на перспективах и развитии других. Теперь это далеко не так. Сегодня, когда расстояния не имеют значения и людям доступна информация из любой точки земного шара, а финансовые операции производятся почти мгновенно, благополучие наиболее развитых стран все больше зависит от процветания каждой страны в отдельности. В наши дни, в отличие от того, что происходило полторы тысячи лет назад, Запад и Восток не могут просто отгородиться друг от друга: они обречены либо на сотрудничество, либо на взаимную вражду.
Збигнев Бжезинский – помощник президента США по национальной безопасности (1977–1981). Последняя его книга называется «Второй шанс: три президента и кризис американской сверхдержавы». Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 1 (январь – февраль) за 2010 г. © Council on Foreign Relations, Inc.

Будущее истории
Сможет ли либеральная демократия пережить упадок среднего класса
Резюме: Всему миру необходима серьезная интеллектуальная дискуссия о социально-экономическом устройстве. Ведь нынешняя форма глобализированного капитализма разрушает базу среднего класса, на котором держится либеральная демократия.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 1, 2012 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Что-то странное происходит в мире. И глобальный финансовый кризис, начавшийся в 2008 г., и текущий кризис евро стали следствием функционирования модели слабо регулируемого финансового капитализма, которая сформировалась за последние 30 лет. Тем не менее, несмотря на широко распространенное раздражение мерами по спасению Уолл-стрит, существенного роста левого американского популизма не произошло. Вполне понятно, что движение «Захвати Уолл-стрит» будет набирать силу, однако самым динамичным популистским движением на сегодняшний день является правая Партия чаепития, основная мишень которой – регулирующее государство, стремящееся защитить простых граждан от финансовых спекулянтов. Нечто похожее происходит и в Европе, где левые слабы, а активность правых популистских партий, наоборот, растет.
Можно назвать несколько причин отсутствия мобилизации левых, но главная из них – это провал в сфере идей. Для прошлого поколения идеология базировалась на экономике, поддержанной либертарианским правом. Нынешние левые не смогли предложить ничего, кроме возврата к старой социал-демократии. Отсутствие убедительного прогрессивного контрнарратива – опасно, поскольку конкуренция оказывает на интеллектуальные дебаты столь же благоприятное воздействие, как и на экономическую деятельность. А серьезная интеллектуальная дискуссия совершенно необходима, поскольку нынешняя форма глобализированного капитализма разрушает социальную базу среднего класса, на котором держится либеральная демократия.
Демократическая волна
Общественные силы и условия не просто «определяют» идеологии, как утверждал когда-то Карл Маркс, идеи не способны обрести силу, если они не обращены к нуждам большого количества обычных людей. Либеральная демократия является сегодня основной идеологией практически во всем мире, отчасти потому, что она отвечает потребностям тех или иных социально-экономических структур и продвигается ими. Изменения в этих структурах могут иметь идеологические последствия, точно так же идеологические изменения – привести к социально-экономическим переменам.
Почти все влиятельные идеи, формировавшие человеческое общество до последних 300 лет, были по своей природе религиозными, кроме одного важного исключения – конфуцианства в Китае. Первой крупной светской идеологией, имевшей долгосрочное воздействие на общемировое развитие, стал либерализм, доктрина, связанная с ростом в XVII веке сначала торгового, а затем промышленного среднего класса в определенных частях Европы. (Под «средним классом» я имею в виду людей, которые по своим доходам не находятся на вершине или на дне общества, получили хотя бы среднее образование и владеют недвижимостью, товарами длительного пользования или собственным бизнесом.)
Как утверждали мыслители-классики – Локк, Монтескье, Милль, – либерализм предполагает, что легитимность государства основывается на его способности защищать индивидуальные права граждан, при этом государственная власть должна ограничиваться законом. Одно из основополагающих прав, которые должны быть защищены, – это право на частную собственность. «Славная революция» 1688–1689 гг. в Англии имела ключевое значение для развития современного либерализма. Тогда впервые был закреплен конституционный принцип – государство не может на законных основаниях облагать налогом граждан без их согласия.
Вначале либерализм необязательно подразумевал демократию. Виги, поддерживавшие конституционное уложение 1689 г., преимущественно были самыми богатыми собственниками Англии, парламент того периода представлял менее 10% населения. Многие классические либералы, включая Милля, очень скептически относились к добродетелям демократии: они считали, что ответственное политическое участие требует образования и определенного статуса в обществе, т.е. наличия собственности. До конца XIX века практически во всех странах Европы избирательное право ограничивалось имущественным и образовательным цензом. Избрание Эндрю Джексона президентом США в 1828 г. и его решение об отмене имущественного ценза при голосовании, по крайней мере для белых мужчин, стало первой важной победой на пути к устойчивым принципам демократии.
В Европе исключение значительного большинства населения из политического процесса и рост рабочего класса подготовили почву для появления марксизма. «Коммунистический манифест» был издан в 1848 г., когда революции полыхали почти во всех крупных странах Европы, кроме Великобритании. Так начался век борьбы за лидерство в демократическом движении между коммунистами, готовыми отказаться от процедурной демократии (многопартийные выборы) в пользу того, что считали содержательной демократией (экономическое перераспределение), и либеральными демократами, которые верили в расширенное политическое участие при обеспечении верховенства закона, защищающего индивидуальные права, включая право частной собственности.
На кону стояла поддержка нового промышленного рабочего класса. Ранние марксисты считали, что смогут победить благодаря численному превосходству: когда избирательное право было расширено в конце XIX века, такие партии, как британские лейбористы и немецкие социал-демократы, начали стремительно расти, представляя угрозу гегемонии консерваторов и традиционных либералов. Подъем рабочего класса вызвал ожесточенное сопротивление, часто с применением недемократических средств, в ответ коммунисты и многие социалисты отказались от формальной демократии, выбрав путь прямого захвата власти.
В первой половине XX века среди прогрессивных левых существовал прочный консенсус. Они единодушно полагали, что некая форма социализма – государственный контроль основных отраслей экономики в целях обеспечения равного распределения богатства – неизбежна для всех развитых стран. Даже экономист-консерватор Йозеф Шумпетер мог написать в своей книге «Капитализм, социализм и демократия» в 1942 г., что социализм в конечном итоге одержит победу, потому что капиталистическое общество в культурном плане подрывает само себя. Подразумевалось, что социализм в современном обществе представляет волю и интересы подавляющего большинства.
Но даже когда на политическом и военном уровне разыгрывались великие идеологические конфликты XX столетия, в социальной сфере происходили важнейшие изменения, подрывавшие марксистский сценарий.
Во-первых, реальный уровень жизни рабочего класса продолжал повышаться, в итоге многие рабочие или их дети смогли перейти в средний класс. Во-вторых, в относительном измерении численность рабочего класса перестала расти и даже начала сокращаться, особенно во второй половине XX века, когда сфера услуг стала вытеснять промышленное производство в так называемых постиндустриальных экономиках. Наконец, появилась новая группа бедных или обездоленных, располагающаяся ниже рабочего класса – неоднородная смесь расовых или этнических меньшинств, недавние иммигранты, а также такие социально изолированные группы, как женщины, гомосексуалисты или инвалиды. В результате этих изменений старый рабочий класс большинства индустриально развитых обществ превратился в еще одну группу интересов, использующую политическую власть профсоюзов для защиты с таким трудом достигнутых ранее благ.
Кроме того, экономический класс не стал тем знаменем, под которым можно было бы мобилизовать на политические действия население индустриально развитых стран. Второй Интернационал получил тревожный сигнал в 1914 г., когда рабочие Европы отвергли призывы к классовой борьбе, сплотившись вокруг консервативных лидеров, выкрикивавших националистические лозунги; такая схема работает и сегодня.
Многие марксисты пытались объяснить это так называемой теорией неправильной адресации в терминологии философа Эрнеста Геллнера: «Точно так же как радикальные мусульмане-шииты полагают, что архангел Джабраил сделал ошибку, передав Мухаммеду послание, предназначавшееся Али, так и марксисты предпочитают думать, что дух истории или человеческое сознание совершило ужасный промах. Тревожный призыв был направлен классам, но по какой-то страшной почтовой ошибке его получили нации».
Геллнер считает, что на современном Ближнем Востоке религия выполняет функцию, сходную с национализмом: она эффективно мобилизует людей, поскольку, в отличие от классового сознания, имеет духовное и эмоциональное содержание. Так же как в конце XIX века европейский национализм был обусловлен перемещением населения из сельской местности в города, так и исламизм – это реакция на урбанизацию в современном обществе на Ближнем Востоке. Письмо Маркса никогда не будет доставлено адресату под именем «класс».
Маркс полагал, что средний класс или по крайней мере слой, владеющий капиталом, который он называл «буржуазией», всегда будет оставаться небольшим, привилегированным меньшинством в современном обществе. Вместо этого буржуазия и средний класс в целом в итоге стали представлять собой подавляющее большинство населения наиболее развитых стран, что стало серьезной проблемой для социализма. Со времен Аристотеля мыслители считали, что стабильная демократия основывается на широком среднем классе, а общества, разделенные на богатых и бедных, подвержены олигархическому доминированию и популистским революциям.
Когда большинству развитых стран удалось создать общество, основывающееся на среднем классе, привлекательность марксизма начала таять. Среди немногих мест, где левый радикализм остается влиятельной силой, – районы с высоким уровнем неравенства, такие как Латинская Америка, Непал и бедные регионы Восточной Индии.
То, что политолог Самюэль Хантингтон назвал «третьей волной» глобальной демократизации, которая началась на юге Европы в 1970-х гг. и достигла кульминации с падением коммунистических режимов в Восточной Европе в 1989 г., увеличило число выборных демократий в мире с почти 45 в 1970 г. до более чем 120 в конце 1990-х годов. Экономический рост привел к возникновению нового среднего класса в таких странах, как Бразилия, Индия, Индонезия, ЮАР и Турция. Как отмечал экономист Мойзес Наим, этот средний класс относительно хорошо образован, владеет собственностью и технологически связан с внешним миром. Он предъявляет требования к правительству и легко мобилизуется благодаря доступу к технологиям. Поэтому неудивительно, что главными активистами «арабской весны» стали образованные тунисцы и египтяне, чьи ожидания, связанные с рабочими местами и политическим участием, не могли быть реализованы при существовавших диктаторских режимах.
Представители среднего класса необязательно поддерживают демократию в принципе: как и все остальные, они являются акторами, движимыми личными интересами, они хотят защищать свою собственность и положение. В таких странах, как Китай и Таиланд, представители среднего класса опасаются требований бедного населения о перераспределении благ, и поэтому поддерживают авторитарные правительства, которые защищают их классовые интересы. Кроме того, демократия не всегда удовлетворяет ожидания среднего класса, и, если этого не происходит, в среднем классе могут произойти волнения.
Не худшая альтернатива?
Сегодня существует глобальный консенсус по поводу легитимности либеральной демократии, по крайней мере в принципе. Как пишет экономист Амартия Сен, «хотя демократия не практикуется повсеместно и далеко не везде принимается, согласно общемировой точке зрения, демократическая форма правления сейчас достигла статуса, когда ее считают в целом правильной». В наибольшей степени ее принимают в странах, достигших того уровня материального благополучия, когда большинство граждан может считать себя представителями среднего класса, поэтому наблюдается корреляция между высоким уровнем развития и стабильностью демократии.
Некоторые общества, такие как Иран и Саудовская Аравия, отвергают либеральную демократию, отдавая предпочтение исламской теократии. Однако эти режимы – тупиковый путь развития и поддерживаются только благодаря огромным запасам нефти. В свое время арабский мир стал исключением из третьей волны демократизации, но «арабская весна» показала, что и там общество может быть мобилизовано против диктатуры точно так же, как это произошло в Восточной Европе и Латинской Америке. Разумеется, это не означает, что в Тунисе, Египте или Ливии путь к правильно функционирующей демократии будет простым или идеально прямым, но позволяет предположить, что стремление к политической свободе не является характерной особенностью культуры европейцев и американцев.
Самый серьезный вызов либеральной демократии в сегодняшнем мире бросает Китай, который сочетает авторитарную форму правления с частично рыночной экономикой. Китай унаследовал длительную и гордую традицию бюрократического правления высокого качества, которая насчитывает два тысячелетия. Китайским лидерам удалось совершить очень сложный переход от централизованного, планового хозяйства советского типа к динамичной и открытой экономике, и, нужно отметить, они справились с этой задачей достаточно компетентно – честно говоря, с большей компетентностью, чем демонстрируют сейчас американские лидеры в осуществлении своей макроэкономической политики. Многие сегодня восхищаются китайской системой не только из-за экономических показателей, но и потому, что она позволяет принимать масштабные, сложные решения достаточно быстро по сравнению с агонией и политическим параличом, от которых в последние несколько лет страдают Соединенные Штаты и Европа. После недавнего финансового кризиса сами китайцы начали пропагандировать «китайскую модель» в качестве альтернативы либеральной демократии.
Однако китайский путь вряд ли станет серьезной альтернативой либеральной демократии за пределами Восточной Азии. В первую очередь он имеет определенную культурную специфику: китайская форма правления строится на основе длительной традиции меритократического рекрутирования, экзаменов для приема на государственную службу, особой роли образования и уважения к авторитету технократов. Немногие развивающиеся страны могут успешно перенять эту модель, те, кому это удалось, например Сингапур и Южная Корея (по крайней мере в ранний период), уже находились в китайской культурной зоне. Сами китайцы скептически относятся к экспорту своей модели, так называемый пекинский консенсус – это скорее западное изобретение, чем китайское.
Также неясно, насколько устойчива эта модель. Ни обеспечиваемый экспортом рост, ни принятие решений сверху вниз не будут вечно приносить результаты. Тот факт, что китайское правительство не разрешило открыто обсуждать катастрофу на высокоскоростной железной дороге прошлым летом и не смогло привлечь к ответственности Министерство путей сообщения, позволяет предположить, что существуют и другие бомбы замедленного действия, скрытые за фасадом эффективного принятия решений.
Наконец, Пекин уязвим с моральной стороны. От руководителей на разных уровнях не требуется уважения достоинства граждан. Еженедельно происходят протесты против отъема земель, экологических нарушений или коррупции со стороны какого-нибудь чиновника. Пока наблюдается стремительный рост, эти злоупотребления удается скрывать. Но он не будет продолжаться всегда, и властям придется заплатить высокую цену за накопившееся недовольство. У режима больше нет идеала, вокруг которого можно объединить людей, Компартия, якобы придерживающаяся принципов равенства, управляет обществом, где процветает неравенство.
Поэтому стабильность китайской системы ни в коей мере не может восприниматься как аксиома. Китайское правительство утверждает, что в силу культурных особенностей граждане всегда отдадут предпочтение благополучной, обеспечивающей рост диктатуре, отказавшись от неспокойной демократии, которая угрожает социальной стабильности. Но вряд ли растущий средний класс в Китае будет вести себя совершенно иначе, чем в других регионах мира. Другие авторитарные режимы могут попытаться повторить успех Пекина, но маловероятно, что большая часть мира через 50 лет будет выглядеть как сегодняшний Китай.
Будущее демократии
Сегодня в мире существует взаимосвязь между экономическим ростом, социальными изменениями и главенством либерально-демократической идеологии. И при этом конкурентоспособная идеологическая альтернатива не вырисовывается. Однако некоторые тревожные экономические и социальные тенденции, если они сохранятся, могут поставить под угрозу стабильность современных либеральных демократий и развенчать демократическую идеологию в ее нынешнем понимании.
Социолог Баррингтон Мур когда-то категорически заявил: «Нет буржуа – нет демократии». Марксисты не осуществили свою коммунистическую утопию, потому что зрелый капитализм создал общество, основой которого был средний, а не рабочий класс. Но что если дальнейшее развитие технологий и глобализации подорвет средний класс и сделает невозможным достижение статуса среднего класса для большинства граждан развитой страны?
Многочисленные признаки того, что эта фаза развития началась, уже видны. С 1970-х гг. в США средние доходы в реальном измерении переживают стагнацию. Ее экономическое воздействие до определенной степени смягчалось благодаря тому, что в большинстве американских семей за последнее поколение доходы стали получать два человека. Кроме того, как убедительно отмечает экономист Рагурам Раджан, поскольку американцы не хотят участвовать в прямом перераспределении благ, Соединенные Штаты в последние годы используют очень опасную и неэффективную форму перераспределения, субсидируя ипотеку для семей с низкими доходами. Эта тенденция, которой способствовал приток ликвидности из Китая и других стран, за последние 10 лет дала многим простым американцам иллюзию постоянного повышения уровня жизни. Прорыв ипотечного пузыря в 2008–2009 гг. стал жестоким возвращением к среднему уровню. Сегодня американцы пользуются дешевыми мобильными телефонами, недорогой одеждой и Facebook, но все большее число людей не может позволить себе собственный дом, медицинскую страховку или достаточный размер пенсии.
Более тревожный феномен отметили финансист Питер Тиль и экономист Тайлер Коуэн – блага последних волн технологических инноваций непропорционально распределились среди наиболее талантливых и хорошо образованных членов общества. Этот феномен способствовал существенному увеличению неравенства в США за последнее поколение. В 1974 г. 1% самых богатых семей получил доход в 9% от ВВП, в 2007 г. эта доля увеличилась до 23,5%.
Торговая и налоговая политика, возможно, ускорили эту тенденцию, но главным «злом» стали технологии. На ранних этапах индустриализации – в эпоху текстиля, угля, стали и двигателей внутреннего сгорания – блага технологических изменений практически всегда различными путями достигали остальных слоев общества благодаря занятости. Но это не закон природы. Сегодня мы живем в эпоху, которую Шошана Зубофф назвала «эрой умных машин», когда технологии способны заменить многие функции человека, в том числе сложные. Любой большой прорыв в Кремниевой долине означает упразднение низкоквалифицированных рабочих мест в других сферах экономики, и этот тренд вряд ли исчезнет в ближайшее время.
Неравенство существовало всегда как результат природных различий в таланте и характере. Но технологичный мир существенно усугубляет эти различия. В аграрном обществе XIX века люди с математическими способностями не имели особых возможностей зарабатывать на своем таланте. Сегодня они могут стать финансовыми кудесниками или создателями программного обеспечения, получая при этом все большую долю национального богатства.
Другим фактором, подрывающим доходы среднего класса в развитых странах, является глобализация. Со снижением транспортных расходов и расходов на связь, а также с присоединением к глобальным трудовым ресурсам сотен миллионов работников в развивающихся странах, работа, которую прежде в развитом мире выполнял старый средний класс, теперь обходится гораздо дешевле в других местах. При экономической модели, приоритетом которой является максимизация совокупного дохода, аутсорсинг неизбежен.
Разумные идеи и здравая политика могли бы снизить ущерб. Германия проводит успешный протекционистский курс для сохранения значительной части производственной базы и промышленных трудовых ресурсов, при этом ее компании остаются конкурентоспособными в мире. США и Великобритания, напротив, с радостью ухватились за переход к постиндустриальной экономике услуг. Свободная торговля стала уже не теорией, а идеологией: когда члены американского Конгресса попытались ввести торговые санкции против Китая в ответ на заниженный курс юаня, их с негодованием обвинили в протекционизме, как будто игровое поле уже выровнено. Было много радостных разговоров об экономике знаний, о том, что грязная, опасная работа на производстве будет неминуемо вытеснена, а высокообразованные работники займутся интересными креативными вещами. Это оказалось лишь тонкой завесой, скрывающей суровую реальность деиндустриализации. При этом незамеченным остался тот факт, что блага нового порядка сконцентрированы у очень небольшой группы людей в сфере финансов и высоких технологий, интересы которых доминируют в СМИ и общеполитических дискуссиях.
Отсутствующие левые
Одним из самых удивительных явлений после финансового кризиса стало то, что пока популизм принимает преимущественно правые, а не левые формы.
Хотя американская Партия чаепития является антиэлитной по своей риторике, ее члены голосуют за консервативных политиков, действующих в интересах той самой финансовой и корпоративной верхушки, о презрении к которой заявляют. Этому феномену можно найти несколько объяснений, включая глубоко укоренившуюся веру в равенство возможностей, а не равенство результатов, а также то, что культурные вопросы, такие как аборты и право на оружие, пересекаются с экономическими.
Однако главная причина отсутствия левой популистской силы лежит в интеллектуальной сфере. Прошло уже несколько десятилетий с тех пор, как кто-то из левых был способен, во-первых, провести детальный анализ того, что происходит со структурой развитых обществ на фоне экономических изменений, и, во-вторых, предложить реалистичную программу действий, которая имела бы шансы защитить общество, основанное на среднем классе.
Основные направления левой политической мысли последних двух поколений были, честно говоря, провальными как концептуально, так и в качестве инструментов для мобилизации. Марксизм давно умер, а немногие оставшиеся его сторонники уже стоят на пороге домов престарелых. В академических левых кругах его заменили постмодернизмом, мультикультурализмом, феминизмом, критической теорией и другими разрозненными интеллектуальными течениями, которые скорее были сфокусированы на культуре, чем на экономике. Постмодернизм начинается с отрицания возможности какого-либо господствующего нарратива в истории или в обществе, что подрывает его собственный авторитет как рупора большинства, ощущающего предательство элит. Мультикультурализм обосновывает жертвенность практически любой группы чужаков. Невозможно создать массовое движение на базе такой разношерстной коалиции: большинство представителей рабочего класса и низших слоев среднего класса, принесенных в жертву системе, являются консерваторами в культурном плане и не захотят, чтобы их увидели в компании подобных союзников.
Какие бы теоретические обоснования ни использовались в программах левых, их главная проблема – отсутствие доверия. В последние два поколения основная часть левых придерживалась программы социальной демократии, которая сконцентрирована на обеспечении государством ряда социальных благ – пенсий, здравоохранения и образования. Сегодня эта модель себя изжила: социальные системы разрослись, стали бюрократизированными и негибкими; через структуры госсектора они часто на деле контролируются теми самыми организациями, которые по идее должны выполнять чисто служебную административную функцию. И, что еще более важно, они финансово неустойчивы, учитывая старение населения практически везде в развитом мире. Таким образом, когда существующие социал-демократические партии приходят к власти, они уже не стремятся быть чем-то большим, чем просто хранители социального государства, построенного десятилетия назад, ни у кого нет новой, интересной программы, вокруг которой можно объединить массы.
Идеология будущего
Представьте на мгновение неизвестного сочинителя, который, ютясь где-нибудь на чердаке, пытается сформулировать идеологию будущего, способную обеспечить реалистичный путь к миру со здоровым обществом среднего класса и прочной демократией. Какой была бы эта идеология?
Она содержала бы по крайней мере два компонента, политический и экономический. В политическом отношении новая идеология должна подтвердить превосходство демократической политики над экономикой, а также вновь закрепить легитимность государства как выразителя общественных интересов. Но программы, которые она должна продвигать для защиты жизни среднего класса, не могут опираться только на существующий механизм государства всеобщего благоденствия. Эта идеология должна как-то изменить госсектор, сделав его независимым от нынешних заинтересованных лиц и используя при этом новые, базирующиеся на технологиях подходы для предоставления услуг. Она также должна решительно заявить о необходимости перераспределения благ и представить реалистичный путь к прекращению доминирования групп интересов в политике.
В экономическом отношении идеология не может начинаться с осуждения капитализма, как если бы старый социализм по-прежнему являлся жизнеспособной альтернативой. Речь должна идти о коррекции капитализма и о том, в какой степени государство должно помогать обществу приспособиться к изменениям.
Глобализацию нужно рассматривать не как неотвратимый факт, а как вызов и возможность, которые необходимо тщательно контролировать политически. Новая идеология не будет считать рынок самоцелью, скорее она должна оценивать мировую торговлю и инвестиции с точки зрения не только накопления национального богатства, но и вклада в процветание среднего класса.
Однако добиться этой цели невозможно без серьезной и последовательной критики основ современной неоклассической экономики, начиная с таких фундаментальных положений, как суверенность индивидуальных предпочтений, а также представление о совокупном доходе как о точном показателе национального благосостояния. Следует отметить, что доходы людей необязательно отражают их реальный вклад в общество. Но нужно идти дальше, признавая, что даже если рынок труда работает эффективно, природное распределение талантов необязательно справедливо, поэтому человек – не суверенная единица, а существо, которое в значительной степени формируется окружающим его обществом.
Многие из этих идей уже частично высказывались, нашему автору остается только собрать их воедино. Ему также важно избежать проблемы «неправильной адресации». Поэтому критика глобализации должна быть связана с национальными интересами в качестве стратегии мобилизации, при этом последние не должны определяться так упрощенно, как, например, в профсоюзной кампании «Покупайте американское». Продукт станет синтезом идей, как левых, так и правых, отделенных от программы маргинализированных групп, которые сегодня представляют прогрессивное движение. Идеология обречена быть популистской; ее посыл будет начинаться с критики элит, которые позволили пожертвовать благополучием многих ради процветания небольшой группы, а также с осуждения денежной политики, особенно в Вашингтоне, которая приносит выгоду только состоятельным людям.
Опасности, которые подразумевает такое движение, очевидны: отход Соединенных Штатов, в частности, от продвижения более открытой глобальной системы может вызвать протекционистскую реакцию других стран. Во многих отношениях революция Рейгана–Тэтчер увенчалась успехом, как и надеялись ее сторонники, в результате мир стал намного более конкурентоспособным, глобализированным и стабильным. Накоплено огромное богатство, и практически везде в развивающемся мире появился растущий средний класс, что способствовало распространению демократии. Возможно, развитый мир стоит на пороге ряда технологических прорывов, которые не только увеличат производительность, но и обеспечат большое количество рабочих мест для среднего класса.
Но это скорее вопрос веры, а не рефлексии относительно эмпирической реальности последних 30 лет, которая указывает абсолютно противоположное направление. На самом деле есть множество оснований считать, что неравенство сохранится и даже усугубится. Нынешняя система концентрации богатства в США уже работает на собственное укрепление: как отмечает экономист Саймон Джонсон, финансовый сектор использует своих лоббистов, чтобы избежать обременительных и неудобных форм регулирования. Школы для детей из состоятельных семей сейчас лучше, чем когда-либо, а уровень общедоступных школ продолжает ухудшаться. Элиты во всех обществах используют недосягаемые для других возможности доступа к политической системе, чтобы защищать свои интересы, при этом отсутствует уравновешивающая демократическая мобилизация, способная исправить ситуацию. Американская элита отнюдь не исключение.
Однако мобилизации не произойдет до тех пор, пока средний класс в развитых странах останется приверженцем идей прошлого поколения, то есть пока он будет считать, что его интересы лучше обеспечивают более свободные рынки и малые по размеру государственные системы. Альтернативная идея уже на поверхности и должна вот-вот появиться.
Фрэнсис Фукуяма – ведущий научный сотрудник Института международных исследований Фримена Спольи при Стэнфордском университете.

Американское аэрокосмическое агентство НАСА закончило публикацию четырехтомной англоязычной версии воспоминаний патриарха российской космической отрасли Бориса Чертока "Ракеты и люди", последний том вышел из печати, его электронная версия размещена на сайте НАСА.
Академик Борис Евсеевич Черток - один из отцов-основателей советской ракетно-космической отрасли - ушел из жизни 14 декабря 2011 года в возрасте 99 лет. Один из легендарных основоположников космической индустрии СССР и России, он был среди ближайших соратников академика Королева, с 1974 года работал его заместителем в научно-производственном объединении "Энергия".
В последние десять лет Борис Черток работал с историками НАСА над переводом на английский язык черыхтомника "Ракеты и люди", в котором собраны воспоминания автора о развитии космической индустрии СССР. Последний том посвящен судьбе советской лунной программы и началу проекта "Энергия-Буран". Книгу можно бесплатно скачать на сайте НАСА.
До самой своей смерти Черток совместно с переводчиками и редактором Асифом Сиддики (Asif Siddiqi) работал над подготовкой издания для англоязычных читателей - книга расширена и дополнена автором, который хотел, чтобы она стала наиболее полной версией его мемуаров. Сиддики, который считается одним из лучших американских экспертов по космической программе СССР, написал аннотации ко всем четырем книгам серии, чтобы разъяснить англоязычной аудитории культурно-исторические особенности эпохи.
"Эта книга - результат почти десяти лет работы автора и издателей - дает представление о советской космической программе и людях, которые начинали космическую гонку", - сказал главный историк НАСА Билл Бэрри (Bill Barry), чьи слова приведены на сайте агентства.
Борис Черток участвовал в разработке и сдаче на вооружение первых отечественных баллистических ракет дальнего действия, создании и запусках высотных геофизических ракет, космических ракет-носителей, первых искусственных спутников Земли, научных спутников "Электрон", автоматических межпланетных станций для полетов к Луне, Марсу, Венере, спутников связи "Молния-1", фотонаблюдения "Зенит", проектировании и создании первых космических кораблей, на одном из которых совершил полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

РИА Новости публикует серию интервью на горячие темы президентской кампании-2012. Сегодня своими мыслями по поводу отношений России и США делится ведущий эксперт по изучению России, Евразии и международной энергетической политики фонда "Наследие" в Вашингтоне Ариэль Коэн.
- С какими вызовами и проблемами придется, по-вашему, столкнуться новому российскому президенту в отношениях с США?
- Во-первых, я бы сказал так: Америка столкнется с новым президентом России, который не всегда своим американским партнерам до конца доверяет. Он считает, что у него есть на это основания.
- Вы имеете в виду Владимира Путина?
- Ну, конечно.
- То есть у вас нет сомнений в том, что именно он победит на выборах?
- На сегодняшний день нет. Но я просто хочу сказать, имея опыт общения с ним, зная и читая его, что Владимир Владимирович относится к Соединенным Штатам с недоверием. А Соединенные Штаты уже сказали, что они будут иметь дело с любым президентом России. Это первое. Второе: пока цены на нефть высокие, Россия будет занимать жесткую позицию и отстаивать свои интересы. Пока она может себе это позволить. Если цены на нефть упадут, тогда начнутся проблемы. Теперь давайте конкретно. По Афганистану я считаю, что есть совпадение интересов у России и Соединенных Штатов для того, чтобы не допустить воцарения Талибана в Афганистане и, соответственно, угрозы Центральной Азии. Здесь точки соприкосновения есть, и это показывает то, что мы сотрудничаем по так называемой Северной распределительной сети - Northern distribution network (система доставки военных грузов из Европы через территорию Центральной Азии в Афганистан - прим. ред.).
Очень интересный момент с Китаем: с одной стороны, для России он очень важный экономический партнер, но с другой, Россия уже начинает напрягаться от китайского экономического присутствия в той же Средней Азии. Быстрый рост китайской экономики может привести к росту его военной мощи, и тут Россия оказывается в сложном положении, имея 7000-километровую границу с Китаем. При определенных обстоятельствах тут тоже возможны консультации с Америкой по решению этой проблемы.
Что касается Ирана и Сирии, то тут Россия занимает очень жесткую позицию, показывая всем, что она своих не сдает, в отличие от Соединенных Штатов, которые "слили" Мубарака. Даже если режим Асада рухнет, а он рухнет, я считаю, в ближайшие шесть месяцев, а может быть, и раньше, тем не менее, Россия показала, что она стоит за своих. Относительно Багдада: тут достаточно тесные отношения, и Иран поддерживается если не как союзник, то, по крайней мере, как противник противника.
- Противник - это США?
- Ну, да. Что еще осталось? Европа. Я думаю, что Европа может дойти до такого состояния, что у России появятся интересные возможности покупать какие-то стратегические активы в той же Греции, может быть, какой-нибудь портик, терминальчик, трубу какую-нибудь построят. Возможно, что и в других странах будут конъюнктурные возможности для России, что в зависимости от объема и местоположения может привести к какой-то напряженности с Соединенными Штатами. И давайте не будем забывать, что США самим сейчас не до жиру - и сокращение военного бюджета, и сокращение военных обязательств на Ближнем Востоке и в других местах... То есть этот финансовый кризис выражается в некотором геополитическом "ретренчменте". Я бы не хотел называть это отступлением, но некая переоценка приоритетов будет. С Ближнего Востока Соединенные Штаты уходить пока не собираются, но напряжеенность, конечно, сохранится, тем более что так называемая "арабская весна" перешла в арабский хаос и несколько проамериканских режимов в регионе либо завалились, либо их будущее под вопросом.
- Стоит ли ожидать каких-то драматических перемен в отношениях России и США после президентских выборов в обоих государствах?
- Я думаю, Россия предпочитает, чтобы Барак Обама переизбрался, потому что он занимает более мягкую позицию в отношении России. Он держится за перезагрузку, как за спасательный круг. Но дело в том, что те трения, которые есть и по ПРО, по Сирии, по Ирану и другие вопросы эту перезагрузку перегружают.
- То есть, на ваш взгляд, главные проблемы, которые тормозят перезагрузку, - это противоречия по Ирану, Сирии и системе ПРО?
- На сегодняшний день - да. Создать кризис и без того в непростых отношениях между Россией и США не может только ленивый. Тут кризис создается искусственно и быстро. Что будет, если Ромни изберут? Ну, Ромни вообще-то человек прагматичный и будет, в основном, заниматься экономикой, разгребанием тех Авгиевых конюшен, которые останутся ему в наследство. Несмотря на то, что его рисуют этаким монстром, я думаю, что ничего принципиально нового в отношениях между двумя странами не произойдет.
- Как вы думаете, удастся ли России и США договориться по ПРО?
- Думаю, что нет. Те позиции, которые озвучивает администрация президента США и которые озвучивает российская сторона (по крайней мере то, что мы знаем из открытых источников), - взаимонеприемлемые. Но это в открытых источниках, а что там происходит за закрытыми дверями, мы не знаем. Будем надеяться, что найдутся те формулировки, которые позволят этот кризис разрулить.
- А чем грозит этот кризис, если разрулить его не удастся?
- Во-первых, это может закончиться тем, что какая-то часть европейских союзников США станет поддерживать Россию. Например, немцы. Будут говорить: "Ну, что вы уперлись? Дайте русским то, что они хотят". Во-вторых, любой такой кризис является той точкой опоры, на которую опираются противники хороших отношений между Россией и США, например, господин Рогозин. Такого рода конфликты могут окончательно испортить отношения между нашими странами. То, что Рогозин уже заговорил о том, что тормознут снабжение Афганистана, показывает, как это все хрупко.
Какие еще могут быть проблемы? Например, могут быть начаться какие-то массовые протестные выступления 4 февраля, 4 марта, после 4 марта, и если будет применена сила для разгона, это вызовет, естественно, какую-то отрицательную реакцию в Вашингтоне. Кого она будет волновать в России на сегодняшний день - это хороший вопрос. Я надеюсь, что еще кого-то будет волновать.
- Какие первоочередные проблемы в двусторонних отношениях придется решать новым президентам России и США?
- Мне кажется, если мы договоримся по Ирану, это будет очень важно, потому что Иран представляет угрозу не только американским союзникам на Ближнем Востоке, не только европейцам, но и России. Иран с ядерными боеголовками на ракетах, которые могут достичь российских городов, абсолютно Москве не нужен. Вот тут можно подумать, как этот вопрос решить, чтобы полностью остановить военное применение иранской ядерной программы. Мы не говорим сейчас о Бушере, о мирном атоме, о том, что Иран имеет право делать по правилам МАГАТЭ. Мы говорим о том, что Иран прячет и пытается делать на грани фола, а скорее всего, за гранью.

Война в Иране начнется в конце месяца?
По мнению экспертов, война может начаться 30 января. В этот день Еврокомиссия ЕС собирается объявить эмбарго на иранскую нефть.
И Америка, дескать, сразу нанесет упреждающий удар по Ирану, чтобы тот не успел блокировать Ормузский пролив.
Но что на самом деле ищут янки в стране далекой, за тысячи миль от берегов США?
Орлу сломали коготь
Противостояние началось в 1979 году. Тогда янки проворонили исламскую революцию в Иране. Их ставленник шах Пехлеви бежал. Студенты (среди них, говорят, был и нынешний президент Ахмадинежад) захватили посольство США в Тегеране. Потребовав от администрации Картера выдать беглого шаха, извиниться за преступления перед Ираном и возместить ущерб. США отправили элитный спецназ. Но операция «Орлиный коготь» закончилась полным провалом. Спецназ заплутал в пустыне и ретировался восвояси, оставив тела погибших в авиакатастрофе - не в бою! - летчиков и вертолеты. Конфуз был на весь мир. Не помогли и экономические санкции США против Ирана. Полсотни американских дипломатов освободили спустя 444 дня путем переговоров - при посредничестве Алжира. Шах к тому времени умер от рака на чужбине.
С тех пор Иран развивается без оглядки на США, подавая «дурной пример» другим странам богатого углеводородами региона. Ныне это космическая держава со своей ядерной программой, гигантскими запасами нефти и газа, второй экономикой в исламском мире после Турции.
Сейчас, похоже, для орла с герба США настал момент отмстить за давнее унижение, свой сломанный коготь. Формальный повод - угроза Ирана заблокировать Ормузский пролив, главный транспортный коридор на мировой рынок для нефти из стран Персидского залива. Это будет вынужденный ответ Ахмадинежада Западу, если тот введет эмбарго на нефть иранскую и устроит экономическую катастрофу Ирану. Запад объясняет эмбарго благородными целями - последней попыткой принудить Тегеран отказаться от ядерной программы.
- Налицо чистая политика двойных стандартов. Америка плевать хотела на режим нераспространения, - заявил «Комсомолке» директор Центра изучения современного Ирана Раджаб САФАРОВ. - У Израиля есть ядерное оружие, он не член МАГАТЭ, однако международных инспекторов там никогда не бывало. Ядерная программа Ирана волнует США лишь как выгодный бизнес. Здесь планируют строительство АЭС примерно на $65 миллиардов. Неужто янки отдадут такой жирный кусок России, другим странам?! Сами построят. Но для этого надо сменить независимый режим в Тегеране на своих марионеток. А пока под разными предлогами блокируют развитие атомной энергетики Тегерана.
- Но Обаме зачем конфликт в год выборов? Он еще не расхлебался с Ираком, Афганистаном, а уже замаячила новая война. Легкой она не будет.
- Вывод войск за океан потребует гигантских расходов. Да и нельзя оставлять без присмотра регион. Не забывайте, большинство населения Ирака - шииты. Уйди США совсем - богатый энергоресурсами Ирак попадет под влияние шиитского Ирана.
Колокол звонит по России
- Есть мнение, что война Запада с Ираном выгодна российским властям. Мировые цены на нефть тут же взлетят. Новые миллиарды в наш бюджет на выполнение предвыборных обещаний. А крупная заварушка у границ России заморозит болотные ростки демократии.
- Цены действительно взлетят. До 200 - 300 долларов за баррель. Но лишь на очень короткое время. Большая наивность - пытаться заработать на этом. Иран - не просто очередная страна Ближнего Востока, где режим может рухнуть под давлением США. Эта война может вызвать колоссальные изменения в геополитике. Обернуться катастрофой для многих государств. И в первую очередь - для России.
Если Америке удастся сменить режим в Тегеране, посадить своих марионеток, через пару месяцев страны Центральной Азии переориентируются на Вашингтон - Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан. На Каспии появится военный флот США. Грузия вступит в НАТО. Следом - Азербайджан. Армения отдаст ему Нагорный Карабах и тоже вступит в НАТО.
Разумеется, от СНГ ничего не останется. Уйдет в небытие ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Хотя мы потратили миллиарды долларов на общую систему безопасности. На территории Ирана создадут военные базы, центры подготовки экстремистских террористических групп для засылки в Россию. Будет усилена работа с нашим протестным электоратом, внутренней оппозицией, сепаратистскими национальными общинами. Энергоресурсы Центральной Азии и Каспия пойдут на мировые рынки, минуя Россию. Спрос на наши нефть и газ упадет, как и цены. Ведь рубильник под названием «регулятор мировых цен на нефть» окажется в руках США.
Колокол звонит по России
- Есть мнение, что война Запада с Ираном выгодна российским властям. Мировые цены на нефть тут же взлетят. Новые миллиарды в наш бюджет на выполнение предвыборных обещаний. А крупная заварушка у границ России заморозит болотные ростки демократии.
- Цены действительно взлетят. До 200 - 300 долларов за баррель. Но лишь на очень короткое время. Большая наивность - пытаться заработать на этом. Иран - не просто очередная страна Ближнего Востока, где режим может рухнуть под давлением США. Эта война может вызвать колоссальные изменения в геополитике. Обернуться катастрофой для многих государств. И в первую очередь - для России.
Если Америке удастся сменить режим в Тегеране, посадить своих марионеток, через пару месяцев страны Центральной Азии переориентируются на Вашингтон - Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркмения, Таджикистан. На Каспии появится военный флот США. Грузия вступит в НАТО. Следом - Азербайджан. Армения отдаст ему Нагорный Карабах и тоже вступит в НАТО.
Разумеется, от СНГ ничего не останется. Уйдет в небытие ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Хотя мы потратили миллиарды долларов на общую систему безопасности. На территории Ирана создадут военные базы, центры подготовки экстремистских террористических групп для засылки в Россию. Будет усилена работа с нашим протестным электоратом, внутренней оппозицией, сепаратистскими национальными общинами. Энергоресурсы Центральной Азии и Каспия пойдут на мировые рынки, минуя Россию. Спрос на наши нефть и газ упадет, как и цены. Ведь рубильник под названием «регулятор мировых цен на нефть» окажется в руках США.
ЧЕРНЫХ Евгений

Новая оборонная стратегия США не предусматривает внесения каких-либо изменений в планы создания системы противоракетной обороны в Европе, заявил в понедельник заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Гордон.
Новую оборонную стратегию администрация США представила на прошлой неделе.
"Мы продолжим создание нашей системы противоракетной обороны, и это, разумеется, предусматривает размещение ее элементов в Польше и Румынии, радара в Турции и создание базы оснащенных системой Aegis американских кораблей в Испании", - сказал Гордон, выступая в вашингтонском Центре иностранной прессы.
Он подчеркнул, что США будут делать все для сохранения мощного присутствия в Европе и усиления сотрудничества с европейскими партнерами.
"Мы также будем усиливать боеспособность наших войск в регионе... Мы абсолютно привержены задаче не только поддержания, но и усиления нашего партнерства с Европой", - отметил замгоссекретаря США.
Планы США создать систему противоракетной обороны, которая надежно бы защитила их территорию от баллистических ракет, являются одной из главных проблем в российско-американских отношениях. В настоящее время США имеют два стратегических района ПРО на своей территории - на Аляске и в Калифорнии. Россия имеет один позиционный район стратегической ПРО - в районе Москвы. Теперь США планируют создать так называемый третий позиционный район ПРО - в Европе. Фактически это означает создание глобальной системы ПРО и может изменить баланс сил в мире.

США хотели бы, чтобы переговоры с Россией по ПРО продвигались бы более успешно, заявил в понедельник заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Гордон.
"Мы бы хотели продвинуться дальше в переговорах с Россией по ПРО... Я думаю, что мы добились определенного прогресса в вопросе военных учений, а это свидетельствует о том, что две страны могут сотрудничать таким образом, чтобы это служило их интересам", - сказал Гордон, выступая в вашингтонском Центре иностранной прессы.
Он признался, что хотя пока значительного прогресса в переговорах по ЕвроПРО достичь не удается, эти переговоры продолжаются.
"Мы будем продолжать говорить об этом. Наша точка зрения по этому поводу, думаю, ясна. Мы, США и наши союзники по НАТО, будем продолжать создание системы ПРО, поскольку налицо растущая угроза распространения ракетных угроз в сочетании с возможным распространением ядерного оружия", - подчеркнул Гордон.
Он отметил, что система ЕвроПРО никоим образом не направлена на Россию, и что Россия выиграла бы от сотрудничества с США и НАТО в сфере противоракетной обороны.
"Предложение о сотрудничестве по-прежнему в силе, мы продолжим обсуждать его с Россией и надеемся на прогресс в будущем", - добавил замгоссекретаря США.
Планы США создать систему противоракетной обороны, которая надежно бы защитила их территорию от баллистических ракет, являются одной из главных проблем в российско-американских отношениях. В настоящее время США имеют два стратегических района ПРО на своей территории - на Аляске и в Калифорнии. Россия имеет один позиционный район стратегической ПРО - в районе Москвы. Теперь США планируют создать так называемый третий позиционный район ПРО - в Европе. Фактически это означает создание глобальной системы ПРО и может изменить баланс сил в мире.
Россия и НАТО договорились сотрудничать по проекту ЕвроПРО год назад на саммите в Лиссабоне, однако переговоры зашли в тупик из-за отказа США предоставить юридические гарантии ненаправленности развертываемой системы против российских сил сдерживания. Мария Табак.

Момент истины
Александр Микоян, генеральный директор НР в России: «Не надо нас сравнивать с российскими компаниями»
В глобальной компьютерной индустрии не так много компаний, чья история неотделима от истории развития мировой высокотехнологичной отрасли на протяжении десятилетий. О том, что определяет главное содержание нынешнего жизненного этапа мирового хай-тека, «Итоги» расспросили Александра Микояна, генерального директора компании HP в России.
— Александр, говорят, что в компьютерной индустрии сегодня происходят судьбоносные сдвиги — заканчивается целая эра настольных ПК (desktop). В HP даже обсуждался вопрос отказа от производства десктопов. Сколько им осталось жить?
— Компьютеры производятся в разных форм-факторах, которые, вообще говоря, предназначены для разных ниш использования. Жизнь идет, отрасль развивается, создает новые технологические заделы, которые потом находят отражение в виде новых форм-факторов: ноутбуки, субноутбуки, ультрабуки, планшеты и т. д. Но есть ниши, которые всегда занимали и будут занимать настольные компьютеры, потому что они наиболее удобны для человека при производстве контента — создании, редактировании, модернизации. Они будут меняться в сторону увеличения производительности и уменьшения веса, но в любом случае останутся важными предметами современного обихода. По сути есть всего три основных форм-фактора: настольный ПК — для создания контента, планшет — для его потребления и переносной (ноутбук) — универсальный инструмент для производства и потребления контента. Все остальные новинки — это вариации на тему, как правило, с нишевыми применениями. Так что в целом рынок настольных ПК никуда не денется, а в России до сих пор превалирует именно этот тип компьютеров.
— Индустрия экспериментирует с портативными устройствами, а HP избавилась от легендарного когда-то наладонника Palm. Почему так?
— Да, мы прекратили выпуск планшетов на базе webOS. Из показателей чистой прибыли компании за 2011 финансовый год, которые были объявлены в конце ноября, исключены издержки, связанные с закрытием направления устройств на базе webOS. Мы понимаем, что на данном этапе потеряли некоторые деньги, но все-таки это замечательная интеллектуальная собственность, отличная операционная система. На днях Мэг Уитман, исполнительный директор НР, объявила о том, что компания будет продолжать принимать активное участие в развитии webOS, привлекая сообщество пользователей свободного ПО (СПО). Ведь есть большие возможности по улучшению приложений и веб-услуг для нового поколения устройств.
— Как вы считаете, стала ли индустрия СПО серьезным вызовом традиционному закрытому системному ПО?
— У нас давние и прочные партнерские отношения с поставщиками закрытых решений, в первую очередь с Microsoft. В то же время мы активно сотрудничаем и с сообществом открытого ПО, в частности с семейством Linux. Я не вижу лобового противостояния и считаю, что будет мирное сосуществование систем обоих типов. Частное ПО никуда не денется, потому что оно заключает в себе очень большую интеллектуальную собственность, успешно развивается, активно потребляется корпорациями, физлицами и госучреждениями. Не только в России, по всему миру тоже. Кроме того, для СПО пока до конца не решены многие вопросы, связанные с нормативной базой по сохранности информации. Мне представляется, что платное ПО подчас лучше приспособлено к таким корпоративным задачам, которые требуют учета конкретных нормативно-правовых требований. При этом ОС Linux демонстрирует прекрасную работоспособность, все больше компаний выпускает свои приложения под Linux. Есть и такой момент: многие крупные заказчики считают, что становятся заложниками производителей корпоративных баз данных, и ищут альтернативу в виде свободного ПО.
HP играет на обоих фронтах. Несколько недель назад мы объявили о расширении нашего портфеля решений для создания IT-инфраструктуры, поддерживающей процессы, критичные для бизнеса компаний. Нововведения касаются как раз возможности запускать в таких IT-средах приложения под ОС Windows и Linux, создавать защищенные кластеры и поддерживать их функционирование. Кроме нас, такого никто пока не предлагает.
— Правительства разных стран переходят на открытое ПО. Вот недавно Франция решила выделить на эти цели несколько миллионов евро. Не побеждает ли СПО в госсекторе?
— Безусловно, проекты такого масштаба находят отражение в прессе. Но вот говорит ли это о какой-то четкой тенденции? Сомневаюсь. Если вы посмотрите финансовые результаты, скажем, Microsoft, они тоже будут неплохо выглядеть. Думаю, речь вообще не идет о прямом замещении, например, продукта Microsoft или Adobe свободным ПО. Есть фактор появления новых рыночных ниш на базе новых моделей использования ПО. Вот хороший пример — Skype. Это не открытое, но бесплатное ПО, которое создало новое направление бизнеса. Говорят, для технологической компании мерилом успеха является то, что название компании становится глаголом. Имя Skype уже стало в английском языке глаголом to skype («скайпить»), и это явно признак успешности компании, которая сумела создать новую рыночную нишу, хотя предлагала бесплатное ПО.
В компьютерном мире все меняется очень быстро: на смену одним лидерам приходят новые. Что позволяет компании HP оставаться в числе лидеров в течение десятилетий?
Да, десять лет в IT-отрасли это целая эра. Что позволяет сохранять позиции мирового лидера? Думаю, гибкость компании. Понимание нынешних и предвосхищение будущих потребностей клиента еще до того, как заказчик сам это понял. Плюс высокое качество обслуживания, которое позволяет самым требовательным заказчикам опираться на наши решения в реализации серьезных задач. Конечно, как и у любой компании, у нас есть и более, и менее удачные технические решения, но на круг мы оказываемся успешнее и по праву считаемся одной из ключевых компаний всей мировой IT-инфраструктуры, в том числе российской.
— Каковы позиции HP на российском рынке?
— HP — крупнейший поставщик корпоративных IT-решений в России, как в части оборудования, так и в части услуг. Но важно вот что: не надо нас сравнивать с российскими компаниями, потому что за спиной российской IT-компании стоит только ее российский IT-бизнес, а за спиной HP — 320 тысяч сотрудников по всему миру. Это реальная, очень мощная сила, которая не сравнима ни с кем другим, кто есть на российском рынке. И потому у нас совсем другой профиль риска.
— В чем отличия?
— Пример: любые работы, связанные с информационной безопасностью, включают не только поставку программного и аппаратного обеспечения, но и организацию производственных процессов правильным образом. Мы можем взять ноу-хау в сфере безопасности из-за границы и спроецировать его на российские законы. Другой пример — управление катастрофоустойчивостью IT-инфраструктуры. У нас помимо оборудования и ПО есть методологические решения, которые позволяют организовать функционирование IT-службы так, чтобы она обеспечивала работоспособность бизнеса при любых авариях. В этом смысл нашего присутствия в России — всю интеллектуальную собственность HP направлять на службу российским заказчикам.
— Аналитики отмечают тенденцию мировых вендоров, включая HP, вытеснять из крупных интеграционных проектов российских партнеров-интеграторов. Это так?
— У HP есть интеллектуальная собственность, которая помогает решать проблемы заказчиков в больших и сложных проектах. Например, сегодня большие компании стремятся строить свои корпоративные data-центры так называемого третьего уровня (Tier III) надежности. Этот уровень имеет три варианта сертификации: проект, результат строительства и рабочее функционирование. В России нет другой команды, которая, как мы, может спроектировать data-центр третьего уровня так, чтобы он получил все три сертификата по международным стандартам.
Есть другие параметры — масштаб и длительность проекта. Если вы посмотрите на западные аутсорсинговые компании, то в их контрактах речь идет о сотнях миллионов, иногда миллиардах долларов, на 3—5—7 лет. Нет ни одной российской компании, которая соответствовала бы профилю риска, необходимому для того, чтобы брать на себя подобного рода обязательства.
— Вы говорили о гибкости компании, позволяющей оставаться в числе тяжеловесов-долгожителей. В чем она выражается?
— Во-первых, широкий портфель технических решений плюс инструменты для финансирования проектов заказчиков. Во-вторых, поддержка гибридной модели строительства современной IT-инфраструктуры, которая включает и традиционную сеть, и получение услуг из частных и публичных облаков. Но нельзя просто взять да и переехать в облако, это непростая работа, которая требует много знаний, навыков и ноу-хау. Однако это придется сделать, потому что такой переход наконец изменит роль Chief Information Officer (CIO) — главного айтишника предприятия. В гибридной модели он становится этакой службой заказчика по отношению к производителям и поставщикам, в частности HP. При этом ему удается избавиться от нынешнего неэффективного распределения своего рабочего времени: известно, что в традиционной модели он тратит 70 процентов времени на эксплуатацию IT-инфраструктуры и только 30 процентов времени работает с инновациями, чтобы помочь основному бизнесу. Когда же он, внедряя гибридную модель, отдает эксплуатационные вопросы нам, это соотношение переворачивается: 30—40 процентов времени на эксплуатацию, а 60—70 — на бизнес. Вот тогда наступит момент истины: смогут ли CIO оказать реальную помощь бизнесу, ибо не смогут больше прикрываться тем, что заняты эксплуатацией 24 часа в сутки?
Елена Покатаева

Демократия после...
Как поражение альтернативы изменило победителя
Пётр Дуткевич – профессор политологии Карлтонского университета (Канада).
Резюме Все более явно становясь служанкой экономической и политической правящей элиты, демократия утрачивает первоначальную привлекательность и широкую социальную поддержку, которая раньше не вызывала сомнений. Происходит деполитизация экономики, в результате чего снижается уровень ее социальной ответственности, и она становится менее отзывчивой.
Советский Союз был реальной угрозой для Запада. Вместе со своими сателлитами он занимал поистине необъятные и необычайно богатые земли, обладал всеми видами смертоносных вооружений, сформировал единственную в истории системную альтернативу капитализму и, что весьма важно, создал бедную, но социально вполне привлекательную советскую модель государства всеобщего благоденствия. Многие рядовые европейцы и американцы не подозревали, до какой степени им тогда везло, поскольку одно только существование «советской угрозы» заставляло западные элиты увеличивать социальные пособия и прочие льготы, добавлять новые и гарантировать старые гражданские свободы – короче, делать все возможное, чтобы устранить потенциальную притягательность социалистической, коммунистической модели. Теперь они этого не делают.
Данная статья посвящена постсоветской эволюции демократии. Хотя права человека в демократических странах по большому счету защищены, в последние 20 с лишним лет происходит существенное размывание демократии и, как ни парадоксально это звучит, начало этому процессу положил распад советской системы. Демократия превращается в товар, который сегодня служит интересам политических и экономических элит, пересмотревших ее теоретический смысл и практическую реализацию. При расширительном толковании переформатирование демократии означает, что она больше не служит интересам среднего класса. Изменение сути и содержания демократии стало возможным из-за отсутствия социально значимой альтернативы. Нынешняя волна общественных протестов в виде молодежных бунтов и американского «движения чаепития» отчасти является реакцией на происходящие процессы.
Похоже, демократия в Европе и Америке нравится всем – главам государств, политикам, неправительственным организациям, бизнесу и, очевидно, народу тоже. Под знаменами демократии недавно были развязаны две крупномасштабные войны и вспыхнули несколько революций. Кто не утверждает в начале XXI века на Западе, что демократия – это хорошо? Те, кто называют свою политическую систему «демократией», считаются «цивилизованными», «такими же, как мы», в отличие от «нецивилизованной» части (фактически большинства) остального мира. С начала девяностых «демократия» становится золотым стандартом, которым измеряется все происходящее в мире политики, разновидностью западной либеральной религии. Но, как это часто случается с любой религией, по меткому замечанию Джонатана Ницана, чем сильнее вера, тем меньше вопросов.
Теория и практика демократии
Давайте начнем с вроде бы прописных истин: что такое демократия? Многое зависит от содержания, которым мы наполняем это понятие. Одно из возможных определений ставит во главу угла системные гарантии свободы от посягательств политической власти, творящей произвол. При таком подходе мы движемся в привычном направлении исследования гарантий прав граждан с либерально-индивидуалистических позиций. При другом методе демократия рассматривается как специфическая форма правления (управления гражданами). Однако, согласно третьей трактовке, демократия анализируется исключительно с точки зрения экономического развития. И в самом деле, в контексте классической либеральной традиции демократия неотделима от рыночной капиталистической системы. Но даже среди этих разных точек зрения существует основополагающее понятие, что демократия как проект, идея или факт – вещь хорошая. Хотя в ней много несовершенств, ничего лучше пока не придумано, и альтернативы ей нет.
Я полностью признаю ценность прав личности; ими начинаешь особенно дорожить, когда видишь, насколько они ограничены или недоступны в некоторых странах. Но в рамках дебатов о способах измерения демократии существует еще один серьезный и недооцениваемый аспект, о котором нам напоминает Иммануил Валлерстайн в своей книге «Закат американского могущества». Возможно, для большинства населения в Восточной и Западной Европе, а также во многих переходных обществах качество управления и политического процесса измеряется иначе. У большинства людей, вовлеченных в процесс социально-экономических перемен, политические приоритеты и ценности сосредоточены прежде всего на: (а) перспективах материального благополучия (и опасениях последствий увеличивающегося материального неравенства), (б) коррупции и, наконец, (в) возможности быть равноправными гражданами внутри государства (устранении источников дискриминации, основанных на возрасте, недееспособности, половой, этнической принадлежности и т.д.). Популярное у среднего человека требование демократизации – это в значительной мере пожелание более справедливого распределения доступа к здравоохранению, образованию, источникам дохода, экономической и личной безопасности. На всех этих фронтах мы видим разнородную картину в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), Европейского союза и в США. В частности, неравное участие в «переходной ренте» в ЦВЕ представляется главной причиной растущей пропасти между демократически избираемой элитой и общественностью. В этом же глубинные причины роста новой разновидности радикального популизма.
В целом граждане поддерживают и одобряют «демократию», но выгоды от нее воспринимаются через призму скорее общественной безопасности, системной стабильности и «справедливости», а не обеспечения фундаментальных свобод и прав личности. Демократия рассматривается как инструмент достижения социального достоинства личности, которое обеспечивается приемлемыми условиями жизни и безопасности. Поскольку в большинстве стран ЦВЕ этих целей не достигают, мы наблюдаем там растущий цинизм избирателей и отстранение от политики (а значит, и от проекта демократизации как такового).
Практически демократизация в ЦВЕ означала освобождение – «либерализацию» – узкого круга бизнес/политической элиты от почти любого юридического или общественного контроля. Преимущества «демократии» оказались доступны лишь небольшой группе. В этом заключалась главная проблема внедрения и закрепления демократии в середине и конце 1990-х гг. в ЦВЕ и России. Лишь немногие смогли в полной мере насладиться плодами нарождающегося демократического общества, творимого такими лидерами как Лех Валенса, Вацлав Гавел и Борис Ельцин.
«Похищение демократии» осуществлялось довольно просто. Наиболее влиятельные люди того времени покупали доступ к политическому процессу, распределению/приватизации собственности, средствам массовой информации, выборам на любом уровне, а также к политикам и людям, принимавшим ответственные решения (иными словами, они купили непредставительную часть всех гражданских свобод). Таким образом, избранное меньшинство смогло поставить закон себе на службу, защитить себя и свою собственность и тем самым стать де-факто псевдособственниками государства, а значит, и узким кругом бенефициаров демократии.
С политической точки зрения последнее означало освобождение элиты, состоящей из видных бизнесменов и политиков, от государства, исполнительной власти, которую оно олицетворяет, и от остального населения. Россия и некоторые страны ЦВЕ – интересный случай, поскольку «демократизация для немногих» приобрела непропорционально большие объемы даже по не слишком взыскательным стандартам начала 1990-х годов. Покупка выборов или влияние на их итоги стали скандально возможным вариантом. После смены политического руководства в России в 2000 г. (начало восьмилетнего президентства Владимира Путина) позиция Кремля заключалась в разработке гибридной «суверенной демократии». Если расшифровать это понятие, а не судить его, оно многое скажет нам о страхах и целях элиты – как национальной, так и мировой. «Суверенность» при этом подходе означает способность режима быть независимым и неподотчетным на международной арене, но также и «независимым» от собственного населения (экономическая независимость, военная сила и противостояние глобальному давлению и «иностранному влиянию»).
«Демократия» же в данном контексте означает открытость для перемен, создание возможностей для правящей группы управлять посредством реформистских стратегий, получение поддержки со стороны общества (поскольку большинство россиян поддерживает идею демократии), но не слишком большое доверие самому обществу. Создается иллюзия политического плюрализма, но исключается малейшая вероятность превращения политики в заложницу господствующего капитала и одновременно политической воли граждан. Эти режимы весьма прагматично подходят к такому глубоко идеологическому термину. По меткому наблюдению Ричарда Саквы, «демократия» в их трактовке означает слияние веры правящей элиты в экономический либерализм и политический консервативный авторитаризм.
В своем труде «Общая теория занятости, процента и денег» Джон Мейнард Кейнс отмечает, что в конечном итоге людьми правят идеи и вряд ли что-то иное. Но возникает вопрос: чьи идеи? И кто выигрывает от этих идей? Понятие «демократия» едва ли оспаривается в ЦВЕ. Но, во-первых, значение демократии и практические последствия ее реализации могут вызвать раскол в обществе и экономике; вместо того чтобы быть общественно-идейным объединяющим началом, демократия стала сферой внутренней конкуренции и соперничества.
Прежде всего, обнаружилось три линии разрыва или три водораздела. Во-первых, доступ к либеральным правам, доступ большинства граждан к пересмотренным социально-экономическим коллективным правам и сохранение властных отношений через придание легитимности доступу элиты к власти, собственности и политике. Во-вторых, «реальная демократия» в ЦВЕ до сих пор служила немногочисленной элите, которая манипулирует ею. И, наконец, подобная демократия узаконила закрепление социально-экономической власти правящей группы с целью создания нераздельной общественной власти и капитализации демократии. Понятие «демократия» переформулировано политико-экономической и бюрократической элитой для консолидации в ее руках единой общественной власти. Таким образом, «демократия» обслуживает государство (и его элиту), становясь незаменимым инструментом для его развития, коль скоро она служит «его целям». Таким образом, мы естественно подходим ко второму вопросу: демократия с какой целью?
Превращение демократии в товар и капитал
В своей книге «Недобрые самаритяне» Чхан Ха Джун подводит итог дискуссии о связи демократии со свободным рынком, помещая ее в своеобразный треугольник. Он придуман теми, кто полагает, что демократия «необходима для экономического развития, поскольку защищает граждан от произвольной экспроприации собственности правителями»; теми, кто считает, что если рынок «пострадает от избытка демократии, последнюю можно принести в жертву во имя защиты свободного рынка» (в качестве примера можно привести сторонников Чили при Пиночете); и «конструктивистским лагерем», представители которого утверждают, что демократия – естественный побочный продукт рынка, потому что она «производит образованный средний класс, естественно стремящийся к демократии».
Несмотря на различие точек зрения, Чхан утверждает: либералы едины в том, что демократия и экономическое развитие укрепляют друг друга по принципу восходящей спирали взаимной поддержки: демократия поддерживает «свободные рынки и способствует их развитию; со своей стороны, свободные рынки способствуют экономическому развитию, которое еще более упрочивает демократию». По мнению Чхана, в этом кроется главное заблуждение – что бы ни говорили неолибералы, «между демократией и рынком происходит столкновение на фундаментальном уровне. Демократия опирается на принцип “один человек – один голос”. Рынок же действует по принципу “один доллар – один голос”». Я достаточно широко пользуюсь аргументацией Чхана, поскольку он бросает вызов сразу двум школам мысли: неолиберальной идее и тем, кто противостоит ей и критикует ее. На мой взгляд, «демократия не связана естественным образом» с рынком и не имеет какой-то специфической «внутренней ценности» (как полагает Амартия Сен). Новая мутация «демократии» в ЦВЕ точно отражает ее исторический архетип, возвращаясь к корням после многовекового развития в других местах. По сути, современная демократия в ЦВЕ стала одомашненным (но по-прежнему полезным, если не незаменимым) элементом рынка с вытекающими отсюда глубокими социальными, политическими и экономическими последствиями.
Но чтобы прийти к этому заключению, нам необходимо начать с небольшого экскурса в работу Карла Поланьи «Великая трансформация». Главный тезис эпохального труда состоит в следующем: «Для функционирования индустриального общества необходимо, чтобы все факторы производства продавались». Иными словами, чтобы рыночная система функционировала, все, что может быть превращено в товар, должно быть превращено в товар с учетом его стоимости, устанавливаемой рынком посредством сделок. Все продается, и все покупается. Свободный рынок полностью преобразил общество: теперь уже не экономика является неотъемлемой частью прочих общественных связей, а общественные связи становятся неотъемлемой частью экономической системы. Глобализация (или, скорее, интернационализация до мирового размаха) увеличила масштабы и глубину этого процесса; по своей сути глобализация – это превращение общественных отношений в товар в масштабах всего мира.
Следовательно, демократия и демократические институты действуют в этих рамках (или в рамках глобализированной рыночной экономики, если вам так больше нравится). Возникает вопрос: учитывая, что все отношения в обществе в какой-то степени превращены в товар, может ли сама демократия быть товаром? Здесь можно выделить два подвопроса: каким «товаром» может стать демократия, и можно ли демократию «рассматривать как товар» в реальных рыночных условиях. Первый ответ, с моей точки зрения, вытекает из присущей рынку тенденции превращать в товар все, включая нормы здравоохранения, права человека, систему социального обеспечения, окружающую среду, а также и саму демократию. В реальных рыночных условиях 1990-х гг. «демократия» в ЦВЕ стала товаром подобно всему прочему (нечто, что можно купить и продать на «демократичном рынке»). Позвольте повторить ранее высказанную мысль. Купив доступ к политическому процессу, собственности, СМИ, покупая выборы или влияя на них на любом уровне, приобретая политиков и людей, от которых зависит принятие важных решений, влияя на суды и полицию (иными словами, покупая гражданские свободы), избранная горстка людей де-факто присвоила себе государство, превратив его в свою собственность, и теперь наслаждается плодами демократии. Другими словами, все аспекты либеральной демократии были разбиты на лоты и проданы, вследствие чего вся демократическая система, какой мы ее знаем, была превращена в товар, происходит товаризация демократии.
Противники такой трактовки скажут, что хотя история знает немало подобных случаев, купля-продажа «демократии» (ее институтов и прав) – все же отклонение от нормы, вызванное либо высоким уровнем политической и общественной коррупции, либо извращенными (преимущественно авторитарными) режимами. Но покупка выборов – это не специфическое явление, свойственное лишь ЦВЕ. Совсем недавно Верховный суд США вынес знаковое решение по иску общественной организации Citizens United против Федеральной избирательной комиссии, постановив, что финансирование корпорациями независимых политических радио- и телевизионных каналов во время выборов не должно быть ограничено.
Хотя в подобных аргументах есть доля правды, люди, выдвигающие их, недооценивают тесные связи, которые существуют между «свободным рынком» и «демократией». Ниже я попытаюсь доказать, что демократия сначала органично встраивается в рыночную систему, затем превращается в товар и становится младшим братом-близнецом свободного рынка (а значит, делается незаменимой для современного государства и, в более широком смысле, для развития/модернизации). Чтобы доказать это, я сделаю третий шаг и проанализирую демократию как товар в более широком (рыночном) контексте: капитал–рынок–общественные отношения.
В недавно изданной книге Шимшона Бихлера и Джонатана Нитцана «Капитал как власть» авторы убедительно говорят об отношениях между капиталом и властью. Я в какой-то степени позаимствую их аргументы в процессе доказательства того, что «демократия – это товар». Давайте начнем с достаточно пространной, но полезной цитаты из этой книги: «Власть капиталистического толка рассчитывается с точки зрения цен и капитализации, действуя через все более охватывающую систему ценообразования… Капитализация уменьшает конкретную траекторию роста доходов в будущем… Обратите внимание, что это не “экономическая власть” и не “политическая власть”, которая каким-то образом искажает экономику. Вместо этого мы здесь имеем дело с организованной властью в целом. Многочисленные властные институты и процессы – от идеологии через культуру к организованному насилию, религии и закону; национальность, пол, международные конфликты, трудовые отношения, производство и инновации – все это факторы дифференциации и непостоянства доходов. Когда эти доходы с их непостоянством дисконтируются в капитальную стоимость, лежащие в их основе властные институты и процессы становятся частью капитала. А поскольку капитал – это товар, который можно покупать и продавать на финансовых и фондовых рынках, его относительная стоимость представляет собой товаризацию власти. С этой точки зрения мы уже не можем говорить о соотношении “экономической эффективности” и “политической власти” или разграничивать такие понятия как “экономическая эксплуатация” и “политическое угнетение”. Вместо этого налицо единый процесс накопления капитала/становления государства – процесс реструктуризации, посредством которого власть накапливается подобно капиталу».
Таким образом, по аналогии, демократия как «фиктивный товар» или «товаризованная нетоварная продукция» суть неотделимая часть капитала, а значит – неотделимая часть рынка и неотделимая часть государства – рыночного механизма. Другими словами, демократия – это не только инструмент легитимации для властной элиты (то есть ее второстепенная задача); главная ее задача состоит в том, чтобы служить капиталу и государству, обеспечивая капиталу имущественные права, стабильность и легитимность. В этом смысле рынок уже не может развиваться без определенного уровня демократизации системы. Вот почему демократия как идея и демократия как практика стали частью «организованной власти в целом», как отметили Нитцан и Бихлер.
Пора проанализировать демократию как власть.
Обобщая все вышесказанное, хочу ответить на вопрос, поставленный в начале данного раздела: для чего нужна демократия? «Капитализация демократии» делает ее неотъемлемой частью долгосрочного капиталистического развития, поскольку демократия представляет собой чудодейственное средство для рынков стран ЦВЕ (модернизация, рост, развитие и т.д.). Позвольте пояснить.
Бурные годы преобразований в последнее десятилетие прошлого века породили классический набор рынков (финансовый и товарный, рынок труда и информации). Здесь переплетаются два важных момента. Во-первых, в силу довольно хилых институтов и государственной власти (слабой судебно-исполнительной власти) имущественные права (столп рыночного развития) слабо защищены; они нестабильны, и ими манипулируют в политических целях. Во-вторых, в силу специфики приватизационных процессов в странах ЦВЕ и России (некоторые называют их «грабительской» или «криминальной» приватизацией, когда гигантские государственные активы были за бесценок отданы нескольким избранным личностям, имевшим доступ к национальным/региональным политическим ресурсам и знавшим о намерениях государственных властей раньше широкой общественности), они не имеют легитимности в глазах широкой общественности. Таким образом, налицо не только ненадежная защита собственности, но и неуважение к чужой собственности со стороны подавляющего большинства граждан.
Для бюрократической, политической и деловой правящей элиты стабилизация собственности, легитимация их существования и предотвращение социальных волнений (или, не приведи Господи, пересмотра итогов приватизации девяностых годов) изнутри и снаружи – это вопрос жизни или смерти. И здесь на помощь приходит спасительная демократия. «Демократия» представляется внутренними и международными элитами как единственно возможный ответ на социально-экономические вызовы трансформации и переходного периода. Но из этого чудодейственного средства «от всех болезней» были отобраны и претворены в жизнь (порой небрежно) лишь некоторые его аспекты (или ингредиенты) – например, «свободные выборы», свобода перемещения и защита собственности. В частности, речь идет о признании всех приватизационных механизмов, даже самых неприглядных.
Таким образом, демократия служила чрезвычайно важным экономическим инструментом, содействовавшим формированию рынков и обеспечивавшим хотя бы элементарную легитимацию новому классу собственников. В качестве одной из гражданских свобод демократия прежде всего гарантировала набор прав, связанных с неприкосновенностью частной собственности, а также юридические гарантии в виде неотъемлемого процессуального права. Таким образом, демократия стала столь же важным инструментом экономического преобразования региона, как и экономическая политика.
Ранее я задал вопрос: для чего нужна демократия? Надеюсь, ответ теперь прояснился. Она обеспечивает легитимность прав частной собственности и имущественных прав и делает находящихся у власти еще более могущественными. Да, конечно, она наделяет граждан фундаментальными правами и свободами (пусть и плохо прописанными), чтобы сделать их «частью процесса», поскольку «граждане демократического общества» – это не мятежники, а вечные потребители.
Демократия как власть
Взгляд на демократию с позиций политэкономии – пока еще плохо исследованная тема. А жаль, поскольку под этим углом зрения демократия представляется участницей заговора, суть которого в том, что демократию захватывает рынок/государство, а правящие элиты преобразуют ее в товар, служащий преимущественно интересам государства и частного капитала и являющийся частью единой властной сети. Довольно печальная история у столь красивой идеи и очень гуманного идеала! Но у демократии есть и более позитивный аспект. Дело в том, что демократия более желанна для правящих элит особенно в эпоху экономического спада и усиливающейся неопределенности, поскольку она может амортизировать некоторые социально-экономические потрясения и дать системе бессрочное обоснование для ее увековечивания.
Таким образом, благая весть в том, что фундаментальные права граждан гарантируются в более широком смысле, как неотъемлемая часть стабильности системы. Как отмечает Мансур Олсон, экономическое развитие и демократия требуют наличия одних и тех же предпосылок: «Интересно, что условия, необходимые для обеспечения прав личности, гарантирующих максимально возможное экономическое развитие, – это те же самые условия, которые необходимы для обеспечения прочной демократии… Та же самая судебно-правовая система, независимая судебная власть и уважение к закону и правам личности, которые нужны для создания прочной демократии, требуются и для гарантии безопасности имущественных и договорных прав. Как вытекает из приведенных выше доводов, единственное общество, в котором созданы все необходимые предпосылки для того, чтобы имущественные и договорные права соблюдались на протяжении многих поколений, – это демократическое общество… С другой стороны, большое преимущество демократий – в недопущении чрезмерного социального профицита, которым могло бы пользоваться политическое руководство. У демократий есть еще одна несомненная добродетель: тот же самый акцент на правах личности, который необходим для создания прочной демократии, также необходим для обеспечения прав собственности и соблюдения договоров. Моральные достоинства демократии сегодня признаются почти повсеместно, но ее экономические преимущества и блага недооцениваются и не осознаются».
Другими словами, «демократия» не есть «необходимая фикция», как утверждает Славой Жижек. Напротив, она вполне реальная товаризованная нетоварная продукция на рынке, которая помогает системе успешно функционировать благодаря определенному уровню уверенности в послушании. Этот уровень достигается гарантией прав и свобод, а также за счет легитимации системы.
Выводы
Все более явно становясь служанкой экономической и политической правящей элиты, демократия утрачивает первоначальную привлекательность и широкую социальную поддержку, которая раньше не вызывала сомнений. Это сказывается на основных тенденциях в современной рыночной системе. Происходит деполитизация экономики, в результате чего снижается уровень ее социальной ответственности, и она становится менее отзывчивой. Государство все меньше участвует в системе социального обеспечения; система становится менее прозрачной и более авторитарной и т.д.
Социальные последствия также налицо: от «арабской весны» до всплесков насилия на улицах Лондона. Общество все меньше участвует в процессах управления и чувствует все меньше ответственности. Учащаются вспышки немотивированного общественного гнева, люди проявляют неуважение к закону, нарушаются права собственности, размывается «либеральное сословие». Позитивные демократические процессы заключаются в том, что демократии идут на колоссальный риск, смещая диктаторов, поднимаются вопросы о более справедливом будущем для молодежи, больше внимания привлекается к проблемам защиты окружающей среды, разоблачения инертности элиты и т.д.
Таким образом, спустя 20 лет после крушения коммунистической системы картина вырисовывается тревожная, но не мрачно-унылая. Главный вопрос в том, удастся ли нам заставить демократию «работать», размежевав понятия «демократия» и «рынок» при сохранении свобод и решении социальных проблем? Как это ни удивительно, ответ может быть положительным: это можно сделать без ущерба для рынка, но при этом, по словам Волина Шелдона, «придется изменить существующий порядок вещей и сознание рядовых граждан, которые должны превратиться из зрителей в активных участников процесса». В данный момент мировые и государственные политические элиты еще не готовы для решения этой задачи.

Объединенные нации и Соединенные Штаты
Изменение баланса сил и полномочий во имя международной безопасности
Резюме: ООН не может искусственно вырабатывать международный консенсус там, где его не существует. Она не может быть центром гармонизации национальных интересов, служить посредником между разными странами и примирять их, когда разногласия слишком глубоки, чтобы снимать их дипломатическими методами за столом переговоров.
Холодная война была глобальной схваткой двух сверхдержав. Качественное преимущество в военной силе и ресурсах перед остальным миром позволяло Вашингтону и Москве определять характер международных отношений и формировать повестку дня. Противостояние, с одной стороны, питалось взаимной враждой. С другой стороны, оно являлось следствием непреодолимого конфликта идеологий.
Крах СССР и окончание холодной войны круто изменили направление всемирной истории. Во-первых, Советский Союз проиграл сверхдержавное соперничество с США. Бомбежки Сербии в 1999 г. и расширение НАТО, который все ближе подбирался к границам постсоветской России, заставили ее глубоко прочувствовать всю горечь исторического поражения. Лорд Исмей, первый генеральный секретарь НАТО, сказал однажды, что его цель – иметь американцев под рукой, не давать развернуться русским и держать немцев в повиновении. Теперь же Москва могла с полным основанием считать, что цель альянса – постоянно держать под рукой американцев, не давать развернуться ООН и сохранять в повиновении русских.
Во-вторых, окончание холодной войны ознаменовало торжество плюралистической либеральной демократии над коммунизмом как принципом легитимации политического строя, основанного на монополии государства и жесткой централизации власти.
И, в-третьих, свободный рынок восторжествовал над командно-административной, плановой экономикой.
Но история на этом не закончилась. Теперь неприятности начали преследовать Запад. В Ираке и Афганистане вместо проявлений мощи обнажилась ограниченность возможностей США с их дряхлеющими военными «мышцами», финансовой уязвимостью и политической нефункциональностью. «Превосходящая» западная сила перестала внушать прежний ужас, а злоупотребления военных в ходе «войны с террором» подорвали уважение к западным ценностям. Великий финансовый коллапс Запада (ошибочно называемый глобальным) значительно снизил энтузиазм остального мира относительно западного консенсуса в сфере развития, роста и процветания. Потерпела фиаско политика свободного рынка, торговли и глобализации, пропагандируемая вашингтонской финансовой святой троицей – Казначейством США, МВФ и Всемирным банком.
Рассеялись иллюзии о том, что бесконечное освобождение рынков, ослабление финансового, пограничного и любого другого контроля гарантирует вечный и устойчивый рост и процветание: кто захочет быть следующей Исландией, Ирландией или Грецией? Вместо этого возник интерес к альтернативному «Пекинскому консенсусу»: однопартийное государство, развитие под государственным управлением, строго контролируемые финансовые рынки и авторитарный процесс принятия решений, которые обеспечивают стратегическое мышление, принятие непростых решений и долгосрочные инвестиции. При этом ежедневные опросы общественного мнения не отвлекают китайские власти от выполнения стратегических задач. Подобно Китаю, Индия и Бразилия также начали превращаться в тяжеловесов мировой политики.
Тем не менее, Соединенные Штаты остаются наиболее влиятельным и единственным по-настоящему глобальным игроком. Им нет равных в военном отношении, ни одна серьезная проблема в мире не может быть решена против их воли. США по-прежнему гарант трансатлантической, транстихоокеанской и трансамериканской безопасности.
Единая Европа оказалась меньше, чем сумма составляющих ее частей, она не способна разрешить противоречие между общей валютой и отсутствием полноценной финансовой интеграции, необходимостью двигаться в направлении общей оборонной политики и к политическому союзу. У НАТО больше нет непосредственного врага, и этой организации еще предстоит найти свою роль в системе новых международных связей: будь то национальное строительство в Афганистане и других странах либо участие в вялотекущих военных операциях в Ливии или других горячих точках. Продолжается медленный закат Японии, где правит бюрократия в обстановке правительственной чехарды и постоянной смены премьер-министров. Индия начинает вызывать интерес мирового сообщества, но ее возможности на мировой арене не следует преувеличивать. Россия топчется на месте.
Китай эксплуатирует смятение и неудачи США последнего десятилетия, незаметно завоевывая репутацию наиболее влиятельной и уважаемой силы в странах Азии и Африки. Быстрорастущий экономический вес КНР, который впредь будет только увеличиваться, позволяет ему оказывать геополитическое влияние, не соответствующее его реальной силе. Второразрядная армия Китая не имеет опыта ведения боевых действий в современных условиях и не способна проецировать силу вдали от китайского побережья. Пекину еще только предстоит избавиться от противоречия между экономическим плюрализмом и политической централизацией, способного ослабить страну. Сдерживаемый в жестких рамках капитализм, стареющее население, сокращение производственной и потребительской базы, внутренний региональный дисбаланс и возмущение соседних стран в связи с топорно проводимой воинственной дипломатией Китая будут сковывать развитие этой державы.
Таким образом, за два десятилетия после распада Советского Союза произошли фундаментальные изменения в стратегических, политических и экономических устоях миропорядка. В 1991 г. мир оказался наедине с триумфально шествующими Соединенными Штатами, доказавшими свою исключительность в качестве сверхдержавы, и единственной вселенской организацией, каковой является ООН. Независимо от того, насколько справедлив тезис о незаменимости США или ООН, их отношения действительно можно охарактеризовать как незаменимое партнерство.
В данном очерке я анализирую их совместную деятельность и взаимодействие на стыке идей, идеалов, норм и политики с позиции силы. Происходящее окажет глубокое воздействие на нашу общую судьбу. Прав ли Эдвард Лак, заявивший, что «американский идеализм создал ООН, а американский скептицизм губит ее?» Ни одна другая страна не оказывала столь значительное влияние на создание международной организации или на ее дальнейшую работу. Ни одна другая страна не играет такой роли в определении ее повестки дня и не способна принять поистине роковое для ООН решение, отказав ей в поддержке. Вашингтон вносит самую большую лепту в регулярный и миротворческий бюджет организации, и он больше всего приобретет или потеряет в случае ее успеха или неудачи. Став после своего учреждения международным воплощением либеральных политических ценностей, постоянно испытывая американское влияние при принятии своих главных коллективных решений, ООН неизменно отодвигала на задний план присутствующие в ней антиамериканские элементы.
ООН и озабоченности Америки
В целом Организация Объединенных Наций относилась к интересам, предпочтениям и озабоченностям США скорее с уважением и вниманием, нежели с безразличием. Важнейшим исполнительным органом ООН, принимающим ключевые решения, является Совет Безопасности, который нередко подчинялся воле Америки и благодаря праву вето не может действовать вопреки ее жизненно важным интересам. Пленарным органом ООН является Генеральная Ассамблея, которая, случалось, принимала резолюции в пику американским предпочтениям и ценностям. Самая скандальная из них – резолюция 1975 г., которая приравняла сионизм к расизму (отменена в 1991 г.). Но у Ассамблеи нет обязывающей силы, ее резолюции опираются лишь на нравственный авторитет, поскольку, как считается, они выражают мнение мирового сообщества, на что не может претендовать Совет Безопасности. Однако антисионистская резолюция стала таким вопиющим злоупотреблением уникальной легитимности ООН, что скорее подорвала ее моральный авторитет, нежели узаконила антисемитизм.
Секретариат является международной гражданской службой и, во всяком случае теоретически, сохраняет нейтралитет при голосовании и принятии решений странами-участницами. Во главе его стоит Генеральный секретарь, на выбор которого Вашингтон опять-таки оказывает большое влияние. В 1991 г. большинство членов СБ собирались избрать Салима Салима из Танзании, но Вашингтон счел его слишком радикальным и многократно накладывал вето, пока Совбез, в конце концов, не поддержал Бутроса Бутроса Гали из Египта. Последний слишком часто раздражал американцев своим имперским стилем и политическим несогласием, и в 1996 г. Вашингтон наложил вето на продление его мандата. Вместо него был избран Кофи Аннан, причем в 2001 г. по инициативе Вашингтона его переизбрали на несколько месяцев раньше положенного срока, и он оставался бы в должности, если бы не его выпады против войны в Ираке.
В 2006 г. главное отличие между Пан Ги Муном из Кореи и вторым кандидатам в генсеки Шаши Таруром из Индии состояло в том, что первого поддержал Вашингтон. В 2007 г. он занял пост.
Словом, Устав ООН как свод его руководящих принципов в основном зиждится на западных либеральных ценностях. Структурное доминирование Соединенных Штатов отражено в процедурах голосования и составе главных органов ООН. Организация Объединенных Наций изначально возникла как военный союз между Великобританией, СССР и США. «Большая тройка» не собиралась подчинять свои конкретные национальные интересы абстрактным международным. Глобальная нормативная солидарность едва ли была совместима с официально оформленной мировой иерархией и необходимостью совместно участвовать в одобрении международных юридических и дипломатических норм. Основополагающие элементы системы ООН ведущие державы согласовали между собой на конференции в Думбартон-Оксе и Ялте, и лишь после этого созвали всемирную конференцию в Сан-Франциско в 1945 году.
Не меньше других Соединенные Штаты настаивали на освобождении постоянных членов Совбеза ООН (Китай, Франция, Великобритания, США и СССР) от обязанности предпринимать какие-либо действия в связи с угрозами безопасности, не представлявшими для них интерес. Но при согласии пяти постоянных членов ничто не мешало СБ принять любые меры. Структура и процедуры Совета Безопасности отражают решимость его членов подчинить деятельность ООН своей воле и интересам, не утруждая себя размышлениями о равенстве всех стран.
Западные страны во главе с Соединенными Штатами держали под контролем число представителей в ООН и в начале холодной войны без особой щепетильности использовали свое доминирование против советского блока. Так, место Китая в качестве постоянного члена СБ ООН (не больше и не меньше) до 1971 г. занимал Тайвань, поскольку власть в КНР принадлежала Компартии, противнику в холодной войне. Другие вопросы, при решении которых Запад использовал свой численный перевес, подавляя советские предпочтения и возражения, касались Корейской войны и принятия новых членов в начале 1950-х годов. ООН оказалась Вашингтону весьма кстати также во время вспышки Суэцкого кризиса в 1956 г., когда впервые созданный ооновский миротворческий контингент дал возможность Великобритании, Франции и Израилю сохранить лицо и вывести войска под предлогом передачи полномочий по поддержанию безопасности международным силам. Но когда ООН по просьбе Египта вывела свои чрезвычайные вооруженные силы, и это стало прелюдией к войне на Ближнем Востоке в июне 1967 г., доверие Америки к организации во многом было подорвано.
Рост числа членов ООН из развивающихся стран в 1950-е–1960-е гг., укрепление солидарности «третьего мира» по таким вопросам, как остаточные проявления колониализма в Африке, апартеид в ЮАР, арабо-израильский конфликт и новый мировой экономический и информационный порядок привели к коллизиям между Вашингтоном и большинством Генассамблеи, хотя в Совбезе его интересы были надежно защищены. Использование нефти в качестве политического оружия после войны на Ближнем Востоке 1973 г. еще усилило взаимную вражду и недоверие. В ответ администрация Рейгана на какое-то время перестала перечислять взносы в бюджет ООН и поддерживать ЮНЕСКО.
Несмотря на грубость и незаконность подобной тактики, она принесла политические дивиденды. Постепенно Вашингтон восстановил влияние в системе ООН. Фраза «новый мировой порядок» впервые была произнесена советским лидером Михаилом Горбачёвым в его обращении к Генеральной Ассамблее 7 декабря 1988 года. Она получила дальнейшее распространение благодаря американскому президенту Джорджу Бушу-старшему после того, как ООН дала санкцию на изгнание Ирака из Кувейта (вторжение войск Саддама Хусейна в эту страну в 1990 году). Постепенная оттепель в отношениях между США и СССР/Россией способствовала неожиданному развитию сотрудничества между пятью постоянными членами Совбеза ООН, в том числе по вопросу об окончании восьмилетней войны между Ираном и Ираком. Крах Советского Союза как великой державы означал, что «третий мир» лишился стратегического и дипломатического противовеса Соединенным Штатам, а также конкурентоспособной политической и экономической модели как альтернативы политическому либерализму и рыночному капитализму.
Несмотря на многослойную риторику, администрация Билла Клинтона сделала из ООН козла отпущения после катастрофы в Сомали и так в полной мере и не поддержала Конвенцию о запрете химического оружия. Она возглавила вялотекущую кампанию за ратификацию Конвенции и всеобъемлющий запрет ядерных испытаний и в самые последние дни пребывания у власти представила в Сенат законопроект о статусе Международного уголовного суда.
Теракты 11 сентября 2001 г. породили справедливый гнев и одновременно вызывающее поведение Соединенных Штатов, переставших считаться с мировым общественным мнением, а также с ограничениями на применение военной силы, которые содержатся в Уставе ООН. После исчезновения советской угрозы США стали требовать от ООН поддержки их глобальной повестки. Нападки на организацию приносили неплохие внутриполитические дивиденды при минимальных международных издержках. Отношение администрации Буша-младшего к ООН стало очевидным после того, как постоянным представителем Соединенных Штатов был назначен ярый противник этой организации Джон Болтон. Он не разочаровал своего босса: чуть было не сорвал Всемирный саммит ООН в 2005 г. и не скрывал неприязни к этой организации по другим поводам. Боясь еще больше разгневать Вашингтон, организация быстро и действенно поддержала Америку в войне с террором и продолжает оказывать ему всяческую поддержку в борьбе с международным терроризмом.
После того как Джордж Буш ушел из Белого дома, США решили восстановить свою прежнюю репутацию добропорядочного члена международного сообщества. Вашингтон вернул свои дипломатические активы в Организацию Объединенных Наций, вновь выступил в роли главного защитника прав человека в мире, ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда, от которого Буш открестился в 2002 году. Подтверждена приверженность Женевским и ооновским конвенциям о запрете пыток. После неудачи с Киотским протоколом, который Вашингтон так и не ратифицировал, Америка возглавила переговоры в области противодействия изменению климата. Среди прочих важных и неотложных вопросов повестки дня новой администрации особое внимание уделялось исправлению, оживлению и восстановлению отношений с ООН, которым предыдущая администрация нанесла серьезный ущерб.
Тональность первого выступления президента Барака Обамы перед Генеральной Ассамблеей в сентябре 2009 г. радикально изменилась, что ознаменовало долгожданный возврат Соединенных Штатов к цивилизованным нормам международной жизни и общения. Иное дело, приведет ли это к серьезным и существенным изменениям во внешней политике.
Что ждет отношения между ООН и США в будущем?
Возможно, деятельность Организации Объединенных Наций и не во всем безупречна, но у нее много преданных сторонников. Ее видавшая виды, но легендарная штаб-квартира находится на перекрестке «авеню взаимозависимости» и «улицы многостороннего сотрудничества» на Манхэттене. Однако ее судьба решается на перекрестке «авеню безразличия» и «улицы враждебности» в Вашингтоне.
На протяжении прошлого столетия умами людей постепенно завладела идея международного сообщества, связанного общими ценностями, преимуществами и обязанностями, едиными правилами и процедурами. ООН – институциональное воплощение этой динамики. В этом смысле организация – хранитель наследия международного идеализма и веры в то, что все люди – одна большая семья на планете, святая обязанность которой – мудро распоряжаться ресурсами, оберегая окружающую среду для будущих поколений.
Ее сильная сторона в том, что это единственный вселенский форум международного сотрудничества и управления. В ее символике, универсализме, узаконенных структурах и процедурах заключена вся уникальность авторитетного органа, делающего активность мирового сообщества легитимной.
Отражая эту данность, главные мандаты ООН носят преимущественно нормотворческий характер и направлены на сохранение мира, стимулирование развития, защиту прав человека и охрану окружающей среды. Оперативные планы организации представляют собой стратегии реализации этих по сути нормативных мандатов.
Война – столь же неотъемлемая часть истории человечества, как и стремление к миру. В XX веке этот парадокс проявился наиболее наглядно. Мы вводили многочисленные нормативные, законодательные и операциональные ограничения на право государств начинать войну и, однако же, прошлый век оказался самым кровавым в истории человечества. До Первой мировой войны военный конфликт являлся общепринятым и нормальным способом функционирования государственных систем. Для него были характерны свои отличительные правила, нормы и этикет. В том гоббсовском мире единственной защитой против агрессии была превосходящая мощь, что увеличивало цену победы и риск краха. После 1945 г. ООН разработала целый свод законов, осуждающих агрессию и создающих здоровые нормы мирного разрешения конфликтов.
Организация Объединенных Наций стала главной сценой мирового политического театра. Здесь предотвращались вооруженные столкновения и устанавливались потолки вооружений. Осуществлялись защита прав человека и международное гуманитарное право. Вершилось освобождение колоний, недавно освободившимся странам оказывалась экономическая и техническая помощь, организовывались выборы. Женщины наделялись правами, голодных насыщали, перемещенным лицам, лишившимся имущества, предоставлялся кров, а беженцам убежища. Отсюда координировался уход за больными и помощь в случае катастроф. Все это 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Деятельность ООН, незаметная для глаз непосвященных, – это миллиарды рутинных мероприятий, которые в совокупности глубоко воздействуют на повседневную жизнь людей.
Ни одна страна в одиночку не способна обеспечить мир, процветание, устойчивое развитие и эффективное управление. События 11 сентября решительно доказали, что даже самая могущественная держава в истории человечества не укроется за непроходимыми линиями континентальной обороны. Но хотя террористы разрушили башни Всемирного торгового центра, серьезно повреждены здания Пентагона и в одно мгновение поколеблена самоуверенность американцев, им не удалось уничтожить идею и символику Соединенных Штатов, которые выражены в бессмертных словах Авраама Линкольна о стране, «зачатой в свободе и посвятившей себя идее равенства всех людей».
Но если власть и деньги портят людей, могут ли превосходящая сила и богатство еще больше разложить общество? Реальность неравенства в мире структурирует взаимоотношения между де факто империалистическим центром и всеми остальными. Из-за устойчивой веры в собственную добродетель американцы не спешат освоить международные нормы и ценности, определяющие отношение к выбросам парниковых газов, отмене смертной казни, минам-ловушкам, международному уголовному праву и т.д. Однако подобное самомнение противоречит представлениям других стран и не способствует налаживанию взаимного сотрудничества.
Если сила и власть равнозначны способности проводить ту или иную политику и навязывать конкретные правила игры, то международное признание дает право определять политику и устанавливать правила. США не могут пожаловаться на отсутствие глобального размаха и силы, но не пользуются всеобщим международным признанием. ООН хватает международного авторитета, но она страдает от отсутствия силы, поэтому ее Устав выполняется лишь частично. Объединяя все страны мира и имея штаб-квартиру в Соединенных Штатах, ООН символизирует мировое управление, но не является мировым правительством.
Вашингтону трудно понять, почему ООН не соглашается с тем, что исторически американская сила добродетельна по своим намерениям и благотворна по результатам. Однако международный авторитет ослабевает, когда он служит исключительно интересам сверхдержавы. Нападки администрации Буша на международное право, на страже которого стоит ООН, подорвали власть закона в мире и легитимность организации как авторитетного арбитра, определяющего законность тех или иных действий на мировой арене.
Путь от высокомерия до самообмана очень короток, и администрация Буша преодолела его со спринтерской скоростью. Она не последовала совету президента Гарри Трумэна отказаться от лицензии на вседозволенность и пренебрегла мудрым замечанием Джона Кеннеди о том, что Америка не всемогуща и не всезнающа. На свалку истории выброшена сорокалетняя традиция просвещенного эгоизма и либерального интернационализма, долгое время служивших в качестве руководящих принципов американской внешней политики.
Создание добропорядочного международного сообщества требует, чтобы сила подчинялась авторитету, а не наоборот – нельзя пользоваться законным авторитетом для реализации планов силовой политики. Организация Объединенных Наций стремится заменить баланс сил сильным сообществом и олицетворяет собой мечту мира о верховенстве разума. Это способ поставить войну вне закона и мобилизовать коллективную волю мирового сообщества на сдерживание, арест и наказание нарушителей права. Если Америка – это страна законов, то ООН – это организация, провозгласившая своей целью установление господства международного права. Благодаря Уставу ООН после ужаса двух мировых войн восторжествовала надежда, и пошел на подъем идеализм. Огонек идеализма тускло мерцал в годы пронизывающих ветров холодной войны, но его было нелегко потушить. ООН по-прежнему символизирует наши мечты о лучшем мире, в котором слабость может быть компенсирована правосудием и справедливостью, а закон джунглей заменен на власть закона.
Ирак был не первой и не последней военной миссией США, осуществляемой вне рамок мандата ООН. Корпорация Rand, изучившая боевые операции Соединенных Штатов и миротворческую деятельность ООН, пришла к выводу, что первые обошлись гораздо дороже, как в случае с миссиями США и ЕС в Европе, или менее правомочны, если говорить об операциях, проводившихся неевропейскими региональными организациями. ООН проявила себя более эффективной в менее масштабных операциях, где мягкая сила международной легитимности и политической беспристрастности компенсирует дефицит жесткой силы. Вооруженные манипуляции меньше вредят репутации ООН, потому что в отличие от США военная сила не является источником ее авторитета.
«Сообщество» существует до тех пор, пока его члены разделяют основные ценности и солидарны в определении легитимного поведения. Серьезные разногласия между странами по многим ключевым вопросам мировой повестки дня все чаще служат доказательством того, что чувство международной общности, лежащее в основе всей ооновской деятельности, теряет смысл. Последнее, в свою очередь, зиждется на стершихся от частого употребления понятиях общих ценностей и солидарности. По сравнению с простым и понятным миром образца 1945 г. сегодня все усложнилось ввиду появления новых государственных игроков с несовпадающими интересами и взглядами. Многие из них подвергаются давлению со стороны негосударственных акторов. Перед ними стоят более многочисленные, сложные и трудноразрешимые проблемы, такие как глобальное потепление, распространение ВИЧ-инфекции и СПИДа и ядерный терроризм. Эти вопросы отсутствовали в международной повестке дня в июне 1945 года.
История показывает, что идеал ООН в принципе недостижим, но и отказываться от него нельзя. Удивляет неиссякаемая способность ООН к институциональному обновлению. На протяжении всей истории она постоянно воспринимала передовые идеи, обновлялась политически и накапливала ценные знания в области миротворческой деятельности; много внимания уделялось обеспечению безопасности и прав человека, расследованию преступлений против человечности, международному уголовному правосудию, введению санкций, борьбе с пандемиями и терроризмом и т.д.
Нельзя сказать, чтобы ООН была против реформ, она скорее готова к реформированию. Однако организация не всегда способна проявить оперативность и единодушие, которых от нее ждут. Разрыв между обещаниями и реальными делами неприемлемо велик. Тот факт, что наша планета становится все более миролюбивой, не может служить утешением для беженцев в Бирме, Дарфуре, Ливии или Северной Корее. Защита гражданского населения, которое все чаще становится жертвой вооруженных конфликтов, – это главная задача ООН, от выполнения которой будет зависеть доверие к ее мандату мира и безопасности.
Организация Объединенных Наций останется важным инструментом установления международных стандартов и норм для регулирования взаимоотношений между государствами. Нормы, законы и договоры, касающиеся общемировых проблем – от глобального потепления и распространения ядерного оружия до терроризма и торговли наркотиками, – становятся либо предметом переговоров на ооновских форумах, либо ратифицируются межправительственным аппаратом под эгидой ООН. Гуманитарные операции получили широкое признание, а миротворческие осуществляются на высоком уровне ответственности и производят выгодное впечатление.
Институциональной и политической легитимности международной организации в обозримом будущем ничто не грозит. Поэтому ООН по-прежнему остается единственной светлой надеждой на поддержание постоянства цели и действия в бесконечно разнообразном мире, где проблемы, не имеющие гражданства, требуют таких же наднациональных решений. Обуздание неумеренного национализма и грубого силового взаимодействия должно происходить в международном правовом поле.
При наличии международного консенсуса ООН – самый авторитетный форум для его воплощения в новые нормы, договоры, политические решения и операции. Никакой другой форум не может придать этому процессу более эффектную и действенную форму. Однако ООН не в состоянии искусственно вырабатывать международный консенсус там, где его не существует. Она не станет центром гармонизации национальных интересов и посредником, примиряющим разные страны, когда разногласия между ними слишком глубоки, чтобы их можно было снять дипломатическими методами за столом переговоров.
Рамеш Такур – директор Центра разоружения и нераспространения ядерного оружия в Австралийском государственном университете (АГУ), профессор международных отношений в Азиатско-Тихоокеанском дипломатическом колледже при АГУ и доцент Института этики, государственного управления и права в Университете Гриффита. Ранее являлся старшим проректором Университета ООН и помощником Генерального секретаря ООН.

В поисках абсолютной безопасности
Особенности сдерживания во время и после холодной войны
Резюме: Деградация отношений сдерживания привела к тому, что Соединенные Штаты в своих подходах и действиях все чаще стали проявлять недальновидность, граничащую с дефицитом рациональности.
Потомки рассудят, действительно ли в начале ХХI века происходило сжатие истории, ее ускорение, с трудом выдерживаемое нами, людьми этой эпохи, или это наше субъективное, но от этого не менее тяжкое ощущение. В любом случае очевидно, что распад СССР нарушил привычный ход глобального общественного бытия. По прошествии 20 концентрированных лет многое из того, что тогда казалось свободомыслящим индивидам идеологическим абсурдом, представляется более осмысленным.
Сдерживание по-советски
Так, теперь стало ясно, что мировая социалистическая система действительно являлась Системой, а социализм представлял собой все-таки особую общественно-экономическую формацию, а не просто разновидность госкапитализма с идеологическим оформлением, рассчитанным на рабочих, крестьян и наивных интеллигентов. Подчиненные жестким императивам социалистического государства, полностью лишенные политической свободы советские люди своим трудом, долголетним вынужденным аскетизмом и служением идее (особенно на начальных этапах истории СССР) создавали идеологическую альтернативу Западу и тем самым заставляли оппонентов совершенствовать свою модель, развивать демократию и расширять социальные гарантии.
Двигателем и основой Системы являлся Советский Союз. Держава с огромным – мирового значения – экономическим потенциалом, разнообразными и неплохо мобилизованными информационными ресурсами, мощным и высокопрофессиональным внешнеполитическим аппаратом. И главное – с военно-промышленным комплексом, сопоставимым с ВПК Соединенных Штатов и их союзников. Помимо самого СССР Система включала в себя союзников-сателлитов, входивших в Организацию Варшавского договора и в Совет экономической взаимопомощи.
Взаимное сдерживание, являвшееся в годы холодной войны стержнем международных отношений, принуждало к разумной осмотрительности. В случае начала прямого военного конфликта США и Советский Союз угрожали друг другу гарантированным взаимным уничтожением. Обе страны обладали таким количеством ракет, оснащенных ядерными боеголовками и размещенных в разных частях обширных территорий, а также в Мировом океане и на стратегических бомбардировщиках (они регулярно осуществляли боевое патрулирование), что полностью уничтожить ядерный арсенал противника даже в результате неожиданного первого удара было нереально. Потерпевшая сторона сохраняла возможность нанести ответный удар с недопустимым ущербом.
Взаимное устрашение предполагало и императивно навязывало рациональный подход к международным отношениям. Рациональность, впрочем, заключалась и в том, что стороны непрерывно совершенствовали свою систему вооружений. Взаимоотношения между Советским Союзом и Соединенными Штатами строились как имманентно конфликтные, но с жестко ограниченными параметрами предельно допустимого в рамках перманентного конфликта.
Система сдерживания, выстроенная в СССР в 1960-е–1970-е гг., базировалась на совокупности факторов. Стратегические ядерные вооружения составляли их ядро. К этим факторам относились также объем ВВП, второй в мире после США, многочисленное дисциплинированное и терпеливое население. (В 1990 г. оно составляло 288,6 млн человек в Советском Союзе и 248,7 млн в США.) Свою роль играли централизованное плановое распределение всех финансовых ресурсов и жесткий контроль их использования.
К факторам второго порядка относились силы и ресурсы военно-политических и идеологических союзников – как входивших, так и не входивших в Организацию Варшавского договора, военные базы и опорные пункты от Вьетнама до Кубы и Сирии. По сути, система сдерживания в советский период зиждилась на всей совокупной мощи государства и страны.
Америка без системного врага
Распад Советского Союза в Вашингтоне восприняли как свою заслуженную победу. Но даже в конце 1980-х – начале 1990-х гг. у наиболее прозорливых из американских интеллектуалов ощущение триумфа имело привкус горечи. СССР повержен – куда и как дальше? Эти вопросы приходили в голову, еще не в рефлектированном виде. Ответа на них не было, нет его и сейчас.
Исчезновение системообразующего противника привело США к некоторой утрате ориентиров, простую дуалистическую схему требовалось заменить не менее понятной и простой. Но резко изменившаяся действительность такой возможности не предоставляла. Вплоть до 11 сентября 2001 г. вообще никто в мире не выступал в роли открытого противника Соединенных Штатов. Ирак, Иран, КНДР имели абсолютно несопоставимые с США военные, экономические, информационные возможности. В идеологической сфере вполне традиционный национализм Саддама Хусейна являлся не более чем дежурной фрондой страны бывшего третьего мира. Иран предлагал проект исламской революции, обращенный к государствам, в которых мусульмане составляли большинство. Но в 90-е гг. прошлого века уже было очевидно, что идеи Хомейни находили определенный отклик почти исключительно среди шиитов, да и то в угасающей степени. Корейские идеи чучхе рассчитаны, по сути, только на внутреннее потребление.
Тем не менее, победу над Советским Союзом американцы закрепляли и продолжают закреплять. Вопросы ядерного планирования и развития стратегических ядерных сил никогда не теряли актуальности в Соединенных Штатах. Даже на рубеже 80-х – 90-х гг. прошлого столетия, когда СССР, переживая глубочайший кризис, осуществлял максимально благоприятную для Вашингтона политику, американское руководство исходило из необходимости качественно наращивать ракетно-ядерный потенциал, стремительно увеличивая наметившийся разрыв в военных возможностях двух стран. И при Михаиле Горбачёве точно так же, как при Никите Хрущёве или Леониде Брежневе, США исходили из вероятности военного термоядерного конфликта с Москвой. В Национальной стратегии безопасности (НСБ), подписанной американским президентом в августе 1991 г., утверждалось: «Ядерное сдерживание будет усилено в результате реализации Договора по СНВ и дальнейшей модернизации вооруженных сил США, а также благодаря лучшему пониманию и предвидению развития ядерных сил Советского Союза. Несмотря на подписание Договора по СНВ, советский ядерный потенциал остается существенным. Даже в условиях экономических и политических трудностей СССР продолжает модернизацию стратегических сил. И в новую эру предотвращение ядерного нападения остается главным оборонительным приоритетом Соединенных Штатов».
Национальные стратегии безопасности определяют приоритеты, в соответствии с которыми принимаются законы, подписываются международные соглашения, выделяются финансы на военные программы и разведывательную деятельность. НСБ-1991 устанавливала, что модернизация межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования, стратегических бомбардировщиков и подводных ядерных ракетоносцев будет иметь жизненное значение для осуществления сдерживания в ХХI веке.
После распада СССР Соединенные Штаты стали последовательно закреплять свое военное превосходство, добиваясь увеличения разрыва в масштабах и качественных характеристиках стратегических потенциалов. На одном из брифингов в Государственном департаменте после подписания Договора СНВ-2 отмечалось, что США будут иметь на 500 ядерных боеприпасов больше, к тому же они сохранят морской компонент ядерных сил, сопоставимый по эффективности с наземными межконтинентальными баллистическими ракетами России, подпадающими под сокращение. В Российской Федерации, в том числе в Генеральном штабе, зная и понимая правильность этих оценок, успокаивали себя тем, что возможные потери в военной области будут компенсированы экономическими и финансовыми преимуществами, которые страна получит в результате подписания договора.
В обновленной Стратегической концепции НАТО 1998 г., несмотря на заявления о стратегическом партнерстве США и России и подписание Основополагающего акта Россия – НАТО, было записано положение о необходимости сохранения в Европе американских ядерных сил. Обосновывалось это тем, что даже при дальнейшем сокращении ядерного потенциала России она все равно надолго останется «стратегическим неизвестным».
На протяжении 1990-х гг. в Вашингтоне выкристаллизовывалось убеждение, что военное вмешательство Соединенных Штатов за рубежом не приведет к конфронтации с другой сверхдержавой, и соответственно Америка обрела свободу для проведения военных операций в нужном месте и в нужное время. При этом ядерный потенциал России по-прежнему рассматривался как угроза, но угроза, которая в принципе не могла быть актуализирована. Ни Джордж Буш-старший, ни Билл Клинтон не принимали российское ядерное оружие в расчет в качестве политического инструмента в руках российского руководства.
В 90-е гг. ХХ века, несмотря на существенное сокращение расходов на оборону, не прерывалась последовательная модернизация ядерной триады. Не прекращались научно-исследовательские и конструкторские разработки в области создания как национальной системы противоракетной обороны, так и ПРО театра военных действий. А в июле 1999 г. был подписан закон о национальной противоракетной обороне.
Команда Буша-младшего гораздо в большей степени, чем ее предшественники-демократы, исходила из тезиса, что режимы и соглашения по контролю над вооружениями полезны лишь до тех пор, пока они защищают американские национальные интересы. Неоконсерваторы были готовы стремительно продвигаться по пути создания абсолютной безопасности для Америки, не боясь настроить против себя других крупных международных игроков. Национальная Ассамблея Франции в марте 2001 г. рассмотрела подготовленный по ее запросу доклад об американских планах создания национальной системы ПРО. В документе отмечалось, что данные планы основываются не на стратегическом анализе, а на политической теологии, суть которой в триединстве «фантазма абсолютной безопасности Соединенных Штатов Америки», «мифа о технологическом разрыве» и «дихотомии добра и зла».
После трагедии 11 сентября 2001 г. в США решили ускорить развертывание ПРО, при этом в качестве стратегической цели постулировалась необходимость создания оборонных возможностей для парирования всех угроз, которые в будущем могут возникнуть, а не только тех, что рационально и доказательно предсказаны.
Деградация отношений сдерживания привела к тому, что Соединенные Штаты в своих подходах и действиях все чаще стали проявлять недальновидность, граничащую с дефицитом рациональности. Именно такой иррациональный подход американцы продемонстрировали, начав войну в Ираке. Не из чувств антиамериканизма, а руководствуясь сугубо рациональными соображениями, Москва, Париж, Берлин пытались убедить Вашингтон в нецелесообразности данной операции.
Выход из Договора по ПРО 1972 г. был обусловлен стремлением устранить международно-правовые ограничения на создание системы, которая теоретически делает Америку неуязвимой для ответного и даже ответно-встречного ядерного удара. Развертывание ПРО ознаменовало начало создания условий для полного устранения потенциала сдерживания Китая, а в перспективе и России.
В намерения администрации входило создание многоуровневой системы противоракетной обороны, которая включала бы размещенные на боевых самолетах лазеры, способные уничтожать баллистические ракеты на разгонной фазе полета, ракеты-перехватчики морского базирования, также рассчитанные на поражение ракет противника на разгонной фазе. Помимо этого планировалось размещение на земле ракет-перехватчиков для нейтрализации МБР на средней фазе полета, тем самым предполагалось создание подстраховки на тот случай, когда лазеры и ракеты морского базирования не смогут уничтожить направленную на американскую цель ракету. В итоге к настоящему времени развернуты 24 ракеты-перехватчика на Аляске, шесть – в Калифорнии. Происходит интеграция в единую систему элементов ПРО, создававшихся в рамках различных программ.
Полномасштабное развертывание противоракетного комплекса на Аляске и в Калифорнии обеспечит прикрытие около 90% территории США. Если подобная система будет располагаться в 5–6 районах, то ядерные потенциалы между Россией и Соединенными Штатами будут фактически (с учетом способности перехвата) соотноситься как 1:10 или даже 1:15 в зависимости от конфигурации американской ПРО. С планами развертывания ПРО неразрывно связаны разоруженческие инициативы США в отношении России. Одно из центральных мест занимает стремление добиться заключения договора о сокращении тактического ядерного оружия (ТЯО). В Вашингтоне в политических и экспертных кругах приводится следующий тезис: в соответствии с новым договором по СНВ Россия имеет право на развертывание 1550 ядерных боеголовок МБР стратегического назначения. Но если принимать в расчет ядерные боеголовки не только стратегических, но и тактических средств доставки, то у Соединенных Штатов в настоящее время имеется только 2 тыс. развернутых ядерных боезарядов, у России – порядка 3,5 тыс. При этом делается упор на то, что ситуация с американским тактическим оружием в отличие от российского полностью прозрачна.
Выдвигаются предложения начать переговоры с целью заключения нового юридически обязывающего договора, который включал бы механизм проверки и привел бы общее количество ядерных боеголовок для каждой из сторон к 1 тыс. единиц.
Добиваясь дальнейшего сокращения российских ядерных сил, Белый дом осуществляет поэтапный подход к развертыванию ПРО в Европе. Этапы включают в себя строительство в Турции радара для обнаружения запуска ракет, размещение ракет-перехватчиков в Румынии и Польше, базирование в Испании близ Кадиса военных судов США, оснащенных противоракетами.
Идет постоянное совершенствование ракет-перехватчиков, усложняется технология испытаний. Создаются новые противоракеты SM-3 2A и SM-3 2B с улучшенными тактико-техническими характеристиками. Начиная с 2015 г. в Европе намечено разместить усовершенствованные ракеты. С 1999 г. успешно прошли 53% испытаний (если брать только ракеты наземного базирования, рассчитанные на уничтожение МБР). Число успешных тестов резко упало в 2010 г., возможно, это объясняется изменением технологии испытаний: ранее на ракетах-мишенях устанавливался датчик, облегчающий их обнаружение. Есть предположение, что сейчас просто повысили чистоту эксперимента, убрав эти датчики.
Сдерживание по-российски
Россия по военной мощи – вторая держава в мире, и поэтому наши отношения с США имеют и сохранят совершенно особый характер. Какая бы администрация ни занимала Белый дом, американцы всегда будут исходить из того, что Россия – страна, которая способна нанести ракетно-ядерный удар по Америке, и он приведет к совершенно недопустимым последствиям. Соединенные Штаты могут изменять тактические подходы к России, но в стратегическом плане всегда будут добиваться ее ослабления. Нам, в свою очередь, чтобы иметь стабильные и максимально неконфронтационные отношения с США, надо быть сильными, притом отнюдь не только в военном плане. Опыт Советского Союза показал, что невозможно иметь мощнейший военно-технический потенциал и одновременно неэффективную гражданскую экономику, несвободную интеллектуальную сферу и заблокированную политическую систему. Сдерживание Соединенных Штатов подразумевает наличие как минимум не менее эффективной, чем в Америке, государственной машины, свободной и в то же время сплоченной едиными ценностями нации и рационально функционирующей экономики.
Осуществляемое в настоящее время Россией восстановление системы сдерживания отвечает всеобщим интересам безопасности и возвращения международных отношений в русло рациональности. Но политика сдерживания, осуществляемая ныне Москвой, коренным образом отличается от политики СССР. На данный момент Россия – не просто посткоммунистическая, но и пост-мессианская страна. Кремль не имеет никакого особого идеологического проекта, который был бы обращен ко всему миру. Соответственно система сдерживания России не является составной частью мессианского политико-идеологического плана. И правящий класс, и народ заняты тем, что обустраивают собственную жизнь и хотят иметь твердые гарантии того, что этому обустройству никто не будет мешать.
Е.М. Кожокин – доктор исторических наук, ректор Академии труда и социальных отношений.

Побеждающее многообразие
Надежды 1990-х и современное развитие мира
Резюме: По мере подъема восходящие державы пойдут собственным путем к модернити. Впереди не дорога с односторонним движением к свободным рынкам и либеральной демократии, а мир, в котором эпоха модернити будет иметь много обликов, конкурирующих между собой.
Окончание холодной войны и распад Советского Союза поставили точку в почти полувековой истории биполярности и идеологической конфронтации между капитализмом и коммунизмом. Вскоре после роспуска советского блока многие эксперты провозгласили начало эпохи однополярности, которая ускорит идеологическую конвергенцию на основе западной модели современного развития. Вера в материальное и идеологическое превосходство Запада вылилась в широко распространенное убеждение в том, что, в соответствии с известным высказыванием Франсиса Фукуямы, история близится к своему завершению.
Оглянувшись назад через двадцать лет, мы вправе судить о том, чем завершились попытки предвидеть ход событий в XXI веке. В одном весьма важном аспекте прогноз относительно привлекательности западной модели оказался довольно точным: капитализм одержал верх над альтернативными путями развития. Конечно, в разных странах капитализм проявляет себя по-разному. Но даже там, где у власти остаются коммунистические партии (Китай и Вьетнам, например), управление экономикой осуществляется по законам рынка.
Однако другие направления мирового развития во многом не совпадают с представлениями, царившими в 1990-е годы. Пожалуй, особенно примечательна стремительность, с какой произошло перемещение силы и политического влияния в незападный мир. Китай, Россия, Индия, Бразилия, Турция и другие восходящие державы демонстрируют хорошие темпы роста и политическую стабильность, в то время как демократии Запада переживают нелегкие времена и в экономическом, и в политическом плане. И хотя 1990-е гг. были отмечены впечатляющими успехами в распространении демократии, за последнее десятилетие процесс замедлился, если не обратился вспять. «Арабская весна» свидетельствует об универсальном стремлении к достойной жизни и вере в человеческие возможности. Но пока нет полной ясности, будут ли народные восстания, охватившие Ближний Восток, способствовать продвижению либеральной демократии в регионе.
Данное эссе призвано ответить на вопрос, почему мировое развитие так сильно разошлось с первоначальными надеждами на то, что окончание холодной войны расчистит путь к «концу истории».
Глобальный сдвиг
Ноябрьский саммит «Большой двадцатки» в Каннах ярко продемонстрировал, как сильно изменился мир за двадцать лет. В конце холодной войны «Большая семерка» представляла собой влиятельную группу крупнейших мировых экономик. В нее входили исключительно государства-единомышленники, достигшие примерно одного уровня развития. Сегодня аналогичная группа насчитывает 20 членов, а ее состав отличается большим разнообразием.
В Каннах западные демократии не только оказались в меньшинстве, но и представляли крайне слабую позицию в экономическом и политическом отношении. Государства, входящие в еврозону, изо всех сил пытаются восстановить финансовую стабильность, а Соединенные Штаты – преодолеть замедление темпов роста, высокий уровень безработицы и быстро растущую задолженность. Экономические трудности усугубляет ситуация политического тупика. В зоне евро более двух лет кипят споры о приемлемом плане восстановления финансовой устойчивости. Тем временем в США неоднократные попытки администрации Барака Обамы принять меры по стимулированию роста блокировались расколотым Конгрессом.
Америка долго играла доминирующую роль во многих международных организациях, членом которых она является. Но Каннский саммит явил иную картину. Из-за ограниченности финансовых возможностей Соединенных Штатов президент Обама мог лишь с тревогой наблюдать со стороны за метаниями европейцев, сражающихся с политическим хаосом в Греции. Среди стран, прибывших в Канны с положительным сальдо платежного баланса, фигурируют восходящие державы – Китай, Россия, Бразилия и другие, но они отказались участвовать в европейском фонде помощи и лишь посоветовали ЕС навести порядок в своем доме.
Конечно, значение новой расстановки сил не стоит и преувеличивать. Крупнейшие экономики Запада находятся в состоянии глубокого спада, но, скорее всего, в конечном счете они решат свои проблемы и восстановят нормальные темпы роста. США, Евросоюз и Япония вместе взятые дают значительную долю мировой продукции, и на них приходится более половины военных расходов. И все же встреча «Большой двадцатки» позволила убедиться, сколь серьезен сдвиг, происходящий в глобальном балансе экономических сил.
Если в 1990-е гг. многие аналитики были уверены, что наступает конец истории, сегодня многие ощутили стремительное приближение эпохи многополярности и нового политического разнообразия. Как же получилось, что превалировавшая еще недавно точка зрения оказалась ошибочной?
Прежде всего, большинство наблюдателей чересчур оптимистично приветствовали окончание холодной войны. Они ошибочно приняли распад Советского Союза за окончательный и бесповоротный триумф западных ценностей и западной модели современного развития. Впрочем, был ряд важных исключений – Китай, Куба, Северная Корея и Саудовская Аравия. Но, согласно тогдашним представлениям, эти «оплоты» вскоре должны были рухнуть, не устояв перед привлекательностью западного пути развития.
Оптимизм оказался неоправданным. Демократизация действительно совершила прорыв в 1990-е гг., но впоследствии процесс явно застопорился. Российская «суверенная демократия», китайский «государственный капитализм» и «племенная автократия» Аравийского полуострова – все эти бренды демонстрируют значительные запасы прочности. На большей части африканского континента многопартийная демократия – всего лишь фасад диктаторского правления. Либеральная демократия, кажется, пустила корни в большинстве стран Латинской Америки, но этот регион – не правило, а исключение. Формирующийся мир будет состоять из множества разных режимов; вдоль границ Запада складывается не политическое единообразие, а пестрое политическое разнообразие.
Общепринятые представления о глобализации тоже оказались некорректными. Глобализация должна была привести к «плоскому миру», форсировав принятие всеми либеральных экономических систем, поскольку только они, мол, позволяют эффективно конкурировать на глобальном рынке. Предполагалось, что западные демократии, вследствие своей склонности к свободному предпринимательству, располагали наилучшими возможностями для плавания в океане новой глобальной экономики. Меньше регулирования и больше динамизма как будто бы даст государству возможность лучше чувствовать себя в эпоху глобализации и цифровой технологии.
Однако первоначальные прогнозы на глобализацию в значительной степени не оправдались. Один из таких примеров – Китай, где государство сохранило существенный контроль в экономике. Безусловно, темпы роста рано или поздно замедлятся, и страну ждут немалые экономические и политические трудности. Но впечатляющие экономические показатели КНР позволяют предположить, что государственный капитализм не уступит позиций более либеральным альтернативам.
В то же время западные демократии несут от глобализации тяжелый урон. Соединенные Штаты, Европейский союз и Япония испытывают серьезные трудности. Свою роль, конечно, сыграли политические просчеты, но более масштабная причина – перенос производственных мощностей из развитых в развивающиеся страны, что привело к росту безработицы и стагнации доходов среднего класса по всему Западу. Глобализация и экономика цифровых технологий, от которой она зависит, углубляют неравенство в западных обществах, поскольку в выгодном положении оказываются работники, занятые в сфере высоких технологий, и ловкие инвесторы – в проигрыше «синие воротнички». Долговые кризисы, охватившие западные демократии, только усугубляют положение. Американцы теряют работу и жилье, а европейцы трудятся в условиях строгой экономии, подавляющей рост и ведущей к лишениям. Япония на протяжении более двух десятилетий страдает от стагнации, при этом растут показатели уровня неравенства и бедности.
Сложившиеся экономические условия – основная причина политической слабости ведущих западных демократий. В США экономическая неопределенность провоцирует размежевание по вопросам стратегии развития, поляризацию общества и патовую ситуацию в Конгрессе. В Европе трудные времена создают условия для повышения роли отдельных стран в политической жизни, что чревато фрагментацией Европейского союза, поскольку его члены пытаются вновь утвердить свой государственный суверенитет. В Японии правящая Демократическая партия переживает внутренний раскол и находится в состоянии открытой конфронтации с главной оппозиционной партией – Либерально-демократической. Все эти политические передряги чрезвычайно осложняют Соединенным Штатам, ЕС и Японии задачу решения экономических проблем.
Когда двадцать лет назад распался Советский Союз, никто не мог предвидеть, что разочарование демократией окажется в какой-то момент столь явным. И даже если ведущие демократии найдут выход из нынешнего тупика, не факт, что трудности Запада не снизят привлекательность его модели современного развития как раз в тот момент, когда мир вступает в период непредсказуемых глобальных перемен.
В результате велика вероятность того, что по мере подъема восходящие державы пойдут собственным путем к эпохе модернити, гарантируя тем самым не только многополярное устройство будущего мира, но и его политическое разнообразие. Более того, даже такие прозападные восходящие державы, как Индия, Бразилия и Турция не всегда неуклонно следуют западным путем к либеральной демократии. Напротив, они периодически расходятся с Соединенными Штатами и Европой по вопросам геополитики, торговли, окружающей среды и пр., предпочитая объединяться с восходящими государствами, независимо от их идеологической принадлежности. Интересы более значимы, чем ценности. Впереди не дорога с односторонним движением к свободным рынкам и либеральной демократии, а мир, который будет иметь много обликов, конкурирующих между собой.
Меняющийся Ближний Восток
Другим сюрпризом стала центральная роль Ближнего Востока в глобальной политике. Катализатором послужили теракты 11 сентября 2001 г., которые заставили США вести длительные и до сих пор незавершенные войны в Ираке и Афганистане. Вашингтон, наконец, приступил к сворачиванию операций, придя к пониманию, что хорошая разведка и «хирургические» приемы намного эффективнее в борьбе с терроризмом, чем широкомасштабное вторжение и оккупация. Однако эти войны, отвлекавшие внимание Соединенных Штатов от других регионов и приоритетов, резко увеличили государственный долг и сыграли роль в том, что на правительство оказывается политическое давление. От Белого дома требуют сократить оборонные расходы и выбрать менее обременительный способ участия в мировой политике.
Спустя десять лет стало ясно, что хотя события 11 сентября, безусловно, изменили мир, но не столь радикально, как вначале полагало большинство экспертов. Предотвращение терактов останется приоритетом для всех администраций. Но помимо предупреждения будущих терактов аналогичного или более серьезного масштаба, нежели те, что имели место в Нью-Йорке и Вашингтоне, данная задача не будет доминирующей в стратегии США, как это случилось в предыдущее десятилетие.
Между тем вследствие «арабской весны» Ближний Восток остается в центре всеобщего внимания. Народные выступления, охватившие в конце 2010 г. Ближний Восток и Северную Африку (их распространению частично способствовали новые информационные технологии и социальные сети), на первый взгляд, опровергают приведенное выше утверждение, что мир движется не к единообразию, а к политическому разнообразию. По крайней мере по внешним признакам восстания позволяют предположить, что мусульманский Ближний Восток, наконец, движется в сторону западной модели модернити. По мере того как всплески происходили в одной стране за другой, казалось, что регион стоит на пороге перехода к демократии. Политические стратеги и обозреватели первоначально сравнивали волнения с Французской революцией и падением Берлинской стены, то есть считали, что эти события – исторический водораздел, который знаменует начало эпохи «политики участия» в арабском мире.
Политическое пробуждение Ближнего Востока – действительно примечательное и внушающее оптимизм подтверждение присущих всем людям потребности в уважении и стремления к свободе.
Но когда страсти улеглись, а первоначальная эйфория сошла на нет, стала вырисовываться отрезвляющая картина. Правительства Бахрейна, Ирака, Ливии, Сирии, Йемена и ряда других государств пошли на крайние меры для подавления демонстраций. В случае с Ливией угроза уничтожения повстанцев в Бенгази убедила Совет Безопасности ООН санкционировать вооруженную интервенцию для защиты гражданского населения. Миссия, осуществленная под командованием НАТО, привела к падению режима. Однако внешняя помощь, предложенная оппозиционному движению Ливии, не правило, а исключение. Во многих других странах, охваченных народными восстаниями, автократические режимы подавляют волнения, а западные правительства почти ничего не предпринимают кроме призывов к сдержанности. Репрессии – зачастую очень жестокие – во многих случаях привели к подавлению мятежей.
Как известно, ряд правителей-диктаторов в этом регионе – Зин эль-Абидин Бен Али в Тунисе, Хосни Мубарак в Египте, Муаммар Каддафи в Ливии – были смещены. Но большинство новых правительств, постепенно приступающих к деятельности после ухода диктаторов, хотя и проводят реформы, вряд ли в ближайшем будущем свяжут судьбу своих стран с либеральной демократией. К тому же Египет, хотя это самая большая по численности населения и, пожалуй, наиболее влиятельная страна арабского мира, не стоит рассматривать как законодателя политических тенденций для региона. Египет пользуется политическими преимуществами, которых нет у его соседей. Египетская армия, профессиональный и дисциплинированный институт, прочно связанный с США, сыграл главную роль в отстранении от власти Мубарака и по-прежнему осуществляет контроль за конституционным и политическим реформированием страны. В большинстве стран – соседей Египта нет национальных институтов, способных выполнять посредническую функцию при осуществлении подобных политических перемен.
Кроме того, национальное самосознание египтян имеет глубокие исторические корни, отсюда их социальная сплоченность – редкое явление в регионе, где большинство государств представляют собой политические образования, оставленные ушедшими колониальными режимами. В Ираке, Иордании, Ливане, Сирии, а также на большей части Аравийского полуострова и Северной Африки племенная, религиозная и этническая рознь постоянно одерживает верх над слабым национальным самосознанием. Подобные противоречия долгое время нивелировались благодаря мерам принуждения, и демократизация скорее еще больше обнажит их, чем устранит. Если Египет так неторопливо продвигается к демократии, то большинство его соседей будут продвигаться еще медленней.
Даже если тенденция изменится, а демократия быстро распространится по Ближнему Востоку, он все равно не пойдет по западному пути развития. Чем больше демократии, тем большую роль в тамошней общественной жизни будет играть ислам, пусть даже в умеренной форме вероисповедания. Как показывает статистика, около 95% египтян считают, что ислам должен занимать большее место в политической жизни, а почти 2/3 населения выступает за то, чтобы гражданское право строго соответствовало Корану. То, что влияние ислама на политику растет, не хорошо и не плохо; просто это станет реальностью в той части мира, где политика и религия тесно переплетены. И как бы там ни было, наблюдателям и разработчикам политического курса пора оставить иллюзии, что распространение демократии на Ближнем Востоке равнозначно триумфу западных ценностей.
Более того, стремление обрести достоинство, сопровождаемое возгласами в пользу демократии, вероятно, будет подпитывать и настойчивые призывы к противостоянию Западу и Израилю. Так, опросы, проведенные после падения Мубарака, показывают, что более 50% египтян одобрили бы аннулирование мирного договора Египта с Израилем, действующего с 1979 года. На Ближнем Востоке – в регионе, где живы горькие воспоминания о господстве иностранных держав, «больше демократии» весьма возможно будет означать резкое сокращение стратегического сотрудничества с Западом.
Россия, Запад и остальные
Мир быстро движется не просто к многополярности, но и к многообразию моделей модернити. Это будет политически разнородный ландшафт, в котором западная модель предложит лишь одну из многих конкурирующих концепций внутреннего и международного порядка. Не только хорошо управляемые автократии будут в некоторых случаях более эффективными, чем либеральные демократии, но и развивающиеся демократические государства станут на регулярной основе совместно с Западом управлять одними и теми же компаниями. Можно сказать, что определяющей задачей для Запада и остальных – поднимающихся держав – будет взятие под контроль этого глобального поворота и мирный переход к следующему этапу развития в соответствии с заранее подготовленным планом. В противном случае следует ждать воцарения анархии, когда будут соперничать различные концепции миропорядка, представленные многочисленными центрами силы.
Россия благодаря своему бренду «суверенной демократии», а также статусу признанной державы и члена БРИКС способна сыграть уникальную роль в наведении мостов между западным миропорядком и тем, что придет ему на смену. Москва имеет длительную историю дипломатических и деловых отношений с Западом, пользуется значительным доверием восходящих держав. Более того, усилия по перезагрузке отношений между Вашингтоном и Москвой принесли плоды: по многим вопросам сотрудничество поднялось на новый уровень. Ведется диалог, нацеленный на более полное подключение России к Западу, при этом Москва играет ведущую роль среди восходящих держав. США и Евросоюз могут прийти к выводу, что Россия – полезна как арбитр в переговорах о будущем характере постзападного миропорядка, особенно если Атлантическому сообществу и Москве удастся продвинуться к сближению – возможно, путем включения России в НАТО.
Запад и остальные – восходящие державы – готовы конкурировать по вопросам принципов, статуса и геополитических интересов по мере того, как убыстряется сдвиг в глобальном балансе сил. Задача, стоящая перед Западом и другими государствами, – создать на фоне множества вариантов модернити новый, плюралистический порядок, такой, при котором будет сохранена стабильность и международная система, основанная на четких правилах.
Чарльз Капчан – профессор мировой политики Джорджтаунского университета, старший научный сотрудник Совета по международным отношениям (США).

Воссоздание индустриального мира
Контуры нового глобального устройства
Резюме: В наиболее сложном положении окажутся недавние антагонисты в холодной войне – Соединенные Штаты и Россия. США рассказывают себе сказки о том, что новое столетие будет таким же «американским», как и предыдущее. Россия, похоже, уверовала в то, что весь мир теперь зависит от ее ресурсов.
Случившийся 20 лет тому назад уход Советского Союза с исторической арены стал великим политическим событием, исполненным глубокого смысла. Прежде всего он был, разумеется, интерпретирован как победа демократии над авторитаризмом и либерального порядка над коммунистической утопией. Часто говорилось о превосходстве прагматизма над идеологией, как и о том, что закончилось время идеологизированных обществ. В сугубо геополитическом и военном аспектах вспоминали об успехе НАТО и поражении Организации Варшавского договора. В чисто хозяйственном смысле подчеркивали банкротство модели плановой экономики. Однако, помимо всех активно обсуждавшихся аспектов, существовал еще один, на который обращали куда меньшее внимание.
Экономика переходного периода
Экономические проблемы, приведшие к краху СССР, стали особенно заметны во второй половине 1980-х гг. – но в этот период Советский Союз был не единственной крупной державой, столкнувшейся с трудностями. Не только вторая, но и третья экономика мира переживала не лучшие времена. Япония, успехи которой незадолго до начала «эпохи перемен» вызывали в Соединенных Штатах не меньшие страхи, чем достижения Советского Союза в 1960-е гг., вошла в экономический «штопор» почти синхронно с советской экономикой. В результате если в середине 1980-х гг. Америке приходилось оглядываться на двух потенциальных соперников, то к концу 1990-х на горизонте не осталось ни одного.
Какая, может спросить читатель, существует связь между политическим банкротством авторитарной евразийской империи и временными экономическими трудностями высокоэффективной дальневосточной державы? Между тем связь очевидна: рубеж 1980-х и 1990-х гг. не перешагнули две страны, сделавшие ставку на предельное развитие индустриального типа хозяйства. Плановая и рыночная; полностью закрытая и ориентированная на максимальное освоение зарубежных рынков; глубоко милитаризованная и тотально разоруженная – две совершенно разных экономических системы споткнулись почти одновременно. И на последующие 20 лет стали главными лузерами глобальной хозяйственной системы: их общая доля в мировом ВВП сократилась с 19,6 до 8,8%, то есть более чем вдвое.
Объяснение произошедшему было дано практически немедленно, хотя и не получило такого публичного резонанса, как реакция на политические аспекты краха СССР. В небольшой книге с характерным названием «Безграничное богатство» (Unlimited Wealth. The Theory and Practice of Economic Alchemy) Пол Зейн Пилцер, самый молодой в истории вице-президент Citibank и профессор Нью-Йоркского университета, сообщил читателям о том, что западный мир нашел источник неограниченного богатства: в «постиндустриальную» эпоху наиболее успешные общества, создавая технологии, не тратят, а преумножают собственный человеческий капитал, а продавая технологии, реализуют не сам продукт, а его копии, что, разумеется, никак не сокращает общественное достояние. Поэтому богатство постиндустриального мира не ограничено – в отличие от запасов полезных ископаемых, человеческих и материальных ресурсов индустриального производства.
Всего через несколько лет один из самых известных японских экономистов, Тайичи Сакайя, согласился, что Япония действительно не создала хозяйственных, социальных и ценностных структур постиндустриального общества, остановившись на «высшей фазе индустриализма», что и стало причиной ее исторического поражения. Российские экономисты, понятное дело, занимались в те годы осмыслением совсем иных проблем и вопросов – но можно утверждать, что в глобалистике уже в первой половине 1990-х гг. сформировалось мнение, согласно которому своей доминирующей позицией западный мир обязан прежде всего эпохальному прорыву в сфере информационных и коммуникационных технологий.
Данные представления получили впечатляющие подтверждения. Первый же конфликт постиндустриального мира с традиционным – война в Персидском заливе в 1991 г. – продемонстрировал неоспоримое превосходство США и их союзников. С потерями в 379 человек они разгромили мощную армию, уничтожив не менее 30 тыс. и ранив более 75 тыс. иракских солдат. Несмотря на быстрый хозяйственный рост в Азии, Соединенные Штаты в середине 1990-х гг. впервые за послевоенный период начали наращивать свою долю в глобальном ВВП. Финансовые рынки в Америке и Европе демонстрировали стремительный взлет, тогда как нестабильность индустриальных экономик усиливалась. В 1997 г. начался «азиатский» финансовый кризис, затронувший практически все развивающиеся экономики – при этом рост ВВП в США составил в 1997–1998 гг. в среднем 4,5%, в ЕС – 2,8%. В 1998 г. впервые с 1969 г. федеральный бюджет Соединенных Штатов стал профицитным. С начала 1980-х гг. до минимальных значений конца 1990-х гг. нефть подешевела с 42–44 до 11,8 доллара за баррель в текущих ценах, золото – с 850 до 255 долларов за тройскую унцию, хлопок – со 114 до 32 долларов за тонну, а цены цветных металлов упали в среднем в 2,3–2,6 раза. В то же время индекс акций высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 за 1995–1999 гг. вырос в 6,1 раза. Всего за два месяца, с середины октября по середину декабря 1999 г. прирост рыночной капитализации одной лишь Amazon.com, компании по продаже книг в интернете, превысил общую стоимость 183 млрд кубометров газа, экспортированного Россией в течение 1999 года. Суммарная капитализация высокотехнологичных компаний США весной 2000 г. в 6,7 раза превышала ВВП Китая. Экономическое доминирование постиндустриального мира над остальным человечеством казалось куда более впечатляющим, чем военно-политическое превосходство западного блока над быстро распадающимся союзом социалистических стран за десять лет до этого. Автор данных строк в те годы полностью разделял триумфалистские надежды сторонников постиндустриальной трансформации, хотя и опасался того, что успехи западного мира спровоцируют непреодолимое неравенство, которое станет источником опасной глобальной политической нестабильности.
Однако еще через десять лет стало ясно, что доминирование это оказалось непрочным. Если в 1999 г. ВВП Китая в рыночных ценах был ниже американского в 21 раз, то по итогам 2010 г. – всего в 2,5 раза. Если доходы российского бюджета в том же 1999 г. едва достигали 1,3% от доходов американского, то в 2010-м они составили более 15%. В десятке крупнейших в мире экспортеров сегодня только пять западных стран, а десять лет назад их было девять. Валютные резервы пяти крупнейших незападных стран достигли летом 2011 г. 5,8 трлн долларов, тогда как дефицит бюджетов Соединенных Штатов и государств Евросоюза превысил 2,5 трлн долларов. И в той же мере, в какой тренды 1990-х гг. были следствием не столько геополитических, сколько экономических сдвигов, тенденции 2000-х гг. оказались результатом хозяйственных процессов, а не политических расчетов.
На первой фазе этого цикла можно было предполагать (это, собственно говоря, и делалось), что главными причинами «разворота» стали чисто рыночные, конъюнктурные факторы. Западный мир в конце 1990-х гг. оказал развивающимся индустриальным странам неоценимую помощь, когда не препятствовал обесценению их валют и выдал попавшим в сложную ситуацию государствам значительные кредиты. Общий прирост импорта одних только США из стран Юго-Восточной Азии в 1997–2002 гг. составлял по 35–40 млрд долларов ежегодно, а курс доллара к йене, вону или рупии в 1998–1999 гг. превышал нынешние показатели почти вдвое. Возобновление роста вызвало повышательный тренд на рынках сырья, и уже к 2002 г. цены на энергоресурсы вышли из «ямы» конца 1990-х гг. – но именно вернулись на прежние уровни, а не взлетели вверх. Затем некоторое время казалось, что дальнейший их рост спровоцировала война в Ираке, и он будет таким же скоротечным, как в 1990 году. Однако с 2006–2007 гг. большинству исследователей мировой экономики стало понятно, что речь может идти о смене долговременного тренда. И вскоре мы увидели массу книг, которые – в «зеркальном» отношении к трудам аналитиков начала 1990-х гг. – проповедовали «возобновление» истории, говорили о конце очередной демократической волны и готовили западное общественное мнение к новому этапу противостояния либеральных и авторитарных режимов.
Ошибки футурологов
Чего же не учли футурологи, которые в середине 1990-х годов смело рассуждали о наступлении нового мира и абсолютном доминировании постиндустриальной цивилизации и информационной экономики? На наш взгляд, ошибочными оказались несколько распространенных в те годы гипотез.
Во-первых, сторонники «информационного общества» де-факто исходили из того, что информация является не только крайне важным ресурсом и на нее существует практически безграничный спрос, но и из того, что этот спрос будет поддерживать относительно высокие цены на технологические новации и информационные ноу-хау. Между тем именно этого и не случилось. В отличие, например, от цены среднего автомобиля, которая в Соединенных Штатах с 1995 по 2010 гг. выросла с 17,9 до 29,2 тыс. долларов, или средней цены ночи пребывания в 4-звездочном отеле, выросшей с 129 до 224 долларов, средняя цена ноутбука за тот же период упала с 1,9 тыс. до 780 долларов, а минута разговора по мобильному телефону – с 47 до 6,2 цента. Технологии и высокотехнологичные товары стали стремительно дешеветь, и хотя технологическим компаниям и удается поддерживать высокую капитализацию, объемы продаж остаются не очень впечатляющими.
США, самая технологически развитая экономика мира, экспортирует технологий на 95 млрд долларов в год, что не превышает 0,65% ее ВВП. Apple, самая дорогая корпорация мира, стоит 370 млрд долларов, но продает продукции лишь на 108 млрд долларов. Услуги по предоставлению интернет-трафика все чаще становятся бесплатными, как и услуги многих информационных компаний. «Технологии» можно бесконечно много потреблять – в этом информационные романтики были правы. Но за них не обязательно много платить (а то и платить вообще) – в этом был их просчет. Более того: логика снижения цен в условиях фантастической конкуренции требует перенесения производства «железа» из развитых стран за рубеж. Соответственно, все большие выгоды получают не те, кто создает новые технологии, а те, кто производят основанную на них продукцию. В 2010 г. 39% экспорта Китая, оцениваемого в 1,6 трлн долларов, составили высокотехнологичные товары, созданные на основе американских и европейских изобретений. В итоге в развитых странах сосредотачиваются обесценивающиеся технологии, а в развивающихся – добавленная стоимость. Это, собственно, и есть главный фактор, не учтенный теоретиками «информационного общества».
Во-вторых, совершенно ошибочным оказался тезис о том, что информатизация экономики резко понизит спрос на ресурсы и уменьшит их цену. Данное заключение основывалось на практике 1980-х и начала 1990-х гг., когда масштабная волна материалосбережения действительно снизила потребность в ресурсах. Сегодня на дорогах Германии ездит на 55% больше автомобилей, чем в 1990 г., но потребляют они на 42% меньше бензина, чем двадцать лет назад. В целом потребление нефти за 2000–2010 гг. сократилось в Германии на 11,3%, во Франции – на 12,1%, в Дании – на 16,3%, в Италии – почти на 22%, хотя в среднем размер этих экономик за десятилетие вырос почти на треть. Примеры такого рода можно продолжить. Эта тенденция создает предпосылку для снижения сырьевых цен, но в то же время сокращает расходы на сырье и энергоносители по отношению к ВВП. Если в 1974 г. этот показатель в Соединенных Штатах составлял более 14,5%, то в 2007 г. в ЕС – около 4,3%. Таким образом, западные экономики на протяжении последней четверти ХХ века стали относительно невосприимчивыми к колебаниям сырьевых цен. И когда в начале 2000-х гг. возрастающий спрос на сырье повел цены вверх, никто не попытался этому противодействовать – в отличие от того, что случилось в 1970-е годы.
Более того, повышение качества жизни в постиндустриальных странах породило новые отрасли «зеленой» экономики, которые существенно выигрывали от роста сырьевых цен, так как их разработки признавались все более актуальными и нужными. В результате если в 2000 г. суммарный экспорт нефти и газа принес Саудовской Аравии, России, Нигерии, Катару и Венесуэле 193 млрд долларов, то в 2010 г. он обеспечил им не менее 635 млрд долларов – причем при физическом росте экспорта (в Btu) всего на 14,4%, а по итогам 2011 г. сумма может достичь 830 млрд долларов. Соответственно не только индустриальные, но и сырьевые экономики существенно упрочили свои позиции vis-И-vis постиндустриальных.
В-третьих, постиндустриальные общества, ощутив себя бесконечно могущественными, сделали акцент на сервисном секторе. Он приобрел гипертрофированные масштабы, и его продукция оказалась крайне переоцененной. В условиях глобализации по самым высоким ценам стали реализовываться услуги и товары, предоставление которых не могло быть глобализировано. Соответственно пошли вверх цены на жилье, коммунальные и транспортные услуги, гостиницы и еду в ресторанах. Предпосылкой для этого стало устойчивое снижение цен на импортируемые потребительские товары и информационную продукцию, что обеспечивало рост уровня жизни, а следствием – финансовая несдержанность, основанная на уверенности в постоянном повышении стоимости активов, расположенных в самых богатых и процветающих странах. Средняя цена жилого дома в США выросла более чем вдвое с 1995 по 2008 год. Все большей популярностью начали пользоваться кредиты, а финансовые институты шли на все большие риски. В результате в Америке за 20 лет объем выданных ипотечных кредитов вырос в 3,6 раза, а потребительских – в 3,1 раза. Экономика Соединенных Штатов и (в меньшей мере) иных постиндустриальных стран превращалась не столько в информационную, сколько в финансовую. В сфере финансовых операций, оптовой и розничной торговли, а также операций с недвижимостью в 2007 г. было создано 44,3% ВВП США.
Все это происходило на фоне того, что развитый мир становился для развивающегося поставщиком не столько технологий и товаров, сколько символических ценностей и финансовых услуг. Дефицит торговли товарами между Соединенными Штатами и остальным миром в 1999–2007 гг. составил 5,34 трлн долларов. Причем весь прирост дефицита был обусловлен ростом дисбаланса в торговле с Китаем, новыми индустриальными странами Азии и нефтеэкспортерами. Эти номинированные в долларах средства в значительной мере возвращались в Америку через продажу американским правительством, банками и частными компаниями своих долговых инструментов. К «неограниченному» богатству добавилась возможность беспредельного заимствования, причем на любых условиях; поэтому совершенно правы те авторы, кто считает, что ответственность за возникновение финансовых диспропорций, приведших к недавнему кризису, в равной степени лежит как на развитых, так и на развивающихся странах.
Подводя итог, следует констатировать: в 1990-е гг. постиндустриальный мир породил не неограниченное богатство, а условия для его создания. Он выработал технологии, радикально расширявшие экономические горизонты – но вместо того чтобы воспользоваться ими, предпочел передать их другим исполнителям и ограничиться ролью сервисной экономики и финансового центра. В этой деиндустриализации, против которой еще в 1980-е гг. возражали самые прозорливые исследователи, и лежит причина изменения глобальной экономической конфигурации. Если бы высокотехнологичное индустриальное производство осталось в развитых странах, не случилось бы взрывного роста Азии и других новых индустриальных стран. Не произойди его, не началось бы перепотребления энергоресурсов и сырья, так как экономики развитых стран по материалоэффективности в разы превосходят Китай или Бразилию. Не стоит забывать, что прирост потребления нефти в КНР в 2000–2010 гг. составил 204 млн тонн – почти треть общего потребления нефти в странах Европейского союза. Итог печален: постиндустриальный мир воспользовался лишь ничтожной долей того, что он создал.
По данным Всемирного банка, в государствах, где на НИОКР в совокупности тратится не менее 2,5% ВВП, рост производительности труда за последние 15 лет составил от 1,3% до 2,0% в среднегодовом исчислении. В том же Китае – главном импортере технологий – он достигал 8,2%. По расчетам профессора Йельского университета Уильяма Нордхауса, трансфер технологий в менее развитые страны, а также их несанкционированное копирование привели к тому, что американские инновационные компании за последние 10 лет получили в качестве прибыли всего… 2,2% от созданной на основе использования их изобретений прибавочной стоимости. В глобализированном мире, в котором доминирует свободная и ничем не ограниченная конкуренция, производство технологий становится своего рода производством общественных благ. Задача благородная и возвышенная, но экономически далеко не всегда оправданная.
«Три мира» XXI века
Итак, тенденции, наметившиеся в конце 1980-х и начале 1990-х гг. в экономической сфере, не стали устойчивыми – точнее, возникли контртенденции, которые в итоге оказались более значимыми. Сформировалась совершенно новая глобальная конфигурация, которую – да простят меня читатели за использование уже набившего оскомину приема – можно рассмотреть в форме сосуществования и конкуренции «трех миров».
На одном «полюсе» в этом новом порядке находятся явно «забежавшие вперед» постиндустриальные страны, в первую очередь США и Великобритания: для них сегодня характерна очень низкая доля обрабатывающей промышленности в ВВП (около 10–13%), гипертрофированно разросшийся финансовый сектор, хронически дефицитный характер бюджета и устойчивое отрицательное сальдо внешней торговли. Данные страны выступают при этом средоточием огромного интеллектуального потенциала и, несомненно, обладают большими возможностями для дальнейшего развития. Помимо Соединенных Штатов и Великобритании, к данной категории государств можно отнести некоторые не вполне благополучные государства Европы – Ирландию, Испанию, Италию и Грецию. Разумеется, такое группирование довольно условно, однако эти страны объединяет безразличное отношение к индустриальной политике и безответственное – к собственным финансам. На этот «деиндустриализировавшийся» мир приходится около 20 трлн долларов из оцениваемого в 76 трлн долларов мирового валового продукта, почти половина зарегистрированной интеллектуальной собственности, идеально выстроенная инфраструктура глобальных финансов и 216 из 500 крупнейших корпораций по последней версии рейтинга FT-500, оцениваемые рыночными игроками в 9,8–10,0 трлн долларов. Сегодня эта часть мира испытывает явный дискомфорт, порожденный неуверенностью в собственных силах и необходимостью искать новые «точки опоры» в изменяющейся международной архитектуре. Подобное чувство, однако, отчасти компенсируется ощущением цивилизационного и исторического единства, а также близости социально-экономических систем. Эти страны западного мира показывают остальным картину будущего, которое их ожидает, если тенденция к деиндустриализации возобладает.
На другом «полюсе» сосредоточена разнородная масса государств, поднятых из фактического небытия «приливной волной» повышающихся сырьевых цен. К ним следует отнести Россию, Саудовскую Аравию, Иран, Казахстан, Венесуэлу, Нигерию, Анголу, Туркмению, ряд латиноамериканских стран–поставщиков сырья, и некоторые другие. Общими чертами для них являются весьма высокая доля сырьевого сектора в экономике (более 75% в экспорте и не менее 50% в доходах бюджета), формирование бюрократии как доминирующей социальной группы и авторитарного стиля власти, предельная зависимость от иностранных технологий и инвестиций, а также прямо пропорциональный сырьевым доходам рост бюджетных расходов. На эту часть мира приходится около 5 трлн долларов совокупного валового продукта, но при этом незначительная доля коммерциализированной интеллектуальной собственности и куда меньшее число крупнейших корпораций – всего 19 из 500 с оценкой в 0,8–0,9 трлн долларов. Хотя справедливости ради следует заметить, что многие крупные компании в этих странах принадлежат государству и поэтому будет правильнее увеличить оба этих показателя в 2–2,5 раза. Как правило, в этой части мира не расположены значимые международные финансовые центры, а валюты привязаны к доллару или евро или не являются свободно конвертируемыми. Элиты ощущают себя баловнями судьбы, проповедуют крайне нерациональные модели потребления, а политическое сотрудничество подобных стран всецело декоративно и не способно привести к формированию сколь-либо прочных стратегических альянсов.
И наконец, в центре находятся как «восставшие из пепла» старые индустриальные государства (Германия и Япония), так и новые центры индустриализма (Южная Корея, Китай, Бразилия, Тайвань, Малайзия, Таиланд, Мексика, Польша, страны Восточной Европы и ряд других). Эти страны объединяет высокая доля обрабатывающей промышленности в ВВП (от 23 до 45%), устойчиво положительное сальдо торговли промышленными товарами, развитые внутренние рынки и относительно уверенное движение в соответствии со стратегическими концепциями, определяющими будущее того или иного государства. Сегодня эта группа доминирует на мировой арене с совокупным валовым продуктом в 26 трлн долларов и относительно высокими темпами его роста. Принадлежащие к ней страны в первую очередь выигрывают от разворачивающейся технологической революции; для них (и даже для Японии после 20-летней «коррекции») характерен разумный уровень капитализации внутренних рынков (в этих государствах сосредоточено 139 из крупнейших публичных компаний, оцененных инвесторами в 5,5–5,7 трлн долларов), а валюты являются безусловно доминирующими в своих регионах и, судя по всему, могут в будущем стать основными для новой глобальной финансовой системы. В то же время история, политические системы и формы социальной жизни этих стран настолько отличаются друг от друга, что рассматривать индустриальный центр мира как нечто внутренне единое сегодня не приходится.
Геоэкономика неоиндустриальной эпохи
Хотя индустриальные державы XXI века относительно разобщены, они образуют весьма интересную картину новой «регионализации». В отличие от ХХ столетия, в мире нет единого экономического центра, но нет и оснований предполагать, что вскоре между потенциальными лидерами может начаться борьба за обретение подобного статуса.
Глядя на географическую карту, можно уверенно говорить о трех индустриальных «монстрах», каждый из которых имеет мощную региональную проекцию. В первую очередь это, разумеется, Китай, окруженный рядом более мелких государств, постепенно вовлекающихся в создаваемые им промышленные и торговые цепочки. Доминирование Китая здесь очевидно: ВВП стран-соседей (Южной Кореи, Тайваня, Малайзии, Таиланда, Сингапура, трех государств Индокитая, Индонезии и Филиппин), исчисленный по паритету покупательной способности, составляет около 52% от китайского. Пекину на протяжении нескольких десятилетий будет хватать дел в этой «сфере сопроцветания»: она станет полем приложения как политических (окончательная интеграция Гонконга и присоединение Тайваня), так и экономических усилий (укрепление влияния в Индонезии и Вьетнаме, создание транспортной инфраструктуры и разработка полезных ископаемых в Мьянме, финансовая консолидация в Юго-Восточной Азии в целом).
При этом на окраинах китайской «делянки» присутствуют и два мощных потенциальных соперника – Япония и Индия, которые в конечном счете и определят ее границы. Глобальные устремления Пекина, если таковые проявятся, на протяжении ближайших десятилетий смогут ограничить Соединенные Штаты, которые выстраивают все более серьезный «альянс сдерживания» вместе с уже упоминавшимися наиболее значимыми соседями Китая.
Куда более интересный процесс мы видим в Европе. В 1990-х и первой половине 2000-х гг. Европейский союз, истоки которого восходят к временам франко-германского примирения, расширил границы на восток, начал с Турцией переговоры о присоединении и объявил о программе «Восточного партнерства». Все эти инициативы можно оценивать с разных точек зрения, но нельзя не видеть стремительного формирования новой индустриальной зоны на востоке ЕС, куда (а не в Китай) перебрасывается часть промышленных мощностей из базовых стран Евросоюза. Наблюдаемые ныне финансовые потрясения на таком фоне воспринимаются как кризис, постигший прежде всего страны, которые либо допустили деиндустриализацию (Ирландия, Греция), либо понадеялись на жизнь в долг (та же Греция и Италия), либо смирились с хроническим торговым дефицитом (Испания). Итогом кризиса несомненно станет «приведение в чувство» данных государств и возврат к более сбалансированной германской модели, предполагающей в том числе и сохранение мощного индустриального сектора. В данном случае мы видим куда менее выраженное «количественное» доминирование «ведущих» стран над «ведомыми».
Если отнести к первым Германию, Францию и Нидерланды, а ко вторым – Италию, Испанию, Польшу, Грецию, Чехию, Словакию, Венгрию, Болгарию, Румынию, страны Балтии, а также потенциально тяготеющих к ЕС Украину и Белоруссию, то на обеих чашах весов окажется приблизительно равный по объему ВВП. В данном случае, однако, вряд ли приходится сомневаться в успехе европейского проекта, так как уроки из нынешнего кризиса будут вынесены и усвоены, а привлекательность общеевропейских институтов и европейской модели сделает свое дело. Российскому читателю, традиционно скептически относящемуся к европейскому проекту, я хотел бы напомнить, что современная Европа – один из мощнейших промышленных центров мира, в 1,5–3 раза превосходящий США по объему выпуска основных промышленных товаров – от автомобилей и индустриального оборудования до металлов, химических и фармацевтических товаров. Успех европейцев в нынешних условиях будет означать и успех самой сбалансированной модели развития, сочетающей инновации с продвижением промышленности. Границы зоны проведения этого эксперимента также определены достаточно четко: на востоке – Россия, на юге и юго-востоке – страны арабского мира.
На юге Западного полушария ситуация также выглядит достаточно очевидной. В этой части мира есть свой естественный гегемон: Бразилия, на которую приходится 50,5% ВВП Южной Америки и 52,7% ее населения. На протяжении последних тридцати лет Бразилия демонстрирует впечатляющий прогресс: она стала третьей страной в мире по выпуску пассажирских самолетов и шестой – по производству автомобилей (большинство которых имеют двигатели, работающие как на бензине, так и на спирте); за двадцать лет она смогла увеличить в 4,5 раза доказанные запасы нефти и на основе собственных технологий организовать бурение самых глубоководных шельфовых скважин в мире. В Бразилии в 2002 г. были проведены первые на планете полностью «интернетизированные» выборы, а доля расходов на НИОКР превысила 1,5% ВВП. Сегодня почти в каждой латиноамериканской стране на прилавках магазинов доминируют бразильские промышленные товары.
Стоит, правда, сказать, что Бразилия всегда стояла на континенте особняком и ее португальский язык и культура, не говоря уже о явно доминирующем масштабе, вызывают смешанное отношение соседей. Но, думается, логика экономического развития возьмет верх: Аргентина, которая могла восприниматься как потенциальный соперник, большую часть последнего столетия идет по нисходящей траектории; Венесуэла погрязла в социалистических экспериментах и уже тридцать лет подряд показывает снижение подушевого ВВП; Китай далеко, а отношение к Соединенным Штатам в этой части мира всегда было более чем настороженным. В свою очередь, Бразилия еще более четко ограничена в своей потенциальной экспансии, чем Китай или ведущие европейские страны – и потому можно утверждать, что в «неоиндустриальном» мире XXI века ни один из «новых индустриальных полюсов» не столкнется с другими.
Каждый из этих полюсов, однако, будет реализовывать собственную экономическую стратегию. В Китае она, скорее всего, окажется основанной на массовом производстве относительно стандартизированной и дешевой продукции, направляемой как на внутренний рынок, нуждающийся в насыщении, так и за рубеж – прежде всего в США, страны ЕС, Россию, Японию и государства Ближнего Востока. Основываясь на такой политике промышленного роста, Китай, несомненно, займет место первой экономики мира, утерянное им в 1860-е гг. – как и подобает наиболее населенной державе планеты. В то же время КНР в ближайшие десятилетия вряд ли станет не только экспортером, но даже создателем значимых новых технологий.
В Европе промышленная стратегия будет ориентирована на производство товаров с крайне высокой добавленной стоимостью, предметов престижного и статусного потребления, высокотехнологичного оборудования, а также продукции, позволяющей использовать новейшие приемы энерго- и ресурсосбережения. Рынком для подобных товаров, как и в китайском случае, станет весь мир. При этом сохранится и производство широкой гаммы более «примитивной» промышленной продукции, потребляемой как в самой Европе, так и экспортируемой в соседние страны. Бразильский вариант окажется наименее «глобализированным» и наиболее «фронтальным»: в данном случае будут развиваться самые разнообразные отрасли, причем не только обрабатывающей промышленности, но также сельского хозяйства и добычи сырья.
Неожиданные аутсайдеры
Если исходить из описанной выше логики, в наиболее сложном положении в ближайшие десятилетия окажутся недавние антагонисты в холодной войне – Соединенные Штаты и Россия.
США – страна-лидер постиндустриальной революции, которая принесла американцам как огромные возможности, так и значительные проблемы. С одной стороны, Америка обладает громадной властью над миром и гигантским технологическим потенциалом, с другой – ее мощь более не может проецироваться так, как это делалось прежде, а технологии обогащают конкурентов даже быстрее, чем самих американцев. «Скакнув» в постиндустриальное будущее, Америка оказалась слишком зависимой, во-первых, от импорта огромного количества относительно дешевых товаров, и, во-вторых, от вечного притока кредитных средств или денежной эмиссии. Сегодня уровень жизни в Соединенных Штатах существенно выше того, на который может рассчитывать страна, производящая такие и такого качества товары.
Массовость, которая со времен Генри Форда была ключом к успеху для американцев, теперь работает против них: массовые брендированные товары должны быть дешевыми, чтобы хорошо продаваться, и массовые информационные продукты легко копируются пиратскими методами. В первом случае американцев обыгрывают конкуренты, во втором им не удается – и не удастся – установить выгодные для себя правила игры. И, похоже, путь назад в развитое индустриальное общество для США уже заказан: учитывая условия функционирования своей экономики, Америка могла бы попытаться побороться с Европой за ее «нишу», но тут ей вряд ли стоит рассчитывать на победу.
Россия – страна, деиндустриализировавшаяся по совершенно иному сценарию. Если Америка объективно переросла современную ориентированную на высокие потребительские запросы промышленность, то Россия до нее так и не поднялась. Объективно она не менее зависит от притока средств извне, чем Соединенные Штаты – только им в мире дают в долг или просто принимают в виде платежного средства доллары, а мы добываем их (пока) из земли. При этом, в отличие от США, мы зависим и от притока технологий и высокотехнологичных товаров, так как не производим и десятой доли того их ассортимента, который наши китайские соседи освоили за последние пятнадцать лет. И если американцам сейчас крайне сложно «развернуться» и в какой-то мере вернуться в индустриальное прошлое, то нам не удается добраться до нашего индустриального будущего.
И в том и в другом случае нужны жесткие политические решения, которые бывшие противники по великому противостоянию ХХ века принять не в состоянии. США рассказывают себе сказки о том, что новое столетие будет таким же «американским», как и предыдущее. Россия, похоже, уверовала в то, что тяжелые времена завершились, и весь мир теперь зависит от ее ресурсов, бесконечных и нужных всем без исключения. И вместо того чтобы переосмысливать допущенные ошибки, изучать возможности, которые могут открыться при соединении конкурентных преимуществ той и другой страны с индустриальной стратегией, политические элиты и Америки, и России застыли в оцепенении. Первая не может поверить во встретившиеся на ее пути трудности, вторая – нарадоваться привалившему счастью. Но, видимо, им обеим придется когда-то проснуться.
* * *
История доказывает: линейные прогнозы редко сбываются. Иллюзорные надежды на то, что новые технологические возможности создадут основы неограниченного богатства, не воплотились в реальную жизнь. Безбедно жить десятилетиями, единожды что-то придумав, не получится. Разумеется, мир изменился – но, как показывают события последних лет, не настолько, чтобы списать как негодные устоявшиеся хозяйственные закономерности. Мир XXI века остается миром обновленного, но индустриального, строя. И сейчас для правительств и интеллектуальной элиты каждой страны нет ничего более важного, чем понять, каким будет ее место в новом мире. Понять и добиться того, чтобы это место было возможно более достойным.
В.Л. Иноземцев – доктор экономических наук, председатель Высшего совета политической партии «Гражданская сила»

«Принуждение к партнерству» и изъяны неравновесного мира
Распад СССР изменил международные отношения, но не сделал их гармоничней
Резюме: Международная среда такова, что государство, привлекательное для Америки в роли «подчиненного партнера», имеет мало шансов уклониться от превращения в такового, не рискуя суверенитетом и безопасностью. Такое положение дел – непосредственный итог распада Советского Союза.
Двадцать лет мировая система развивается фактически в отсутствии биполярности. Хотя теоретически потенциал взаимного ядерного сдерживания США и России в военно-силовой области сохраняется, его международно-политическое значение резко упало. Во-первых, потому что несоизмеримо с «советскими временами» в Москве и Вашингтоне уменьшилась политическая воля применять ядерное оружие в большой войне. Во-вторых, оттого что сама такая война стала маловероятной. В-третьих, в результате возникновения за последние 20 лет широкого набора новых способов использования силы, которые позволяют технологически передовым державам добиваться любых практически необходимых политических целей при помощи силового инструментария доядерного уровня.
Изменение смысла войны
Появление высокоточного оружия, гигантский рывок в средствах космической разведки, выход на качественно новый уровень управления боевыми операциями, апробация зарядов с обедненным ураном и иных видов новейших вооружений значительно изменили характер войн. Планируемые и реально ведущиеся войны постядерной эпохи стали меньше по масштабу и сложнее в организации. Классические доядерная и ядерная войны мыслились главным образом как вооруженная борьба с целью разрушить потенциал противника к сопротивлению и принудить его принять твои условия.
Войны постядерной эпохи начиная с нападения НАТО на Югославию стали, по сути дела, международно-политическими кампаниями в такой же мере, как военными. В основу обновленной стратегической логики легла идея не уничтожения враждебного государства, а победы над ним с целью последующего политического и экономического подчинения интересам победителя. Смысл войны сдвинулся от нанесения силового поражения противнику к его «переделке под заказ» нападавшего. В 2000-х и 2010-х гг. политическая составляющая войн не просто стала вровень с военной, а в заметной степени начала перевешивать ее, по крайней мере по размерам затрачиваемых для победы организационных, политико-идеологических, информационных, финансовых, экономических и иных невоенных ресурсов.
Собственно ударно-силовая часть войны начинает выступать не как ее кульминация, а как преамбула, за ней следует растянутый во времени, ресурсозатратный этап, в котором военные не в состоянии обеспечить победу собственными силами. В итоге, с одной стороны, в войны гораздо шире, чем в классические эпохи, оказываются вовлечены гражданские специалисты нетрадиционного профиля – эксперты по пиар-работе, религиоведы, политтехнологи, психологи, социологи, наконец, менеджеры-управленцы.
С другой стороны, возник запрос на военачальника нового типа – не просто талантливого стратега и тактика, но и администратора, способного в равной степени успешно выигрывать военные кампании и налаживать мирную жизнь в побежденной стране, а также обеспечивать переделку этой страны согласно политическому дизайн-проекту, который в начале кампании уже имеется у нападавшего. Идеал командующего сегодня – не боевой генерал типа Георгия Жукова или Александра Суворова, а скорее генерал-реформатор вроде Дугласа Макартура, который не столько «победил» Японию, сколько скроил и утвердил основы ее новой политической системы в годы американской оккупации с 1945 по 1951 год. Этот тип сегодня воплощает генерал Дэвид Петреус, на которого поочередно возлагались миссии по замирению сначала захваченного американцами Ирака, а потом – Афганистана.
Новый тип войны, как и новый тип командующего – продукты изменившегося инструментального назначения боевых действий. В классические эпохи их целью чаще всего становился прямой контроль над тем или иным фрагментом земного пространства с его ресурсами. В нынешнем веке политическая цель нападения – не столько устранение врага, сколько приобретение партнера. Партнера, конечно, не равного, а младшего, ведомого, подчиненного, чувствительного к всестороннему влиянию более сильного участника такого партнерства.
Неравновесные и асимметричные партнерства, конечно, существовали и в прежние времена. Таковы союзнические отношения США со всеми странами НАТО, Японией, Южной Кореей, Австралией. Но эти партнерства складывались постепенно, на базе осознания общности проблем стран-партнеров в сфере безопасности. Причем строились они исключительно добровольно дипломатическим путем.
Новизна опыта ХХI века состоит в переходе Соединенных Штатов к формированию систем подобных партнерств через войну при помощи силы. Такого типа партнеров Вашингтон (и Брюссель?) намерены воспитать из Ирака, Афганистана и Ливии. Пока нет достаточного эмпирического материала для суждений о том, насколько эффективной окажется политика принуждения к партнерству. Но очевидно, что она начинает в возрастающей степени определять международную практику в той мере, как ее распространению способствует наиболее сильная держава – Соединенные Штаты.
Вряд ли случайно, что феномен принуждения к партнерству возник в последние 15 лет. Он не появился бы, если бы у относительно слабых стран была проблема выбора. Но сегодня международная среда такова, что государство, в силу каких-то причин привлекательное для Америки в роли «подчиненного партнера», имеет мало шансов уклониться от превращения в такового, не рискуя суверенитетом и безопасностью. Причина безальтернативности – гегемоническое положение США в мировом раскладе, и такое положение дел – непосредственный итог распада Советского Союза.
При биполярном порядке вербовать новых сателлитов приходилось осмотрительно, с оглядкой, дожидаясь особого стечения обстоятельств. Просто так захватить приглянувшуюся страну было опасно – та могла попросить поддержки у державы-конкурента, что было сопряжено с рисками. С распадом СССР риски исчезли. Часть бывших «братьев по социализму» бросилась союзничать с НАТО – это сулило экономические выгоды. На «переваривание» перебежчиков – включение их ресурсов в пул, открытый для использования Соединенными Штатами – ушло меньше 10 лет.
Потом выяснилось, что приобретенного путем добровольного пожертвования от новых партнеров оказалось недостаточно. Или качество ресурсов оказалось «не тем». Как бы то ни было, Евроатлантический регион со всем его потенциалом показался кому-то мал. НАТО заинтересовалось Азией. А поскольку среди азиатских стран идея радостного и добровольного перехода в ряды «ведомых американских партнеров» популярностью не пользовалась, то и понадобилась логика принуждения к партнерству.
Можно, конечно, ритуально порассуждать о «формирующейся многополярности», «многовекторности», группе БРИКС, Китае, наконец, о бесполюсной структуре мира. Интеллектуальные изыски. Игры разума. Остроумные наблюдения, а более всего – мечтательные или ностальгические гипотезы уважаемых и талантливых русских и иностранных коллег Эдуарда Баталова, Чарльза Капчана, Джона Айкенберри и некоторых других. Дело не в теории и полюсах, а в том, какой тип международного поведения продолжает господствовать. А доминирует тип поведения американо-натовский – наступательный, идеологизированный, с позиции комплексного превосходства и редко допускающий компромиссы. Если структура мира и меняется (в принципе этот процесс идет), то на уровне поведения государств это пока не очень заметно. Игнорировать структурные сдвиги нельзя, но не стоит и переоценивать их реальное значение.
Конфликты: невозможность урегулирования
Падение военно-политической конкурентности международной среды привело к изменениям в сфере урегулирования вооруженных конфликтов, где теперь преобладает одностороннее начало. Почти все серьезные региональные конфликты эпохи биполярности были конфликтами на истощение, помимо непосредственных участников к ним оказывались прямо, а чаще косвенно причастны несколько сильных и средних держав. Так было в Камбодже, на юге Африки, в Центральной Америке или Афганистане на «советском» этапе войны. Соответственно, эти конфликты завершались довольно широким многосторонним урегулированием, которое в ряде случаев красиво именовалось «национальным примирением». За вычетом особого случая Афганистана, такие примирения, в общем, сработали удовлетворительно.
Сегодня ничего похожего не случается. Урегулирования как таковые практически не происходят. За 20 лет можно вспомнить, кажется, единственный случай более или менее жизнеспособного урегулирования на многосторонней основе – национальное примирение в Таджикистане. Случайно или, напротив, показательно, что участие Запада в нем было минимальным. Выходит, и оно не было в полном смысле слова «равновесным», то есть выработанным при симметричном участии западных, прозападных и незападных сторон.
Значит, симметричные урегулирования вообще перестали работать в условиях отсутствия биполярности, а несимметричные работают не так, как прежде, в силу того, что в их основе не компромисс (баланс интересов), а подавление интересов менее сильной стороны интересами более сильной.
Вероятно, отсюда – заметный рост числа замороженных, но не урегулированных конфликтов – карабахского, приднестровского, югоосетинского, отчасти даже израильско-палестинского. Трудно признать дипломатически оптимальными или даже удовлетворительными решения по косовскому, абхазскому, северокипрскому вопросам. Более сильные стороны навязывают свои решения, но не могут обеспечить им необходимую международно-политическую поддержку. Односторонний тип регулирования преобладает независимо от того, Запад или не Запад оказывается его движущей силой. Стороны используют разные обоснования своих действий, но модель их поведения одинаково бескомпромиссна.
Любопытно, что прочность таких урегулирований должна вызывать серьезные сомнения, но реальность свидетельствует об ином. Подобные бескомпромиссные и в известном смысле незавершенные, неполные урегулирования демонстрируют относительную долговечность. Их, по-видимому, уже можно принимать как непризнанную норму, новый работающий инвариант конфликтного управления в XXI веке. Стоит ли в этом случае продолжать попытки втиснуть урегулирования подобных конфликтов в наши представления о том, «как все должно быть», если они сложились в биполярную эпоху и в этом смысле полностью не соответствуют современным реалиям?
При всей важности формально-правового оформления урегулирования в действительности важнее то, насколько эффективно может или не может обеспечивать мир и развитие решение, найденное эмпирическим путем, даже если его юридическое закрепление затруднено или невозможно – не в принципе, а в обозримой перспективе.
Отсутствие противовеса Западу в лице СССР привело к принципиальному изменению типа урегулирования международных конфликтов, сделав условия урегулирований менее сбалансированными, более односторонними, но тем не менее иногда довольно прочными. Не разумно ли признать объективный характер этого изменения и перестать тратить ресурсы на решение тех проблем, которые фактически уже прошли стадию «самоурегулирования» (как, скажем, в Кашмире) или были разрешены силой, с явным преобладанием интересов только одной из сторон, но достаточно глубоко и надежно (Босния, Косово, Абхазия, Карабах).
Интригует еще один аспект современной конфликтности. Если все перечисленные ситуации начинались как местные свары без участия больших стран, то конфликты 2000-х гг. возникли как прямое следствие нападения Соединенных Штатов на относительно слабые азиатские государства. Конфликты 1990-х гг. выглядят результатом более или менее спонтанных выплесков взаимной неприязни или непонимания соседствующих этнических групп и народов. Войны 2000-х гг. спланированы одной страной и кажутся подчиненными сквозной логике, исходящей из единого центра.
Их формальная идейно-политическая подоплека – демократизация при помощи силы. Реализуемая на наших глазах химера, по сравнению с которой меркнут марксистские догмы экспорта социалистической революции. Но идеология насильственной демократизации – прикрытие. Стратегический итог конфликтов 2000-х гг. выглядит как не вполне успешная попытка консолидации части международной периферии под эгидой США и на условиях ее превращения в зону преимущественно американского влияния. Отсутствие соперничества за влияние в этом поясе международно-политического пространства делают процесс такой консолидации полностью зависящим от воли и ресурсов Соединенных Штатов. В отсутствии Советского Союза ни Китай, ни Россия не могут и не стремятся помешать Вашингтону придать этому пространству наиболее выгодную ему конфигурацию.
Рыхлая, разреженная в конкурентном отношении международная среда провоцирует желание наиболее напористой части американского истеблишмента приобретать позиционные преимущества в материковой части Евразии с прицелом, по всей видимости, на возможное соперничество с Китаем. Урегулирование конфликтов с участием США не является урегулированием. Оно представляет собой силовое подавление очагов сопротивления экспансии военной ответственности НАТО на стратегически важные азиатские территории.
Причем вот уже 20 лет это подавление носит профилактический характер. Оно осуществляется с опережением, под предлогом необходимости демократизации мира и в любой точке планеты, если контроль над ней начинает казаться американскому истеблишменту необходимым для укрепления глобального превосходства, которое, в отсутствие СССР, Соединенные Штаты намерены сохранять как можно дольше.
Неслучайно в Вашингтоне с таким негодованием реагируют на строптивость Ирана – сильного и откровенного противника американизации Среднего Востока и северных фрагментов Южной Азии. Иран, не включенный в систему американских «подчиненных партнеров» и враждебный США, – брешь в том, что в перспективе может стать поясом дружественных Вашингтону государств от Северной Африки до Центральной Азии и границ с КНР.
Индия: модель партнерства на расстоянии
Россия после 1991 г. отступила по всем параметрам международной мощи и не достигла за 20 лет положения и статуса, которым обладал Советский Союз. Незападные страны выиграли от этой перемены не меньше, чем Запад. Китай и Индия смогли реализовать преимущества, которые обрели в 1990-х гг., когда Соединенные Штаты, не встречая сопротивления Москвы и ввиду маргинализации ее влияния, стали уделять этим государствам нарочито много внимания, желая предотвратить их возвращение к блокированию с Москвой против Вашингтона.
Особенно контрастной (по сравнению с эпохой биполярности и неприсоединения) выглядела международная переориентация Индии. В этом случае, вероятно, произошло уникально удачное для Дели наложение историко-экономических и международно-политических обстоятельств. Насколько можно судить, объективный ход социально-экономического развития Индии привел ее в 1990-х гг. к рубежу, когда для дальнейшего рывка стране был остро необходим приток передового технологического опыта, зарубежных инвестиций и общего прироста связей с наиболее развитыми государствами.
Советский Союз, даже если бы он сохранился, роста качества международных отношений Индии обеспечить бы не смог. Напротив, полувековая (и обоснованная военно-политической обстановкой) ориентация «скорее на Москву, чем на Вашингтон» была препятствием для «переброса внимания» Дели на связи с Западом. Разрушение СССР устранило это препятствие разом и совершенно безболезненно для Индии.
Примерно к этому же времени стало очевидным «истощение наследия» традиционного гандизма. Внутри страны сложилась двухполюсная политическая система. К руководству Индийского национального конгресса пришли новые люди, которые избегали разрыва с идейными ценностями Неру-Ганди, но обладали способностью подвергнуть их переосмыслению, избежав обвинений в ревизионизме. Новые политики отдавали должное важности сотрудничества с Москвой, но понимали, что не с его развитием связаны приоритеты страны.
Индия успешно включилась в экономическую глобализацию. Благодаря аутсорсингу индийские наукоемкие предприятия стали работать на американские корпорации, обогащая себя, принося доходы заокеанским корпорациям и наращивая индийский производственно-технологический потенциал. Сложилась экономико-производственная база индийско-американского сближения, так сказать, его материальная основа, «плоть» на «костях» возникшего политического интереса Дели и Вашингтона друг к другу.
Вопреки собственной воле, Индии «помог» и Пакистан. Подточенный внутренней борьбой между военными и гражданскими элитами, противостоянием центральной власти с племенным национализмом и сепаратизмом, наконец, борьбой светской власти с исламскими экстремистами Пакистан в 1990-х и 2000-х гг. перестал быть оплотом американской политики в Южной Азии.
Хуже того, обретение им в 1998 г. ядерного оружия в сочетании с внутренней нестабильностью создало угрозу «исламской бомбы» – опасность, которая способствовала сближению США с Индией и не только с ней. Индийская дипломатия смогла перехватить у Пакистана роль привилегированного партнера Соединенных Штатов в региональных делах. Вашингтон занял благоприятную для Индии позицию по поводу ее «нелегального ядерного статуса» и признал особенности позиций Дели по ряду международных вопросов. Сложилась нетипичная для биполярной эпохи ситуация американо-индийского партнерства, которое в основном заменило собой традиционную схему американо-пакистанского союза.
Пакистан не просто утратил прежде главенствующее положение в системе американских приоритетов в Южной Азии. В Америке стали разрабатываться сценарии, при которых Пакистан в результате внутренних катаклизмов (захват власти религиозными фанатиками) мог оказаться гипотетическим противником американской политики в регионе. Как бы то ни было, Индия оказалась привилегированным региональным партнером США – это было внове.
Но непривычно и другое. Индия не производит впечатления младшего партнера Вашингтона. Между тем хорошо известно, что равных партнерств американская внешнеполитическая традиция не признает. Это одна из главных причин того, что вот уже 20 лет не удается выстроить систему партнерства Соединенных Штатов с Россией. Поэтому и партнерство Дели с Вашингтоном – довольно специфический феномен, в котором элемент партнерских отношений уравновешен элементами самостоятельности Индии. Ощущая и признавая возросшую привязанность к американской экономике и политике, Индия не позволяет своей внешней политике «раствориться» в американской, стать ее очередной регионально-страновой эманаций – подобно внешней политике Великобритании, Японии или Польши.
С точки зрения американской традиции, в той мере, в которой Индия сохраняет свою внешнеполитическую самостоятельность в отношениях с США, американо-индийское сотрудничество и партнерством-то считаться не может. Разве что отношения Вашингтона и Дели представляют собой новый для Соединенных Штатов тип «партнерства на расстоянии», «отстраненного партнерства», то есть не особенно тесного.
Любопытно, что Индии в отношениях с Америкой отчасти удается то, что не удается России. Правда, специфика партнерства Дели с Вашингтоном состоит в том, что Индия пока больше приобретает от него, чем теряет. В этом состоит его отличие от квази-партнерских отношений Соединенных Штатов с Россией, в которых Москва при каждой попытке сблизиться с Вашингтоном теряет часть свободы действий – прежде почти безграничной. Индия, никогда подобной свободы действий не имевшая, не ощущает и ее ограничения, развивая сотрудничество с Вашингтоном, тем более что индийско-американские расхождения по пакистанской проблеме временно потеряли значение.
«Отстраненное партнерство» позволяет Индии сохранять конструктивные отношения с Вашингтоном и одновременно, не затрудняя себя самооправданием, участвовать во встречах БРИКС и связанным с этим, впрочем, не особенно активным дипломатическим и экономическим маневрированием. Распад биполярности и обессмысливание неприсоединения не помешали Индии использовать новые характеристики глобальной ситуации себе во благо. Вряд ли индийцы ностальгируют по СССР, хотя, возможно, они ему признательны – не только за исторические заслуги в деле укрепления независимости Индии, но и за объективное расширение пространства международного маневрирования, которое для них открылось после 1991 года.
«Стратегическое партнерство» по-китайски
Китай – другая история. В отличие и от России, и от Индии он не провозглашает стремления строить особенно близкие отношения с Вашингтоном. В Пекине слишком высоко ценят свободу рук. Для Соединенных Штатов партнерство – это своего рода режим американского покровительства для кого-то, кто таковое (по любым причинам) принимает. Партнерство по-китайски – это «партнерство символов и дальних целей»: «мы дружим против некой опасности», но каждый из нас дружит так, как считает это правильным и необходимым – лишь бы его действия не противоречили провозглашенной цели дружбы. Оригинальный, но работающий вариант.
Такой была логика китайско-американского и китайско-японского партнерства против «гегемонии одной державы» (читай – СССР) с 1972 г. приблизительно до XII съезда КПК в 1982 году. Много иногда пугающих намеков и заявлений, демонстративное, почти бурное дипломатическое маневрирование и… практически нулевой уровень реальных совместных действий.
В 1990-х гг. и позднее изменилась риторика. Но логика, похоже, сохранилась. Это китайская дипломатия внедрила в международный лексикон словосочетание «стратегическое партнерство». Но ни один специалист в КНР, России или США не знает, что это в действительности означает. Известно только, что такими «партнерствами» Пекин связал себя с широким кругом стран – больших и средних. Среди них – Соединенные Штаты и Россия, государства Центральной Азии, Япония и Южная Корея, некоторые страны Евросоюза и Юго-Восточной Азии.
Такое мудреное отношение к партнерству позволяет Пекину без всяких идейно-теоретических и политико-философских осложнений прагматично развивать отношения одновременно с Россией, Америкой, Индией – державами, в международных приоритетах которых бывает трудно найти общий знаменатель. Китайская дипломатия и не отягощает себя его поиском. Сотрудничество КНР с каждой из названных стран развивается словно в параллельных мирах. Если предстоит ссориться по вопросу о Сирии в Совете Безопасности ООН, то приоритет – дипломатический блок с Москвой. Если обсуждаются торговые преференции и режимы инвестиций в Восточной Азии, главное – взаимодействие с США и Японией. Если наступает очередной цикл ссор вокруг Тайваня – снова выдвигается незыблемость «единых» подходов Москвы и Пекина к территориальной целостности государств. Получается, «стратегическое партнерство» – это в основном взаимное решение «дружить долго и счастливо», не отягощая друг друга обязательствами об оказании практической помощи, но говоря о такой помощи и обещая ее оказать по возможности, если она не будет слишком затратной.
Трудно сказать, временным или принципиальным является такое отношение КНР к партнерству. Нередко кажется, что на самом деле Китаю очень симпатично американское понимание партнерства как партнерства ведущего с ведомым. Просто пока Китай еще не готов вести за собой слишком многих. В Пекине раньше, чем в Москве, признали: ведомые партнеры – бремя, которое должен нести тот, кто претендует на роль ведущего – к вопросу об отношениях России с соседями по СНГ.
«Школа Дэн Сяопина» научила китайцев соизмерять желания с возможностями. Поэтому для Китая вероятное освоение американского понимания партнерства – вопрос будущего. Пока китайская дипломатия действует на платформе необременительного «партнерства при желании и по возможности». Его и называют стратегическим. Словом, партнерство как ненападение.
Отношение Китая к нынешней России тесно переплетено с его отношением к советскому наследию. Не Россию, а скорее себя самого Китай видит восприемником той международной роли, которую 20 лет назад играл Советский Союз. Складывается впечатление, что в КНР испытывают даже некоторое чувство неловкости за русских политиков и просто граждан, которые недооценивают советские достижения, успехи культурного строительства и социального обустройства жизни в СССР – во всяком случае в период 1950-х – 1980-х годов.
Отсюда – многослойное восприятие современной России. С одной стороны – законная владелица исторического наследия, ценность которого сама не хочет и не может оценить должным образом. С другой – государство, которому в очередной раз не удается стать сильным настолько, чтобы проводить политику, достойную великой державы. Как, например, сохранить такую же степень независимости в международных делах, как у Китая, и одновременно быть столь же привлекательным экономическим партнером, как он, для стран, которые относятся к России с недоверием – прежде всего США?
С третьей – это страна, хоть и уважаемая, но доступная – объект использования в интересах возвышения самого Китая, который может, хочет и находит пути мирного освоения ресурсов России, не вступая с ней в открытое противоречие, но принимая во внимание все пороки российского государственного организма и общества. Вроде бы китайцам неловко так поступать, но если сами русские от эгоизма и алчности не могут навести порядок в своих делах, то почему надо упускать шанс воспользоваться системными пороками русской жизни ради своей страны. Горькие мысли – о нас, а не о китайцах.
Россия: власть как инструмент извлечения прибыли
Обманутая Борисом Ельциным, которого и самого одурачил Леонид Кравчук, Россия отреклась от Советского Союза в надежде быстро разбогатеть, избавившись от добровольной повинности субсидировать Закавказье и Среднюю Азию. Спустя 20 лет международно-политические издержки этой схемы заметней выигрышей.
Прежде всего сократился внешнеполитический ресурс России, который до сегодняшнего дня не достиг того, которым располагал СССР. Во-первых, не компенсирована материальная основа дипломатической работы. Ни одно новое российское посольство в странах СНГ не оснащено так, как полагалось оснащать советское представительство за рубежом в техническом отношении и с точки зрения обеспечения комплексной безопасности, включая защиту информации. Между тем, во всех странах СНГ спецслужбы широкого круга заинтересованных стран-конкурентов ведут активную разведывательную деятельность.
Во-вторых, сократился организационный ресурс российской дипломатии. 20 лет происходило вымывание с дипломатической службы кадров высшей квалификации за счет естественного старения, перехода в российский и иностранный бизнес или просто «утечки за рубеж». При этом привлекательность дипломатической работы для молодых упала ввиду недостаточного по современным критериям денежного обеспечения и невозможности получить жилье для того, чтобы обзавестись семьей и включиться в нормальный цикл биологического воспроизводства дипломатических кадров – во многом потомственных.
В итоге в целом уровень профессионализма дипломатов перестает расти, а многие уникальные квалификации дипломатических работников старой советской школы – прежде всего профессионалов-переговорщиков экономического и военно-политического профилей – оказались утерянными или находятся на грани утраты. При этом самостоятельное экономико-переговорное направление в работе официальной дипломатии не складывается из-за его малой востребованности: компании пытаются вести переговоры с зарубежными партнерами самостоятельно, а часто – скрывая эти переговоры от дипломатов в силу того, что содержание обсуждаемых сделок бывает «теневым» и «полутеневым».
В-третьих, невосполнимый ущерб понес ресурс культурно-психологического и идеологического влияния России, поскольку представлять образец жизненной привлекательности сегодня она в состоянии разве что для стран СНГ и ряда азиатских государств. При этом изменения в культурно-психологическом образе России, делающие ее комфортной для выходцев из Азии, снижают привлекательность российского образа жизни для носителей западных вкусов и стандартов.
Вспомним нескончаемые ряды ресторанов не русской, а кавказской кухни, азиатско-кавказские по виду, порядкам, обхождению и ассортименту товаров бывшие городские рынки Москвы и Санкт-Петербурга, наполовину азиатский облик пассажиров столичных метро и связанные с таким составом жителей разговорная и иная манеры общения. «Азиатизация» и «провинциализация» поведения затронула даже более образованную студенческую среду. Вместо того чтобы учить приезжих, например, кавказских соучеников (провинциалов, тяготеющим к полусельскому укладу жизни) хорошим столичным манерам, русские студенты сами перенимают у кавказцев их фамильярный «свойско-аульный» тип общения, пренебрежение к правилам городских приличий и культурного обхождения.
Поведение таксистов-частников и автолюбителей на российских дорогах – просто канон традиционной для советских лет «езды без правил» на дорогах Закавказья. Сегодня этот стандарт перенесен в столицу. Рассорившись с Грузией, мы делаем свою столицу похожей на «о-о-чень большой» Тифлис, Владикавказ или Баку. Юрий Лужков заложил коррупционно-бюрократическую основу московского процветания. Но он же дал старт азиатизации Москвы. Город, привлекательный для тех, кто алчен и беден, не ценит европейскую культуру и не собирается соблюдать закон. Как сломать этот низводящий нас тренд?
В-четвертых, трем правителям за 20 лет не удалось снять Россию с нефтегазовой иглы. Лишь к началу 2010-х гг. были сформулированы приоритеты поворота к наукоемкой экономике и сделаны неуверенные шаги, формально ориентированные в ее сторону. Государство снова сосредоточило в своих руках гигантскую власть и вернуло способность обеспечивать концентрацию средств на приоритетных направлениях. Но эффективность усилий по созданию наукоемкого сектора блокирована системой распределения бюджетных средств на основе «распила». Власть по сути дела не может ее разрушить в силу органичной встроенности этой системы в государственную машину со времен Ельцина.
Провинции после распада СССР вернулись к системе «кормления», мало изменившейся с русского средневековья. Лишившись надежд обогащаться за счет лояльности к федеральной власти, региональные элиты обратились к поиску доходов на местах. Для тех, кто обладал предприимчивостью, это было решением проблемы. Умение находить местные доходы, скрывая их от федерального и регионального налогообложения, стало ключом к богатству и власти. Провинции и провинциальные элиты научились жить и выживать без Москвы – беднее, чем в столицах, но не так уж плохо.
В сущности, они лишь повторяли опыт московского мэра, который тоже сумел отделить столичную городскую экономику от экономики общероссийской, отыскав такие источники местных доходов, которые в реальном измерении превосходили бюджеты многих федеральных ведомств.
В международном смысле особый интерес представляли практики общения региональных властей, включая столичные, с этнобизнесом – чужестранным, но не только с таким. Большинство руководителей русских провинций считают себя патриотами. Русские лозунги вне этноадминистративных субъектов федерации котируются высоко. Но все меняется, едва возникает соблазн обрести местный неучтенный доход. Например, от продуктового рынка, которым верховодят азербайджанцы, вещевой барахолки, подконтрольной вьетнамцам, или от нелегально поселившейся в заброшенной деревеньке китайской общины, которая завалила местный рынок отличной овощной продукций, оставаясь при этом «условно невидимой» для налоговых органов.
Не в этой ли укорененности практики местных «невидимых доходов» муниципальный властей, полиции и фискальных структур – источник разговоров о мирной и официально не улавливаемой «колонизации» чужеэтническими сообществами сельских и городских пространств российских регионов? Разрушение СССР замышлялось как освобождение России от «наднационального экономического ига». На деле оно открыло путь к установлению экономической власти, как никогда далекой от идей национального процветания России.
Сомнительно, чтобы чуженациональный бизнес работал на увеличение ресурса национальной внешней политики Российского государства. Не верится, что власть не замечает этой проблемы. Просто система обогащения элит после 1991 г. оказалась завязана на извлечении доходов в союзе с любым бизнесом. Патриотические задачи при этом роли не играют. Власть стала инструментом получения прибыли – в этом специфика российской политической системы и один из ее системных пороков.
***
С точки зрения российского национального сознания, главным итогом распада СССР было сокращение внешнеполитического потенциала и ослабление международных позиций России. С учетом развития российской политической системы по порочному кругу считать это ослабление обратимым нет оснований. Сопряженный с исчезновением Советского Союза распад биполярной структуры придал мировой архитектуре неравновесный характер, не способствуя при этом гармонизации международных отношений. Попытка США воспользоваться историческим шансом и закрепить в мире однополярную структуру, «спроектированную» под Соединенные Штаты, тоже не реализовалась. Отчасти – в результате ресурсозатратной внешней политики Вашингтона, отчасти вследствие объективных причин – перерастания сложности мирохозяйственных, культурно-идеологических миграционно-демографических и политических процессов того уровня, в пределах которого их вообще можно регулировать ресурсами и волей одной державы, даже такой мощной, как США. В мире должны сосуществовать альтернативы. Предложить их не может и не стремится ни одна из других серьезных держав.
А.Д. Богатуров – д. полит. н., профессор, заместитель директора Института проблем международной безопасности РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации.

Десять лет без стабильности
ПРО ни на йоту не утратила актуальности
Федор Лукьянов
«Я пришел к выводу, что договор по ПРО препятствует способности нашего правительства работать над методами защиты нации от будущих ракетных атак со стороны террористов или государств-парий». Так ровно десять лет назад, 13 декабря 2001 года, президент США Джордж Буш объяснил решение об официальном выходе Вашингтона из соглашения, которое с момента его введения в действие в 1972 году считалось краеугольным камнем мировой стратегической стабильности.
Реакция Москвы в тот момент была весьма сдержанной: Владимир Путин выразил сожаление и не более того. К концу президентства Буша и Путина от позитивного настроя начала 2000-х не осталось и следа, зато считавшаяся пережитком прошлого противоракетная тема превратилась в стержень разногласий.
Сейчас уже не за горами завершение президентств Дмитрия Медведева (вообще) и Барака Обамы (как минимум, первого), грянула и завершилась перезагрузка, а ПРО ни на йоту не утратила актуальности. Более того, складывается неприятное впечатление, что, когда в обеих странах начнутся следующие президентские каденции, в российско-американской повестке дня не окажется ничего, кроме пресловутой противоракетной обороны, темы заведомо конфликтогенной.
Почему актуальность вопроса, связанного с явным анахронизмом — принципом гарантированного взаимного уничтожения, который обеспечивал баланс страха во время большого идеологического противостояния, — только повышается?
Само по себе наличие огромных (по сравнению с другими государствами) ядерных арсеналов не позволяет просто отмахнуться от этого факта. У потенциала такого объема просто нет иной задачи, чем сдерживать противоположный потенциал. И покуда они существуют, даже если ни у кого нет ни желания, ни готовности их применять, правила обращения с ними должны основываться на понятном принципе. До сих пор иного принципа, чем гарантированное уничтожение, не появилось. Но гипотетическое создание универсального щита ставит этот принцип под сомнение. Поэтому Россия будет продолжать сопротивляться.
Ситуация значительно усугубляется тем, что помимо ядерного потенциала Соединенные Штаты обладают тотальным преимуществом по всем аспектам силы — военной, политической, экономической, идеологической. Поэтому многие страны, в том числе и Россия, рассматривают ядерное оружие как универсальный уравнитель, гарантирующий невмешательство в их внутренние дела (сравните разные судьбы Ирака и Ливии, с одной стороны, и Северной Кореи, с другой).
Есть ли обстоятельства, способные изменить незыблемую до сих пор парадигму отношений в области стратегической стабильности?
Общих угроз, которые действительно перевесили бы логику сдерживания, не видно: международный терроризм оказался явлением во многом искусственным и уж точно не того калибра. Существует фактор Китая — не как объединяющей угрозы, а как новой величины в бинарном российско-американском уравнении.
КНР по-прежнему обладает несопоставимым с Америкой и Россией ядерным арсеналом. Однако по мере уменьшения потенциалов последних (и вероятного наращивания Пекином) перед Москвой, например, встает задача сдерживания и Китая, то есть любое дальнейшее сокращение должно производиться с учетом и этого явления. В то же время для Китая американская ПРО представляет собой куда более реальную опасность — до способности нейтрализовать Россию система неизвестно когда разовьется, а вот кратно меньший китайский арсенал выглядит на российском фоне значительно уязвимее. Пока Пекин демонстративно устраняется от темы ПРО, но бесконечно он не сможет этого делать. Его вступление в эту дискуссию значительно повлияет на ее содержание.
Как бы то ни было, вопрос о противоракетной обороне из российско-американских отношений никуда не денется. Перед Москвой встает сложная дилемма. Ожидать, что кто-то из американских президентов согласится прекратить работу над «щитом», не приходится — по соображениям как стратегическим, так и внутриполитическим.
Демарши России могут осложнить, но не остановить процесс, тем более что палитра мер ограничена. Не случайно президент Медведев в разных вариациях повторяет примерно одно и то же. Полномасштабную гонку вооружений с резким наращиванием ядерного арсенала Россия не потянет (потянут ли Соединенные Штаты в нынешнем финансовом состоянии расходы на дорогостоящую программу, тоже неочевидно, но более вероятно).
Москве придется формулировать свое отношение к принципиальной проблеме: как обеспечивать стратегическую стабильность в условиях вероятной эрозии паритета. Причем вне зависимости от конкретных планов Вашингтона и характера администрации в Белом Доме (республиканцы, которые просто прекратят все разговоры о разоружении, в каком-то смысле даже удобнее, чем второй срок Обамы с его желанием продолжать движение к «безъядерному миру»).
Так что Владимир Путин, возвращаясь в президенты, будет заниматься примерно тем же, с чего и начинал. С той только разницей, что накопленный с 2001 года опыт едва ли назовешь позитивным.

Глава американского IT-гиганта Microsoft Билл Гейтс ведет переговоры с китайскими специалистами о разработке ядерного реактора "четвертого поколения", пишет газета Wall Street Journal.
Созданием нового ядерного реактора, который сможет работать на обедненном уране, занимается специально основанная Гейтсом энергетическая компания TerraPower. По словам Гейтса, основной упор при разработке реактора делается на то, чтобы он был "экономичным, очень безопасным и производил очень мало отходов".
Ранее о переговорах Гейтса с Национальной ядерной корпорацией Китая (CNNC) заявлял глава этой организации Сунь Цинь (Sun Qin).
"TerraPower проводит отличные дискуссии с CNNC и разными представителями китайского правительства", - цитирует газета слова Гейтса. Тем не менее, как отметил владелец TerraPower, проект находится лишь на начальной стадии разработки.
Компания TerraPower приступила к разработке осуществления идеи "реактора с бегущей волной" (TWR), позволяющего не использовать в качестве топлива обогащенный уран, еще в 2006 году. Специалисты TerraPower спроектировали два варианта конструкции "ядерного реактора с бегущей волной" - средне- и высокомощного. При этом TWR, согласно схемам TerraPower, представляет собой реактор бассейнового типа, активная зона которого погружена в открытую емкость с жидкой содой. Максимальный срок работы такого реактора без остановки может составлять до 100 лет.

Поколение пожарного надзора
Почему в мировой политике проблемы с лидерством
Федор Лукьянов
Пятнадцать лет назад, в ноябре 1996 года, Билл Клинтон легко выиграл свои вторые президентские выборы. Та кампания не вошла в историю, все было достаточно предсказуемо. Тем не менее, сегодня о ней стоит вспомнить как о поворотном пункте, который тогда мало кто заметил. Голосование примечательно тем, что соперником действующего главы государства выступал сенатор Боб Доул – самый старый из кандидатов, когда-либо баллотировавшихся на пост президента США.
Доул имел за спиной блестящую государственную карьеру и пользовался всеобщим уважением. Впрочем, в противостоянии с великолепным публичным оратором и изощренным политиком Клинтоном (моложе его на 23 года) 73-летний ветеран Второй мировой шансов не имел. Его поражение знаменовало собой уход с арены поколения политиков, которые помнили большую войну или даже принимали в ней участие, а свою политическую жизнь провели в атмосфере глобальной конфронтации, чреватой самоубийственным ядерным конфликтом.
Четырьмя годами раньше Клинтону проиграл другой офицер Второй мировой – Джордж Буш-старший. В Европе происходило то же самое. В Великобритании через год победил Тони Блэр, оттеснивший на вторые роли стареющий истеблишмент, в Германии на место Гельмута Коля пришел Герхард Шредер, в России еще через три года появился Владимир Путин вместо Бориса Ельцина.
Смена политического поколения – всегда отказ, пусть и не декларируемый, от части опыта. Лидеры, управлявшие ведущими странами до второй половины – конца 1990-х годов, гораздо отчетливее чувствовали цену слова и тем более действия. В их человеческой и политической биографии было Событие, служившее точкой отсчета – Большая Война. Из печального опыта истории ХХ века, очевидцами и участниками которой они были, эти политики хорошо усвоили взаимосвязь – тот или иной шаг неизбежно влечет за собой определенные последствия, а резкое нарушение баланса не может пройти бесследно.
После них что-то изменилось. Символично, что второй срок Клинтона останется в истории беспрецедентным для Америки сексуальным скандалом с участием президента, подспудным нарастанием угрозы терроризма, которую старались не замечать, и первой после 1945 года крупной военной интервенцией в Европе. Примечательное сочетание морального релятивизма и политической беспечности с готовностью использовать вооруженную мощь. Вообще, после прихода к власти поколения бэби-бумеров, которые не видели мировой войны (Клинтон родился в 1946 году, Шредер в 1944-м, остальные моложе), применение военной силы стало намного более обыденным делом, чем раньше. С конца 1990-х НАТО или отдельные страны-члены осуществили четыре масштабные операции (Югославия, Афганистан, Ирак, Ливия).
Бэби-бумеры тоже вдохновлялись Событием, но другим – победой над коммунизмом и СССР. Они вступали в высшие политические сферы на волне эйфории, когда казалось, что всё возможно и, по большому счету, всё позволено – по праву победителя. Что и привело к непропорционально большому количеству наломанных дров и соскальзыванию в системный кризис нулевых годов.
Сегодня это послевоенное поколение в основном остается у власти в ведущих странах (Саркози, Меркель), хотя постепенно начинает уступать место следующей генерации. Наиболее яркие представители последней – родившиеся в 1960-е годы Барак Обама, Дмитрий Медведев и Дэвид Кэмерон. По идее, им следует, учитывая опыт непосредственных предшественников, исправлять ошибки и перекосы последнего десятилетия. И, казалось, именно это происходит: Обама пришел под лозунгом нового старта для Америки после тупика бушевской эры. Медведев – с идеей модернизации и умной, во всех смыслах, инновационной политики. Кэмерон – кардинального обновления Великобритании.
Что получилось? Обама неуклонно приобретает репутацию говоруна, который не в состоянии совершать решительные шаги. Медведев просто добровольно уступает власть ментору, отступая в тень. Кэмерон барахтается в паутине проблем, унаследованных от прежних правительств, не будучи в силах реализовать заявленную повестку дня.
Возникает ощущение, что это поколение лидеров, от которого время требует воли, уверенности, качественно иного мышления и самое главное действий, на деле способны – в лучшем случае – правильно идентифицировать проблему, но не предложить практическую стратегию решения и тем более способы воплощения ее в жизнь.
Возможно, это объясняется тем фактом, что у тех, кто родился в шестидесятые, своего События не случилось. Мировая война совсем далеко. Слом конца 80-х – начала 90-х произошел хоть и на их глазах, но без них как участников, они пришли уже в новую политическую реальность. 11 сентября 2001 года тем самым Событием не стало, хотя прилагались большие усилия для того, чтобы представить его в качестве такового. На деле мировое устройство тогда не перевернулось, оно просто начало еще быстрее осыпаться – отчасти по объективным историческим причинам, отчасти в результате действий предыдущего поколения, которое помимо собственного желания сыграло роль катализатора. «Шестидесятникам» фактически выпала функция пожарной команды, но они на деле оказались скорее группой экспертов пожарнадзора. Теми, кто способны установить причину возгорания, но, в силу отсутствия навыков и дефицита необходимого оборудования, не приспособлены для того, чтобы потушить огонь.
Если исходить из логики поведения предыдущих поколений, нынешней генерации для обретения дееспособности тоже было бы необходимо Событие. Такое, которое заставит, с одной стороны, осознать ответственность, с другой – толкнет к необходимости кардинально переосмыслить действующую парадигму. И время подобных событий, похоже, наступает. Можно, например, представить себе, что крах евро и нынешней модели европейской интеграции – не плавный демонтаж, а именно крах со всеми сопутствующими геополитическими и геоэкономическими последствиями, то есть исчезновение Европы, к которой все привыкли за последние десятилетия, – стал бы таким мощным потрясением, которое поделит историю на «до» и «после». Военный конфликт с участием великих держав маловероятен, однако большую региональную войну на нефтеносном и стратегически важном Ближнем Востоке – будь то вокруг Ирана или в результате какого-то особенно резкого поворота «арабской весны» – в принципе представить себе можно. Что при определенном стечении обстоятельств тоже может привести к глобальному эффекту домино.
Вопрос, однако, в том, станет ли предстоящее Событием именно этого поколения? Ведь оно способно либо спровоцировать «вторую молодость» их предшественников, которые, несмотря на неблестящие результаты правления, чувствуют себя более деятельными и дееспособными, чем хронологически идущие следом (Владимир Путин уже возвращается, а Обаму через год вполне может сменить какой-нибудь Митт Ромни 1947 года рождения). Либо стать отправной точкой для более молодых, которые скоро тоже заявят собственные права на власть, недовольные неуспехом «дедов» и бездействием «отцов». А поколение, пришедшее из 60-х, так и останется промежуточным – которое понимало, что не так, но вместо того, чтобы решительно взяться за болезненные и неизбежные перемены, пыталось всех примирить и обеспечить консенсус для плавного движения вперед.
Продолжая пожарную метафору, можно сказать, что возгорания пока еще кажутся локальными, бедствие не воспринимается как стихийное и всеохватное. Но когда зарево станет видно уже повсеместно, понадобятся самоотверженные борцы с огнем, а не эксперты-криминалисты и не те, кто еще недавно беспечно играл со спичками, будучи уверен, чем ему можно все. Тогда и наступит время нового поколения лидеров.

Бизнесмен Евгений Бутман, еще недавно руководивший компанией ECS Group - одним из крупнейших дистрибуторов техники Apple в России, - рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости об особенностях российского рынка "яблочной продукции" и о том, почему поклонники бренда не могут купить iPhone в России по тем же ценам, что в США.
- В дороговизне техники Apple в России традиционно принято упрекать ее местных продавцов. Последний пример - расследование ФАС относительно существования ценового сговора между операторами МТС и "Вымпелком", контролирующими поставку в страну iPhone. Насколько справедливы эти подозрения?
- В подобных случаях, когда на любом рынке действуют только два крупных игрока, их цены практически всегда будут совпадать. Дистрибуторы ведь работают с минимальной наценкой относительно отпускных цен производителя: ниже некуда, но и выше нельзя из-за конкурентной ситуации.
- Иными словами, операторы ни в чем не виноваты?
- В том, в чем их упрекают, - нет. Рекомендованные цены от производителя - обычная и повсеместная практика, особенно в оптовом звене.
- Могут ли МТС и "Вымпелком" получить значительную прибыль от продаж iPhone?
- От продажи самих аппаратов - нет. Маржа невысокая, а вложения в маркетинг, в сбыт и сервис значительные. Но операторы зарабатывают на трафике, который в случае техники Apple в разы больше, чем для обычных телефонов. Я полагаю, что пользователи iPhone и iPad уже приносят операторам заметную часть от общего дохода.
- Правильно ли вообще, что Apple распространяет в России iPhone через операторов?
- Думаю, нет, неправильно. В Америке и Европе, в отличие от России, телефоны субсидируются операторами. Там iPhone не ориентирован на узкий премиальный сегмент рынка, это массовый телефон. И сам бизнес по продаже телефонов там жестко привязан к сбытовой сети оператора. В России это не так. Apple нужно было работать не с операторами, а с розницей и дистрибуторами. Львиная доля смартфонов в России продается в сетях бытовой электроники. Ну вот вам канал! Идите и продавайте.
Да еще и старт продаж был задержан по сравнению с США на полтора года и, по несчастливому совпадению, пришелся на самый разгар кризиса.
Ну и, наконец, длительное время существовал дефицит аппаратов на рынке. В 2009 году операторы не хотели тратить много денег на закупку и ввоз iPhone в Россию, в 2010 году уже сама Apple не могла покрыть спрос, так как "гнала" все аппараты, в первую очередь, на приоритетные для себя рынки сбыта.
- Весьма популярно суждение, что подобная политика Apple подхлестывает развитие "серого" рынка в России. Вы с этим согласны?
- Одна из причин возникновения "серого" рынка - дефицит товара, и это действительно проблема вендора. Серый рынок позволяет преодолеть дефицит, но, как правило, не влияет на цену реализации.
Вторая причина - различие розничной цены в России и за рубежом. Понятно, что субсидированный оператором телефон, который вы покупаете вместе с контрактом, будет стоить дешевле. Если же вы покупаете без контракта, то платите гораздо дороже.
Цены на разных региональных рынках отличаются, но не так уж значительно. Если привезти продукцию Apple из-за рубежа и заплатить на нее таможенные пошлины, то разница в цене, по сравнению с "белым" товаром, окажется невелика. Покупатель лишь рискует купить товар, на который не распространяется сервисная гарантия.
- Может быть, причина и в том, что новые модели iPhone официально попадают в Россию с большой задержкой относительно США и Европы?
- Правда в том, что для Apple главным является рынок США. Раньше американский рынок обеспечивал две трети продаж iPhone, сейчас - половину.
Вторым после американского рынка для Apple идет европейский, который замечателен отсутствием таможенных границ, и там почти везде одна валюта - удобно делать одновременный запуск продаж. Если же речь идет об emerging markets (развивающиеся рынки - ред.), то компания идет в Китай.
На мой взгляд, Россия получает iPhone после тех и других, так как она не является цивилизованным рынком в сравнении с Европой и не обладает такой огромной емкостью, как Китай. Apple нет смысла идти в первую очередь в Россию.
- То есть Россия так и останется для Apple третьестепенным рынком?
- Она и сейчас не третьестепенный, просто не самый важный, и не такой развитый, чтобы Apple было удобно здесь работать. Пройдет еще немного времени, и все в России у Apple будет, как в других странах. В моем понимании, в страну должны рано или поздно прийти все сервисы Apple, которых сейчас нет.
Вот только цены в рамках нынешней бизнес-модели у нас никогда не будут, как в США. А если - здесь я фантазирую - наступит время, когда Европа и Россия будут небольшими рынками в ведении китайского офиса, тогда - может быть - и у нас будут американские цены.
- Вы ведь знакомы со слухами, что Apple подумывает вскоре открыть в России розничный магазин сети Apple Store. Можете предположить, когда это случится?
- Рано или поздно. Сейчас компания открывает магазины по всему миру - в Европе, в Австралии, в Китае. Моя личная гипотеза - любой формат, который Apple опробовала в Китае, придет и в Россию. Я считаю, что мы следующие.
Когда - не знаю. Но, думаю, что раскрученная история с помещением в здании гостиницы "Москва" от начала до конца не имела отношения к реальности.
Есть факт: менеджеры американского офиса Apple приезжали в Россию. На основе этого и построили всю сенсацию. Так и представляю: менеджеры в ранге вице-президентов Apple едут на машине из Купертино в Сан-Франциско, садятся в самолет, с пересадками летят в Москву, здесь через пробки пробиваются в Кремлю, им показывают заставленное строительными конструкциями место, где бы мог быть отличный магазин. Они говорят "Классно!", возвращаются в такси, проделывают обратный маршрут, чтобы в Купертино доложить Джобсу: "Стив, мы это видели!"... Несерьезно.
Тем не менее, команда, которая занимается Apple Store, в России была. Я думаю, что и магазин со временем будет.
- Что поменяется в России с открытием Apple Store?
- В моем понимании, в Россию должны рано или поздно прийти все сервисы Apple, которых сейчас нет. Главные - это российский интернет магазин Apple Store, это iTunes Music Store, и, конечно, магазины Apple Store. Что поменяется? Я думаю, что открытие сервисов и магазинов здесь приведет к значительному росту Apple в России и дальнейшему развитию каналов продаж. Хватит всем, кто хотел бы зарабатывать, продавая продукцию Apple - неверно считать, что все сливки снимет сама компания.
Проигравшие, конечно, будут, так как будут заданы стандарты, которым надо соответствовать, но большинство ритейлеров этим уже не испугаешь. Пострадает розница, расположенная в Москве, особенно в центре, приобретет региональная розница.
- Не опаздывает ли Apple с открытием в России интернет-магазина в контексте бума интернет-торговли?
- Apple не опоздает. Откроет интернет-магазин и заберет себе 5-7% объема продаж в стране.
- Верно ли, что Apple очень жестко контролирует ритейлеров, торгующих ее продукцией?
- Apple - компания, где перфекционистский подход практикуется сверху донизу, от CEO до мелкого регионального офиса. В компании считают, что продавать технику Apple могут только те, кто умеет делать это хорошо. Лучшие сети, лучшие продавцы. По опыту работы в Re:Store могу сказать, что стандарты всегда были жесткими.
- Нужно ли так закручивать гайки?
- Это вовсе не закручивание гаек. Cчитаю, что по таким стандартам и должна работать розница, просто у нас в России привыкли к тому, что характеризуется словом "халтура".
Apple говорит: хотите зарабатывать на нас деньги - сделайте все по стандарту. Розница соглашается и что-то делает, но Apple проверяет и находит недостатки. Конечно, некоторые возмущаются, что Apple заставляет работать и совершенствоваться.
Ошибочно думать, что команда Apple - это такие юноши с горячим взором. Это совершенная машина. Вот выходит на сцену Стив Джобс и говорит, что с сегодняшнего дня в продаже доступен этот новый ноутбук или, там, iPhone. Представляете, что значит это "сегодня"? Вчера про эту новинку не знал никто вообще, а сегодня она продается в тысячах магазинах по всему миру. Все заранее привезено в нужные страны, уже все ясно о сервисе, проведена локализация. Наступает этот день, и бывших еще накануне вечером в продаже предыдущих версий объявленных продуктов уже нет, кроме вторичного рынка, а новые произведены в достаточном количестве. Такого нельзя сделать, если нет чудовищно эффективной, мощной, отлаженной системы работы - той, которую за 14 лет сделал Тим Кук (новый глава Apple, сменивший в августе Стива Джобса - ред.).
- Но ведь обычно считается, что главная сила Apple - в креативном подходе?
- В плане идей Apple успешно играет на опережение, делая то, что никто не ждет. Все индустрии по производству потребительских товаров так устроены - единицы придумывают новое, тысячи производителей идут сзади и копируют.
- Какие компании IT-индустрии можно было бы сравнить с Apple по инновационности?
- По большому счету, сейчас в мире создают что-то новое лишь Apple, Facebook и Google. Каждый на своем поле, хотя и с пересечениями. Все остальные - подражатели. На одной "поляне" с Apple еще играет Sony - компания с сильным инженерным началом.
Если же говорить об Apple - по сути, компания вывела мировую индустрию потребительской электроники из интеллектуального тупика, в котором она находится с 1990-х годов. Так, например, история с нетбуками была отчаянной и вполне бессмысленной попыткой хоть какого-то продвижения вперед. И нетбуки сразу сдулись, как только появился iPad, а за ним - армада подражательских копий от других производителей. Идущие сейчас на рынок "ультрабуки" - это реакция рынка и индустрии на iPad, а также на другой продукт от Apple - Macbook Air.
- Может ли кто-то оттеснить Apple с позиции лидера?
- В отличие от двадцатого столетия, сегодня, чтобы опередить Apple, недостаточно только лишь креативности. Нужны гигантские компании с гигантскими деньгами. Новички точно не смогут. А у больших компаний, присутствующих на рынке, нет драйва, нет креатива. В ближайшие лет пять Apple точно останется лидером, как и сейчас. А затем... Если Apple не сможет и дальше играть на опережение, то компании вроде Samsung их подъедят снизу. Если внутри Apple за пять лет не найдется новой фигуры, нового лидера и, одновременно, главного дизайнера новых решений, то Apple начнет превращаться в то же, чем являются все остальные.
- У вас два iPhone 4, будете их менять на новый iPhone 4s?
- Думаю, да

Переговоры России и НАТО о мирном характере противоракетной обороны Альянса находятся в тупике. О том, когда Москва и Альянс пройдут "точку невозврата" в переговорах по гарантиям ЕвроПРО, чем грозит отказ от сотрудничества стран НАТО с Россией в сфере безопасности, и что обсудят главы МИД Совета Россия-НАТО на встрече в декабре, заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.
- Вашингтон официально отказался предоставить Москве юридические гарантии ненаправленности ПРО США. Если Альянс готов договариваться с Россией, лишь по сугубо практическим, текущим вопросам, способным в будущем теоретически обеспечить лояльность Москвы в отношении новых военных операций Альянса, есть ли смысл продолжать сотрудничество с НАТО? Что будет с совместными программами и учениями?
- Прежде всего, хотел бы сказать, что термин "лояльность" вряд ли применим, и вообще может использоваться в сфере "жесткой безопасности", а отношения России и НАТО, как раз, развиваются в этой сфере. И смысл этих отношений заключается в том, чтобы вычленять сферу общих интересов и сотрудничать в ней так, чтобы это отвечало законным потребностям в области безопасности России и наших партнеров. Так что на самом деле то, чем занимается Совет Россия-НАТО (СРН) - это реальный вклад в решение задач обеспечения национальной безопасности России путем развития сотрудничества с такой мощной военно-политической организацией как НАТО. Поэтому мы всегда исходим из того, что работа в СРН должна быть направлена на то, чтобы искать, во-первых, эти сферы совместных интересов. И второе, развивать сотрудничество, имея в виду, что совместно действуя вместе, мы становимся более эффективными в парировании общих вызовов и угроз. На Лиссабонском саммите лидеры государств СРН определили шесть областей взаимодействия, которое представляется критически важным и для России, и для наших партнеров по Совету.
Это прежде всего борьба с терроризмом, противодействие распространению оружия массового уничтожения, борьба с пиратством, понижение уязвимости критической инфраструктуры, ситуация в Афганистане. По всем этим направлениям ведется каждодневная напряженная работа, разрабатываются конкретные проекты, которые являются существенным вкладом и в безопасность России, и в безопасность общего евроатлантического пространства.
- Но в данный момент мы обеспокоены в большей степени решением проблемы ПРО и планами расширения этой программы...
- Конечно, этот вопрос нас беспокоит. Здесь есть два аспекта. Первый заключается в том, что создание совместной ПРО, если она будет создана, станет, действительно, решительным шагом в сторону материализации принципов неделимости безопасности, создания единого пространства безопасности в Евроатлантике. Здесь можно говорить даже шире, о Евроазиатском регионе от Ванкувера до Владивостока. И это будет материализация тех идей, которые были заложены в предложении президента РФ Дмитрия Анатольевича Медведева по Договору о европейской безопасности.
И если нам удастся договориться со странами НАТО о конфигурации такой системы, которая будет обслуживать законные интересы России и стран альянса в условиях, когда мы разделяем тезис о том, что существует опасность перерастания ракетных рисков в ракетные угрозы, это будет вкладом в общую безопасность. Риск же состоит в том, что, если мы не договоримся по этому направлению сотрудничества, то это будет означать, что до сих пор превалируют идеологические подходы, которые мешают наращиванию сотрудничества даже в сфере общих интересов. И это будет удар по всему комплексу отношений Россия-НАТО. В политическом смысле мне кажется, что сегодня это главный элемент нашего диалога с Западом. Есть возможность для того, чтобы двигаться вперед, но, одновременно, существуют очень серьезные риски оказаться отброшенными назад, если этот проект не будет осуществлен по идеологическим причинам.
- Могут ли какие-либо договоренности с НАТО по ПРО быть достигнуты к саммиту Совета Россия-НАТО в Чикаго в 2012 году?
- С каждым днем возможностей становится все меньше и меньше. "Окно возможностей", как часто говорят дипломаты, становится все более узким. Но, тем не менее, мы настроены на то, чтобы продолжать консультации и искать практические решения. Для нас принципиально важно, чтобы сотрудничество осуществлялось в условиях, когда мы четко понимаем конечные цели и условия такого сотрудничества. Поэтому мы добиваемся гарантий ненаправленности этой системы против России, которые должны быть облечены в юридическую форму.
Мы хотим не только письменных гарантий. Они должны быть выражены в виде совершенно определенных критериев. Это конфигурация самой системы, места размещения огневых средств, скорости перехватчиков и т.д., что будет действительно свидетельствовать о том, что весь этот проект направлен на то, чтобы парировать угрозы, которые могут генерироваться вне пределов евроатлантической зоны.
Это наш подход и его мы будем отстаивать до конца. Поскольку лишь в условиях такой прозрачной и понятной системы координат и может начаться реальное сотрудничество.
- То есть, перспектив пока нет?
- Перспектив становится все меньше с каждым днем. Они уменьшаются и потому, что мы видим, что осуществляется ползучая реализация пофазового адаптированного подхода, заключаются двусторонние соглашения между США и их западноевропейскими союзниками. Таких соглашений целый ряд - с Румынией, Польшей, Испанией. И у нас есть ощущение, что, хотя мы не уходим из переговорного консультационного процесса с США и НАТО, они осуществляют собственную повестку дня в этой области.
- Это тупик?
- На сегодняшний день, да. На сегодняшний день ситуация пока не выглядит обещающей. Но, тем не менее, мы считаем, что необходимо прилагать усилия для достижения договоренностей.
- Если нам не удается договариваться - что дальше? Новые переговоры или начало гонки вооружений?
- Несколько моментов. Во-первых, переговоры не являются панацеей. И если мы будем видеть, что натовская система обретает способность подрыва стратегической стабильности, то есть перехвата российских стратегических средств, то, конечно, нам придется предпринимать политические и военно-технические меры предосторожности. Считаю, что и политическое понимание всех рисков должно, наконец, быть осознано нашими партнерами. Еще раз подчеркну, что это не российский выбор. Мы исходим из того, что решение надо искать на пути переговоров. Но, тем не менее, разумеется, Россия будет абсолютно четко, понятно и твердо отстаивать свои законные интересы безопасности, в том числе путем принятия адекватных военно-технических мер.
- Повлияет ли провал переговоров по созданию совместной ПРО с НАТО на сотрудничество Москвы и Альянса?
- В общем плане, конечно, повлияет, поскольку Лиссабон был ознаменован пониманием того, что наше сотрудничество может перейти в новую качественную фазу. И как раз эта новая качественная фаза во многом была связана с перспективой создания совместной ПРО, где можно было бы объединить реальные ресурсы России и НАТО против общих угроз. Как ни странно, некоторые страны альянса говорят нам, что они не готовы к сотрудничеству с Россией именно потому, что РФ не является частью коллективной системы обороны, не является частью системы, связанной с пятой статьей Вашингтонского договора. Поэтому страны НАТО не имеют право доверить свою безопасность России. Нам эта логика кажется старомодной. Она абсолютно не соответствует тем принципам, которые мы пытаемся не только защищать в рамках СРН, но, на основе которых мы и ведем практическое сотрудничество с НАТО.
Весь смысл этого практического сотрудничества заключается в том, чтобы совмещая наши потенциалы, совместно решать проблемы безопасности и доверять друг другу участие в проектах, которые обеспечивают нашу национальную безопасность. Если же руководствоваться идеологией, которая появилась на свет в 1949 году, конечно, это будет означать, что разделительные линии между Россией и НАТО до сих пор существуют, и эти разделительные линии теперь уже проводятся даже в сфере общих интересов.
- На конкретном примере, что из сотрудничества с НАТО у нас сохранилось?
- У нас сохранилось масса всего. Скажем, если взять борьбу с терроризмом, то это и сотрудничество по линии спецслужб, это и обмен информацией, совместные тренировки соответствующих подразделений. Это обмен опытом, технологиями, техническими способами нейтрализации угроз. Есть целый ряд проектов, которые направлены на то, чтобы обеспечивать безопасность в местах массового скопления людей, на транспортных узлах. Это все реально работает. Не хочу забегать вперед, но у нас есть оптимизм в отношении реализуемости проектов, которые реально улучшат безопасность, а также физическую защиту жизни людей перед лицом этих террористических угроз.
Есть, например, очень перспективный проект. Он фактически уже "стал на крыло". Это совместный контроль за воздушным пространством. Нам удалось соединить системы воздушного контроля, которые существуют у России и стран НАТО, создать такую систему управления, которая позволяет имеющимся силам перехвата России и НАТО в совместных операциях принуждать к посадке или каким-то другим образом нейтрализовывать самолеты, которые захвачены террористами и не подчиняются командам с земли. Это - конкретный вклад в нашу общую копилку безопасности.
По Афганистану мы сотрудничаем очень плотно. Россия оказывает транзитные услуги, и мы заинтересованы в том, чтобы после ухода Международных сил содействия безопасности (МССБ) из Афганистана эта страна оставалась стабильной. И чтобы с территории Афганистана не исходили угрозы ни странам Центральной Азии, ни Российской Федерации.
Кроме транзитных услуг мы также тесно взаимодействуем с нашими партнерами в СРН в подготовке антинаркотических кадров. Это один из самых успешных проектов. Подготовлено уже более 1400 человек. К этой работе подключились также наши пакистанские коллеги. Мы готовим кадры для центрально-азиатских республик. Это один из примеров того, что прагматические интересы превалируют, и не существует никаких идеологических причин не взаимодействовать там, где наши интересы объективно совпадают.
Ну, и по другим направлениям примерно такая же картина, мы эффективно продвигаемся. Может быть, некоторые проекты не политически громкие, но, тем не менее, они очень значимы в плане укрепления нашей безопасности и в понимании того, что необходимо будет сделать, если мы окажемся в сложной ситуации.
Вообще, отношения Россия-НАТО напоминают такой айсберг, где одна десятая часть находится на поверхности. И она в основном связана с политическим диалогом, дискуссиями, которые ведутся. Но главное заключается в том, что ведется повседневная планомерная работа, которая позволяет сопрягать наши потенциалы.
К примеру, очень много мероприятий проводится по линии военных - десятки мероприятий в год. Они все направлены на то, чтобы обеспечить возможность сотрудничества тогда, когда оно может понадобиться. Это также способствует обмену лучшими практиками и опытом, в том числе в деле реформирования вооруженных сил.
- А как обстоят дела с военными учениями?
- У нас постоянно проходят учения. Из самых крупных за последнее время я отметил бы "Болд Монарх" (Bold Monarch) - это были учения по спасанию подводных лодок. И сегодня, действительно, мы сумели с нашими партнерами создать систему, которая может быть востребована в любой момент.
Наши военные моряки находятся в акватории Аденского залива. Мы очень хорошо взаимодействуем не только с НАТО и ЕС, но и с другими странами и группировками, которые также направили туда свои корабли. Это тоже один из примеров того, что в сфере борьбы с пиратством, где речь идет об общих угрозах безопасности, нет никаких объективных причин не опираться друг на друга и не использовать этот инструмент международного сотрудничества.
В плане военных контактов ежегодно значатся десятки военных мероприятий. И военное сотрудничество - это опора наших отношений с НАТО, поскольку НАТО - это военно-политическая организация. Ежегодно министры обороны встречаются, утверждают соответствующие планы, проходят встречи начальников Генеральных штабов. Это важный канал политического общения, в ходе которого вырабатываются конкретные проекты и реализуются конкретные программы подготовки.
- А что из мероприятий запланировано на ближайшее время?
- Что касается ближайших мероприятий в рамках работы Совета Россия-НАТО, то в начале декабря состоится министерская встреча СРН. Пока повестка дня не утверждена. Но поскольку речь идет о завершении года, то, как правило, на таких встречах, подвергается совместному анализу и обзору все, что было сделано за год. Министры рассматривают состояние дел в СРН в политических и военных областях, а также обсуждают наиболее острые международные проблемы, которые непосредственно касаются интересов безопасности России и стран НАТО. В этом году, очевидно, они затронут ситуацию на Севере Африки и действия альянса по выполнению резолюции СБ ООН. Нам здесь есть, что сказать, потому что мы исходим из того, что альянс вышел далеко за рамки резолюции 1973 СБ ООН. И мы считаем, что в наших общих интересах, чтобы подобные сценарии в будущем не повторялись. И мы будем настаивать на том, чтобы все действия НАТО строго соответствовали нормам международного права. Этот вопрос мы поднимем не только на площадке СБ ООН, но и также в рамках Совета Россия-НАТО.
- То есть будет обсуждаться тема текущей ситуации в Ливии и роль НАТО?
- Разумеется, все мы должны извлечь уроки из ливийской ситуации. Я предвижу, что это будет отдельный сюжет, который будет обсуждаться.
- Создается впечатление, что не все так гладко сегодня в отношениях России и НАТО...
- На самом деле не все так грустно. Наши отношения самодостаточны, делается очень много полезного. Но, действительно, наши отношения сейчас проходят через сложный период испытаний. Они связаны с неготовностью наших партнеров неукоснительно следовать принципам, которые записаны в Оосновополагающем акте сотрудничества России и НАТО, в Римской декларации. То есть четко соблюдать принципы и нормы международного права. Второе испытание - это проект ПРО. Еще раз подчеркну, если этот проект состоится, то будет сделан качественный прорыв в сфере безопасности. Это будет означать, что впервые после окончания "Холодной войны" ресурсы бывших противников объединяются в борьбе с общими угрозами и общими рисками. Но и провал этого проекта будет означать, что в умах и в политике продолжает сохраняться идеологизированные разделительные линии, что, конечно, абсолютно не соответствует нашему пониманию природы современной евроатлантической архитектуры, какой она должна быть на сегодняшний момент.
- В каком состоянии сегодня находится ДОВСЕ?
- Россия свои предложения высказала. Они обсуждаются и в рамках политического диалога СРН, но больше на венской площадке. Смысл наших предложений заключается в том, что надо не отягощать переговоры политическими проблемами. А сконцентрироваться на поиске взаимопонимания по ключевым элементам режима контроля над обычными вооружениями в Европе. А именно, надо договориться о том, что мы начинаем работу над новым соглашением и будем работать над тремя элементами. Первое - над юридически обязывающими потолками для соответствующих систем вооружения. Второе - мы будем вырабатывать меры контроля и, третье - меры обмена информацией. Эти элементы, на наш взгляд, вполне достаточны для запуска переговорного процесса. При этом мы готовы воспроизвести все те принципы, на которых был построен и первоначальный, и адаптированный ДОВСЕ. Это и ненанесение ущерба военной безопасности государств-участников, и неприменение силы, и многие другие принципы, которые и сегодня сохраняют свое значение в новых условиях безопасности.
- Насколько наши западные партнеры готовы обсуждать именно такую позицию РФ?
- У меня впечатление, что многие из них разделяют такой подход но, тем не менее, некоторые пока не готовы отказаться от позиций, которые делают невозможным запуск переговоров.
Шансы не исчерпаны, но честно будет сказать, что они со временем не увеличиваются. В любом случае, Россия свою часть на пути восстановления жизнеспособности контроля над вооружениями прошла, и сейчас мяч находится на стороне наших партнеров.
Мы считаем, что начав переговоры, начав консультации в отношении существа будущего договора, нам удастся вычленить общий интерес укрепления европейской безопасности и на этих условиях не дать контролю над вооружениями стать заложником политических проблем, которых сегодня в Европе достаточно.

Объявляется посадка
Американский ученый Джон Касарда уговаривает переселяться в аэропорты все передовое человечество
Конечно, профессор университета Северной Каролины Джон Касарда передвигается на самолетах куда реже, чем герой Джорджа Клуни в фильме «Мне бы в небо». Тем не менее крупнейшие аэропорты планеты ученый знает как свои пять пальцев. Вот и из Москвы, где он дал интервью «Итогам», автор экзотической концепции аэротрополиса отбывал в ЮАР, где намерен проинспектировать воздушный хаб Йоханнесбурга. Работа у него такая — приучать все передовое человечество жить и работать в аэропорту.
— Господин Касарда, как вам в России?
— Это мой третий приезд в вашу страну. К тому же у меня самого русские корни: мои прапрабабушка и прапрадедушка переехали из Санкт-Петербурга в США. Я работаю по всему миру и очень часто пересекаюсь с русскими.
— Что такое аэротрополисы, с идеей создания которых вы носитесь по всему свету?
— Идея родилась в начале 90-х годов прошлого века на основе моих работ о рациональном размещении аэропортов. Размышляя над вопросом, что делает ту или иную страну конкурентоспособной, я понял, что развитие торговли в течение десятилетий и даже веков было неразрывно связано с развитием инфраструктуры транспорта. В особенности это стало заметно с появлением глобальной системы воздушных сообщений. Именно авиация сыграла основную роль в формировании так называемого физического Интернета, способа соединять людей и продукты по всему миру быстро и эффективно.
Связующими звеньями этой глобальной транспортной паутины являются аэропорты. Именно они не только задают темпы экономического развития регионов, но и работают магнитами для тех отраслей индустрии, процветание которых зависит от степени близости к транспортным узлам. К таким сферам, например, относятся, микроэлектроника, фармацевтика, аэрокосмическая отрасль и даже производство свежей рыбы и цветов. Вы знаете, где находится крупнейший в мире рынок рыбной продукции?
— И где же?..
— В порту Гамбурга, который тесно связан с Франкфуртским аэропортом. Для того чтобы понять, почему хорошо развитые аэропорты сегодня критически важны для экономики страны и мира, необходимо уяснить, что на самом деле движет бизнесом в XXI веке: глобализация, конкуренция, основанная на времени (выживает быстрейший), и авиация. Аэротрополис является следствием процесса глобализации, его физическим символом.
— Какими примерами вдохновлялись?
— Примерами для меня служили два аэропорта: это амстердамский Схипхол и окружающая его зона и международный аэропорт Гонконга. На территории голландского аэротрополиса расположено более тысячи предприятий. А кроме этого, штаб-квартиры мировых банков ABN AMRO и ING находятся в шестиминутной доступности от аэропортового терминала — в стремительно растущем бизнес-округе Зюйдас. В нем же, к слову, располагается 1,86 миллиона квадратных метров офисов класса A, торговых сетей, гостиниц, а также порядка 9 тысяч многоквартирных домов.
— Получается, что слово «полис» в названии вашего детища появилось не случайно?
— Да, фактически аэротрополис — это город, построенный вокруг аэропорта. На его территории расположены предприятия и офисы компаний, для которых очень важно находиться непосредственно вблизи аэротранспортных узлов, чтобы успешно развиваться не только в рамках страны, но и всего мира. В аэротрополисе есть и жилые комплексы с необходимой инфраструктурой. Главное, чтобы человек имел возможность спокойно и полноценно жить, работать, учиться и развлекаться в 15 минутах езды от аэропорта.
— Является ли наличие крупного мегаполиса необходимым условием для развития аэротрополиса?
— Успешные аэропорты находятся вблизи крупных городов, приблизительно в 30 километрах от их центра. Но когда аэропорт начинает развиваться в сторону от мегаполиса, последний по инерции тянется за ним. Получается, что аэропорт, который еще недавно помогал развитию мегаполиса, сам становится полноценным городом. Городской аэропорт превращается в аэропортовый город, аэротрополис.
— Как спроектировать «правильный» аэропорт?
— По моим подсчетам, «правильный» аэротрополис способен на каждый доллар выручки в данном регионе генерировать дополнительные три доллара. Я начинаю с того, что готовлю дорожную карту, где детально планирую все: принципы, направления развития, детальные схемы того, как надо развивать аэропорт, чтобы он превратился в экономически эффективный и в то же время привлекательный для жизни аэротрополис. Дизайн очень важен не только для развития, но и для создания позитивного имиджа у иностранцев. Ведь первое и последнее впечатление о стране создается по прилету и вылету.
— Верно ли, что третий мир динамичнее, в том числе и в плане строительства аэротрополисов?
— Да, потому что в БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай. — «Итоги») понимают, что именно аэропорты являются основным инфраструктурным преимуществом и ценнейшим активом страны. Например, в течение следующих пяти лет только Китай собирается инвестировать порядка 250 миллиардов долларов в свой авиационный сектор, включая возведение 11 новых аэропортов. Индия строит 20 новых воздушных портов и модернизирует 58 старых. В развитых государствах на первое место ставят другие вопросы: загрязнение окружающей среды, уровень шума, трафика. Например, лондонскому аэропорту Хитроу никак не могут построить третью взлетно-посадочную полосу из-за протестов защитников окружающей среды. В итоге самолеты с 66 миллионами пассажиров, ежегодно прилетающих и улетающих из этого аэропорта, вынуждены садиться всего лишь на две полосы. Этого явно недостаточно для такого крупного авиационного хаба. В странах же БРИК на первое место ставятся экономическое развитие и создание новых рабочих мест, выстраивание более конкурентоспособных экономик. Или взять, например, проект южнокорейского аэротрополиса Нью-Сонгдо возле международного аэропорта Инчеон, расположившегося на 600 гектарах. Стоимость его постройки — порядка 30 миллиардов долларов. На три миллиарда долларов дороже обойдется возведение Дубайского всемирного торгового центра, урбанистического комплекса возле нового международного аэропорта Аль-Мактум. Если я не ошибаюсь, это крупнейший частный девелоперский проект в мире.
— Комфортно ли жить в аэротрополисе?
— Конечно, у обычного города в этом плане есть преимущества. Тем не менее основная идея заключается в том, что у людей, выбравших жизнь и работу в аэротрополисе, на первое место ставится не шум или экологические проблемы, а возможность сделать свой бизнес успешнее.
— Россия может стать страной аэротрополисов?
— Конечно. Вокруг московских аэропортов полно свободных земель, необходимых для развития. Например, вокруг Домодедово более 14 тысяч неосвоенных гектаров. Их можно использовать для строительства очень успешного аэротрополиса. К тому же здесь есть хорошая железнодорожная сеть, а также быстро развивающаяся дорожная инфраструктура.
— Сколько времени потребуется, чтобы построить полноценный аэротрополис?
— Это процесс, зависящий от рынка коммерческой недвижимости, финансовых условий, уровня заинтересованности властей. Если говорить о том же аэропорте Домодедово, то для построения полноценного аэротрополиса ему может понадобиться от 10 до 30 лет.
Константин Полтев
Кто есть кто
Первым делом самолеты
Джон Касарда родился в городке Уилкс-Барре, штат Пенсильвания. Получил степень бакалавра в области прикладной экономики в Корнеллском университете в 1967 году, через год стал магистром делового администрирования, а в 1971 году — доктором социологии в университете Северной Каролины. В перерывах между многочисленными перелетами Касарда руководит Институтом Кенан в бизнес-школе своей последней альма-матер.
Вплотную занялся исследованием аэротранспортной логистики, проблемами развития аэропортов и авиационной инфраструктуры в 1980-е годы, а уже в следующем десятилетии начал консультировать первых клиентов по вопросам создания и развития аэротрополисов. Свои идеи по поводу развития аэропортов он высказал более чем в ста статьях и девяти книгах. Журнал Time поставил аэротрополис Касарды на шестое место в списке десяти идей, которые изменят мир. В качестве иллюстрации к тому, что в XXI веке именно скорость и мобильность будут стоять во главе успеха, ученый любит приводить в пример корпорацию Lenovo. У третьего в мире производителя компьютерной техники нет штаб-квартиры, а ее топ-менеджеры проводят рабочее время в постоянных поездках. Ближайший конкурент, компьютерный гигант IBM, двух из каждых своих пяти сотрудников держит вне офисов.
Константин Полтев

Сегодня ВВП важнее силы
Лесли Гелб
Внешняя политика США в век экономического могущества
Резюме: Президент Обама часто говорит очень правильные вещи, но дальше разговоров дело не идет. Тем временем американцы всех политических убеждений ждут и задаются вопросом: неужели их лидеры могут допустить, чтобы страна, спасшая мир в XX веке, стала достоянием истории в веке XXI?
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 6, 2010 год. © Council of Foreign Relations, Inc.
Сегодня большинство стран мира выбивают на своих внешнеполитических барабанах преимущественно экономические ритмы. Государства определяют свои национальные интересы в экономических терминах и пекутся в основном об усилении экономического могущества и влияния. Но в США это проявляется в недостаточной степени. Мир корректирует свои приоритеты в области государственной безопасности, сделав акцент на безопасности экономической, но к Америке это относится меньше всего. Соединенные Штаты по-прежнему трактуют собственную безопасность в основном в категориях военной силы и реагируют на угрозы военными средствами. Поэтому главный вызов для Вашингтона – уравновесить внешнюю политику экономической повесткой дня и найти новые творческие способы противодействия возникающим угрозам. Пора вдохнуть новый смысл в такое понятие, как «безопасность», чтобы оно отвечало реалиям XXI века.
Тем более что образец подобной экономикоцентричной политики и мировоззрения имеется, а именно: подход американских президентов Гарри Трумэна и Дуайта Эйзенхауэра.
Они понимали, что крепкая экономика служит основой для развития здоровой демократии на родине и укрепления американской военной мощи за рубежом. И что как бы ни были могучи экономика и армия, для сдерживания коммунизма Вашингтону понадобится серьезная помощь. Соответственно, они усилили мощь США, вернув к жизни экономики Западной Европы и Японии, и добавили легитимности американской силе, создав такие международные институты, как Всемирный банк и НАТО. Чтобы ответить на угрозы, исходившие от Советского Союза с его агрессивным стремлением насаждать по всему миру коммунизм, Трумэн и Эйзенхауэр прибегли к политике сдерживания с опорой на военно-экономические возможности. Их идея состояла в том, чтобы сдерживать советскую военную мощь, не доводя при этом Америку до банкротства. Конечно, сегодня Соединенным Штатам при проведении любой политики приходится считаться со сложностью мировой экономики и с новыми угрозами в виде терроризма и распространения оружия массового поражения. Все это можно и нужно делать, не сея интеллектуального и политического хаоса.
Самая ожесточенная битва развернется вокруг отчаянных усилий обновить и перезапустить мотор американской экономики. Все согласны с тем, что ее необходимо корректировать, чтобы остановить дальнейшее ослабление страны и отвратить грядущие опасности. Однако по поводу методов экономического оживления достичь согласия не удается. Перечень неотложных мер достаточно пространен, неумолим и до боли очевиден. Нужно улучшить качество преподавания в общественных школах во имя поддержки демократии и сохранения конкурентоспособности на мировой арене, модернизировать материальную инфраструктуру для повышения экономической эффективности и внутренней безопасности, сократить государственный долг, проценты по которому съедают львиную долю доходов. Также необходимо всячески стимулировать экономический рост для создания новых рабочих мест, сделать ставку на новые источники энергии и более свободную торговлю, что также приведет к появлению новых рабочих мест, уменьшить размер внешнего долга и снизить зависимость от ближневосточной нефти.
Хотя в настоящее время политики и эксперты исполняют воинственные танцы в связи с критически важными вопросами внутренней политики, им придется не на шутку схлестнуться и по поводу политики внешней. Способность США конвертировать экономическую мощь во влияние за рубежом сокращается, хотя еще какое-то время они останутся крупнейшей экономикой мира. В чем причины расширяющейся пропасти между силой Соединенных Штатов и возможностью ее проецирования? Отчасти это объясняется тем, что сегодня помощь извне не способствует решению внутренних проблем большинства стран. Другая причина в том, что США транжирят свою силу, используя ее крайне неэффективно. Прозевав глубокие перемены в мире, американские лидеры мало сделали для того, чтобы модернизировать стратегию национальной безопасности. В нынешних стратегических предложениях почти не слышно «денежного перезвона», экономическая составляющая в них явно недостаточна. Необходимо изменить образ мышления во внешней политике и помнить о том, что Америке необходимо проецировать силу и интересы в мире, где экономические интересы чаще всего (хотя и не всегда) перевешивают традиционные военные императивы.
Уникальная эра в мировой политике
Современное человечество пережило два периода глобализации. Оба вывели его на новые высоты в торговле и инвестициях и породили надежду на то, что всеобщая погоня за богатством затмит традиционное военное соперничество и поддержит мир на земле. Мечты о продолжении первой эпохи всеобщего процветания, которая длилась с 1880 по 1914 гг., потонули в крови Первой и Второй мировых войн и окончательно погибли в годы холодной войны – в общей сложности главные державы мира воевали почти сто лет. Многие ожидают, что эпоха глобализации, которая началась после завершения холодной войны, тоже закончится печально. И все же есть три важных момента.
В отличие от германской империи прошлых лет маловероятно, что быстро усиливающийся Китай окажется разрушительной силой. Сегодня шанс на вооруженное столкновение между крупными и формирующимися державами как никогда мал; поэтому государства могут продвигать свои экономические интересы без традиционных опасений по поводу военного соперничества.
В эпоху, предшествовавшую Первой мировой войне, Германия была самой динамичной экономикой мира, и амбиции ее лидеров выходили далеко за рамки преумножения национального достояния. Их целью было доминирование на европейском пространстве и за его пределами. То же самое можно сказать о Японской империи, которая перед Второй мировой войной стремилась управлять Азией и большей частью Тихоокеанского бассейна. Тогда как большинство стран предпочитало умножать богатство, Германия и Япония сосредоточились на идее мирового господства и не гнушались применять военную силу для достижения своих целей. Эти государства были наиболее динамичными экономиками мира, но и самыми деструктивными силами. Современные скептики утверждают, что Китай может стать «вторым пришествием» стратегически алчных империй прошлого, но это, конечно, преувеличение. Согласно аргументу скептиков, КНР, подобно Германии и Японии в прошлом, будет стремиться к владычеству с помощью финансов и торговли, если это возможно, а когда невозможно – применять силу.
Для начала нужно отметить, что современный Китай пока еще далеко позади Германии и Японии минувших лет в смысле обладания военными возможностями, необходимыми для того, чтобы завоевывать и оккупировать другие государства, а затем распоряжаться их ресурсами. Германия и Япония были способны вести многолетнюю войну с большей частью остального мира. Китаю же понадобится еще несколько десятилетий для того, чтобы развить возможность устойчивого проецирования силы за пределами своих государственных границ. В любом случае у обеспокоенных стран, таких как Индия, Япония и США, будет достаточно времени на то, чтобы отреагировать на агрессивные устремления Пекина и успешно противостоять им. Германия и Япония поставили свои индустриальные экономики на службу милитаристским амбициям. Они считали, что военное доминирование над другими странами – это наиболее эффективный метод контроля над их ресурсами, и у них практически не было внутренних сдерживающих мотивов. Китай не может позволить себе такую агрессивную стратегию, поскольку Пекину приходится подчинять почти все имеющиеся у него ресурсы задаче модернизации экономики. Половина населения Китая по-прежнему живет в крайней бедности, что чревато взрывоопасной революционной ситуацией, и коммунистическая партия понимает: высокие темпы экономического роста необходимо обеспечить, чтобы остаться у власти.
Вероятность конфликта уменьшает сегодня и отсутствие арены для реального столкновения жизненно важных интересов. В наши дни великие державы скорее объединены перед лицом самых тревожных угроз безопасности, которые представляют государства-изгои, располагающие ядерным оружием, и террористы, в руках которых может оказаться оружие массового уничтожения. В прошлом, а конкретно в первую эру глобализации, государства начинали войну практически на пустом месте. В то время воевали за Балканы – регион, лишенный полезных ископаемых и географической значимости – по сути дела, стратегический ноль. Сегодня маловероятно, что они будут хвататься за оружие по любому поводу, даже когда речь заходит о стратегически важном Ближнем Востоке. Потери от беспорядков в этом регионе значительно превысят приобретения. Вне всякого сомнения, великие державы, такие как Китай и Россия, будут соперничать друг с другом за возможности и преимущества, но до прямой конфронтации дело вряд ли когда-нибудь дойдет.
Сегодня крупные государства в беспрецедентной степени нуждаются друг в друге для того, чтобы развивать экономику, и им отвратительна сама мысль о том, чтобы поставить под угрозу эту взаимозависимость, позволив традиционной военно-стратегической конкуренции перерасти в полномасштабную войну. В прошлом недоброжелатели Соединенных Штатов, например Советский Союз, радовались бы поражению американцев в афганской войне. Сегодня Вашингтон и его недруги в равной степени заинтересованы в пресечении разрастания таких экстремистских движений, как «Талибан» и в перекрытии каналов наркотрафика из Афганистана. Китай также с надеждой смотрит на американский воинский контингент и вооружения, которые должны защитить его инвестиции в Афганистане, скажем вложения в разработку полезных ископаемых. В более широком смысле ни одна великая нация не оспаривает баланс сил в каком-либо регионе, будь то Европа или Азия. Хотя страны могут не помогать друг другу, они редко противостоят во взрывоопасных ситуациях.
Учитывая снижение угрозы войны между великими державами, политические руководители с большим основанием, чем прежде, могут поставить во главу угла экономические приоритеты. Конечно, на протяжении всей истории человечества лидеры стремились обеспечить своим странам экономическую мощь и силу, понимая ее как необходимое условие обретения государственной силы и могущества, но понятие силы в их умах преимущественно отождествлялось с военной мощью.
Сегодня же господствует идея, согласно которой экономическое могущество должно использоваться в первую очередь для достижения экономических, а не военных целей. Превыше всего в мире ценятся деньги, поэтому большинство стран ограничивают расходы на содержание постоянной армии и избегают военных интервенций. Умы политических деятелей заняты торговлей, инвестициями, доступом к рынкам, обменными курсами валют, обогащением уже богатых и улучшением жизни остальных слоев населения.
Эта тенденция явно просматривается в политике быстро усиливающихся региональных держав, таких как страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай) и других сильных государств: Индонезии, Мексики, ЮАР и Турции. Хотя их лидеры озабочены укреплением безопасности – в частности, Индия опасается Пакистана, – главная задача сводится к обеспечению экономического могущества. Для большинства экономический рост – главное средство борьбы с внутренней политической оппозицией.
Наверное, самым наглядным примером примата экономики может служить Китай. Хотя есть опасность, что через несколько десятилетий КНР превратится в деструктивную силу, сейчас Пекин заинтересован в сохранении существующего мирового порядка и не угрожает войной. Поскольку Китай мастерски играет в новую экономическую игру, избегая войн и политической конфронтации и сосредоточивая внимание исключительно на бизнесе, его глобальное влияние намного превосходит нынешнюю экономическую силу. Китай извлекает дополнительные преимущества из того факта, что другие ожидают его беспрецедентного усиления в будущем.
Страна стала экономическим гигантом, не превратившись в мировую военную державу. Мир опасается не китайской военной мощи, а способности Пекина осуществлять массированную торговлю и инвестиции или воздерживаться от этого.
Но несмотря на все эти особенности нынешней эпохи, одно остается неизменным: национальная стратегия безопасности США. В то время как другие государства приспособились к новому мировому порядку, основанному на экономике, Вашингтон продолжает медлить. Это неудивительно. На протяжении полувека Соединенные Штаты вынуждены были уделять первостепенное внимание предотвращению реальных и серьезных угроз. Ни одна другая страна не может и не хочет взваливать на себя такую огромную ответственность и такие тяжелые обязанности. Даже в наши дни никакая страна или группа стран не способна возглавлять коалиции по противодействию террору и угрозе распространения ядерного оружия. США не имеют права игнорировать бремя великой державы, но должны скорректировать свои подходы, признав, что в центре современной геополитики стоит экономика. Неумение Вашингтона учитывать современные реалии уже стоило Америке крови, потери немалых средств и влияния. Во втором десятилетии XXI века вашингтонские политические лидеры заявляют о том, что понимают новый экономический мировой порядок; однако они по-прежнему не имеют хотя бы подобия стратегии в области национальной безопасности, соответствующей этому изменившемуся порядку.
Осовременить политику Трумэна и Эйзенхауэра
Лучшая стратегия для Соединенных Штатов в новую эпоху – это приспособить к современным условиям подход, разработанный Гарри Трумэном и Дуайтом Эйзенхауэром в начале холодной войны. Основополагающие принципы заключались в том, чтобы сделать американскую экономику приоритетом, пусть даже ценой урезания расходов на оборону, и укреплять экономики главных союзников – Японии и стран Западной Европы – чтобы уменьшить их уязвимость перед лицом Советского Союза и повысить их ценность как союзников. Другой приоритет состоял в том, чтобы отводить угрозы, сдерживая неприятеля и оказывая деятельную военно-экономическую помощь партнерам по всему миру.
Трумэн и Эйзенхауэр использовали угрозы из-за рубежа, чтобы убедить американских законодателей дать зеленый свет важным экономическим инициативам на родине. Например, Эйзенхауэр воспользовался запуском первого советского спутника для того, чтобы добиться от Конгресса финансирования срочных программ в области математики и технических наук, а также строительства сети качественных шоссейных дорог для укрепления страны перед лицом советской военной угрозы. Точно так же современные лидеры могли бы сделать более явный акцент на математическом и научном образовании для восстановления торговой конкурентоспособности США и потребовать более существенного финансирования проектов, связанных с созданием материальной инфраструктуры. Это повысило бы устойчивость в случае терактов и в целом увеличило бы эффективность американской экономики.
Трумэн и Эйзенхауэр осуществляли намеченные реформы, держа военные расходы под контролем – бюджет Пентагона стоял у них не на первом, а на последнем месте. Оба президента выделяли средства на оборону по «остаточному принципу»: доходы от налогов в первую очередь шли на финансирование важных проектов внутри страны, а оборонному ведомству приходилось довольствоваться местом во втором ряду бюджетных приоритетов. Учитывая реалии сегодняшней политики, механически копировать эту модель не получится, но президентам следует более скептично оценивать запросы Пентагона и убеждать его умерить аппетит. Эйзенхауэр и Трумэн особенно хорошо осознавали опасные последствия жизни в долг для американского государства. Им удавалось принимать продуманный и сбалансированный бюджет. Ныне, когда 40 центов каждого доллара в государственной казне заимствуются из-за рубежа, подобный курс был бы весьма уместен.
Сегодня метод Трумэна и Эйзенхауэра почти наверняка произвел бы революционные изменения в приоритетах. Например, Мексика заняла бы в американской внешней политике гораздо более важное место, чем Афганистан, поскольку она может реально помогать Соединенным Штатам или вставлять им палки в колеса – только подумайте о нелегальной иммиграции, наркотиках, преступности, а также торгово-инвестиционном потенциале. Война же в Афганистане, независимо от ее исхода, не будет иметь серьезного и продолжительного влияния на США, а участие в ней стоит Америке потери драгоценных человеческих жизней и долларов. Террористы продолжат находить убежище в Пакистане и многих других местах. Однако, несмотря на все эти очевидные соображения, Вашингтон уделяет огромное внимание Афганистану и по сути дела игнорирует Мексику.
Следуя второму фундаментальному принципу – укреплять не только американскую экономику, но и дружественные, союзнические государства, – Трумэн и Эйзенхауэр соорудили неприступную стену на пути коммунистической экспансии, поддерживая взаимную торговлю и инвестиции. Главными бенефициарами были Западная Европа (благодаря гениальности «плана Маршалла») и Япония. К концу 1950-х гг. тройственный союз Соединенных Штатов, Западной Европы и Японии составлял становой хребет мировой экономики, дипломатии, обороны и безопасности. Вместе они были непобедимы, невзирая на эпизодические неудачи.
И сегодня этот треугольник остается олицетворением величайшей общности интересов и ценностей и вполне может послужить отправной точкой при создании коалиций XXI века. Однако в подобные коалиции в зависимости от ситуации необходимо включать и другие страны.
Конечно, современная экономика Америки едва ли напоминает ту, что существовала при Трумэне и Эйзенхауэре. Сегодня торговля обеспечивает около четверти американского ВВП – в два с лишним раза больше, нежели в начале холодной войны. Триллионы долларов ежедневно пересекают государственные границы, и эти потоки почти не контролируются правительством. Всемирный банк и Международный валютный фонд, по сути дела созданные Трумэном, сегодня занимают гораздо более скромное место в глобальной экономике. Соединенные Штаты пока остаются маяком мировой торговли, но их влияние ослабело по сравнению с теми днями, когда Трумэн разработал Генеральное соглашение по тарифам и торговле, ставшее предтечей Всемирной торговой организации.
Причина снижения влияния в том, что американская экономика относительно слабее, чем раньше. В прошлом воздействие нашей страны на мировую торговлю во многом обусловливалось размером и жизнеспособностью экономики. Так, в процессе торговых переговоров США могли позволить себе открыть свои рынки больше, чем другие страны, в полной уверенности, что подобная политика с лихвой окупится в долгосрочной перспективе. Какими бы вескими ни были причины, по которым в долговременной стратегии Соединенным Штатам следует сделать акцент на экономику, усилия окажутся бесплодными, если Вашингтон не будет уверен, что это не приведет к ослаблению национальной безопасности, а новые способы противодействия современным угрозам продолжают разрабатываться. Для начала нужно успокоить общество относительно Китая и, в гораздо меньшей степени, по поводу России. Ни та ни другая страна не в состоянии бросить серьезный вызов американской военной мощи за пределами своих границ. Традиционные вооруженные силы Москвы слабы, находятся в упадке, а поэтому представляют угрозу разве что в непосредственной близости от российских границ. Китайская армия действительно усиливается, но паритет с Вооруженными силами Соединенных Штатов будет достигнут не раньше, чем через несколько десятилетий, если это вообще будет ей под силу. Более того, маловероятно, что Россия и Китай совершат неспровоцированное нападение на США, поскольку вряд ли они рискнут навлечь на себя неприятные последствия.
Конечно, Пекин может довести до точки кипения военную напряженность по поводу Тайваня или Южно-Китайского моря, изобилующего природными ресурсами. Вашингтону требуются весомые военно-морские и военно-воздушные силы в этих регионах, чтобы сделать подобные авантюры слишком рискованными для Китая. Так же как во времена Трумэна и Берлинского воздушного моста, Белому дому нужно переложить бремя риска и эскалации на потенциальных агрессоров, таких как Пекин. В более широком смысле сдерживающим фактором для Китая служит огромный торговый оборот с Соединенными Штатами и колоссальные инвестиции в экономику США. Хотя американские ястребы могут принижать власть денег, китайцы этого никогда не сделают.
Самые серьезные угрозы безопасности исходят от государств-изгоев, обладающих ядерными возможностями или находящихся в процессе разработки ядерного оружия, а также от стран с распадающейся государственностью, которые становятся рассадниками терроризма, равно как и от самих международных террористов. Необходимо решить стратегический вопрос: противодействовать этим угрозам с помощью массированных военных интервенций или больше полагаться на сдерживание и помощь странам, которые становятся прибежищем для террористов.
Наземные операции следует проводить только при наличии следующих условий: угроза уникальна для страны, из которой она исходит, и представляет очевидную опасность для Соединенных Штатов; эту угрозу способна отвести только вооруженная операция на суше, причем она не может продолжаться дольше нескольких лет при умеренных расходах. При этом местное население должно полностью поддерживать американский контингент, воевать на его стороне и понимать с самого начала, что для него это единственное спасение. Если этих условий нет, ставку следует сделать на дипломатию и программы гуманитарной помощи той или иной стране для противодействия угрозам, исходящим с ее территории. На сегодняшний день войны в Афганистане и Ираке уже обошлись американской казне в 3 трлн долларов, и баланс не подведен. Целесообразность этих войн будет еще долго обсуждаться, но очевидно, что они нанесли страшный удар по американской экономике.
Что касается таких стран-изгоев, как Иран и Северная Корея, то консерваторы заявляют, что одна лишь политика сдерживания не поможет. Их аргумент состоит в том, что лидеры этих стран сумасшедшие, и их не сдержать угрозой неминуемой гибели и уничтожения их государств. Консерваторы прибегали к тому же аргументу и во времена холодной войны, утверждая, что советские и китайские лидеры готовы пожертвовать половиной своего населения, чтобы одержать «победу» в ядерной войне. Однако со временем Москва и Пекин уступили в холодной войне, так и не прибегнув к ядерному оружию. Точно так же, какой бы неистовой ни была риторика политических лидеров в Тегеране и Пхеньяне, их действия во многом осторожны и выверены; видно, что они боятся спровоцировать вооруженную реакцию более могущественных держав. Их апокалипсическая риторика предназначена в основном для местного населения (вашингтонским политикам хорошо знакома подобная тактика). Иран и Северная Корея – опасные смутьяны, но их вполне можно сдерживать. Они знают, что рискуют спровоцировать Соединенные Штаты привести ядерные силы в состояние полной боевой готовности, если только попытаются сделать ставку на свои ядерные возможности. Режимы в Тегеране и Пхеньяне потеряют все, напав на США и их союзников и тем самым вызвав разрушительный ответный удар. Что касается серьезной проблемы поставки Ираном оружия террористам в Ливане и других странах, то даже ястребы не призывают стереть Тегеран с лица земли ради того, чтобы остановить это.
Террористы, готовые пойти на самоубийство, – еще одна гипотетическая угроза. Маловероятно, что их удастся сдержать. Они могут уничтожить порты и торговые узлы с помощью обычных вооружений и причинить невообразимый ущерб, если раздобудут ядерные материалы для изготовления так называемой грязной бомбы. Но они сделают это независимо от исхода наземных операций в Афганистане и Ираке. Поскольку волшебной палочки для победы над террористами не существует, самая благоразумная и действенная антитеррористическая стратегия может заключаться в применении смешанной формулы. Необходимо улучшить полицейские и разведывательные операции в своей стране и за рубежом, наносить точечные ракетные и авиационные удары по террористам в странах-изгоях, чередуя их с операциями морских пехотинцев, а также помогать дружественным государствам в борьбе с террористами и укреплении сил безопасности. В будущем теракты против Соединенных Штатов практически неизбежны, поэтому важно готовиться к атакам террористов, чтобы повысить способность реагировать на них и быстро восстанавливаться.
Трумэну и Эйзенхауэру не приходилось противодействовать такого рода угрозам. В те времена страны-изгои и террористы в основном находились под контролем Москвы и Пекина. Но с высокой долей вероятности можно предположить, что Трумэн и Эйзенхауэр всячески стремились бы уклониться от крупномасштабных наземных вторжений, предпочитая им политику сдерживания и гуманитарной помощи. Трумэн не вводил американские войска в Грецию и Турцию для осуществления своей доктрины сдерживания; он оказал этим странам военно-экономическую помощь и дал устные заверения, не обещая золотых гор. Трумэн согласился вести войну в Корее, поскольку на полуострове сложилась уникальная ситуация. Северная Корея вопиющим образом нарушила общепринятые международные границы, напав на Южную Корею, и Трумэн посчитал, что если не применить силу, Советский Союз и Китай могут осуществлять внезапные нападения и в других частях земного шара. Однако он сделал все возможное, чтобы война не вышла за пределы Корейского полуострова, а Эйзенхауэр, придя к власти, сразу же прекратил вооруженные действия.
Наиболее вероятной реакцией Трумэна и Эйзенхауэра на события 11 сентября был бы союз с соседями Афганистана для сдерживания талибов, обещание наказать «Талибан» в случае предоставления «Аль-Каиде» безопасной гавани, расщепление талибского движения путем дипломатических усилий и формирование нового правительства в Кабуле. Они бы оказали этому правительству и предводителям племен всяческую военно-экономическую помощь, параллельно обучая дружественные Вашингтону подразделения.
Сегодня Соединенные Штаты по собственному желанию остаются главной уравновешивающей силой в мире. Это единственный региональный противовес Китаю в Азии, России в Восточной Европе и Ирану на Ближнем Востоке. Хотя американцы редко думают о роли, которую они играют в этих регионах, а лидеры иностранных держав часто отрицают ее по внутриполитическим соображениям, фактом остается то, что американцам и неамериканцам в равной степени требуются эти услуги. Даже российские лидеры ожидают от Вашингтона, что он будет сдерживать Китай. А китайские руководители, конечно, понимают, что нуждаются в американских ВМС и ВВС для охраны мировых торговых путей на море. При подписании экономических соглашений США не следует стесняться напоминать другим странам об опасных издержках, которые они несут, выполняя функции гаранта безопасности. Например, во многом это касается решений, принимаемых Афганистаном и Ираком по поводу контрактов на добычу полезных ископаемых, а также отношений с Пекином. Американские вооруженные силы поддерживают стабильный международный порядок, который благоприятствует экономическому росту Китая, но до сих пор Пекин получает эту помощь даром.
Новый подход
В этих условиях первоочередными внешнеполитическими целями для Америки должны стать обеспечение сильной экономики и способность при минимальных издержках принимать действенные меры для отвода угроз. Вторичными и более спорными целями является сохранение военной мощи, необходимой для того, чтобы оставаться главной уравновешивающей силой в мире, а также стимулирование свободной торговли, поддержка технологических преимуществ (включая возможности ведения кибернетических войн), снижение опасности угроз экологии и здоровью людей, развитие альтернативной энергетики. Конечно, нельзя забывать и о продвижении американских ценностей, таких как демократия и права человека, во всем мире. По возможности, вторичные цели должны поддерживать и усиливать первичные цели. Например, если где-то и можно отклониться от курса, то скорее в области свободной торговли ради поддержки национальной экономики и инвестиций в энергетическую независимость и ради уменьшения зависимости от неспокойного Ближнего Востока.
Никакие универсальные подходы и правила не должны диктовать руководителям страны, как достигать вышеуказанных целей в каждой отдельной ситуации. Конкретная тактика во многом будет зависеть, помимо прочих факторов, от культуры и политики разных государств. Глобальный стратегический план, конечно, должен существовать, чтобы лучше ориентироваться в том, как использовать силу для достижения целей. Это то, что делает политику целенаправленной и осмысленной, и чего в целом так часто недостает американскому внешнеполитическому курсу.
Организующим принципом во внешней политике должно стать использование силы и влияния для решения повседневных проблем. Добрые старые времена, когда можно было манипулировать другими с помощью военных или экономических угроз, канули в лету. Даже самые слабые страны сопротивляются диктату сильнейших держав или поднимают цену за свое подчинение. Сегодня США черпают силу в основном в осознании другими государствами своей неспособности в одиночку справиться со стоящими перед ними проблемами. В таком случае их лидерам приходится считаться с американскими интересами, чтобы вместе решать общие задачи. Эффект оказываемых услуг во многом вытеснил воздействие прямого командования. Как бы ни упало сегодня влияние Вашингтона, большинство стран не сомневается в том, что Соединенные Штаты – незаменимый лидер при решении важных международных проблем. Эта способность решать проблемы важна практически во всех областях – от переговоров до разрешения военных конфликтов и заключения международных соглашений по противодействию глобальному потеплению. Только Вашингтону под силу помочь странам, имеющим выход к Южно-Китайскому морю, разработать формулы разделения имеющихся в нем ресурсов. Лишь Америка в состоянии подтолкнуть израильтян и палестинцев к миру. Только она может торговаться с Китаем по поводу повышения умышленно заниженного обменного курса юаня, ущемляющего интересы почти всех торговых партнеров Пекина. Однако и американцам, и гражданам других стран понятно, что Америке не хватит сил для того, чтобы справиться с трудными вопросами в одиночку: незаменимый лидер должен работать с незаменимыми партнерами.
Чтобы привлечь необходимых партнеров, Вашингтону крайне важно научиться искусству компромисса, овладеть которым американским политикам не так-то легко. Само по себе многостороннее сотрудничество – это не панацея, да и жертвовать жизненно важными национальными интересами вовсе не нужно. Администрацию Обамы критикуют за то, что она смягчила экономические санкции ООН против Ирана, идя навстречу пожеланиям Китая и России. Но не пойди Соединенные Штаты на компромисс, их инициативы заблокировал бы Совет Безопасности, и санкций не было бы вовсе. Президентам США часто удается выторговать нужное решение, не поступаясь важными национальными интересами, но американской общественности нужно доходчивее разъяснять неизбежность внешнеполитических компромиссов.
Политикам и стратегам пора научиться терпению. Даже самые слабые страны в состоянии сопротивляться и медлить. Оказание преждевременного давления на несговорчивых партнеров, что так свойственно американскому стилю, приводит к неудачам и провалам, которые неизбежно ослабляют позицию Соединенных Штатов. Успех порождает силу, а неудача – слабость. Даже когда различные политические группы внутри страны требуют быстрых действий, Белому дому необходимо научиться выжидать, чтобы дать возможность американской мощи и силе коалиций, возглавляемых Америкой, оказать должное действие на зарубежных партнеров по переговорам. Терпение особенно ценно в области экономики, где действует значительно больше влиятельных игроков, нежели в военно-дипломатической сфере. Нужно немало времени, чтобы договориться со всеми акторами на выгодных или приемлемых для Вашингтона условиях. Военная сила действует быстро, подобно буре или урагану; экономическая же больше похожа на прилив, который наступает постепенно. Береговая линия не сразу размывается водами, но в конце концов это все равно происходит.
Конечно, США необходимо ради самих себя сохранять ключевую роль как главного военно-дипломатического балансира в мире, потому что это помогает отстаивать национальные интересы при заключении экономических соглашений. Но экономика должна стать главной движущей силой современной политики, поскольку страны подсчитывают реальную силу и влияние больше в терминах национального ВВП, чем военной мощи. Американский ВВП будет одновременно пряником и кнутом в международной политике XXI века. Нельзя надлежащим образом отстаивать или продвигать интересы страны за рубежом без экономического пробуждения на родине. Лидеры Соединенных Штатов все время заверяют общественность, что готовы сделать непростой выбор, если это потребуется для восстановления экономики, но не делают его. Так же часто они заявляют о понимании того, что в век экономического влияния и силы нужна новая внешняя политика, но оказываются неспособны изменить внешнеполитические ориентиры и приоритеты. В частности, президент Барак Обама часто говорит очень правильные вещи, но дальше разговоров дело не идет. Тем временем американцы всех политических убеждений ждут и задаются вопросом: неужели их лидеры могут допустить, чтобы страна, спасшая мир в XX веке, стала достоянием истории в веке XXI?
Лесли Гелб – почетный президент Совета по международным отношениям. С 1967 по 1969 гг. служил в Министерстве обороны США, а с 1977 по 1979 гг. – в Государственном департаменте. С 1981 по 1993 гг. он также был обозревателем и редактором The New York Times.

Теракты 11 сентября в ретроспективе
Большая стратегия Джорджа Буша. Переосмысление
Резюме: Атаки террористов сместили фокус и направление внешней политики администрации Джорджа Буша. Но новый подход, который так активно хвалили и критиковали, оказался куда менее революционным, чем полагали тогда. По большей части он соответствовал долгосрочным тенденциям американской внешней политики и во многом сохранился при Бараке Обаме.
Спустя 10 лет после терактов 11 сентября у нас появилась возможность оценить, как события того дня повлияли на американскую внешнюю политику. Принято говорить, что теракты изменили все. Но сегодня подобные выводы не кажутся обоснованными. День 11 сентября действительно сместил фокус и направление внешней политики администрации Джорджа Буша. Но новый подход, который так активно хвалили и критиковали, оказался куда менее революционным, чем полагали тогда. По большей части он соответствовал долгосрочным тенденциям американской внешней политики и во многом сохранился при президенте Бараке Обаме. Некоторые аспекты вызвали презрение, другие заслужили скупую похвалу. И как бы мы к ним ни относились, пришло время поставить эпоху в соответствующий контекст и попытаться осмыслить ее.
До и после
До 11 сентября внешняя политика администрации Буша была сосредоточена на Китае и России; на поиске возможностей ближневосточного мирного урегулирования; на создании системы противоракетной обороны и на обдумывании того, как вести себя с государствами-изгоями – Ираном, Ираком, Ливией и КНДР. На заседаниях Совета национальной безопасности обсуждались аргументы за и против нового режима санкций в отношении диктатуры Саддама Хусейна в Багдаде; также поднимался вопрос о том, что делать, если американские самолеты, обеспечивающие бесполетную зону над Ираком, будут сбиты. Мало что удалось решить.
Терроризм или радикальный исламизм высокопоставленные официальные лица не рассматривали в качестве серьезного приоритета. Сколько бы Ричард Кларк, ведущий эксперт по борьбе с терроризмом в Совете национальной безопасности, ни предупреждал о неминуемой опасности, а директор ЦРУ Джордж Тенет ни говорил, что аварийная сигнализация уже срабатывает, это не убеждало госсекретаря Колина Пауэлла, министра обороны Дональда Рамсфелда и советника по национальной безопасности Кондолизу Райс. Так же, как и Буша. В августе 2001 г. президент отправился на свое ранчо, чтобы провести длительный отпуск. Усама бен Ладен его не особенно беспокоил.
Советники Буша по внешней политике и обороне пытались определить стратегические рамки и приспособить вооруженные силы к так называемой революции в военном деле. Сам президент начал больше говорить о свободной торговле и изменениях в системе иностранной помощи. Во время президентской кампании он высказывался за более сдержанную внешнюю политику и укрепление обороны, при этом оставалось непонятно, как он собирался совместить эти цели. На самом деле президент был сосредоточен на внутренних делах – сокращении налогов, реформе образования, развитии благотворительных организаций, создаваемых по принципу конфессиональной общности, энергетической политике. А потом вдруг произошла катастрофа.
В ответ на теракты администрация начала «глобальную войну с терроризмом», сосредоточившись не только на «Аль-Каиде», но и на мировой террористической угрозе в целом. Помимо опасных негосударственных акторов целями стали режимы, которые укрывали террористов и помогали им. Чтобы получить нужные сведения, приходилось прибегать к задержанию, экстрадиции подозреваемых, а в некоторых случаях – к пыткам.
Администрация объявила, что будет использовать политику упреждающей самообороны – иными словами, превентивные военные действия. Джордж Буш пообещал предпринять шаги для устранения не только существующих угроз, но и тех, которые только набирают силу, и выразил готовность в случае необходимости действовать в одиночку. Такой подход в конечном итоге привел к войне не только в Афганистане, но и в Ираке.
Администрация также делала акцент на демократизации и идее демократического мира. Это стало ключевым компонентом доктрины Буша, особенно после того, как в Ираке не удалось найти оружие массового поражения (ОМП). «Руководствуясь событиями и здравым смыслом, мы пришли к единому мнению, – говорил Буш во второй инаугурационной речи в январе 2005 г., – сохранение свободы в нашей стране зависит от успеха свободы в других странах». Спустя три года, собираясь покинуть свой пост, Кондолиза Райс представила ту же точку зрения, заявив, что она и ее коллеги осознали: «Построение демократических государств сейчас является необходимым компонентом наших национальных интересов».
После 11 сентября военные и разведывательные возможности Соединенных Штатов укреплялись опережающими темпами. Стремительно росли расходы на оборону; расширялись инициативы по борьбе с боевиками; новые базы появились в Центральной и Юго-Западной Азии; военное командование было создано в Африке. Война с терроризмом стала приоритетом национальной безопасности.
Одновременно администрация поддерживала свободу рынков, либерализацию торговли и экономическое развитие. Она пересмотрела и значительно повысила обязательства США по оказанию помощи иностранным государствам, увеличив, к примеру, экономическое содействие приблизительно с 13 млрд долларов в 2000 г. до почти 34 млрд в 2008 году. Администрация боролась с болезнями, став крупнейшим донором Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Она вела переговоры с Россией о сокращении стратегических ядерных вооружений, перестраивала отношения с Индией, сглаживала напряженные моменты в отношениях с Китаем. И продолжала попытки остановить распространение ОМП, не прекращая работу над созданием системы противоракетной обороны. Эти усилия дополняли друг друга, поскольку Белый дом намеревался не допустить, чтобы распространение ОМП лишило Америку свободы действий в регионах, которые считались важными. Соединенные Штаты также хотели исключить риск того, что государства-изгои передадут или продадут ОМП террористам.
Основы этой политики – упреждение (предотвращение), односторонность, военное превосходство, демократизация, свободная торговля, экономический рост, укрепление альянсов и партнерства великих держав – были сформулированы в Стратегии национальной безопасности 2002 года. Документ готовили сотрудники тогдашнего помощника по национальной безопасности Райс, а не неоконсерваторы в аппарате вице-президента или Пентагоне. В основном этим занимался приглашенный консультант Филипп Зеликов, затем документ редактировали Райс и ее помощники, наконец, правил сам Буш.
Иными словами, 11 сентября побудило администрацию Буша к активности и заставило изменить фокус политики. Страх служил катализатором действий, так же как уверенность в мощи США, гордость за национальные институты и ценности, ощущение ответственности за безопасность общества и чувство вины за то, что атаки были допущены. Как писал позже советник Белого дома Карл Роув, «мы работали, ошеломленные нападением на американскую землю, которое привело к гибели тысяч людей». Пересмотр политики Соединенных Штатов означал пробуждение от неопределенности и преодоление паралича первых девяти месяцев работы администрации. До 11 сентября главенство и безопасность США воспринимались как должное, после терактов Вашингтону пришлось продемонстрировать, что он способен защитить американскую территорию и своих союзников, обеспечить контроль над открытой мировой экономикой и укреплять соответствующие институты.
Стремление Америки к главенству
Воздействие 11 сентября на американскую политику некоторые наблюдатели сравнивали с тем, как на нее повлияло нападение Северной Кореи на Южную в июне 1950 года. Тогда администрация Трумэна тоже была ошеломлена. Она обдумывала новые инициативы, но президент колебался. Он одобрил директиву Совета национальной безопасности, известную как NSC-68, однако не был готов ее реализовать. Параметры планировавшегося наращивания военной мощи Соединенных Штатов не были определены; глобальная природа холодной войны оставалась неясной; идеологическая кампания находилась в зачаточном состоянии. Но госсекретарь Дин Ачесон и Пол Нитце, руководивший политическим планированием в Госдепартаменте, понимали, что им нужно подтвердить превосходство США, поставленное под сомнение первым советским ядерным испытанием. Они знали, что необходимо увеличить военный потенциал, восстановить уверенность в своих силах и не допустить ситуации, когда Америка сдерживала бы сама себя. Они понимали, что придется взять ответственность за функционирование мировой свободной торговли и восстановление экономик Западной Германии и Японии (их успешное возвращение к жизни тогда еще не было очевидным). Они знали, что превосходство Соединенных Штатов оспаривается мощным и грозным соперником, чья идеология привлекательна для обнищавших слоев, стремящихся к автономии, равенству, независимости и государственности. В этом контексте нападение Северной Кореи не только привело к Корейской войне, но и вызвало переход США к глобальной политике гораздо большего охвата.
Вне зависимости от того, можно ли считать подобные аналогии уместными, бесспорно одно: Буш и его советники ощущали, что им пришлось вступить в схожую схватку. И они тоже стремились сохранить и закрепить превосходство Соединенных Штатов, делая все, чтобы предотвратить новые теракты на американской территории или против граждан США. Как Ачесон и Нитце, они были уверены, что защищают образ жизни, что конфигурация власти на международной арене и уменьшение угроз за рубежом имеют жизненно важное значение для сохранения свободы дома.
Советникам Буша было гораздо сложнее, чем Ачесону и Нитце, объединить элементы своей политики в стратегию противодействия вызовам, которые они считали первостепенными. Сейчас очевидно, что многие внешнеполитические инициативы, так же как сокращение налогов и нежелание идти на жертвы во внутренней политике, перечеркнули те цели, для достижения которых они были предприняты.
Превосходство США серьезно пострадало из-за того, что не удалось эффективно использовать вторжения в Афганистан и Ирак, а также из-за волны антиамериканизма, которую спровоцировали эти операции. Американские официальные лица могли декларировать универсальную притягательность свободы и заявлять, что история подтвердила жизнеспособность только одной формы политической экономии, но опросы общественного мнения в мусульманском мире показали, что действия Соединенных Штатов в Ираке и поддержка Израиля – очень опасное сочетание. Как только освобождение от тирана превратилось в оккупацию и борьбу с боевиками, США начали утрачивать свою репутацию, а легитимность их власти оказалась под сомнением.
Превосходству Америки также навредила неожиданная стоимость затянувшихся войн, которую Исследовательская служба Конгресса недавно оценила в 1,3 трлн долларов, и расходы продолжают расти. Негативно сказался рост долгов из-за сокращения налогов и увеличения внутренних расходов. Оборонные расходы возросли с 304 млрд долларов в 2001 г. до 616 млрд долларов в 2008 г., а бюджет скатился с профицита в 128 млрд долларов до дефицита в 458 млрд долларов. Госдолг в процентах от ВВП вырос с 32,5% в 2001 г. до 53,5% в 2009 году. При этом объем американских долговых облигаций, держателями которых являются иностранные правительства, неуклонно рос с 13% по окончании холодной войны до почти 30% в конце президентства Буша. Финансовая сила и гибкость Соединенных Штатов были серьезно подорваны.
Вместо того чтобы предотвратить подъем равноценных конкурентов, действия США за границей, а также бюджетные и экономические проблемы дома поставили Вашингтон в невыгодное положение относительно его соперников, в особенности Пекина. В то время как американские войска увязли в Юго-Западной Азии, растущий военный потенциал Китая (особенно новый класс подлодок, новые крылатые и баллистические ракеты) поставил под угрозу превосходство Америки в Восточной и Юго-Восточной Азии. Одновременно дефицит Соединенных Штатов в торговле с КНР вырос с 83 млрд долларов в 2001 г. до 273 млрд в 2010 г., а суммарная задолженность перед Китаем увеличилась с 78 млрд в 2001 г. до более чем 1,1 трлн долларов в 2011 году.
Вместо того чтобы сохранить региональные балансы сил, действия США нарушили равновесие в Персидском заливе и в целом на Ближнем Востоке – регионе, о котором особенно заботились американские официальные лица. Доверие к Америке упало, Ирак перестал быть противовесом Ирану, возможности Ирана действовать за пределами своих границ расширились, а Соединенные Штаты утратили как минимум часть своего потенциала, необходимого для того, чтобы выступать посредником в палестино-израильских переговорах.
Вместо того чтобы препятствовать распространению ядерного оружия, вторжения США с целью смены режима стали для государств-изгоев дополнительным стимулом разрабатывать ОМП. Лидеры Ирана и Северной Кореи, по-видимому, просчитали, что выживание их стран больше, чем когда-либо зависит от наличия ОМП как фактора сдерживания (решение администрации Обамы вмешаться в 2011 г. в Ливии, которая несколько лет назад отказалась от своей ядерной программы, эту точку зрения, вероятно, только укрепило).
Вместо того чтобы продвигать свободные рыночные отношения, Соединенные Штаты под грузом экономических проблем спровоцировали протекционистские действия внутри страны и осложнили торговые переговоры за рубежом. Попытки ускорить Дохийский раунд торговых переговоров провалились, а двусторонние торговые соглашения с Колумбией и Южной Кореей были блокированы.
Вместо того чтобы продвигать идею свободы, война с терроризмом разворачивалась на фоне отступления демократии по всему миру (по крайней мере до недавней «арабской весны»). Ведение войн и борьба с терроризмом способствовали сомнительным отношениям Вашингтона с самыми нелиберальными режимами, такими как в Саудовской Аравии, Таджикистане и Узбекистане. По данным ежегодного доклада Freedom House о состоянии политических прав и гражданских свобод в мире, «2009-й стал четвертым годом подряд, когда в большинстве стран наблюдалось сокращение свободы, а не улучшение ситуации, это самый длительный период ухудшения за почти 40-летнюю историю докладов».
И наконец, вместо того чтобы препятствовать терроризму и радикальному исламизму, действия США их стимулировали. За время войны против терроризма количество террористических атак увеличилось, возможно, как и число радикальных исламистов. В Национальной разведывательной сводке Белого дома в 2007 г. было признано, что страна живет в обстановке повышенной опасности. В докладе 2008 г. о борьбе с терроризмом, подготовленном уважаемой независимой исследовательской организацией – Центром стратегических и бюджетных оценок, – отмечалось, что «с 2002–2003 гг. позиции США в глобальной войне против терроризма пошатнулись». Хотя Соединенные Штаты захватили и уничтожили лидеров террористов и их агентов, разрушили террористические сети, блокировали активы и построили конструктивные партнерские отношения с контртеррористическими ведомствами за границей, эффект от побед, указывалось в докладе, «сведен на нет из-за перерастания “Аль-Каиды” в глобальное движение распространения и усиления салафитско-джихадистской идеологии, восстановления регионального влияния Ирана и роста политического влияния фундаменталистских партий в мире и их числа». Возможно, недавнее убийство бен Ладена повернет вспять эти тенденции, но многие ведущие эксперты настроены скептически.
Конечно, легко критиковать задним числом. После 11 сентября американские официальные лица столкнулись с вызовами и необходимостью делать выбор. В атмосфере страха и реальной опасности им удалось добиться заметных успехов и выдвинуть важные инициативы. Они оказывали давление на «Аль-Каиду» и другие террористические организации и смогли предотвратить многие теракты на территории США и против американских граждан. Они добились крупного успеха в нераспространении, заставив Ливию отказаться от ядерной программы, сформировали прочные отношения с такими развивающимися державами, как Индия, и не допустили серьезной напряженности в отношениях с Китаем и Россией. Они реформировали систему оказания помощи иностранным государствам, увеличив ее, возглавили глобальную борьбу с инфекционными заболеваниями, пытались добиться сдвигов в торговых переговорах раунда Дохи и подняли престиж продвижения демократии и политических реформ, что имело значительный резонанс и в конечном итоге способствовало нынешним событиям на Ближнем Востоке.
Эти успехи не компенсировали провал администрации в достижении многих наиболее важных целей. Однако критики неправы, заявляя, что политические инициативы, закончившиеся неудачно, были радикально новыми или неожиданными. Их корни уходят в прошлое.
11 сентября в исторической перспективе
Упреждающие или превентивные действия не являются изобретением Буша, вице-президента Дика Чейни или Рамсфелда; они достаточно давно используются в американской внешней политике. За 100 лет до этого «дополнением» президента Теодора Рузвельта к доктрине Монро стала политика превентивного вмешательства в Америке и последующая военная оккупация США таких стран, как Гаити и Доминиканская Республика. Позже президент Франклин Рузвельт, оправдывая решение прибегнуть к упреждающей самообороне против немецких кораблей в Атлантике до вступления Соединенных Штатов во Вторую мировую войну, говорил: «Когда вы видите гремучую змею, изготовившуюся для броска, надо бить ее, не дожидаясь нападения». Спустя 20 лет президент Джон Кеннеди решил, что не может допустить размещения советских наступательных вооружений в 90 милях от берегов США, и в одностороннем порядке ввел карантин – по сути блокаду и состояние войны – вокруг Кубы, что привело к Карибскому ракетному кризису. С точки зрения Кеннеди, это было правомерным превентивным шагом, несмотря на то, что страна оказалась на грани ядерной войны. В ответ на угрозу терроризма в середине 1990-х президент Билл Клинтон подписал директиву по национальной безопасности, в которой говорилось, что «Соединенные Штаты должны прилагать решительные усилия для сдерживания и упреждения, задержания и преследования… лиц, которые совершают или планируют совершить такие атаки». Оба Рузвельта, Кеннеди и Клинтон вместе с большинством своих коллег-президентов согласились бы с постулатом Стратегии национальной безопасности Буша 2002 г., который мог относиться к любой надвигающейся угрозе: «История будет сурово судить тех, кто видел надвигающуюся опасность, но ничего не сделал. В новом мире, в который мы вошли, единственный путь к безопасности – это путь действия».
Кроме того, Буш и его советники вряд ли были одиноки в стремлении к смене режимов за границей после атак 11 сентября. Спустя две недели после речи президента об «оси зла» в январе 2002 г. бывший вице-президент Альберт Гор заявил: «Иногда действительно есть смысл отбросить дипломатию и выложить карты на стол. Есть смысл назвать зло по имени». Он продолжил: «Даже если мы отдадим приоритет уничтожению террористических сетей и даже если мы преуспеем в этом, останутся правительства, которые могут нанести большой вред. И совершенно очевидно, что одно из таких правительств в особенности представляет смертельную угрозу и для самого себя – Ирак… Окончательное решение вопроса с этим правительством должно стоять на повестке дня».
Несколько дней спустя тогдашний сенатор Джо Байден прервал Пауэлла, который давал показания на слушаниях в конгрессе. «Так или иначе, – сказал Байден, – Саддам должен уйти, и, вероятно, потребуются силы США, чтобы заставить его уйти, и, по моему мнению, вопрос в том, как это сделать, а не делать ли это в принципе». Два дня спустя Сэнди Бергер, советник Клинтона по национальной безопасности, настаивал, что, хотя все части «оси зла» представляют очевидную угрозу, Саддам особенно опасен, поскольку он «был, есть и продолжает оставаться угрозой для своего народа, для региона и для нас». Бергер говорил: «К нему нельзя приспособиться. Нашей целью должна стать смена режима. Вопрос не в том, надо ли, а в том, как и когда». А сам Клинтон позже объяснял, почему он поддерживает решение своего преемника о вторжении в Ирак: «Было много неучтенного материала [ОМП]… Вы не можете со всей ответственностью исключать возможность, что тиран обладает таким арсеналом. Я никогда не думал, что он его применит. Но меня беспокоило, что он может продать или передать его».
Существует расхожее мнение, что демократы после 11 сентября действовали бы иначе и, вполне возможно, более тесно сотрудничали бы с союзниками в Европе. Однако решение администрации Буша применить силу для смены режима в странах, которые воспринимались после 11 сентября как угроза, вполне соответствовало пожеланиям большинства американцев в тот период. Но военное наращивание, предпринятое администрацией, не было радикальным или беспрецедентным. Ее стремление избежать столкновения с равноценными соперниками напоминало усилия США, предпринятые для сохранения атомной монополии после Второй мировой войны, достижения военного перевеса в начале Корейской войны, сохранения военного превосходства в годы президентства Кеннеди, восстановления превосходства при Рейгане и установления однополярности после распада СССР. Комитет начальников штабов при Клинтоне поддержал термин «полный спектр превосходства» для описания стратегических намерений Америки. Именно в годы Клинтона, а не Буша, на оборону стали тратить больше денег, чем все другие страны вместе взятые. И политики, и эксперты, в том числе Эндрю Басевич, Эрик Эдельман, Джон Миршаймер и Пол Вулфовиц, видели в стратегических целях и военной тактике всех администраций после холодной войны в большей степени преемственность, а не различия.
Сходства распространялись также на риторические приемы и идеологические устремления. В некоторых кругах было модно подвергать жесткой критике идеологический пыл команды Буша. Но утверждение демократических ценностей вряд ли можно назвать новшеством. Это было составной частью мировоззрения Вудро Вильсона и Дика Ачесона, а также Генри Киссинджера и Ричарда Никсона. Можно вспомнить обращение Джона Кеннеди к жителям Берлина или «Альянс ради прогресса»; объяснения Линдона Джонсона по поводу действий во Вьетнаме; выступления Джимми Картера о правах человека и высказывания Рональда Рейгана о роли США в мире. Их риторика, как и последние речи Обамы, напоминает выступления Буша. И, как и его предшественники (и преемник), Буш без особого труда отступал от этого постулата, когда это было нужно для стратегических или национальных интересов его администрации.
Многие заявляют, что отличительной чертой американской политики после 11 сентября была односторонность действий. Но американской дипломатии в принципе присущ инстинкт: действовать независимо и при этом возглавлять мир. Его можно обнаружить в Прощальном обращении президента Джорджа Вашингтона и первой инаугурационной речи президента Томаса Джефферсона. В период холодной войны американские официальные лица неизменно оставляли за собой право на односторонние шаги, даже когда действовали в рамках альянсов. В последней Стратегии национальной безопасности Клинтона, как и в первой – Обамы, об этом говорилось вполне открыто. Вряд ли можно сомневаться, что советники Буша под влиянием страха и уязвленной гордости, а также чувства ответственности и своей вины, были более склонны действовать в одностороннем порядке, чем их демократические предшественники и последователи. В то же время и они высказывали желание укреплять альянсы, в этом направлении после 2005 г. были достигнуты некоторые успехи.
Буш еще теснее связан с теми, кто пришел к власти до и после него, благодаря приверженности политике открытых дверей и глобальной свободной торговли. В его Стратегии национальной безопасности 2002 г., провозглашавшей принципы сдерживания, принуждения и упреждающей самообороны, содержались большие разделы, касавшиеся содействия глобальному экономическому росту, продвижения свободного рынка, открытого общества и создания инфраструктуры демократии. Эта политика имеет длительную историю и зародилась еще в «заметках об открытых дверях» госсекретаря Джона Хэя, «14 пунктах» Вудро Вильсона и «Атлантической хартии» Франклина Рузвельта. Кроме того, она стала основой многих более поздних, хотя и менее запоминающихся, заявлений Клинтона и Обамы.
Преодоление трагедии
Таким образом, значение 11 сентября для внешней политики США не стоит переоценивать. Теракты были страшной трагедией, вероломным нападением на невинных мирных жителей и провокацией невероятного масштаба. Но они не изменили мир и не трансформировали траекторию внешнеполитической стратегии Соединенных Штатов. Стремление Америки к доминированию, желание возглавлять мир, выбор политики открытых дверей и свободных рынков, озабоченность военным превосходством, готовность действовать в одиночку в случае необходимости, эклектическое соединение интересов и ценностей, ощущение своей незаменимости – все это сохраняется.
В действительности теракты изменили американское восприятие угроз и выдвинули на первый план глобальное значение негосударственных акторов и радикального исламизма. Они заставили страну осознать хрупкость своей безопасности, а также почувствовать гнев, злость и негодование, которые испытывают к США в других регионах, особенно в исламском мире. Но если теракты 11 сентября высветили уязвимые места, то их последствия продемонстрировали, что мобилизация сил, проводящаяся без четкой дисциплины, проработки и сотрудничества с союзниками, может не только защищать общие ценности, но и подрывать их.
Спустя 10 лет после 11 сентября американцам, вместо того чтобы критиковать или восхвалять администрацию Буша, следует более серьезно подумать о собственной истории и ценностях. Американцы могут отстаивать свои основные ценности, но при этом признавать, что им свойственны спесь и высокомерие. Они вправе говорить о необоснованной жесткости других, но согласиться, что сами являются причиной негодованиях во многих странах арабского мира. Американцы осознают, что терроризм – угроза, на которую необходимо ответить, понимая, что она не носит экзистенциального характера и несопоставима с военными и идеологическими вызовами, которые представляли германский нацизм и советский коммунизм. Им следует отдать себе отчет в том, что проецирование решения своих проблем на внешний мир означает стремление избежать серьезных решений дома, таких как более высокие налоги, всеобщая воинская обязанность или реалистичная энергетическая политика. Американцам следует признать, что в мире существует зло, как напомнил Обама, получая Нобелевскую премию в декабре 2009 г., и, как и Обама, они готовы принять жизненно важную роль силы в делах всего человечества. Но нет смысла отрицать, что применение силы способно серьезно навредить тем, кому они хотели помочь, и подорвать значение целей, которых стремились достичь. Американцы настаивают на преемственности своих интересов и ценностей и при этом ломают голову над компромиссами, необходимыми для выработки стратегии, пригодной для эпохи после холодной войны, когда угрозы стали более разнообразными, противники – не поддающимися четкому определению, а власть – относительной.
На смену горечи и негодованию, отравившим для американского общества дискуссии об атаках 11 сентября и войнах, которые они вызвали, должны прийти печальные размышления о том, как страх, чувство вины, гордость и власть могут принести так много вреда в стремлении сделать добро. Это остается трагедией американской дипломатии, которую известный историк Уильям Эпплмен Уильямс настоятельно советовал преодолеть еще полвека назад.
Мелвин Леффлер – профессор истории в Университете Вирджинии и сотрудник Центра Миллера. В соавторстве с Джеффри Легро написал книгу «В неспокойные времена: Американская внешняя политика после Берлинской стены и 9/11».

Победа недоверия
Федор Лукьянов
В США события 11 сентября 2001 года прочно вошли в обиход под названием «9/11». Ведь в американской традиции месяц в дате стоит перед числом. Подобное обозначение, повернувшее судьбы мира, встречалось и раньше — 9 ноября 1989-го рухнула Берлинская стена. Тоже 9/11 (в Европе, как известно, сначала указывают день, а затем месяц). Неполных 12 лет, прошедших между двумя 9/11, стали эпохой идейного и политического триумфа Запада, поверившего в «конец истории».
Во всяком случае, многим казалось тогда, что хотя дальнейшее движение и может быть извилистым, его направление и — главное — точка назначения определены. Предупреждения скептиков о том, что история не развивается линейно и тем более не может закончиться, воспринимались как брюзжание маловеров.
Оглядываясь назад, можно только удивляться, как мало внимания уделялось зловещим предзнаменованиям. Замешенная на религии и национализме средневековая жестокость на Балканах, стремительный распад еще недавно вполне устойчивого государства Сомали, жуткая резня в Руанде, распространение терроризма шахидов, наконец, конвульсии огромного постсоветского пространства — все это считалось неприятными издержками транзита в светлое будущее.
Даже звучные теракты в Соединенных Штатах — первая попытка подрыва Всемирного торгового центра исламскими фанатиками в 1993 году и взрыв федерального здания в Оклахома-Сити ультраправым психопатом в 1995-м — не смогли изменить общего позитивного настроя.
11 сентября 2001 года не повернуло направление глобального развития. Тенденции, громко заявившие о себе в первом десятилетии XXI века, копились и подготавливались логикой последнего десятилетия века ХХ. И не будь атаки «Аль-Каиды», нашелся бы другой повод, из-за которого США попытались бы в полном объеме воплотить в жизнь концепцию своего «благотворного лидерства» (иными словами — гегемонии) в мировых делах. Идею, вполне естественно вытекавшую из происходившего после окончания холодной войны. Попытка единоличного доминирования была столь же закономерной, как и неудача, которая ее постигла.
Каков главный итог минувшего десятилетия? На смену оптимистичной беспечности 1990-х пришла мрачная недоверчивость 2000-х.
Так, Америка продемонстрировала, что не доверяет свою безопасность никому, даже ближайшим союзникам. Когда на следующий день после атаки на Нью-Йорк и Вашингтон европейские страны, собрав всю волю в кулак, заявили о готовности впервые в истории ввести в действие статью 5 устава НАТО о коллективной обороне, им ясно дали понять — не до вас. Соединенные Штаты не намерены опираться на альянс, а сами решат, кто и зачем им нужен. Вряд ли стоит удивляться, что с тех пор НАТО мучительно и пока безрезультатно ищет свою новую роль. Объявленная успехом альянса кампания в Ливии только еще раз подтвердила, насколько разобщена эта организация.
Доверие к самой Америке тоже пострадало в результате ее действий после 11 сентября. США всегда совмещали идеологическое воздействие с силовым, но при неоконсервативной администрации это приняло гипертрофированные формы. Догматический подход к насаждению демократии в сочетании с военным вмешательством по собственному усмотрению привел к тому, что другие страны начали бояться Соединенных Штатов как источника агрессии.
Развитый мир утратил доверие к развивающемуся. Грань между борьбой с международным терроризмом, «столкновением культур» (мусульмане против христиан) и противодействием глобального Севера и глобального Юга столь зыбка, что периодически теряется вовсе.
За десять лет заметно истончился слой политкорректности, которая всегда камуфлировала противоречия. Начиная с заявлений Джорджа Буша о «крестовом походе» и до массового отречения европейских лидеров от мультикультурализма, слова, а стало быть, и мысли начали выходить за рамки того, что еще недавно считалось допустимым. Намечающиеся, а кое-где и уже давно проявившиеся линии разломов проходят не только и не столько между государствами, но и внутри обществ, прежде всего западных. Недоверие сограждан друг к другу растет.
Усаму Бен Ладена ликвидировали спустя почти десять лет после смертоносного захвата самолетов. Но ни он, ни его «Аль-Каида», по сути, уже не были важны после того, как «Боинги» картинно врезались в здания башен-близнецов. Сорвавшийся камень вызвал лавину. Недоверие друг к другу — и на политическом, и на социальном уровне, неуверенность в правильности пути и неверие в то, что завтра будет лучше, чем вчера, — вот с чем развитый мир подошел к годовщине 9/11. Едва ли миллионер-отщепенец и его соратники-камикадзе могли даже мечтать о таком успехе.

«Советский режим умер задолго до развала Союза»
Том Грэм, старший директор по России в администрации Джорджа Буша-младшего, ныне директор в компании Генри Киссинджера, рассказывает о том, каким виделся из Вашингтона Советский Союз до и во время путча 1991 года, и о том, каким сегодня предстает мир для Соединенных Штатов.
— В Москве мы 19 августа мучительно думали, что дальше — неужели обратно в Советский Союз? А что говорили в Вашингтоне американские политики, когда к ним пришло осознание того, что происходит?
— Первое: мы пытались понять, что это — государственный переворот, дворцовый, путч или агония Советского Союза? По вашингтонскому времени события начали разворачиваться поздно вечером 18-го, информации было мало; всерьез начали обсуждать, что происходит, только утром 19-го, когда в Москве день уже клонился к вечеру. Я работал в Пентагоне, мы собрались в офисе министра обороны, то есть Дика Чейни, чтобы пробрифинговать его о событиях в Москве. Главное тогда было понять, кто лидеры этой акции, ГКЧП — это что? Мы видели, что в нем приняли участие почти все силовики. А это, как нам тогда казалось, почти все советское правительство Но одновременно мы заметили некоторые странные вещи. Десятки тысяч людей вокруг Белого дома. Что это за переворот, если народу позволяют собраться на площади? Перемещения Бориса Ельцина и его команды из Архангельского в Белый дом. И там была телефонная связь! Президент Буш хотел связаться с Ельциным, и он моментально ответил. Ну как это, если переворот? Поэтому уже в конце 19-го, самое позднее в начале дня 20 августа мы пришли к заключению: это не революция, не государственный переворот, это путч, и он обречен. Через сутки, неделю, но обречен. И начали резко осуждать то, что произошло, поддерживать Горбачева и Ельцина, постарались сплотить всех наших союзников вокруг поддержки этих фигур.
— Еще до путча рассматривались ли в Вашингтоне сценарии реванша и возврата к авторитарному советскому строю? Кто считался главной угрозой?
— С самого начала перестройки мы рассматривали возможности реванша. В 1987–1990 годах я работал в политическом отделе посольства США в Москве, и мой шеф после каждого пленума ЦК отправлял в Вашингтон телеграмму: это уж точно конец, сейчас наступит реванш. Слово «силовики» тогда не употреблялось, обсуждались консервативные силы в КПСС, спецслужбы, аппарат. Все аналитические работы того времени содержали опасения, что реванш возможен.
Осенью 1990 года начался поворот Горбачева направо, довольно консервативные фигуры пришли в правительство, например Павлов вместо Рыжкова. Шеварднадзе выступил с речью о возможности диктатуры. Я тогда уже работал в Пентагоне, и мы подготовили брифинг для руководства о том, что происходит в Советском Союзе. Заключением было, что консервативные силы стараются осложнить нашу политику, возвратить влияние Союза в Восточной Европе и т.д. Но даже когда мы думали о реванше, то считали: в долгосрочном плане он обречен.
Фукуяма написал свою статью о конце истории, которая затем легла в основу книги, в 1989-м. Он тогда работал в RAND Corporation, имевшей контракт с Пентагоном. То, что он написал в статье, отражало умонастроения и многих в Пентагоне: триумф западных ценностей, демократии, рыночной экономики. Поэтому, несмотря на проблемы, осложняющие процесс, мы считали: упадок СССР неизбежен.
— Что вы понимали под долгосрочным планом?
— Пять, максимум десять лет. До конца века, не больше.
— А сценарии развала Советского Союза рассматривались? Не реванша, а именно развала.
— В 1989 году была сформирована узкая межведомственная группа во главе с Кондолизой Райс, старшим директором по России в совете нацбезопасности, которая должна была обсуждать именно крайние варианты развития СССР. Обсуждали и сценарии распада. В узком кругу, конечно, высшее руководство было в курсе. Из посольства же в Москве мы начали отправлять телеграммы о том, что надо всерьез принять во внимание вариант развала Союза, еще в 1989 году.
Один из первых меморандумов, который я подготовил, начав работать в августе 1990-го в Пентагоне, был о развале Союза, сценариях и последствиях. Меморандум был для Чейни, но прежде чем попасть на стол министра, бумага проходила некоторые этапы. И был человек, который счел такой прогноз слишком рискованным. Меморандум так и не дошел до Чейни, оставшись где-то в сейфах Пентагона
— Администрация Буша долго не хотела общаться с Ельциным. До путча Белый дом говорил, что все вопросы может обсуждать с Горбачевым. Что это было — рамки протокола, страх перед новой фигурой, нежелание замечать, что в республиках появляются политики, которые уже не могут сосуществовать с горбачевским Кремлем?
— В отношении Бориса Ельцина в администрации США были очень разные мнения. Президент Буш и его советник по нацбезопасности Брент Скоукрофт особой симпатии к Ельцину не питали. Думаю, одна из причин — первый визит Ельцина в США в 1988 году. Он произвел довольно негативное впечатление, и это оказало огромное влияние на понимание, кто такой Борис Николаевич и какие последствия он несет. В то же время многие другие в истеблишменте были в каком-то смысле сторонниками Ельцина, пропагандировали его позиции. В частности, Дик Чейни был большим сторонником Ельцина.
Думаю, причины были у всех разные. Чейни, например, хотел гораздо более радикальной трансформации России. Когда Ельцин был избран президентом РСФСР и приехал в Вашингтон, Чейни приветствовал его как президента страны, хотя Россия тогда еще оставалась частью Советского Союза. И Буш, и Скоукрофт тоже встречались с Ельциным, но более сдержанно — он был приглашен в Белый Дом не как президент, а как влиятельная политическая фигура в России.
Для Буша, Скоукрофта и других Горбачев был надежным партнером по контролю над вооружением, освобождению Восточной Европы, объединению Германии. К тому же Советский Союз поддержал войну в Персидском заливе, и это была, с нашей точки зрения, огромная заслуга Горбачева. В этой ситуации тесно работать с Ельциным означало бы подрывать позиции Горбачева. Мы хотели, чтобы Ельцин работал с Горбачевым в продвижении реформ.
— Правда ли, что для администрации США в то время самым важным было не то, что происходит в СССР, а что будет с Восточной Европой?
— В центре нашей внешней политики находился Советский Союз, и он рассматривался как главный фактор освобождения Восточной Европы. Все началось с Советского Союза, иначе и быть не могло, несмотря на то что уже возникло антисоветское движение в Восточной Европе, в частности в Польше. Но мы помнили: без изменения Союза ничего хорошего не получится и в Восточной Европе. Вот почему Буш и Скоукрофт особенно хотели работать с Горбачевым: без продолжения реформ в Москве освобождение Европы было невозможно. Там стояли сотни тысяч советских солдат, на уме, конечно, была судьба Пражской весны, события в Польше начала 1980-х
— Когда, на ваш взгляд, Советский Союз пересек рубеж, за которым ни при каких обстоятельствах уже невозможно было его сохранение?
— Советский режим умер задолго до развала Союза как географического понятия. Я бы сказал, в 1989 году, когда горбачевская политика перешла от реформы коммунистической системы к ее трансформации. Началось что-то совсем иное, несоветское, некоммунистическое. Выборы представителей на съезд народных депутатов и затем его первое заседание были тем историческим рубежом. Что же касается распада Союза как территории и того, когда это стало частью американской внешней политики, я бы сказал, только после путча. Тогда встал вопрос, как это произойдет — с кровью или без.
— Во время визита 1 августа в Киев Буш сказал, что «американцы не придут на помощь тем, кто пропагандирует суицидальный национализм на основе этнической ненависти». За этот пассаж его потом яростно упрекали. Почему он так сказал, тем более уже через три месяца он горячо поддержал референдум о независимости на Украине?
— То, что Буш сказал в Киеве, было изложением нашей внешней политики того времени. Думаю, он честно хотел предупредить, что есть разница между свободой и независимостью. В Югославии уже происходила бойня. И самым страшным вариантом развития СССР был кровавый распад с ядерными боеголовками. Что президент должен был сказать? Что он понимает, что Союз разваливается и это вопрос времени? Даже если бы он так и думал, мог ли он это произнести?
В связи с этим еще история. Может быть, вы помните, Пентагон публиковал доклады под названием Soviet Military Power. Весной 1991 года мне поручили писать главу о политической ситуации в Союзе. Я написал: авторитет Горбачева снижается, национализм в республиках растет, консерваторы набирают силу. Когда мы передали проект на одобрение в Белый Дом, оттуда раздался звонок. Сотрудник администрации сказал: «Я понимаю, что все это очень возможно, но представьте: выходит книга, а Буш встречается с Горбачевым. Что он ему скажет?..» Мы переписали главу, выход книги был запланирован на 19 августа. Кинулись останавливать тираж, опять начали переписывать. Все уже все понимали, но публично президент по-прежнему вынужден был оставаться в рамках официальной политики.
— Какие, на ваш взгляд, в те годы были ключевые свершения и просчеты в международной политике США? К последним многие относят слова Буша о том, что «США выиграли холодную войну».
— Это было сказано в разгар предвыборной кампании... Но все-таки можно было сказать: «Мы с народом бывшего Советского Союза победили». Подчеркнуть, что свершилась победа над коммунизмом, над режимом и что мы не смогли бы этого сделать одни, нашими союзниками стали люди Советского Союза. Этого не было сказано. Конечно, речь State of the Union была для американской публики. Но, думаю, эта была ошибка с точки зрения дальнейших отношений с Россией. Нужно было подчеркнуть, что мы работаем с нашими российскими коллегами как с равными. Не триумфатор и побежденный. И то, что выступление повлияло на умонастроения американского политического истеблишмента, — это так. Подобное отношение продолжалось и во время администрации Клинтона, и второго Буша
— Сегодня с самим американским истеблишментом творится нечто неладное. Дебаты вокруг госдолга едва не привели страну к дефолту, а мир — к новому финансовому кризису. Что это было?
— Есть понятие «незрелая демократия», есть «зрелая демократия», а тут «перезрелая»... А если серьезно, очевидно, что политическая система дает сбои. Отчасти это следствие нашей электоральной модели, позволяющей регулярно перекраивать границы избирательных участков в пользу выигравшей партии. Затем праймериз, в которых принимают участие партийные активисты. А независимые избиратели не могут участвовать ни в республиканских, ни в демократических праймериз во многих штатах. Эти обстоятельства работают в пользу сторонников крайних и зачастую противоположных позиций в Республиканской и Демократической партии.
— Ситуация показала крайности в политике. Но во внутренней политике США всегда доминировал компромисс.
— В американской политике возникали довольно серьезные крайности, и некоторое время они оказывали огромное влияние на ситуацию в стране. Гражданская война — это компромисс? А волнения по поводу войны во Вьетнаме, гражданские движения за равные права в 1960-х? Налицо были крайние позиции как в обществе, так и в истеблишменте. Но дело в том, что эти крайности присутствовали максимум десять лет, затем общество находило компромисс. Сейчас крайности опять возродились, и встает вопрос: партия чаепития — это надолго или американская система укротит страсти в ближайшем будущем?
— Киссинджер писал, что в начале XX века «вхождение Америки в международную политику превратилось в триумф веры над опытом». Но сегодня «Америка более не может ни отгородиться от мира, ни господствовать в нем». Чем это может обернуться в ближайшие годы?
— С тех пор как сто лет назад США обрели статус великой державы, мир стал совсем другим. И у нас нет опыта взаимодействия с таким миром. В начале XX века еще можно было отгородиться. После второй мировой войны возник двухполярный мир, у нас был один главный враг, вокруг которого мы и организовывали внешнюю политику. Руководящим принципом было сдерживание. Кроме того, на протяжении десятилетий США оставались самой богатой державой с огромным разрывом. Мы могли позволить себе очень многое, и не было строгой нужды определять приоритеты. Надо больше танков и ракет? Пожалуйста. Надо какой-то стране дать больше денег? Дали.
Сейчас на фоне дефицита и госдолга мы впервые ощущаем ограничение наших возможностей и инструментов. Это означает, что, во-первых, мы не можем одни определять мировую повестку дня, придется работать с другими странами. Во-вторых, мы не можем более заниматься всем, соответственно возникает вопрос приоритетов, разменов и уступок. Такого опыта у нас нет, и конечно, на сей счет ведутся серьезные дебаты. Есть политические силы, которые настаивают: несмотря ни на что, Америка исключительная страна. Может, и так, но действовать, как раньше, все равно невозможно. Нам еще предстоит научиться, как проводить наши интересы в этом новом мире. Так что дебаты идут сейчас на самом деле вокруг двух фундаментальных для Америки вопросов: о роли государства в американской жизни и роли США в мире.
Беседовала Светлана Бабаева, руководитель бюро РИА Новости в Вашингтоне

Президент Обама сегодня объявил, что Министерство Сельского Хозяйства, Министерство Энергетики и Флот США проинвестируют в партнерстве с частным сектором до $510 млн в течение ближайших трех лет для разработки технологии современных авиационных и морских биотоплив для военного и коммерческого транспорта.
Инициатива является ответом на мартовский закон президента Обамы, как часть его «Плана безопасного энергетического будущего» по снижению зависимости от иностранной нефти. Биотопливная инициатива в настоящее время управляется Биотопливной Межведомственной рабочей группой Белого Дома и Советом Белого Дома по Сельским Территориям, что дает возможность повышать межведомственное сотрудничество по развитию сельских районов Америки.
"Биотопливо является важной частью сокращения зависимости США от иностранной нефти и создания рабочих мест у себя дома", сказал президент Обама. "Но поддержка биотоплива не может быть только ролью государства в одиночку. Вот почему мы поддерживаем партнерские отношения с частным сектором, чтобы ускорить развитие следующего поколения биотоплив, которые помогут нам продолжать предпринимать шаги к энергетической независимости и укреплению местных территорий по всей нашей стране".
Более широкое использование биотоплива является ключевой составляющей повестки энергетической безопасности администрации, но в настоящее время в Соединенных Штатах отсутствуют производственные мощности для следующего поколения биотоплив, полностью совместимых с существующей инфраструктрой. Для ускорения производства биологического реактивного и дизельного топлива для военных и коммерческих целей, министр сельского хозяйства Том Вилсак, министр энергетики Стивен Чу и министр военно-морского флота Рэй Мабус планируют совместно построить или модифицировать несколько заводов по производству биотоплива и нефтеперерабатывающих заводов. Эти усилия будут способствовать решению энергетической безопасности и национальных проблем в области безопасности, а также обеспечит экономические возможности в сельских районах Америки.
"Долговременная американская национальная безопасность зависит от коммерчески жизнеспособного внутреннего рынка биотоплива, который принесут пользу налогоплательщикам одновременно давая морякам и морским пехотинцам тактические и стратегические преимущества", сказал министр ВМФ Рэй Мабус. "Сегодняшнее заявление не только усиливает развитие производимых в Америке источников топлива для поддержки нашей национальной безопасности, но она также помогает развивать рынок биотоплива, что в конечном счете снижает стоимость биотоплива для всех".
«Создавая национальную биотопливную промышленности, мы создаем рабочие места в строительстве, рабочие места на новых заводах и улучшаеи экономические возможности в сельских общинах по всей стране", сказал министр сельского хозяйства Вилсак. "Также важно, что каждый галлон биотоплива потребляется там, где оно производится, сокращая транспортные расходы, и повышая энергетическую безопасность для военных".
"Эти первые заводы продемонстрируют передовые технологии совместимого с инфраструктурой, производимого из богатых ресурсов биомассы Америки топлива", сказал министр энергетики Чу. "Это будет поддерживать развитие новых, ориентированных на сельское хозяйство отрасле, которые призваны заменить импортируемую нефть на безопасные возобновляемые топлива, сделанные здесь, в США".
Совместный план предусматривает, что три министерства проинвестируют в общей сложности до $510 млн, а также существенных инвестиций частных компаний, по крайней мере один к одному. Партнерство направлена на снижение зависимости США от иностранной нефти и создания рабочих мест, а также позиционирование американских компаний и фермеров как мировых лидеров в области передовых биотоплив. США тратят более $300 млрд в год на импорт нефти. Производство энергии из внутренних источников обеспечивает более безопасную альтернативу импортируемой нефти и улучшает американскую энергетическую и национальную безопасность.
В июне президент Обама подписал распоряжение о создании первого Совета Белого Дома по Сельским территориям для опоры развития экономические стратегии администрации для сельской Америки и для уверенностиь, что федеральные инвестиции продолжают создавать максимальную выгоду для сельских американцев. Представители администрации проводят работу по координации программ через правительство и поощрению государственно-частного партнерства для улучшения экономических условий и создания рабочих мест в сельской местности.
Администрация президента Обамы предприняла значительные шаги для улучшения жизни сельских американцев и обеспечила широкую поддержку сельских общин. Администрация Обамы поставела целью модернизацию сельской инфраструктуры, предоставляя широкополосный доступ в интернет 10 миллионам американцев, расширяя образовательные возможностей для студентов в сельской местности, обеспечивая доступные медицинские услуги, поощряя инновационную деятельность, а также расширяя производство возобновляемой энергии. В долгосрочной перспективе эти беспрецедентные инвестиции в сельские территории будут способствовать притоку населения в сельские территории, финансовой независимости и процветания сельских общин Америки.

«Кризис заставил нас пересмотреть планы в Северной Америке»
Группа «Северсталь» начала в 2008 году активную экспансию на американский рынок, но затем была вынуждена продать три из пяти заокеанских активов дешевле, чем покупала. В процессе продажи и европейские предприятия группы. Глава Severstal International, зарубежного дивизиона группы «Северсталь», Сергей КУЗНЕЦОВ объяснил обозревателю «Московских новостей» Ирине ЦЫРУЛЕВОЙ, почему так произошло, и рассказал, как предприятию удалось добиться крупного займа от американского правительства.
— Недавно стало известно, что Severstal North America Inc. удалось договориться с правительством США о получении кредита объемом 730 млн для модернизации сталелитейного комбината в Дирборне по льготным ставкам в 2,53% годовых. Российская компания впервые стала получателем такого займа. Трудно было договориться?
— Американская госпрограмма, по которой мы получаем деньги, была анонсирована в начале 2009 года. Она рассчитана на поддержку автопроизводителей, которые будут выпускать автомобили с использованием новейших технологических разработок— автомобили будущего. Автомобили нового поколения должны соответствовать новым требованиям по безопасности, расходу энергии, экологии. Стальной лист из высокопрочных марок стали, которые мы предложили, позволит сделать автомобиль легче, сохранив или даже увеличив прочность кузова автомобиля, что определяет креш-устойчивость. Производство таких сталей будет освоено на существующих сталелитейных мощностях и трех линиях высокого передела на Severstal North America в Дирборне, что и являлось основным условием получения финансирования. Переговоры заняли чуть более двух лет.
— А под какие ставки «Северсталь» кредитуется в России?
— Все зависит от сроков и валюты. Например, в конце июля мы разместили пятилетние еврооблигации на 500 млн со сроком погашения в 2016 году. Доходность составила 6,25% годовых.
—Какие механизмы привлечения средств для вас наиболее выгодны и есть ли потребность в деньгах сейчас?
— Мы используем револьверные кредитные линии для финансирования оборотного капитала и долгосрочное финансирование в виде облигаций или банковских кредитов. Неделю назад мы рефинансировали одну из наших револьверных линий в США, увеличив ее размер на 200 млн с понижением процентных ставок. На данный момент наши потребности в финансировании закрыты.
— На что потратите полученные от правительства США средства?
— Сейчас мы находимся в стадии оформления кредита, первый транш должны получить в октябре-ноябре. Часть из 730 млн мы направим на возмещение расходов, которые понесли на строительство и запуск комплекса холодной прокатки и линии оцинкования. Остальное пойдет на строительство линии непрерывного отжига.
—А на американском рынке такие высокопрочные стали не производятся?
— Нет, сегодня американские компании их импортируют, например, из Швеции. В результате на рынке очень ограниченное предложение, которое сдерживает спрос и определяет высокие цены.
В августе мы запускаем новый комплекс холодной прокатки, в декабре— новую линию горячего оцинкования. В течение последующих 2,5 года построим третью производственную линию— линию непрерывного отжига.
— Тем не менее ваша компания, сделав ставку на американские активы, в итоге была вынуждена продать три актива из пяти. Причем на 50% ниже цены их приобретения. Почему так получилось?
— Исходя из того, что мы знаем сегодня, легко сделать вывод, что нам не стоило приобретать три завода— Sparrows Point, Wheeling и Warren— в 2008 году. Решения принимались исходя из позитивного развития ситуации. Тогда мало кто верил в негативный сценарий развития, и даже самые продвинутые экономисты признаются, что они не предвидели такого катастрофического падения экономики и таких масштабов финансового кризиса.
Заводы, которые мы приобрели в 2008 году, были достаточно слабыми, с большими структурными проблемами. Мы планировали инвестировать в их развитие, провести реструктуризацию и создать большую компанию на североамериканском рынке с годовым объемом производства примерно в 10млн тонн. Расчет был на то, что рынок будет сильным, а потребление на американском рынке останется высоким. Кризис заставил нас пересмотреть наши планы в Северной Америке. Когда в 2009 году потребление стали в США упало на 60%, мы были вынуждены полностью остановить два завода из только что приобретенных трех и начать масштабную реструктуризациювсех наших североамериканских активов.
— Так чем интересен американский рынок?
— Северная Америка всегда была для нас приоритетным из развитых рынков. Американская экономика была и остается самой сильной в мире. США имеют один из самых высоких в мире показателей производительности труда, прочную клиентскую базу, рост населения, обеспеченность сырьем, открытый бизнес-климат, все это с нашей точки зрения является благоприятными условиями для скорейшего восстановления спроса и успешного развития нашего бизнеса.
— Даже несмотря на снижение кредитного рейтинга?
— Американский рынок тем не менее самый развитый, с самыми высокими требованиями по качеству продукции. Присутствуя там, мы всегда будем находиться на острие технологического развития, что помогает нам развивать своим активы в России. Новых приобретений в Америке мы пока не планируем, будем внимательно наблюдать за восстановлением экономики, работая на двух производственных площадках— в Дирборне и Коламбусе. У нас есть определенные планы по интеграции в сырье, а также дальнейшему расширению присутствия в продуктах с высокой добавленной стоимостью.
— Вы будете поставлять свою продукцию из Дирборна только на американский рынок или и в другие регионы, например, в Россию?
— В основном планируем поставлять на местный рынок— в США и Канаду. Мы сможем поставлять эти стали и в Россию, если они будут здесь востребованы. Хотя на практике из-за большого логистического плеча и требований по поставке производство стальной продукции высоких переделов размещается как можно ближе к потребителям.
—Интересны ли вам активы в других странах?
— Нам много что интересно. Сейчас мы ведем переговоры о совместном предприятии в Индии. На сегодняшний день у нас подписано соглашение о намерениях с индийской госкомпанией NMDC о строительстве меткомбината. Вообще Индия для нас является приоритетным рынком. Мы считаем, что потребление стали в этой стране будет расти как минимум на 10% в год.
—А растущий китайский рынок вас не привлекает?
— Рост в Китае будет меньше, чем в Индии. Плюс ко всему в Китае сейчас присутствует огромное количество сталелитейных мощностей, что в случае замедления роста может оказаться серьезной проблемой для местных производителей, издержки которых далеко не самые низкие на мировой арене. Поэтому присутствие на этом рынке для нас не является приоритетом.
—Европа, видимо, также не в приоритете, судя по тому, что вы продали Lucchini SpA?
— Сейчас мы заканчиваем реструктуризацию в Европе и действительно не рассматриваем этот рынок как приоритетный для развития нашей компании. Мы провели стратегическую оценку и пришли к выводу, что реструктуризация и модернизация европейских активов потребует значительных средств, времени и менеджерских усилий. При этом по сравнению с другими регионами ожидаемый возврат на инвестиции в Европе существенно меньше. Lucchini состоит из двух компаний— итальянской Lucchini и французской Ascometal. Еще 15 июля было подписано соглашение о продаже 100% акций французского предприятия Lucchini Ascometal S.A. французской компании Captain BidCo SAS. Сделка должна быть закрыта в конце сентября, когда будут выполнены отлагательные условия. Одновременно с этим мы имеем принципиальную договоренность с банками о реструктуризации долга итальянской компании примерно на 700 млн евро. Среди прочих условий данная договоренность содержит обязательства акционеров головной компании Lucchini («Северсталь» и Алексей Мордашов как контролирующий акционер Lucchini.— «МН») продать свои доли потенциальному покупателю за 1 евро. Такая схема реструктуризации позволит обоим акционерам уступить контроль над Lucchini и избежать убытков в будущем. Сегодня есть компании, заинтересованные в Lucchini, но процесс реструктуризации долга и продажи компании займет определенное время.
—Что это за компании?
— Заинтересованных было много, и мы считаем, что шансы по ее продаже увеличатся после закрытия сделки по продажи Ascometal и завершения банковской реструктуризации.
—Остались в мире активы, которые имеет смысл покупать?
— Все зависит от цены. Есть много интересных активов на разных рынках, но либо они не продаются, либо очень дорого стоят.
— Какие тенденции характерны сейчас для металлургической отрасли? Например, в последние годы было заметно усиление консолидации.
— В Северной Америке, например, скорее обратный процесс. Индустрия там более фрагментирована, чем была несколько лет назад. Не думаю, что там стоит ожидать консолидации в ближайшее время. То же самое касается и остального мира. Какое-то время мы не будем наблюдать большой активности в этом направлении.
—Что будет с ценами на металл?
— Ожидается постепенное восстановление спроса, которое будет сопровождаться мини-циклами (потри-четыре месяца) роста спроса и цен с последующим падением. Связано это в основном с относительно низкими складскими запасами у покупателей и общей волатильностью на рынках. Кроме того, будет наблюдаться избыток сталелитейных мощностей на развитых рынках. Пока мы не придем к такомубалансу между спросом и предложением, в частности в США, когда уровень потребления не будет обеспечивать загрузку местных мощностей до уровня 8590%, мы будем наблюдать волатильность на рынке, высокую конкуренцию и понижающее давление на цены. Втакой обстановке особенно важно иметь низкие издержки и предлагать продукцию и сервис высшего качества.

Ядерная перезагрузка: сокращение и нераспространение вооружений.
Виктор Есин
Состоится ли ядерная перезагрузка?
Виктор Есин – ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, консультант командующего Ракетными войсками стратегического назначения, генерал-полковник (в отставке).
Резюме Сокращение и нераспространение ядерных вооружений и все то, что связано с этой проблематикой, – одна из тех злободневных тем.
Ядерная перезагрузка: сокращение и нераспространение вооружений. Моск. Центр Карнеги / Под ред. А. Арбатова и В. Дворкина. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2011. – 511 с. – ISBN 978-5-8243-1516-5.
Сокращение и нераспространение ядерных вооружений и все то, что связано с этой проблематикой, – одна из тех злободневных тем, что находятся ныне в центре внимания международного сообщества. И в этой связи коллективная монография «Ядерная перезагрузка: сокращение и нераспространение вооружений» представляет большой интерес. В ней широко известная в мире когорта российских ученых, ярких и самобытных авторов многочисленных публикаций излагает свое видение разрешения проблем, обусловленных отсутствием значимых сокращений арсеналов ядерного оружия и распространением ядерных вооружений. Но главное – группа ученых предприняла попытку дать ответ на, пожалуй, самый насущный вопрос современности: состоится ли ядерная перезагрузка?
Здесь следует заметить, что четыре года назад Московский Центр Карнеги издал книгу «Ядерное оружие после “холодной войны”» под редакцией тех же российских исследователей Алексея Арбатова и Владимира Дворкина, которые возглавили авторский коллектив рецензируемой монографии. Тогда эта книга стала очень популярной не только в России, но и за рубежом. Есть все основания утверждать, что и рецензируемая монография, которая является логическим продолжением вышеуказанной книги, окажется не менее популярной, а главное – востребованной всеми теми, кто интересуется проблематикой разоружения и нераспространения.
В последнее время, особенно на фоне призывов к скорейшему ядерному разоружению, прозвучавших на разных форумах, широкое распространение получил донельзя упрощенный подход к процессу выстраивания мира, свободного от ядерного оружия. Многим людям стало казаться, что достаточно Организации Объединенных Наций проголосовать за запрещение ядерного оружия – и все государства, обладающие ядерным оружием, немедленно приступят к демонтажу своих арсеналов. Авторы монографии убедительно и доходчиво даже для тех, кто профессионально не занимается проблематикой разоружения и нераспространения, показали, что такой упрощенный подход способен лишь в очередной раз дискредитировать идею построения мира без ядерного оружия и завести в тупик процесс разоружения.
И в самом деле, ведь ни одно из государств – обладателей ядерного оружия никогда от него не откажется, если ему не будет обеспечена равная безопасность в мире, свободном от ядерного оружия. Значит, как справедливо утверждает Арбатов, «финальное ядерное разоружение предполагает почти всеобщее и полное разоружение. А это, в свою очередь, подразумевает фундаментальную реорганизацию международных отношений и способов разрешения споров и конфликтов по сравнению с системой, существовавшей на протяжении известной нам истории человечества. Очевидно, что такая перестройка – дело многих десятилетий… Тем не менее, будучи весьма отдаленным в качестве конечного состояния, ядерное разоружение уже сейчас вполне возможно как процесс, ведущий к более безопасному миру и постепенно конструктивно меняющий основы существующего миропорядка» (с. 349).
Такой подход к проблематике ядерного разоружения, который разделяется всем авторским коллективом, позволил предложить комплекс рациональных, последовательных и взаимоувязанных шагов, способных приблизить человечество к заветной мечте – построению мира, свободного от ядерного оружия.
Так, оценивая стратегическую стабильность в условиях современного глобализирующегося мира, Владимир Дворкин аргументированно показал противоречивость существующей системы ядерного сдерживания и ее полную несостоятельность «против новых и вполне реальных угроз безопасности: распространения ядерного оружия, международного терроризма, этнических и религиозных конфликтов, растущего оборота наркотиков, трансграничной преступности и пиратства, нелегальной иммиграции и т.д.» (с. 39). Им предложено провести глубокую трансформацию ядерного сдерживания в качестве элемента взаимоотношений великих держав, прежде всего России и США, с целью устранения серьезного препятствия на пути их более эффективного взаимодействия в борьбе с новыми угрозами XXI века. При этом на передний план выдвигаются обязательства ядерных государств о неприменении (без каких-либо оговорок) ядерного оружия, которые должны обрести статус международно признанного юридического документа.
Исследователи отмечают диалектическую взаимосвязь между ядерным разоружением и нераспространением. В качестве важнейших условий упрочения этой взаимосвязи они называют не только дальнейший прогресс в сокращении ядерных арсеналов, но и безотлагательное вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и заключение Договора о запрещении производства расщепляющихся материалов для ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств. Высказаны и предложения о том, как быстрее продвигаться к достижению этих целей.
Ренессанс атомной энергетики, который все ожидали (по крайней мере до трагедии в Фукусиме), будет иметь негативные последствия в связи с ростом доступности для развивающихся стран технологий и материалов, которые могут быть использованы ими в целях создания ядерного оружия. В монографии предложен целый ряд мер по укреплению механизмов и институтов режима нераспространения ядерного оружия.
Отдельно следует упомянуть о предложениях авторов монографии по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы, по восстановлению международного контроля над деятельностью КНДР в ядерной сфере и по снижению рисков ядерного конфликта между Индией и Пакистаном. Эти предложения привлекают прежде всего тем, что они базируются на компромиссах, приемлемых для всех вовлеченных в разрешение этих проблем сторон, в противовес нынешней практике жесткого нажима на одну из сторон с целью принуждения ее к исполнению требований, выдвигаемых сильными мира сего.
Проблему ПРО, которая ожидаемо может стать «камнем преткновения» на пути дальнейших сокращений ядерных вооружений, авторы предлагают разрешить через реанимацию российско-американского проекта создания совместного Центра обмена данными от систем предупреждения о пусках ракет, возобновление прерванной серии совместных компьютерных учений с США/НАТО по ПРО ТВД с последующим расширением этих учений на полигоны и за пределы театра военных действий и налаживание сотрудничества России и США по созданию общеевропейской системы ПРО. В перспективе не исключается и создание подлинно глобальной системы ПРО с подключением к ней не только союзников России и Соединенных Штатов, но и КНР, и других ответственных государств.
В монографии исследованы и проблемы, порожденные развитием обычного высокоточного оружия (ВТО) и растущей угрозой возникновения гонки космических вооружений, что оказывает дестабилизирующее воздействие на стратегическую стабильность. Предложены меры, позволяющие предотвратить эскалацию ВТО и наложить запрет на развертывание в космосе ударных систем.
Монография охватывает и другие аспекты, которые оказывают влияние на процессы ядерного разоружения и нераспространения, включая «Глобальное партнерство против распространения оружия и материалов массового уничтожения», программа которого была утверждена в 2002 г. в Кананаскисе (Канада) на саммите «Большой восьмерки». Вместе с тем, как справедливо отмечают авторы, приведенные ими «оценки, разумеется, не исчерпывают всей ядерной проблематики современной национальной и международной безопасности. Они касаются лишь самых важных проблем…» (с. 506). От себя добавлю, что и не все из сделанных авторами монографии оценок представляются бесспорными, но их притягательность состоит в том, что они аргументированы, и с этими аргументами можно соглашаться или оспаривать их. Это нормальная практика для сферы, связанной с научными исследованиями.
Говоря о значимости проведенного авторами монографии исследования, можно утверждать, что оно представляет собой своеобразный свод рекомендаций, следуя которым, международное сообщество способно достичь прорывных результатов в сокращении и нераспространении ядерных вооружений. В этом состоит его практическая ценность.

После Дохи
Почему переговоры обречены и что нам с этим делать
Резюме: Фундаментальной причиной провала переговоров по либерализации мировой торговли стала неспособность решить главный вопрос, стоящий сегодня перед международным экономическим сообществом: какова относительная роль и обязанности развитых держав, государств с быстрорастущей экономикой и развивающихся стран?
Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 3 за 2011 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Международному сообществу пора признать, что переговоры в Дохе обречены. Начавшись в ноябре 2001 г. как девятый раунд многосторонних консультаций по торговле под эгидой Генерального соглашения по тарифам и торговле и его преемницы, Всемирной торговой организации (ВТО), эти переговоры призваны были содействовать экономическому росту и повышению уровня жизни во всем мире, и в первую очередь в развивающихся государствах. Этого результата пытались добиться за счет реформ и торговой либерализации. Однако дискуссии продолжаются уже десятый год, а выработать приемлемое для всех решение не удается.
Конечно, мировые лидеры, участники переговоров и обозреватели единодушно поддерживают процесс, надеясь на успешный итог – «сбалансированное» и «честолюбивое» соглашение, призыв к которому содержится во многих документах. Однако заключение торгового соглашения сродни прыжку с шестом. Важно все делать одновременно – после всесторонней подготовки и разбега нужно совершить одно невероятное движение в надежде перенести тело над планкой. Большинство торговых договоренностей заключаются после нескольких неудачных попыток. Однако Дохийский раунд никак не может преодолеть злополучную планку.
В значительной степени неудачу можно объяснить устаревшей структурой переговорного процесса и его динамикой: даже самые благие намерения блокируются, когда на уступки предлагается идти сегодня, а потенциальная выгода откладывается на завтра, и когда деление на развитые и развивающиеся страны обрекает большую часть развивающегося мира на роль заведомых аутсайдеров.
Однако еще более фундаментальной причиной провала раунда в Дохе стала неспособность решить главный вопрос, стоящий сегодня перед международным экономическим сообществом: как относятся права и обязанности продвинутых держав, государств с быстрорастущей экономикой и развивающихся стран?
Хотя общепризнанных определений не существует, продвинутые державы – это в целом зрелые экономики, которые пережили индустриализацию и добились высокого уровня доходов на душу населения. Государства с быстрорастущей экономикой отличаются высокими темпами индустриализации, но пока не достигли статуса развитых стран. Развивающиеся страны еще не начали переход на новую ступень. Мировые лидеры разочарованы тем, что мандат, данный переговорщикам, не привел к успеху. Между тем участники консультаций не могут признаться (или предпочитают этого не делать), что изъяны переговоров в Дохе не дадут им возможности не только заключить соглашение, но даже перейти к решению фундаментального вопроса.
Это лишь означает, что настало время отказаться от тщетных попыток «спасти» Доху. На протяжении целого ряда лет угроза быть обвиненными в провале делала слишком рискованными любые суждения государственных лиц о том, что переговоры зашли в тупик. Переговорщики одержимы навязчивой идеей: как избежать появления мертвой кошки на своем крыльце. Но для системы многосторонней торговли гораздо опаснее делать вид, что в один прекрасный день удастся каким-то образом договориться, чем признать горькую правду: продление агонии в Дохе лишь ставит под угрозу международную торговлю, перспективы ее либерализации и реформы под руководством ВТО.
Чтобы избежать подобного исхода, следует спасти любые частичные договоренности, которые можно выжать из нынешнего раунда, и уйти от болезненных вопросов. Затем мировым лидерам и стратегам торговли следует немедленно перенаправить энергию, инициативность и бонусные мили, накопленные благодаря частым поездкам в Доху, на выдвижение новых инициатив. Они нужны для восстановления доверия к ВТО и сохранения организации в качестве динамичной площадки для совершенствования и проведения в жизнь четких правил мировой торговли.
Определение успеха
Еще на первых встречах, которые привели к раунду в Дохе, возникли непреодолимые препятствия, о чем свидетельствовал провал министерской встречи ВТО в Сиэтле в 1999 году. Когда после событий 11 сентября 2001 г. переговоры в Дохе все же начались, их участники не смогли договориться о целях и задачах, а также путях их достижения.
Суть инициативы заключалась в использовании реформ и либерализации торговли для стимулирования экономического роста и уменьшения бедности в мире. Первоначально для переговоров выбрали 21 тему, включая сокращение сельскохозяйственных торговых барьеров, отказ от экспортных сельскохозяйственных субсидий, снижение внутренних дотаций, искажающих мировую торговлю, существенное облегчение доступа к рынкам промышленных товаров и более открытую торговлю услугами. Хотя экономисты доказали, что государства выиграют от одностороннего введения подобных мер, большинство политических лидеров и участников переговоров предпочли бы обменять рыночные реформы в своих странах на упрощение доступа к другим рынкам.
Первоначально раунд в Дохе рассчитывали завершить к началу 2005 г., когда администрация Буша могла использовать для одобрения достигнутых договоренностей полномочия по содействию торговле (ПСТ), истекавшие в июне 2007 года. ПСТ – это механизм быстрого заключения торговых соглашений, когда исполнительная власть берет на себя обязательство провести расширенные консультации с Конгрессом и целым рядом избирательных округов США во время торговых переговоров. В обмен на это Конгресс соглашается ускорить процедуру прохождения законопроектов через необходимые слушания и согласования, запретить поправки, блокирующие заключение соглашения, и санкционировать прямое голосование в Конгрессе и Сенате. Однако переговоры потерпели фиаско в мексиканском Канкуне в 2003 году. Тогда блок развивающихся стран и быстрорастущих экономик выразил недовольство в связи с попытками Евросоюза и Соединенных Штатов наложить на них чрезмерное бремя в виде новых обязательств. Заключенное в 2004 г. Рамочное соглашение, в котором наконец-то были определены переговорные параметры раунда, казалось, вдохнуло в него новую жизнь, однако в декабре 2005 г. на встрече министров в Гонконге консультации снова забуксовали, а затем увязли в непреодолимых разногласиях на встречах министров торговли в 2006, 2007 и 2008 годах.
Как свидетельствуют многочисленные саммиты и длительные переговоры последнего десятилетия, неудачу в Дохе нельзя объяснить недостаточно энергичными усилиями. Бывший президент США Джордж Буш только во время своего второго срока участвовал как минимум в сотне подобных встреч с иностранными лидерами и своими советниками. Он сделал завершение раунда в Дохе приоритетом международной торговли и благодаря активности и успешному продвижению торговой повестки дня сумел добиться заключения всеобъемлющих соглашений о свободной торговле с 17 странами Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.
Администрация Буша определила три критерия успеха переговоров в Дохе. Прежде всего, любой исход должен содействовать росту и развитию мировой экономики посредством создания новых торговых потоков, особенно между государствами с быстрорастущей экономикой и развивающимися странами. Принимая во внимание, что суммарно эти экономики обеспечивают половину мирового ВВП и растут в два раза быстрее развитого мира, администрация решила, что переговорщики не смогут выполнить стоящие перед ними в Дохе задачи ускорения экономического роста и уменьшения бедности, если страны с быстрорастущей экономикой не снизят пошлины и беспошлинные барьеры.
Во-вторых, Белый дом решил, что достижение заключительного соглашения увеличит возможности американского экспорта сельскохозяйственной продукции, промтоваров и услуг – в частности на таких быстрорастущих рынках с высоким потенциалом, как Бразилия, Китай и Индия. Наконец, администрация посчитала, что любое соглашение в Дохе позволит избежать усугубления экономической изоляции в Соединенных Штатах или других регионах.
Слоны, прячущиеся за мышами
Когда летом 2008 г. переговоры снова потерпели фиаско, ни одна из целей, поставленных администрацией Буша, не была достигнута. Стремительно меняющийся характер глобальной экономики почти с самого начала сделал неактуальным и устаревшим принятое в Дохе деление на развитые и развивающиеся страны. И, хотя в прошедшее десятилетие стало очевидно, что быстро растущие экономики превратились в главную движущую силу мирового хозяйства, представления этих государств о собственных потребностях и обязанностях не успевали за происходящими переменами.
В настоящем виде предложенные в Дохе тексты соглашений предполагают два вида обязательств – одни должны взять на себя развитые страны, а другие – страны, характеризующиеся как «развивающиеся», которые составляют большинство членов ВТО. Фактически для более двух третей стран, входящих в категорию «развивающихся», предусмотрены всевозможные оговорки и исключения в обязательствах, в результате для них это бремя намного легче того, что в целом возлагается на государства, соответствующие официальным критериям этой категории.
Сюда относятся так называемые «наименее развитые страны», а также «небольшие и уязвимые экономики». Противясь во имя интересов развивающихся стран дальнейшему открытию своих рынков, такие государства, как Бразилия, Китай, Индия и ЮАР в действительности занимают позицию, противоречащую интересам данной группы. На переговорах в Дохе эти страны с быстрорастущими экономиками минимизировали трудные решения об открытии рынков, стремясь добиться максимальной гибкости для развивающихся стран. И им оказалось легче избежать трудных и малоприятных переговоров об обеспечении большего доступа на рынки друг друга и сосредоточиться на общей для них повестке дня – а именно на том, чтобы побудить развитые страны взять обязательства по открытию своих рынков. В результате возникла ситуация, которую один африканский посол в ВТО охарактеризовал весьма точно: «Слоны, прячущиеся за мышами».
Ряд растущих и развивающихся государств, среди которых Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гонконг, Малайзия, Пакистан и Сингапур, попытались призвать страны с быстрорастущей экономикой вносить более существенный вклад. Однако эти предложения были либо проигнорированы, либо подвергнуты жесткой критике – прежде всего Бразилией, Индией и ЮАР. Когда летом 2008 г. Бразилия, чтобы спасти раунд в Дохе, попыталась дистанцироваться от развивающихся стран, она сама оказалась объектом критики, которой периодически подвергала других.
Особенно острая дилемма стояла перед китайскими переговорщиками. Производственный и экспортный бум Китая – это явление, с которым участники торговых переговоров никогда прежде не сталкивались. Возможно, страх перед дальнейшим ростом импорта из Китая был причиной постоянных неудач в Дохе, о которой предпочитали не говорить. Хотя Пекин может получить огромную выгоду от успешного завершения Дохийского раунда, многие в Китае сопротивляются либерализации, указывая на то, что страна уже в значительной мере открыла свой рынок, когда в 2001 г. присоединилась к ВТО и пошла на большие уступки иностранным державам, согласившись на заведомо неравные условия. Все эти факторы в совокупности не позволили Пекину отмежеваться от других «новых рынков», даже если у него были намерения спасти раунд переговоров в Дохе.
Сама конструкция, предполагающая деление на развитые и развивающиеся страны, представляется все более очевидным анахронизмом. ВВП Китая уже превысил ВВП Японии и, скорее всего, превысит ВВП США до того, как удастся ратифицировать какое-либо соглашение в Дохе. Тем временем Международный валютный фонд предсказывает, что к середине десятилетия Индия обгонит по ВВП Германию, Бразилия опередит Францию и Великобританию, Мексика обойдет Канаду, а Индонезия и Турция – Австралию.
Вне всякого сомнения, продвинутые (развитые) экономики должны взять на себя более тяжелое бремя при заключении любого многостороннего экономического соглашения в соответствии с их большей влиятельностью в мировом хозяйстве. В конце концов, даже когда ВВП Китая сравняется с ВВП Соединенных Штатов, годовой доход китайских граждан будет составлять всего треть средних доходов жителей США, а доходы индийцев составят лишь шестую часть от дохода американцев и треть дохода китайцев. И все же размер и траектория роста быстроразвивающихся экономик, а также тот факт, что некоторые из них в настоящее время являются ведущими производителями и экспортерами в таких ключевых отраслях, как химическая промышленность, информационные технологии, производство автозапчастей, фармацевтических препаратов и экологических товаров, ставят эти страны в особое положение. Структура и динамика переговоров в Дохе не отражает происходящую эволюцию, что и предопределило их провал.
Препятствия в Дохе
То, что переговорная структура в Дохе сваливает в одну кучу быстро растущие и развивающиеся экономики, ведет к давлению со стороны членов своего круга и дает преимущество тем растущим экономикам, которые не склонны открывать свои рынки. В то же время развитые и развивающиеся страны, а также быстрорастущие экономики, которые могли бы поддержать более честолюбивые цели переговоров в Дохе, были лишены возможных преимуществ.
Кроме того, повышенное внимание к жестким формулам сокращения пошлин вместо более свободных и целенаправленных переговоров по конкретным благоприятным возможностям привело к появлению некоего гибрида из жестких формул и гибких моделей, что подорвало переговорную динамику и исключило любой позитивный исход. Это наиболее очевидно в текстах, предложенных на потерпевшей фиаско женевской встрече министров в июле 2008 года. Хотя формулы правильно нацелены на максимальное снижение самых высоких тарифов и пошлин и возлагают наиболее тяжкое бремя на развитые державы, развивающимся странам позволяется намного меньше снижать пошлины и медленнее внедрять сниженные тарифы в реальную практику. Развивающимся странам также предоставлена значительная гибкость в виде исключений из рассчитанного по формуле снижения тарифов; к тому же они настаивают на возможности самим выбирать, какими исключениями воспользоваться, вместо их закрепления на переговорах.
Что касается промтоваров, то эти предложения позволят большинству быстро растущих стран, за исключением Китая и ЮАР, заморозить пошлины к окончанию периода внедрения соглашений в Дохе. По сути дела, эти пошлины останутся на том же уровне, что и в начале переговоров. Из расчетов, сделанных в 2008 г., вытекает, что развитые экономики обеспечат более 75% всех действий по открытию рынков, которые обсуждаются в Дохе, что значительно превышает их нынешнюю долю в 53% и их снижающуюся долю в мировом ВВП.
Рамочное соглашение связано и с проблемой торговли сельскохозяйственной продукцией. Действующие предложения призывают развитые страны к устранению экспортных субсидий, снижению внутренних субсидий, искажающих торговые потоки, и к уменьшению пошлин и беспошлинных барьеров для импорта. Развивающиеся страны также обязываются снизить торговые барьеры, но в меньшей степени. Хотя отступление от правил снижения пошлин по расчетной формуле позволяет как развитым, так и развивающимся странам защитить некоторые позиции, чрезвычайная гибкость, предоставляемая развивающимся экономикам, опять же даст возможность странам с быстрорастущей экономикой отрицать необходимость снижения большинства рассчитываемых по формуле пошлин. Например, пакет 2008 г. позволил бы Индии защитить почти 90% нынешней торговли сельскохозяйственной продукцией от снижения пошлин, а Китаю – исключить из перечня товары, представляющие повышенный интерес как для развивающихся, так и для развитых стран, включая кукурузу, хлопок, сахар, рис и пшеницу.
Более того, предлагаемые в проекте соглашения меры защиты стран с растущей экономикой и развивающихся стран повышают вероятность того, что торговые барьеры в этих государствах могут фактически стать еще выше, чем до начала переговоров в Дохе.
Пытаясь продвигать вперед Дохийский раунд, руководство ВТО постаралось определить ключевые параметры нового соглашения, предлагая различные проекты текстов. Эти документы последовательно сужали определения и в некоторых случаях не позволили договориться о конкретных и существенных уступках по разным видам продукции. Участники переговоров в течение десяти лет находятся в ловушке переговоров о переговорах.
Фактически сочетание в проекте рамочного соглашения жестких формул и нечетко определенных, не поддающихся согласованию гибких условий поставило всех переговорщиков в оборонительную позу с самого начала. Им оставалось предполагать, что избиратели в их государствах, чутко реагирующие на вопросы, связанные с импортом, окажутся перед суровой реальностью снижения таможенных пошлин. Вместе с тем они понимали, что не смогут представить своим избирателям конкретные выгоды от более свободного доступа на рынки других стран, что было необходимо для того, чтобы заручиться внутриполитической поддержкой. Наконец, резкий дисбаланс в гибкости на переговорах между растущими странами и развитыми государствами оставил обеим сторонам мало места для маневра. Даже если бы новые быстрорастущие рынки захотели пойти на более существенные компромиссы, их предложения сегодня выглядели бы как односторонние уступки, поскольку развитые страны в ответ не могли бы предложить им ничего ценного.
Неравные переговорные позиции – далеко не единственная структурная помеха, из-за которой консультации забуксовали. На многосторонних торговых переговорах Соединенные Штаты и другие развитые страны все время слышат призывы первыми пойти на уступки, чтобы возродить угасающие переговоры. Идея состоит в том, что значительные односторонние уступки, на которые согласится пойти крупная экономика, побудят других участников к ответным шагам, и в конечном итоге это всем принесет дивиденды. Вместе с тем подобные усилия со стороны Америки – даже те уступки, которые были предложены в ответ на шаги других стран, – не привели к адекватному отклику партнеров по переговорам. Со временем компромиссы, на которые пошли США и Евросоюз, были успешно присвоены другими странами и стали для них точкой отсчета для предъявления новых требований.
Запутанная структура переговоров усугубляется тем, что полное единство по всем вопросам повестки дня – одно из условий успеха в Дохе. Это означает, что переговоры считаются безрезультатными до тех пор, пока не будет достигнуто согласие по всем вопросам без исключения. Это правило было призвано поощрить государства принимать непростые решения в одной области в надежде, что они смогут рассчитывать на получение выгод в других сферах. Однако это привело к тому, что отдельные участники начали вставлять палки в колеса, стремиться к вульгаризации и упрощению или к тому, чтобы «въехать в рай» на чужом горбу (благодаря уступкам других стран).
Время также играло против успешного исхода раунда в Дохе. В течение многих лет окна политических и экономических возможностей для выработки соглашения открывались и закрывались. Окончание срока действия ПСТ убило в торговых партнерах Соединенных Штатов всякое желание рисковать, поскольку они больше не были уверены в том, что Конгресс не попытается внести поправки в текст достигнутых договоренностей. Внутриполитические проблемы в Индии накануне выборов 2009 г., наверное, уничтожили возможность достижения компромиссного решения в 2008 году. Бразилия занимала оборонительную позицию всякий раз, когда заходила речь о допуске на ее рынок промышленных товаров, ссылаясь на опасность дешевого импорта из Китая и повышения курса национальной валюты. Частые смены правительства в Японии в прошедшее десятилетие ослабляли ее способность договариваться по принципиальным вопросам. Государства – члены ЕС продолжают растрачивать основную часть переговорного капитала на внутренние дебаты о реформах. А Китай, в котором в 2012 г. должна произойти передача власти, не желает рисковать накануне столь важного события.
Риски для системы многосторонних отношений
Несмотря на все эти проблемы, пока еще преждевременно отказываться от многосторонних соглашений и глобальной торговой системы. Если нужны дополнительные доказательства важности и незаменимости ВТО для международной экономики, достаточно вспомнить последний мировой финансовый кризис. Хотя многие страны предприняли протекционистские меры для смягчения его последствий, международное сообщество не скатилось к политике «разорения соседа», чтобы блокировать импорт любой ценой. Подобный результат достигнут во многом благодаря ранее подписанным многосторонним соглашениям о снижении допустимого уровня пошлин, спускным клапанам и механизмам обеспечения выполнения обязательств, предусмотренных в рамках ВТО, а также решению стран «Большой двадцатки» избегать дискриминационных действий в торговле. Помогло и то, что независимый исследовательский центр Global Trade Alert («Страж мировой торговли») – неправительственная организация, изучающая протекционизм в мировой торговле – начал публиковать перечни нарушений странами «Большой двадцатки» взятых на себя торговых обязательств.
Но соглашение о торговле, которое в настоящее время обсуждается в Дохе, не смогло бы предотвратить большинство дискриминационных действий за исключением ограничения роста некоторых совместимых с ВТО пошлин в странах с быстрорастущей экономикой. Уже сам по себе факт того, что раунд в Дохе еще официально продолжается, свидетельствует о неспособности переговорщиков помешать заключению некачественных двухсторонних и региональных торговых соглашений. С начала переговоров в Дохе во всем мире заключено уже свыше 200 подобных соглашений, и сотни других находятся в стадии согласования. Качество этих документов весьма неоднородно. Например, некоторые, заключенные администрацией Буша, устраняют, по сути дела, все барьеры между подписавшими их государствами, тогда как другие исключают целые сектора торговли, искажая принципы торговли и мировые каналы поставок с помощью сложных правил. Эти правила определяют, какой объем продукции должен быть произведен в данном месте, чтобы на нее распространялись правила беспошлинной торговли.
Хотя почти все страны, с которыми США договариваются о заключении двусторонних и региональных торговых соглашений, выступают за достижение реального прорыва в Дохе, подписание не слишком качественных документов уменьшает стремление и политическую волю других стран к появлению авторитетного международного договора. Полноценное и функциональное торговое соглашение с участием большинства государств может внести гораздо больший вклад в мировой экономический рост и благосостояние, чем самые лучшие двусторонние и региональные торговые соглашения. Такой договор может лучше ответить на системные вызовы, такие как субсидии, и сможет значительно шире открыть международные рынки, поскольку подписавшие его страны покажут всему миру, какие новые рыночные возможности появились в их распоряжении в обмен на уступки.
Такое явление, как двусторонние и региональные торговые соглашения, отчасти стали следствием порочного круга. Государства заключают их только потому, что переговоры в Дохе не дают никаких плодов, а двусторонние и региональные договоренности могут дать какие-то конкретные коммерческие результаты. С другой стороны, одна из причин неудач в Дохе кроется в логике некоторых стран, которые думают, что смогут избежать принятия трудных решений, если пойдут путем более легких двусторонних или региональных переговоров. Но по мере того как переговоры в Дохе все больше вырождаются в бесцельную болтовню, мировое сообщество может дойти до критической точки, после которой заключение этих малых соглашений будет считаться более предпочтительным вариантом.
Последняя попытка?
Даже если в интересах спасения раунда переговоров в Дохе основные быстро развивающиеся страны склонились бы к гораздо более решительной либерализации своих рынков, чем та, которая предлагалась в 2008 г., нынешняя структура консультаций и давление лоббистов крайне затруднят подобные решения, если не сделают их абсолютно невозможными. Однако любая попытка спасти переговоры в Дохе с помощью этих предложений по-прежнему порождает сомнения в их конечной целесообразности – как в абсолютном выражении, так и с точки зрения возможной цены. Конечно, если речь идет о соглашении, в котором будут определены условия мировой торговли в течение следующих двух или более десятилетий.
По оценкам таких экспертов, как Гэри Хафбауэр, Джири Шотт и Воань Фоон Вон (Woan Foong Wong) из Института международной экономики Петерсона (июнь 2010 г.), снижение пошлин по предложенной и не принятой в 2008 г. формуле увеличило бы мировой ВВП на 63 миллиарда долларов, или 0,1%. Глобальная торговля выросла бы на 183 миллиарда долларов, что составляет менее половины годового торгового оборота между США и Канадой.
В Институте Петерсона также рассчитали экономический эффект от дополнительных мер в обеспечение предложений 2008 г., включая снижение пошлин в некоторых ключевых отраслях промышленности, 10-процентное снижение барьеров в торговле услугами и успешное завершение торговых переговоров. Согласно оценкам исследователей, эти меры, которые вряд ли будут приняты, для начала увеличили бы мировой ВВП примерно на 283 миллиарда долларов, или 0,5%. Для реализации торговых выгод, которые лишь немного превышают годовой торговый оборот Соединенных Штатов с Канадой и Мексикой, потребовалось бы не менее 10 лет. Фактически единственные поддающиеся измерению преимущества от реализации предложенного плана связаны со снижением пошлин развитыми странами, поскольку непонятно, как растущие экономики решат использовать ту гибкую политику, к которой им разрешено прибегать. В действительности любая потенциальная выгода от предложенного в 2008 г. варианта торгового соглашения была бы прежде всего следствием экономии на уплате пошлин при доступе на рынки развитых стран, а не существенного увеличения новых торговых потоков в быстрорастущих экономиках.
Успешное завершение раунда в Дохе возможно лишь в случае коренного изменения нынешней структуры переговоров, если поставить во главу угла суть и наполнить их конкретикой. Не всем 153 странам – членам ВТО придется ужесточить свои обязательства. Но в конечном итоге, чтобы все участники переговоров получили реальную пользу, необходимо, чтобы 10–12 стран с быстро растущей экономикой пошли на серьезные уступки.
Что касается промышленных товаров, процесс можно было бы сдвинуть с мертвой точки, если бы развитые страны и страны с растущей экономикой проводили более гибкую политику уменьшения пошлин, снижая больше или меньше те уровни, которые заложены в применяемых ныне формулах. Введение новых протекционистских барьеров в сельском хозяйстве следует разрешить лишь в том случае, если они будут временной мерой для обуздания резкого роста импорта, грозящего ущербом аграрному сектору. В части доступа к рынкам быстро развивающихся стран придется согласиться с меньшей гибкостью. Развитые государства могли бы улучшить свои предложения относительно снижения внутренних субсидий фермерам. Однако последнее десятилетие ясно продемонстрировало, что снижение сельскохозяйственных субсидий мало что дает с точки зрения доступа к новым рынкам. Наконец, участникам переговоров следовало бы начать более серьезные консультации о рынке услуг, поскольку до сих пор серьезный диалог в этой области не начинался.
Вариации на эти и другие темы, призванные побудить к реальной дискуссии по конкретным торговым барьерам, придать новый импульс дискуссиям и создать влиятельное лобби для поддержки соглашения внутри отдельных стран, до сих пор не привели к каким-либо целенаправленным действиям. До тех пор пока сохраняется нынешняя переговорная динамика, у влиятельных стран, таких как Бразилия, Китай, Индия, Индонезия и ЮАР нет повода и стимула для того, чтобы отказаться от беспроигрышной позиции и рисковать навлечь на себя огонь критики со стороны других развивающихся стран за нарушение солидарности.
Как двигаться вперед
Единственный способ, при помощи которого мировые лидеры могли бы сегодня усовершенствовать здоровую многостороннюю торговую систему, заключается в освобождении от удавки Дохийского раунда. Еще одна серия предложений не станет выходом из сложившейся ситуации. Участники должны объявить о закрытии раунда переговоров в Дохе в 2011 году. При наличии эффективного руководства и доброй воли из нынешних консультаций можно было бы выжать несколько не столь масштабных, но значимых соглашений. Главный кандидат на спасение – это пакет по облегчению торговли, предмет серьезных переговоров между развитыми государствами, державами с растущей экономикой и развивающимися странами. Принятие этого пакета уменьшило бы стоимость перемещения товаров через границы и, по оценкам Института Петерсона, могло бы увеличить мировой ВВП на 100 миллиардов долларов.
Можно также спасти почти уже согласованный блок по сельскохозяйственному экспорту, состоящий из соглашений по экспортным кредитам, продовольственной помощи, государственным торговым компаниям и отмене экспортных субсидий. Переговорщикам нужно попытаться завершить консультации по двум экологическим договорам, один из которых предусматривает сокращение субсидий промышленным рыболовным флотилиям, виновным в чрезмерном вылове рыбы в Мировом океане, а другой – отмену пошлин и беспошлинных барьеров для «зеленых» технологий в основных странах – производителях и потребителях.
Эти составные части неудавшегося широкомасштабного соглашения в Дохе в случае доведения их до логического завершения могут дать ощутимые результаты в ближайшей перспективе. Теоретически мировые лидеры могли бы поручить своим представителям выделить эти соглашения из общей массы и подписать уже в этом году. Но, учитывая сложившуюся обстановку, даже эти небольшие договоренности рискуют оказаться недостижимыми. Однако стоит попытаться сделать хотя бы это. И если подобные действия будут предприняты, но заблокированы, по крайней мере, СМИ могли бы осветить процесс переговоров в Дохе и объяснить, по чьей вине они сорваны.
И самое главное, мировым лидерам не нужно ждать и раздумывать, смогут ли они заключить эти соглашения до того, как будет заложен фундамент для начала нового раунда многосторонних переговоров под эгидой ВТО. Формат многосторонних переговоров, подобных тем, что проводились до раунда в Дохе, нельзя считать отжившим, но теперь странам – членам ВТО следует начать с чистого листа, чтобы сначала восстановить доверие и придать новый импульс переговорному процессу, и лишь затем снова попытаться использовать данную модель. В ближайшей перспективе лучшим подходом могут стать переговоры в более узком составе и заключение второстепенных соглашений, имеющих коммерческую ценность.
Одним из очевидных методов может быть расширение номенклатуры товаров в многостороннем соглашении об информационных технологиях. Благодаря этому все крупные производители и потребители за исключением Бразилии отменили бы пошлины. Аналогичное многостороннее соглашение, предназначенное для снижения стоимости оказания медицинских услуг, могло бы быть инициировано по целому ряду товаров, включая фармацевтические препараты, медицинское оборудование и услуги здравоохранения. Подобные переговоры следует вести по правилам ВТО, и их итог должен быть в равной степени применим ко всем членам организации, независимо от того, принимали они участие в переговорах или нет. Вместе с тем право наложить вето на это соглашение может предоставляться лишь тем, кто решил участвовать в переговорах и вносить свой вклад, повышая шансы на конструктивное взаимодействие между большинством заинтересованных сторон.
Международное сообщество способно также выделить некоторые практические или новаторские элементы из существующих двусторонних или многосторонних договоренностей и попытаться перенести их на международный уровень. К ним могут относиться положения, касающиеся инвестиций, прозрачности, электронной торговли, услуг, способствующих созданию предпринимательской инфраструктуры, или даже улучшенная защита прав интеллектуальной собственности, за которую ратует ВТО. Члены организации взяли бы обязательство улучшать деловой климат в своих странах, ориентируясь на результаты таких международных показателей, как Индекс легкости ведения бизнеса, разработанный Всемирным банком, и Индекс восприятия коррупции, разработанный международной организацией «Трансперенси Интернэшнл».
Для уменьшения негативных последствий двусторонних и региональных торговых соглашений стоит предусмотреть возможность присоединения к ним стран-единомышленниц. Тем временем заинтересованным членам организации следует подумать о рассмотрении особых случаев и разрешении споров в рамках ВТО для улучшения некачественных двусторонних и региональных соглашений, не отвечающих букве и духу организации, и добиться того, чтобы эти договоренности охватывали «всю торговлю». Это помогло бы утвердить фундаментальные принципы открытой торговой системы, воспрепятствовать распространению неадекватных двусторонних и региональных торговых соглашений и заложить основу для заключения более качественных соглашений в будущем.
Соединенные Штаты в состоянии внести важный вклад в оживление переговоров в рамках ВТО, обновив ПСТ в Конгрессе, даже если они будут ограничиваться многосторонними торговыми соглашениями. Обновленные ПСТ поддержали бы стремление администрации Обамы добиться одобрения Конгрессом до сих пор не подписанных соглашений о свободной торговле с Колумбией, Панамой и Южной Кореей. Они также способствовали бы повышению доверия со стороны партнеров, которые в этом случае с куда большим желанием выслушали бы предложения США и шли на риск на будущих переговорах по торговле.
Тем временем Соединенные Штаты и другие развитые страны могут изъявить желание проанализировать свои программы торговых преференций для развивающихся стран: приносят ли они реальную помощь тем государствам, которые больше всего в ней нуждаются, и не убивают ли они у этих стран желание обменять уступки в торговле на доступ к рынкам.
Когда осядет пыль, поднятая Дохийским раундом, США и другим членам ВТО следует бесстрастно проанализировать успехи и неудачи, чтобы приготовиться к следующему раунду. Им следует подумать об упрощенных формулах, которые могут привести к реальным переговорам о пошлинах, беспошлинных барьерах, субсидиях и услугах. Нужно подумать о таких взаимных уступках и компромиссах, которые придадут реальный импульс переговорам и воодушевят электорат, действительно заинтересованный в свободной торговле. Участникам переговоров следует также начать рассмотрение новых вопросов, таких как продовольственная безопасность и ущерб от запретов на экспорт.
Однако многосторонние переговоры не увенчаются успехом, если не будут учтены различия в экономическом развитии, перспективах и возможностях внутри так называемого развивающегося мира. Стоит вспомнить, что одной из наиболее важных отличительных особенностей ВТО является включение развивающихся экономик в процесс управления и принятия решений. Так было с самого начала возникновения этой организации в 1948 г., когда она называлась Генеральным соглашением по тарифам и торговле. В узком кругу большинство стран с быстро растущей экономикой и развивающихся стран признает, что в их интересах преодолеть все более надуманное разделение на развитые и развивающиеся страны, когда речь заходит о таких глобальных вопросах, как торговля, международные финансы и изменение климата. Преодоление ограниченности раунда переговоров в Дохе ускорит появление новых моделей. Это могут быть многосторонние консультации, призванные предложить лучший баланс между выгодами и обязательствами или договоры между несколькими государствами, в которых устанавливается более высокая планка, но которые предусматривают участие всех стран-единомышленниц.
Возможно, Доха мертва, но если государства согласятся с общеизвестными истинами, которые до сих пор никто не желал признавать, мировое сообщество сумеет вдохнуть новую жизнь в систему многосторонней торговли и укрепить ее. ВТО хорошо служит миру, но рискует утратить актуальность по мере того, как раунд переговоров в Дохе продолжает снижать доверие к этой организации и истощать ее ресурсы. Сейчас самое время освободить тех, кто стремится к либерализации торговли, и двигаться дальше.
Сюзан Шваб была торговым представителем США с 2006 по 2009 годы.

Есть ли у Обамы большая стратегия?
Почему в смутные времена нам нужны доктрины
Резюме: Несмотря на заявления критиков, у администрации Обамы была даже не одна, а две большие стратегии. Но пока президент и его советники ясно не сформулируют свои стратегические установки, за них это будут делать оппоненты – в выгодном для себя и проигрышном для власти ключе.
Опубликовано в журнале Foreign Affairs № 4, 2011 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Американское военное вмешательство в ливийскую ситуацию вызвало жаркие дебаты по поводу существования доктрины Обамы, при этом эксперты по внешней политике с горечью говорили о стратегической некомпетентности Соединенных Штатов. Колумнист Джексон Диел писал в The Washington Post прошлой осенью: «Нынешняя администрация отличается отсутствием большой стратегии – или стратегов». В издании The National Interest в январе этого года политолог Джон Миршаймер сделал следующий вывод: «Основная причина американских проблем – это выбор неверной большой стратегии после холодной войны». Историк-экономист Найл Фергюсон отмечал в Newsweek, что потеря позиций на Ближнем Востоке является «прогнозируемым следствием отсутствия у администрации Обамы какой-либо внятной стратегии, и этот недостаток уже давно тревожил многих ветеранов американской внешней политики». Даже похвалы защитников администрации были робкими и двусмысленными. Майкл Хёрш из National Journal заявлял, что «реальная доктрина Обамы – это не иметь никакой доктрины. И именно этого пути, вероятно, будет придерживаться администрация». Хёрш, во всяком случае, предполагал, что это комплимент.
Но правда ли, что у президента Барака Обамы нет большой стратегии? И даже если это действительно так, станет ли это катастрофой? Администрация Джорджа Буша разработала четкую, внятную стратегию после терактов 11 сентября. Но от этого она не стала удачной, а ее реализация принесла больше вреда, чем пользы.
Большие стратегии далеко не так важны, как хочется думать стратегам, потому что о странах обычно судят по их действиям, а не по словам. На самом деле для великих держав важна мощь – экономическая и военная сила, которая говорит сама за себя. Однако в период нестабильности стратегия может иметь значение как «сигнальное устройство». В такие моменты, как сейчас, четко сформулированная стратегия, подкрепленная последовательными действиями, особенно полезна, так как позволяет донести информацию о намерениях государства до общественности как внутри страны, так и за рубежом.
Несмотря на заявления критиков, в действительности у администрации Обамы была даже не одна, а две большие стратегии. Первая – многосторонняя перегруппировка – имела целью сокращение обязательств США за границей, восстановление положения страны в мире и перекладывание бремени на партнеров. Этот курс – ясно сформулированный – не принес значительных политических результатов.
Вторая стратегия, появившаяся недавно, предусматривает ответные меры. В последнее время, столкнувшись с вызовом со стороны других государств, администрация Обамы стала стремиться оказывать влияние и продвигать свои идеалы по всему миру, обнадеживая союзников и демонстрируя решимость соперникам. Эта стратегия воплощается лучше, но сформулирована она недостаточно внятно. Именно вакуум интерпретации поспешили заполнить критики администрации. До тех пор пока президент и его советники ясно не определят стратегию, которая оставалась несформулированной в течение года, критики внешней политики президента будут охотно – и плохо – описывать ее за него.
Слова и поступки
Большая стратегия заключается в четкой формулировке национальных интересов в сочетании с конкретными планами по их продвижению. Иногда стратегии формулируются заранее, а затем следуют действия. Или стратегии могут предлагаться в качестве объяснения, связывающего политику прошлого и будущего. В любом случае, хорошо сформулированная стратегия устанавливает интерпретационные рамки, которые говорят всем, включая сотрудников внешнеполитического ведомства, как понимать поведение администрации.
Все это звучит очень внушительно, но в большинстве случаев на практике оказывается далеко не так. Чтобы большая стратегия имела смысл, она должна демонстрировать способность менять политику. А пытаться изменить внешнеполитический курс государства – все равно что заставить авианосец совершить поворот на 180 градусов: в лучшем случае это произойдет, но медленно. Необходимость соблюдать статус-кво часто превращает стратегию скорее в константу, чем в переменную, несмотря на решительные стремления каждой администрации к интеллектуальным изменениям и ребрендингу.
Мощь – вот реальная резервная валюта в международных отношениях, и большинству стран просто не хватает ее, чтобы заставить других беспокоиться по поводу их намерений. Вряд ли весь мир будет не спать ночами, чтобы узнать большую стратегию Бельгии (хотя было бы неплохо познакомиться, наконец, с ее новым правительством). То же касается и негосударственных акторов. После 11 сентября множество аналитиков подробно разбирали каждое высказывание руководства «Аль-Каиды». Однако с сокращением масштабов деятельности, возможностей и идеологической притягательности группировки эти заявления стали привлекать все меньше внимания. Если преемники Усамы бен Ладена не смогут продемонстрировать способность вызывать хаос, интерес к их идеологии и стратегии сохранится лишь у узкой группы специалистов. Именно поэтому дискуссии о большой стратегии менее важны, чем дискуссии об оздоровлении американской экономики.
Даже в случае с мощными игроками действия говорят больше, чем слова. Джордж Кеннан мог ясно изложить доктрину сдерживания, но в его формулировке стратегия не требовала защиты Южной Кореи. «Сдерживание» приобрело нынешнее значение, потому что президенты, один за другим, трактовали концепцию Кеннана по-своему. Как отмечал историк Мелвин Леффлер, основные элементы стратегии национальной безопасности Джорджа Буша-младшего – превентивная война и продвижение демократии – не новы, они появлялись в официальных документах предыдущих администраций. Разница в том, что в отличие от своих предшественников, воспринимавших концепции как шаблонную риторику, Буш действовал.
Критики и аналитики подчеркивают важность выбора правильной стратегии и катастрофические последствия, которые влечет за собой неверный выбор. Однако история свидетельствует о том, что большие стратегии не так уж значительно меняют траекторию политики великой державы. Возьмем Соединенные Штаты. Даже далекие от совершенства стратегии не повлияли существенно на их взлеты и падения. После Первой мировой войны США следовало взять на себя более активную роль в международных делах, вместо этого страна выбрала политику изоляционизма. Несколько президентов, поверив в теорию домино и наступление коммунизма, расширили участие Америки во вьетнамской войне до масштабов, которые вряд ли могли быть продиктованы каким-либо здравым смыслом. Администрация Буша предпочла начать войну против Ирака, которая должна была принести демократию и стабильность в регион и укрепить режим ядерного нераспространения. Реальный результат – диверсионная война стоимостью более 1 трлн долларов и глобальная волна антиамериканизма.
Все три стратегических промаха вытекали из популярных среди политиков и в обществе стратегических идей. Однако нужно отметить, что ни одна из этих ошибок не изменила траекторию американской мощи. В конечном итоге, Соединенные Штаты взяли на себя бремя ответственности лидера после Второй мировой войны. Проблемы во Вьетнаме не повлияли на исход холодной войны. Операция «Иракская свобода» была затратной, но данные опросов общественного мнения показывают, что вред, нанесенный имиджу США, быстро забылся. Во всех трех случаях институциональная мощь страны обеспечила необходимую корректировку внешнеполитической стратегии. Новые лидеры в Белом доме, Конгрессе и Пентагоне заставили страну принять роль лидера в послевоенный период, воздерживаться от интервенций, как во Вьетнаме, и реформировать доктрину противодействия повстанцам с учетом ошибок, допущенных в Ираке. Благодаря такой корректировке недочеты в стратегии не превратились в полный провал.
Когда идеи имеют значение
Если значение больших стратегий столь преувеличено, почему возникают яростные дебаты? По двум причинам – одна из них незначительная, а другая существенная. Первая заключается в том, что каждый в американском внешнеполитическом сообществе втайне надеется стать новым Джорджем Кеннаном. Если эксперт сокрушается по поводу провалов большой стратегии, можете не сомневаться, что он уже успел набросать собственные соображения на этот счет. Именно по этой причине после окончания Второй мировой войны недовольство стратегией возникало при каждой американской администрации. Большие стратегии легко придумывать – они касаются будущего, оперируют общими понятиями и дают повод для рекламы соответствующих изданий. Когда эксперт по внешней политике выдвигает новую большую стратегию, у ангела вырастают крылья.
Более существенная причина заключается в том, что бывают моменты, когда большие стратегии действительно имеют значение, – это периоды абсолютной неопределенности в международных отношениях. Идеи важны, когда действовать приходится в незнакомых водах. Они выполняют функцию когнитивных маячков, направляющих страны к безопасным берегам. В нормальные периоды, принимая решения, политики экстраполируют нынешние возможности или действия в прошлом, чтобы прогнозировать поведение других. Однако если наступает время перемен, большие стратегии сигнализируют о будущих намерениях руководства той или иной страны, заверяя или, напротив, разубеждая в чем-то заинтересованные стороны.
Два типа событий могут привести к периоду глубокой неопределенности, когда повышается значение больших стратегий. Во-первых, это событие глобального масштаба – война, революция или экономическая депрессия, – которое переворачивает интересы стран по всему миру. В ситуации, когда никто не знает, как будут развиваться события, большая стратегия может стать дорожной картой, помогающей интерпретировать происходящее и выбрать адекватный политический ответ. Второй тип событий – это смена державы-лидера, что также может стать причиной серьезной неопределенности. Когда переживающей упадок державе бросает вызов набирающий силу соперник, государства хотят знать, как каждое из двух правительств представляет свою роль в мире. У государства, находящегося в относительном упадке, есть множество вариантов для ответа – от постепенного отступления до превентивного конфликта. Набирающая силу держава может быть ревизионистской, как Германия в 1930-х гг., или стремиться к сохранению статус-кво, как Япония в 1980-х годах. Другие акторы будут тщательно оценивать заявления и действия новых держав, чтобы понять их намерения.
Примечательно, что ныне совпали оба набора явлений. «Великая рецессия» потрясла мировую экономику, произошли резкие колебания цен на товары. Международная система вынуждена справляться с огромным количеством стихийных бедствий, технологическими изменениями и случаями дипломатической неразберихи. В странах Ближнего Востока с невероятной скоростью распространилась революция, и последствия для глобальной системы абсолютно неясны.
В то же время относительная мощь Китая увеличилась, а Соединенных Штатов – уменьшилась. По оценкам Международного валютного фонда, экономика Китая через пять лет опередит американскую по паритету покупательной способности. Это изменение привело к колебаниям относительной мощи обоих государств уже сейчас. В рамках исследования Центра Pew в апреле 2010 г. респондентов по всей планете попросили назвать «ведущую экономическую державу мира». Во многих развивающихся странах, включая Бразилию и Индию, большинство опрошенных выбрало США. В развитых государствах результаты были абсолютно другими. В пяти странах первоначальной G7, включая Германию, Японию и Соединенные Штаты, значительное большинство назвало Китай. Иными словами, развивающийся мир по-прежнему верит, что Вашингтон сохраняет гегемонию, в то время как развитый мир считает, что господство перешло к Пекину. Какие-то изменения явно происходят, но люди расходятся во мнении о том, какие именно. При такой неопределенности намерения имеют значение, и большая стратегия может оказаться очень полезной.
Действуя в незнакомых условиях, официальные лица, отвечающие за реализацию национальной политики, могут опираться на официальные стратегические документы. Акторы за рубежом делают прогнозы тоже на их основе. В этих обстоятельствах иностранные правительства беспокоит, насколько предлагаемый ответ на неопределенность направлен на пересмотр или поддержание статус-кво. Страны предпочитают иметь дело с врагами, которых знают. Даже в периоды неопределенности большие стратегии, предполагающие полный пересмотр международного порядка, заставляют нервничать. Доктрина Буша о превентивном вмешательстве возымела именно такой эффект, как и недавнее заявление Китая о том, что Южно-Китайское море представляет собой «основной национальный интерес».
Еще один аспект большой стратегии привлекает всеобщее внимание: нацелено ли национальное стратегическое видение на продвижение частного или общего блага. Все великие державы имеют собственные идеи по поводу поддержания стабильного мирового порядка: жесткое признание суверенитета в Вестфальской системе, нераспространение ядерного оружия, борьба с терроризмом, больше многополярности, более глобальное развитие, продвижение демократии и так далее. Некоторые из этих идей подразумевают блага, которые, несомненно, принесут пользу как самой великой державе, так и всему миру; в ряде случаев польза для других кажется менее очевидной. Если великая держава выдвигает большую стратегию, которая в первую очередь сфокусирована на ее собственных интересах, это может вызвать негативную реакцию других стран. Например, администрация Буша считала, что продвижение демократии является благом для всех, но другие государства рассматривали эту цель в сочетании с превентивным вмешательством как право США обходить многосторонние международные институты. Неудивительно, что этот курс в результате нанес серьезный краткосрочный ущерб имиджу страны.
В большинстве работ о большой стратегии Соединенных Штатов слишком много преувеличений, но администрация Обамы унаследовала мир, находящийся в состоянии глубокой неопределенности. Есть ли у нее большая стратегия для адекватного ответа? На самом деле их было две.
Смена стратегии
Обама пришел к власти с тремя твердыми убеждениями. Во-первых, внутреннее оздоровление необходимо для любой долгосрочной стратегии – этот принцип он подчеркивал во всех выступлениях по внешней политике. «Мы не смогли оценить связь между нашей национальной безопасностью и нашей экономикой», – заявил Обама в обращении по Афганистану в декабре 2009 года. «Наше процветание обеспечивает основу нашей мощи. Оно оплачивает наши военные расходы. Оно является гарантом нашей дипломатии». Во-вторых, США перенапрягли силы, ведя две кампании против боевиков и войну с терроризмом на Ближнем Востоке, но игнорируя ситуацию в других регионах мира. В-третьих, из-за ошибок администрации Джорджа Буша рейтинг Соединенных Штатов в мире снизился до исторического минимума. Бен Родес, заместитель советника Обамы по национальной безопасности, отвечающий за стратегические коммуникации, недавно разъяснил видение администрации изданию The New Yorker: «Если свести все к коротким слоганам, это будет звучать так – завершить две войны, восстановить позиции и лидерство Америки в мире и сосредоточиться на более широком спектре приоритетов, от Азии и мировой экономики до режима ядерного нераспространения».
Первая большая стратегия Обамы, как пояснялось в различных выступлениях и заявлениях администрации в первый год его президентства, заключалась в том, чтобы обернуть сложившуюся ситуацию в свою пользу. Как заявила госсекретарь Хиллари Клинтон, многополярный мир на самом деле является «многопартнерским» миром, в котором США будут призывать другие страны – как соперников, так и союзников – содействовать сохранению глобального порядка. Администрация Барака Обамы пыталась «перезагрузить» отношения с Россией. Начали говорить о преобразовании стратегического и экономического диалога между Вашингтоном и Пекином в G2, которая будет напоминать встречи руководителей двух стран в период холодной войны. Администрация приветствовала G20 в качестве замены G8 как главного международного экономического форума, считая, что большее число партнеров будет означать более эффективное сотрудничество. Вместо агрессивного подталкивания к демократии Соединенные Штаты будут действовать более сдержанно, подавая личный пример.
Это сочетание слов и поступков представляло собой четкую концепцию, но результаты отнюдь не оправдали ожиданий. Китай отреагировал на протянутую руку Обамы агрессивной риторикой и ростом региональных амбиций. Россия продолжила жесткий курс. Традиционные союзники не захотели расширить свое участие в афганской кампании. Достижения G20 не соответствовали поставленным целям. В то же время изоляционистские настроения внутри США достигли максимума за 40 лет.
Что пошло не так? Администрация и многие другие ошибались, считая, что улучшение имиджа даст Соединенным Штатам больше возможностей для проведения своего курса. Имидж США среди граждан и элит иностранных государств действительно восстановился. Но это изменение не трансформировалось в значительное укрепление «мягкой силы». Вести переговоры в рамках G20 или в Совете Безопасности ООН не стало легче. Мягкая сила, как выяснилось, не может существенно помочь при отсутствии готовности применить жесткую силу.
Другая проблема заключалась в том, что Китай, Россия и страны, стремящиеся к статусу великих держав, не рассматривали себя как партнеров Соединенных Штатов. Даже союзники считали, что предполагаемая сдержанность администрации Обамы является лишь прикрытием намерения переложить бремя обеспечения глобальных благ на плечи остального мира. Поэтому большая стратегия Белого дома воспринималась скорее как продвижение узких интересов США, а не всеобщих благ.
В ответ администрация после первых 18 месяцев у власти изменила политику, выбрав вторую, более решительную стратегию. Единственной константой осталось стремление восстановить мощь Америки дома, но теперь ряд быстро развивающихся иностранных держав стал активно использоваться в качестве инструмента мотивации. Именно поэтому в послании этого года «О положении страны» Обама заявил, что для Соединенных Штатов наступил «момент спутника», и пообещал увеличить государственные инвестиции в образование, науку и чистые виды энергии.
Одновременно администрация перешла от стратегии перегруппировки к стратегии ответных действий. В ответ на международные провокации США продемонстрировали, что по-прежнему способны собрать союзников и противостоять возникающим угрозам. Например, американцы укрепили отношения в сфере экономики и безопасности с большинством соседей Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заставив Пекин пересмотреть подход. Продемонстрировав готовность противодействовать новым угрозам, Соединенные Штаты смогли заверить своих союзников, что в ближайшее время не собираются отступать на позиции изоляционизма. Подобным же образом, реагируя на волнения на Ближнем Востоке, Вашингтон использовал рычаги воздействия на египетских военных, чтобы способствовать практически мирной смене режима в Египте.
Наконец, вопреки заявлениям многих республиканцев, Обама связал внешнюю политику с американской исключительностью. Клинтон стала более открыто критиковать нарушение прав человека в Китае, а в ответ на революции в арабском мире Обама продемонстрировал понимание необходимости продвигать как американские ценности, так и американские интересы. Объясняя свое решение вмешаться в ситуацию в Ливии, он заявил: «Отбросить обязательства Америки как мирового лидера и – что еще более важно – наши обязательства перед человечеством в данных обстоятельствах было бы изменой самим себе… Рожденные в результате революции, совершенной теми, кто стремился к свободе, мы приветствуем тот факт, что сейчас история вершится на Ближнем Востоке и в Северной Африке и молодежь прокладывает дорогу вперед. Потому что если где-то люди стремятся к свободе, они всегда найдут друга в лице США». Вряд ли такие слова мог произнести человек, который верит только в реальную политику.
Внутренние проблемы
Как набор идей, новая большая стратегия Обамы объединяет многие страны мира. Ключевые союзники Соединенных Штатов в Европе и Тихоокеанском регионе получили необходимые заверения. Соперники США теперь понимают, что Вашингтон нельзя игнорировать. Но поддержка администрацией демократических идеалов была по-разному воспринята в Саудовской Аравии или Израиле – странах, которые предпочитают знать врага в лицо, и Соединенные Штаты могут вновь рассматриваться в регионе как ревизионистская держава. Молчание администрации по поводу возможного вмешательства в ситуацию в Бахрейне или Сирии должно уменьшить эту обеспокоенность.
Но если в международном плане новая доктрина ответных действий выглядит достаточно устойчиво, то на внутреннем фронте все совсем иначе. Наиболее серьезные вызовы для большой стратегии Обамы, скорее всего, появятся внутри страны, а не за ее пределами. Жизнеспособная стратегия должна опираться на прочную поддержку дома. Главная проблема Обамы – это внушающий беспокойство внутриполитический аспект.
В первую очередь это несоответствие сложности глобальной системы и простоты внешнеполитической риторики США. Политики с легкостью рассуждают о «друзьях» и «врагах», но испытывают затруднения, говоря о «соперниках», поскольку эта категория имеет больше нюансов. Администрации сложно использовать развивающиеся державы в качестве угрозы, чтобы побуждать Америку к дальнейшим действиям, и при этом не переходить к излишней демагогии по поводу Китая. Официальная риторика по крайней мере отчасти виновата в раздувании опасений общества по поводу мощи КНР.
Более серьезная проблема заключается в том, что администрация Обамы, сосредоточившись на восстановлении внутренней мощи, нарушила партийное равновесие. В афоризме о том, что политика заканчивается на границе США, по-прежнему есть доля истины. Но если администрация заявляет, что ключевой элемент внешней политики Соединенных Штатов – внутренняя экономика, это повышает вероятность разногласий внутри страны. Учитывая драматизм дебатов о растущем уровне долга, перспективы достижения президентом консенсуса по бюджетной и налоговой политике кажутся весьма отдаленными. Эти трудности подкрепляют аргумент политологов Чарльза Капчана и Питера Трубовитца о том, что демографические и политические изменения в США (включая отрицание правыми принципа многополярности и отрицание левыми принципа проекции силы) существенно затруднят поддержку большой стратегии, которая основана на либеральных интернационалистских принципах.
Но почему Обама так плохо объясняет свою стратегию американцам? Надо признать, что вследствие длительного экономического спада тесное взаимодействие с остальным миром стало раздражать американцев, поэтому активная внешняя политика превратилась в трудно продаваемый товар. При этом администрация сослужила недобрую службу сама себе. В действительности самая известная фраза, определяющая большую стратегию Соединенных Штатов, – «возглавлять из-за кулис», что является катастрофической формулировкой в политическом смысле.
Почему администрация Обамы не была более открытой в отношении изменения большой стратегии? Во-первых, смена курса подразумевает признание того, что предыдущий курс был неверным, а ни одна администрация не хочет этого делать. Во-вторых, администрация гордится прагматизмом внешней политики, и это осложняет продвижение нового стратегического видения. Наконец, военные действия обычно заглушают интерес к другим аспектам внешней политики. И хотя вмешательство в ливийский кризис может быть оправдано, оно не вполне вписывается в новую большую стратегию Обамы. Ливия, по собственному признанию администрации, не является основным национальным интересом. В результате Обама оказался в затруднительном положении, пытаясь объяснить свою внешнюю политику и при этом приуменьшить человеческие и материальные затраты на первую начатую им войну. Просто назвать это «кинетическими военными действиями» оказалось недостаточно.
Все это – серьезная проблема, потому что политика не выносит вакуума риторики. Если президент не может четко сформулировать большую стратегию, эксперты и политические оппоненты будут рады сделать это за него, используя отнюдь не лестные формулировки. Пока администрация не сможет внятно объяснить свое поведение американцам, она будет сталкиваться с серьезным сопротивлением.
После нескольких неверных поворотов вначале администрация Обамы, по-видимому, нашла подходящую стратегическую карту, но ей еще нужно убедить в этом других пассажиров в автомобиле. Четкая коммуникация вряд ли может быть панацеей. Однако на фоне смерти бен Ладена у администрации появилась отличная возможность разъяснить пересмотренную большую стратегию. Взяв на себя ответственность за отправку американского спецназа в Пакистан для ликвидации бен Ладена, Обама добился значительного скачка в поддержке своей внешней политики. Если в ближайшее время он сформулирует стратегию ответных действий, то сможет сделать это с позиции внутренней силы, а не слабости. Лучше разъяснив свое видение американцам, Обама покажет им – и остальному миру – что знает, куда идти и как туда добраться.
Дэниел Дрезнер – профессор международной политики Школы права и дипломатии имени Флетчера в Университете Тафтс, автор книги «Избегая банальностей: роль стратегического планирования во внешней политике США».

Демократия на марше?
Америка и продвижение ее ценностей
Резюме: Наличие политической воли к распространению демократии не всегда подразумевает существование соответствующей возможности. Взращивание демократии – это не научная и не инженерная задача, и потому логично, что теоретические споры о возникновении и путях развития демократии ведутся до сих пор.
Данная статья – выдержки из книги «Продвижение демократии в мире», которая подготовлена к печати Московской школой политических исследований. Книга написана до того, как автор поступил на службу в администрацию Барака Обамы. Мнения и суждения, содержащиеся в работе, отражают исключительно авторскую точку зрения и могут не совпадать с позицией правительства Соединенных Штатов. Публикуется в журнальной редакции.
На протяжении почти всего первого столетия существования США главные дебаты по поводу американской внешней политики происходили между сторонниками изоляционизма и приверженцами вовлеченности в международные дела. Знаменитое предостережение Джорджа Вашингтона о нежелательности «обременительных альянсов» положило начало длительной и популярной в Америке традиции изоляционизма, отстраненности от непредсказуемых зигзагов международной политики – особенно в безнравственной, своекорыстной, имперской Европе. Осуществление этого подхода повлекло за собой противодействие попыткам европейских держав вмешиваться в сферу американских интересов, каковую поначалу ограничивали территорией Соединенных Штатов, а позже, согласно доктрине Монро, всем западным полушарием. В течение почти столетия эта изоляционистская, «унилатеральная» политическая доктрина доминировала в американском стратегическом мышлении.
Углублению изоляционизма способствовало географическое положение и относительная слабость американского государства. В то время президенты США попросту не располагали надлежащими военными и экономическими ресурсами, чтобы распространять влияние за океан или участвовать в мировой политике – даже если бы они к этому стремились. В 1885 г. президент Гровер Кливленд говорил в своем первом обращении к конгрессу: «Выражая солидарность с воззрениями ряда моих предшественников, которые со времен Вашингтона выступали против обременительных альянсов с иностранными государствами, я также отвергаю политику приобретения новых территорий или включения чьих-то далеких интересов в наши собственные».
Спустя всего лишь десятилетие после подтверждения Кливлендом унаследованных от Вашингтона принципов изоляционизма «имперская бацилла», столь распространенная в то время в Европе, перенеслась в Америку. В десятилетия, последовавшие за Гражданской войной, Соединенные Штаты стали по праву считаться великой державой и достигли географических пределов континента. Американские политики и стратеги с энтузиазмом восприняли идею «приобретения новых территорий», что в конечном итоге привело к испано-американской войне 1898 г. и созданию американских колоний на Филиппинах, в Гуаме, Пуэрто-Рико и на Гавайских островах. Принимая в 1917 г. решение о вступлении США в Первую мировую войну, а позже участвуя в версальских договоренностях о послевоенном устройстве, президент Вудро Вильсон окончательно порвал с предостережениями Джорджа Вашингтона. В войне европейских держав Вильсон поддержал одну из сторон, а позже участвовал в создании классического «обременительного альянса» – Лиги Наций.
Последний на сегодня всплеск изоляционизма в американской истории пришелся на период после Первой мировой войны, в ответ на Великую депрессию. В эти годы конгресс отказался ратифицировать Версальский мир, проголосовать за вступление Соединенных Штатов в Лигу Наций, а такие деятели, как Чарльз Линдберг и представители изоляционистской группы «Америка превыше всего», настаивали на необходимости уклониться от участия и во Второй мировой войне. Однако нападение Японии на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 г. навсегда разбило изоляционистскую иллюзию, что США могут оставаться в стороне от мировых кризисов. С тех пор растущая мощь Америки и развитие технологий, сделавших мир более взаимосвязанным (баллистические ракеты, электронная торговля на развивающихся рынках, реактивные двигатели, Интернет и т. д.), значительно ослабили позиции изоляционистов. Изоляционистские тенденции по-прежнему живы и в Республиканской, и в Демократической партии, но вытеснены на обочину политических дебатов.
Вильсоновский либерализм против реализма
В спорах о путях обеспечения безопасности и процветания американского народа сходятся так называемые либералы и так называемые реалисты – «так называемые» потому, что ни один из эпитетов не определяет верно суть аргументов сторон.
Вильсоновские либералы (именуемые так в честь Вудро Вильсона) утверждают, что политический режим внутри страны влияет на внешнюю политику государства. Либералы восприняли выдвинутый более 200 лет назад Иммануилом Кантом тезис о том, что демократии редко воюют друг с другом, тогда как автократии склонны к конфликтам как с другими автократиями, так и с демократиями.
Согласно эмпирическим данным, демократии действительно не воюют друг с другом, хотя причины данного феномена не выявлены до конца. Таким образом, тезис о «демократическом мире» служит основанием для весьма определенной стратегии: Соединенные Штаты (наряду с другими демократиями) ради собственной национальной безопасности заинтересованы в распространении демократических режимов по всему миру. Согласно знаменитой фразе Вильсона, для того чтобы обезопасить американцев, США должны изменить мир. А наилучшим способом обеспечения безопасности, по его словам, была бы не защита или изоляция Америки от иностранцев, а изменение политической природы внешнего мира.
Такой подход к внешней политике Америки присущ не только Демократической партии. В годы холодной войны одним из наиболее последовательных приверженцев вильсоновского либерализма был Рональд Рейган, также считавший, что распространение демократии за границей отвечает внутренним интересам американской безопасности.
Другая важная традиция в американской внешней политике и политической мысли, преобладавшая на протяжении большей части прошлого века, – это реализм. В качестве теории международных отношений и идеологии внешней политики реализм покоится на трех основных предпосылках. Во-первых, государства – это основные действующие лица в подверженном анархии мире. Международные институты, НПО, многонациональные корпорации и другие негосударственные силы либо несущественны, либо отражают интересы наиболее могущественных государств. Во-вторых, внутриполитический режим не влияет на поведение государств во внешнем мире. В-третьих, поведение государства на международной арене диктуется не столько его внутренним устройством, сколько внешней средой, особенно балансом сил между сильнейшими государствами.
Реалисты считают, что коль скоро именно сила (а не идеалы или этические нормы) имеет первостепенное значение для благоденствия государства, мировые державы постоянно состязаются за влияние и власть. Джон Мершаймер, к примеру, утверждает: «Эта конкуренция имеет вид игры с нулевой суммой, что отчасти делает ее жестокой и безжалостной. Время от времени государства могут сотрудничать друг с другом, но в основе лежат их конфликтующие интересы». Следовательно, американские реалисты видят в любой стране с большой военной или экономической мощью угрозу для Соединенных Штатов. Набирающие мощь государства – такие как Германия или Советский Союз в прошлом веке или Китай сегодня – опасны вдвойне, так как они расшатывают глобальный баланс сил и могут спровоцировать конфликт между старыми и новыми великими державами.
В соответствии с этой теорией национальные интересы США в сфере безопасности состоят в наращивании военного и экономического потенциала, а также в создании и поддержании альянсов с сильными государствами – в целях сдерживания влияния других великих или восходящих держав. Так, Ричард Никсон однажды сказал Мао Цзэдуну: «Важна не внутренняя политическая философия государства. Важна его политика по отношению к остальному миру и к нам». Баланс сил, полагал Никсон, – важнейший элемент международной системы, и, следовательно, сохранение позиций США при помощи сотрудничества с Китаем и, опосредованно, сдерживание Советского Союза – наилучший стратегический выход из сложившейся ситуации. Реалисты считают, что в целях наращивания силы (и сдерживания потенциального неприятеля) Америке необходим доступ к нефти и минеральному сырью, возможность размещения военных баз и торговля со всеми странами, готовыми к сотрудничеству, независимо от того, автократии это или демократии.
Подобная концепция мировой политики содержит и предписание относительно внешнеполитического курса – а именно, что следует воздерживаться от продвижения демократии. Реалисты считают, что продвижение демократии может ударить по союзникам Америки, сыграть на руку антиамериканским силам и спровоцировать рост внутренней и международной нестабильности. Например, как писали Дэвид Хендриксон и Роберт Такер, подталкивая демократизацию, Соединенные Штаты «могут привести в движение неконтролируемые силы, способные повредить их жизненно важным интересам… И даже если считать, что стабильность не принесла [США] всесторонней безопасности, из этого не следует, что усилению безопасности будет способствовать нестабильность. Думать так означало бы, что ситуация не может развиваться в сторону ухудшения – а это опасная предпосылка для всякого государственного деятеля, опровергаемая всем ходом мировой истории».
Подобно либерализму, реализм как основополагающий принцип внешней политики присущ не только одной политической партии. Ричард Никсон, классический «реалист» XX века, состоял в Республиканской партии, как и Рональд Рейган – убежденный «либерал» вильсоновского толка. Реализм имеет давнюю традицию и в Демократической партии, причем в недавнем прошлом он пережил всплеск в ответ на внешнюю политику Джорджа Буша-младшего, якобы основанную на «неоконсервативных» или вильсоновских принципах. В американском научном сообществе доктрина реализма господствовала в изучении международных отношений на протяжении десятилетий.
В защиту вильсоновского либерализма с реалистичным ядром
Исходный тезис реалистов о важности силы самоочевиден. Наращивание военной и экономической мощи в течение двух последних веков вывело Соединенные Штаты из второстепенного участника международной политики в мировую сверхдержаву. Накопленная Америкой сила помогала ей одерживать победы над врагами и сдерживать противников. В свою очередь, за те же 200 лет страны с мощной армией и развитой экономикой влияли на национальную безопасность США в большей степени, нежели относительно слабые страны – независимо от внутреннего устройства великих держав. Сегодня авторитарный Китай или демократическая Индия значат для национальной безопасности Америки несравненно больше, чем авторитарная Зимбабве или демократический Гондурас.
С той же очевидностью неправомерно утверждение, что в международных отношениях значима только сила. Исторически американской национальной безопасности угрожали не все великие державы. Опасность исходила лишь от держав-автократий. С другой стороны, серьезную угрозу для безопасности Соединенных Штатов создавали крайне слабые, но высокомотивированные нелиберальные, антидемократические движения. Ни вооруженные силы США, ни их внушительный ядерный арсенал (в рациональном мире воспринимаемый как гарант стабильности и мира) не сумели предотвратить террористические акты «Аль-Каиды» 11 сентября 2001 года. Джон Льюис Гэддис заметил, что «ни Буш, ни его преемники независимо от партийной принадлежности не смогут отрицать того, что выявили теракты 11 сентября. А именно, что политика сдерживания в отношении недружественных государств не обеспечивает должной защиты от нападений со стороны группировок, которые сегодня способны нанести нам ущерб, такой же, как раньше государства в войне». Классические модели реалистов не в силах описать эти вполне реальные угрозы.
В конечном итоге средством обеспечения безопасности и благосостояния американцев нельзя назвать ни сугубо реалистичные догмы, ни либеральную идеологию. В разное время Соединенным Штатам приходилось сотрудничать с автократическими режимами во имя собственных жизненно важных интересов. Без французской военной интервенции во время американской революции (пример военного вторжения в целях содействия демократии) США не обрели бы независимости в той войне против метрополии. Без Советского Союза в качестве союзника Америка понесла бы гораздо больше потерь во Второй мировой войне и, вполне вероятно, не сумела бы победить в битве с нацизмом. Без торгового партнерства с Саудовской Аравией страна испытывала бы острую нехватку в доступных энергоносителях. Внешнеполитический курс, исключающий военную помощь французского короля, союз со Сталиным или поставки саудовской нефти, не отвечал бы американским национальным интересам.
В то же время утверждение, что тип политического режима в других странах никак не сказывается на американских национальных интересах, представляется антиисторическим. Наивна и идея, что политика обеспечения баланса сил является более разумным идейным ориентиром для американской внешней политики, чем продвижение демократии. История последних 200, а точнее, последних 80 лет свидетельствует, что расширение демократии за рубежом отвечает стратегическим, экономическим и нравственным интересам США, тогда как следование реалистическим принципам негативно сказывается на национальных интересах, несмотря на краткосрочные достижения.
Американская одержимость продвижением демократии
Политические дебаты о распространении демократии не новы. Поддержка демократии за рубежом – не изобретение президента Джорджа Буша-младшего, и критики такого подхода появились не сегодня, а уже в первые годы существования американской республики.
На протяжении всей национальной истории идея распространения демократии соперничала с другими внешнеполитическими целями Соединенных Штатов. Ни один президент не стал бы отрицать, что важнейшей целью внешней политики его страны всегда должно быть обеспечение безопасности американского народа. Лишь немногие из президентов видели в продвижении демократии главный инструмент для достижения этой цели. Чаще доминировали другие приоритеты: сдерживание военных противников, выстраивание союзов, защита стабильного доступа к сырьевым ресурсам, создание и поддержание военных баз, расширение торговых и инвестиционных возможностей для корпораций и т. д. По мере превращения США в мировую державу задачи поддержания региональной стабильности часто брали верх над стремлением к демократии.
Однако в то же время американские лидеры всегда подчеркивали этическую роль Соединенных Штатов в мировых делах. В XVIII и XIX веках поборники особой миссии Америки располагали лишь ограниченными средствами и преследовали ограниченные цели – импульсы к развитию, идущие от государства, редко выходили за пределы двух Америк. Лишь после вступления США в Первую мировую войну президент Вудро Вильсон предпринял попытку привить ценностный подход на мировом уровне. В январе 1918 г., выступая перед обеими палатами конгресса с «четырнадцатью тезисами» для нового мирового порядка, Вильсон говорил: «В этой войне <…> мы не требуем особых выгод для себя. Мы хотим, чтобы мир стал безопасным и пригодным для достойной жизни, и особенно чтобы он стал безопасен для каждой миролюбивой нации». По мнению Вильсона, вернейший путь обеспечения безопасности Америки состоял не в обороне от внешнего мира, но в его коренном изменении.
Попытка Вильсона сделать мир более безопасным для демократии окончилась неудачей. Республиканское большинство в сенате даже заблокировало вступление Соединенных Штатов в Лигу Наций. Великая депрессия 1930-х гг. заставила американцев вновь сконцентрироваться на внутренних проблемах, упрочивая на некоторое время другую давнишнюю традицию внешней политики страны – изоляционизм. Наконец, усиление в Европе нацистской Германии и коммунистической России и начавшаяся Вторая мировая война способствовали возникновению еще одной доктрины американской внешней политики – реализма. «Наивному идеализму» Вильсона реалисты противопоставляли большее внимание к силе держав и балансированию между ними. Вопрос о внутреннем устройстве государств – демократическом или автократическом – отходил на второй план. Эта позиция еще более окрепла в годы холодной войны, когда всеобъемлющей задачей стало сдерживание советской мощи. В это время реалистическая теория международных отношений доминировала и в академических кругах Америки.
Однако и в этот период стремление содействовать развитию демократии не исчезло совсем. Напротив, американские политики создали целый ряд новых инструментов для поддержки демократических движений в других странах: Агентство международного развития (АМР) США, «Корпус мира», «Союз ради прогресса», «Радио Свободная Европа» и Национальный фонд демократии.
Как говорилось выше, либеральные и реалистические тенденции в американской внешней политике не были связаны с партийной принадлежностью президента. Республиканец Ричард Никсон и его главный советник по иностранным делам Генри Киссинджер говорили и действовали в духе классического реализма. Именно так следует трактовать налаживание отношений с Китаем в целях противодействия растущему советскому могуществу. Находясь у власти, Никсон и Киссинджер не слишком заботились о внутренней политике СССР или Китая. Другой президент-республиканец Рональд Рейган, напротив, уделял много внимания тому, как режимы ведут себя дома, и проводил политику, направленную на развал антидемократических систем. Коммунистические диктатуры в Восточной Европе волновали Рейгана больше, чем капиталистические диктатуры в Африке или Латинской Америке. В целом подход Рейгана скорее роднит его с демократическими президентами Вильсоном и Гарри Трумэном, нежели с Никсоном. В критических ситуациях Рейган даже готов был содействовать замене у власти старых автократических союзников новыми демократическими лидерами.
Споры между реалистами и либералами не закончились с холодной войной. Демократизация, а затем распад Советского Союза (а не контроль над вооружениями или упадок военного потенциала СССР) снизили, в конечном итоге, напряжение холодной войны, что, казалось бы, подтвердило правомерность либеральных взглядов на внешнюю политику. Однако даже в процессе демократизации и последовавшего крушения СССР президент Джордж Буш-старший и большинство его внешнеполитических советников продолжали поддерживать Михаила Горбачёва, считая, что для национальных интересов Соединенных Штатов сохранение Советского Союза важнее демократизации этого государства.
При Билле Клинтоне маятник вновь качнулся в сторону либерализма. Клинтон и его команда сделали распространение демократии главной целью внешней политики. Накануне своей первой официальной зарубежной поездки – на встречу с президентом Борисом Ельциным в апреле 1993 г. – президент Клинтон в следующих фразах описывал стратегию отношений с Россией: «Вспомним, что в XX столетии войны на европейском континенте унесли жизни сотен тысяч американцев. Развитие демократической России, довольной жизнью в своих собственных границах, соседствующей с другими мирными демократиями, может обеспечить положение, при котором нам никогда больше не придется идти на такие жертвы. Все мы знаем, что, в конечном итоге, историю России напишут сами русские, так же как русские должны определять будущее России. Но я утверждаю: нам тоже следует сделать то, что в наших силах, причем мы должны действовать сейчас. Не из побуждений благотворительности, а потому что это мудрое вложение средств. <…> Хотя наши усилия потребуют новых затрат, мы сможем получить гораздо больше для собственной безопасности и процветания, если будем действовать сейчас».
В следующем году, выступая с президентским посланием, Клинтон разъяснил, почему США заинтересованы в распространении демократии за рубежом: «В конце концов, оптимальная стратегия обеспечения нашей безопасности и утверждения долгосрочного мира – это поддержка развития демократии в мире. Демократические страны не воюют друг с другом, и они успешнее сотрудничают друг с другом в торговле и дипломатии». В свою очередь, расширение НАТО администрация Клинтона воспринимала как способ приумножить демократическое сообщество европейских государств. В ряде случаев (наиболее драматичным эпизодом представляется война против Сербии в 1999 г.) Клинтон был готов во имя защиты нравственных идеалов применить военную силу.
На протяжении всего XX века о задачах развития демократии и защиты прав человека в Америке не забывали даже тогда, когда архитекторами внешней политики были «реалисты». На пике никсоновского реализма сенатор-демократ от штата Вашингтон Генри Джексон и конгрессмен-демократ от штата Огайо Чарльз Вэник провели поправку к Закону о торговле 1974 г., увязывающую режим наибольшего благоприятствования в торговле для Советского Союза с правом евреев на эмиграцию из СССР. Хотя Никсон не верил в перспективы распространения американских ценностей за границей, многие конгрессмены оставались твердыми приверженцами принципа защиты прав человека. Напротив, в годы рейгановского внешнеполитического либерализма одним из приоритетов было наращивание военной мощи в целях обеспечения паритета с Советским Союзом. Сотрудники американской администрации редко придерживались единых взглядов. Более того, противоречия в отношении этого ключевого вопроса внешней политики зачастую приводили к драматическим столкновениям в администрации. Вопрос о том, заниматься ли распространением демократии, всегда вызывал в Соединенных Штатах дискуссии.
Знаем ли мы, как содействовать демократии?
Наличие политической воли к распространению демократии не всегда подразумевает существование соответствующей возможности. Взращивание демократии – это не научная и не инженерная задача, и поэтому логично, что теоретические споры о возникновении и путях развития демократии ведутся до сих пор. Питают ли демократию экономический рост и модернизация или, напротив, резким демократическим преобразованиям способствуют экономические кризисы? Определяют ли этот процесс структурные предпосылки или действия отдельных лиц? Что важнее, лидеры из числа элиты или массовые движения? Произрастает ли демократия из конфликтов или компромиссов? Есть ли у некоторых культур большая предрасположенность к демократии, чем у других? На эти фундаментальные вопросы ясного ответа нет поныне.
Не утихают и споры об институциональном дизайне демократии. Являются ли парламентские системы более стабильными и демократичными, чем президентские, или же предпочтительна смешанная президентско-парламентская структура? Лучше ли пропорциональная избирательная система, чем система простого большинства? Когда унитарные государства предпочтительнее федеративных? Существуют разногласия и в отношении последовательности демократических реформ. Что первично – выборы или конституция? Должны ли региональные выборы предшествовать национальным? Считать ли верховенство права обязательным условием эффективных выборов? И если так, вправе ли мы откладывать выборы, пока не устоятся правовые институты? С последним вопросом связан спор о приоритетности эффективного государства или демократического строя. Среди теоретиков демократии нет единого мнения относительно сравнительной важности и роли политических партий, гражданского общества и судебной системы.
Неудивительно, что наше понимание механизмов международного воздействия на процессы демократизации остается неполным. С конца 1960-х и до начала 1990-х гг. ученые изображали процесс демократического перехода как главным образом внутреннюю проблему. Лишь в начале 1990-х гг. роль международных сил была правомерно названа «забытым измерением» в изучении процессов демократизации. С тех пор вопросу о международном измерении демократизации уделяется в научных кругах гораздо больше внимания, но предмет по-прежнему не изучен обстоятельно.
Именно в недостаточном понимании природы демократизации следует искать корень непоследовательности американской политики в этой области, даже в тех случаях, когда президент и его советники были привержены делу продвижения демократии. К примеру, сторонники теории модернизации выступают за развитие торговли с авторитарными режимами в целях ускорения демократических процессов. Примером такого подхода может служить политика США в отношении Китая. Напротив, те, кто считает экономический кризис предпосылкой для демократических преобразований, ратуют за введение экономических санкций, чтобы способствовать демократизации. Эту философию отражает в последние десятилетия политика Соединенных Штатов в отношении Ирана и Кубы.
Аналогичным образом американские сторонники продвижения демократии выступают за разные подходы к институциональному устройству, зачастую предлагая взаимопротиворечащие модели развития для одной и той же страны. В частности, в начале 1990-х гг. ряд американских руководителей выступал за сильную президентскую систему в России в целях содействия радикальным экономическим реформам, в то время как другие говорили о желательности парламентской демократии и пропорционального представительства для стимулирования партийного строительства и учреждения более демократического режима.
После вторжения в Афганистан эксперты США по институциональному устройству рекомендовали установить там президентскую систему, тогда как после вторжения в Ирак отдавали предпочтение парламентской модели. Разногласия были связаны не столько с оптимизацией демократии, сколько с краткосрочными планами мобилизации американских союзников на местах. В Хамиде Карзае видели сильного союзника Америки и стремились к учреждению в Афганистане системы, при которой Карзай получил бы полноту власти. В Ираке поиски такой фигуры не увенчались успехом, и поэтому американские «институциональные эксперты» настояли на введении парламентской системы. Американские официальные лица продемонстрировали схожую непоследовательность в рекомендациях относительно избирательного законодательства в Афганистане и Ираке.
Ввиду противоречивости теорий о возникновении и развитии демократии американские правительственные агентства и НПО, вовлеченные в содействие молодым демократиям, часто прибегают к «списочному анализу». Среди обязательных характеристик западных либеральных демократий числятся конституция, парламент, высшие суды, уполномоченный по правам человека, политические партии, независимые СМИ, коллегии адвокатов, профессиональные союзы, женские организации и группы мониторинга за соблюдением прав человека. Подразумевается, что в молодых демократических государствах должен быть схожий набор институтов и организаций. Так, в бывших странах коммунистического блока, где на время крушения режима существовали лишь немногие из этих институтов, начальная стратегия развития демократии (и всего остального) сводилась к тому, чтобы пробовать все и смотреть, что будет работать.
Ресурсы для продвижения демократии
Поскольку американские политики редко относят распространение демократии к числу приоритетов, а среди ученых и практиков отсутствует понимание, что лучше для поддержки демократического развития, неудивительно, что выделяемые на это ресурсы были ничтожными на протяжении почти всей американской истории.
Начиная с испано-американской войны 1898 г. и последующей оккупации Филиппин, президенты США эпизодически предоставляли экономические и военные ресурсы для поощрения демократических реформ – вслед за использованием военной силы или в особенности после оккупации. Однако усилия, направленные на реформирование режима после войны, всегда носили спорадический характер и никогда не проистекали из выверенной стратегии развития демократии. Отсутствие четкой стратегии отчасти объясняется тем, что применение Соединенными Штатами военной силы всегда было вызвано безотлагательными задачами национальной безопасности. Лишь после вступления американской армии в военные действия на нее возлагалась миссия содействия демократическому развитию (хотя часто это делается впопыхах и непродуманно). Как это ни удивительно, в правительстве США нет структуры, ответственной за содействие послевоенному демократическому развитию. После начала военных кампаний в Афганистане и Ираке администрация Буша осознала этот недостаток и в 2004 г. создала в Государственном департаменте Бюро координатора по реконструкции и стабилизации. Как было сказано, «в целях повышения институциональной способности нашей страны реагировать на кризисные ситуации в проблемных и несостоявшихся государствах, в странах после военных конфликтов и в сложных чрезвычайных ситуациях». Однако скудный бюджет этого бюро лишь подчеркивает проблемы американского правительства в связи c его функцией.
В течение первых 100 лет американской истории правительство почти не выделяло средств на развитие демократии за рубежом. Значительные ассигнования на построение демократии и, шире, государственное строительство были выделены Филиппинам после испано-американской войны, но неудача этого проекта привела к отказу от попыток продвижения демократии на долгое время. Лишь с началом холодной войны, когда Соединенные Штаты столкнулись с врагом, стремящимся экспортировать свой общественно-политический строй, Америка вновь вернулась к политике продвижения демократии. В 1942 г. начал вещание «Голос Америки», но полномасштабную информационную кампанию против советского коммунизма США начали только с созданием, при финансовой поддержке ЦРУ, «Радио Cвободная Европа» в 1949 г. и «Радио Cвобода» в 1951 году. Их задачей было распространение независимого анализа новостей в Восточной Европе и Советском Союзе. Со временем Соединенные Штаты стали применять информационные методы содействия демократии довольно широко, так что программы независимых новостей и пропаганда демократических идей распространялись теперь на большинство авторитарных стран. «Голос Америки» стал вещать практически на весь мир, включая спутниковые и местные телеканалы. «Радио Свободная Азия» вещало на Китай и другие азиатские авторитарные страны, а «Радио Марти» – на Кубу. В 1998 г. «Радио Свободная Европа»/«Радио Свобода» запустило «Радио Свободный Ирак», которое в конечном итоге превратилось в «Радио Сава», а также персидскую радиослужбу с вещанием на Иран, известную как «Радио Фарда».
Новостное вещание и пропаганда американской модели государственного устройства посредством СМИ – это опосредованный способ содействия демократическому развитию. Программам более прямого действия положил начало президент Джон Кеннеди. Поскольку внешнеполитические советники Кеннеди верили во взаимосвязь экономического развития и демократических реформ, они запустили ряд новых инициатив, прежде всего «Союз ради прогресса в Латинской Америке», Агентство международного развития США и «Корпус мира». Все они призваны помогать экономическому развитию ради демократизации. Устав «Союза ради прогресса» формулирует в качестве цели укрепление и совершенствование демократических институтов, но содержательно сфокусирован на земельной реформе, улучшении качества здравоохранения, строительства доступного жилья и повышении уровня образования. Аналогично, первые три десятилетия существования Агентства международного развития основной упор в его работе делался на социально-экономическое развитие, а не на распространение демократии.
Важной вехой в американских усилиях по продвижению демократии стало создание в 1983 г. Национального фонда демократии (НФД). Хотя он финансируется конгрессом, фонд был основан как независимая неправительственная организация, занимающаяся исключительно продвижением демократии. Чтобы не быть подверженным сиюминутным интересам правительства, фонд учредил совет, в который входят представители обеих ведущих политических партий Соединенных Штатов. Вместо того чтобы предоставлять прямую помощь государственным структурам или оказывать техническое содействие организациям гражданского общества, НФД стал скорее выделять адресные гранты демократическим организациям, что для того времени было большим новшеством. В противоположность ЦРУ, помощь, оказываемая фондом, всегда являлась публичной и не носила военного характера. Одновременно были учреждены четыре других независимых организации, получавшие через него финансирование: Международный республиканский институт (ранее – Национальный республиканский институт), аффилированный с Республиканской партией; Национальный демократический институт международных отношений, аффилированный с Демократической партией; Американский центр международной солидарности трудящихся, основанный и управляемый АФТ-КПП (Американской федерацией труда – Конгрессом промышленных профсоюзов); и Центр международного частного предпринимательства, основанный под эгидой Торговой палаты США.
Финансирование НФД и примыкающих к нему организаций оставалось небольшим на протяжении всех 1980-х и начала 1990-х гг., достигнув к 1993 г. примерно 30 млн долларов в год, причем бюджету фонда постоянно грозило сокращение. Масштаб деятельности фонда и его филиалов резко возрос в последние два десятилетия, особенно когда после крушения коммунистического блока демократический и республиканский институт начали получать средства непосредственно от АМР. Конгресс поддержал программы развития демократии, проведя Акт о поддержке демократии в Восточной Европе и Акт о поддержке свободы в российской и новых евроазиатских демократиях и открытых рынков для бывшего СССР. В соответствии с ними новые ассигнования выделялись на помощь в экономике и построение демократии в посткоммунистических странах. В 1994 г. администрация Клинтона создала Бюро по делам демократии, прав человека и труда при государственном департаменте, которое также стало вести небольшую грантовую программу. С провозглашением в декабре 1990 г. программы «Демократическая инициатива» АМР стало рассматривать содействие демократии в качестве своей главной цели и вскоре превратилось в основного спонсора программ Соединенных Штатов в этой области, причем бюджет АМР далеко превзошел бюджет НФД.
Недавно финансирование от АМР стали получать и несколько организаций с давней историей, включая «Freedom House», Совет по международным исследованиям и обменам, Афро-американский институт и фонд «Азия». Гранты АМР получают также учрежденные относительно недавно НПО, включая Международный фонд избирательных систем, занимающийся мониторингом, поддержкой и укреплением процесса выборов в молодых демократиях; «Правовая инициатива американской коллегии адвокатов в Центральной и Восточной Европе», способствующая укреплению верховенства права, и «Интерньюс», организация, занимающаяся содействием развитию независимых СМИ. В дополнение к этим некоммерческим НПО начиная с середины 1990-х гг. отделы по вопросам демократии и совершенствованию систем управления были образованы во многих коммерческих организациях. И НПО, и коммерческие компании, занимавшиеся раньше прежде всего вопросами экономического развития, включили в свою деятельность задачи развития демократии и управления.
После 11 сентября 2001 г. президент Буш увеличил объем финансирования всех этих организаций. Содействие развитию демократии в это время стало основной целью американских программ помощи зарубежным странам. В 2008 г. бюджет НФД вырос до 100 млн долларов (по сравнению с 40 млн в 2001 году). Резко вырос и бюджет Бюро по делам демократии, прав человека и труда при Госдепартаменте – с 7,8 млн в 1998-м до 126,5 млн в 2006 г. (впрочем, в 2008 г. он снизился до 64 млн). В 2002 г. администрация Буша учредила в Госдепартаменте «Инициативу ближневосточного партнерства». Ее миссия состояла в реализации плана Буша по «упреждающей стратегии свободы» – посредством предоставления небольших грантов региональным организациям гражданского общества. Бюджет инициативы вырос с 29 млн долларов в 2002 г. до 100 млн в 2003-м и составил 150 млн в 2005 году. Администрация Буша также помогла учредить «Фонд во имя будущего», миссия которого состояла в «поддержке организаций гражданского общества в деле развития демократии и свободы на всем Ближнем Востоке и в Северной Африке, признавая и уважая неповторимость исторического наследия и культуры каждой из стран региона». К 2009 г. правительство США расходовало 1,72 млрд долларов в год на «развитие справедливого и демократического управления» – в сравнении с 600 млн долларов в 2001 году.
Посредством корпорации «Вызов тысячелетия» – еще одной новой организации, созданной администрацией Буша, – некоторые программы экономической помощи оказались увязаны с демократическими реформами. Как четко сформулировал президент Буш, «Вызов…» имеет целью «вознаграждение стран, искореняющих коррупцию, уважающих права человека и придерживающихся принципов верховенства права».
Все эти институциональные новшества и резко возросший бюджет свидетельствуют о серьезных сдвигах в области содействия демократии, особенно на Ближнем Востоке во время президентства Буша. При этом, однако, ресурсы, выделявшиеся на развитие демократии, по сравнению с оборонными расходами и в долях от общей иностранной помощи, были ничтожны даже на пике усилий администрации Буша в этой сфере. В 2008 г. Буш запросил 481,4 млрд долларов в качестве основного бюджета Министерства обороны и дополнительные 141,7 млрд на «глобальную войну с терроризмом». Иными словами, в последний год президентства Буша Соединенные Штаты планировали истратить на оборону в 479 раз больше средств, чем на развитие и распространение демократии. Это соотношение – явное свидетельство того, что в США не считают продвижение демократии важным приоритетом.
Дорожная карта
Успехи Америки в продвижении демократии за последние годы весьма скромны, наше понимание механизмов демократизации явно недостаточно, а ресурсы для оказания поддержки демократическому развитию в зарубежных странах ограничены. Однако при благоприятных обстоятельствах и при проведении правильной политики Соединенные Штаты могут преуспеть в этом деле. Следует признать справедливость многих критических замечаний в адрес политики Буша. Однако реакцией на эти ошибки должна быть не самоизоляция, не возвращение к реализму и не отрицание принципов содействия демократии как таковых. Сиюминутная, рефлексивная реакция против Буша может вызвать долговременные негативные последствия для американских национальных интересов. От этого пострадают борцы с тиранией и сторонники демократии во всем мире.
Лидерам, ответственным за обеспечение американской национальной безопасности, следует помнить о том, что с продвижением демократии связаны интересы США в сфере морали, экономики и безопасности, и искать более эффективные способы осуществления этой политики.
Тезис о том, что Соединенные Штаты должны продвигать демократию, не следует воспринимать как одобрение политики Буша. Нам нужно разработать новый политический курс, чтобы восстановить международную легитимность и поддержку внутри страны, необходимые для осуществления долговременных усилий по продвижению демократии.
Применение военной силы во имя достижения свободы не только дало очень скромные результаты в Афганистане и Ираке, но и дискредитировало все усилия, особенно американские, по распространению демократии в мире. Однако неудачи Буша – не причина для полного отказа от этого проекта. На кону долгосрочные национальные интересы Америки, и внешнеполитические стратеги – как демократы, так и республиканцы – должны объединить усилия, чтобы вернуть США к благородной и прагматичной цели достижения свободы во всем мире.
Подтверждение нашей приверженности продвижению демократии не означает следование старым стратегиям. Добиться воссоздания международной легитимности продвижения демократии и поддержки дома можно лишь с помощью радикально нового курса. Только тогда право жить при демократии будет признано повсеместно, а автократия уйдет в прошлое, как ушли империализм и рабство.
Майкл Макфол - профессор политических наук Центра по вопросам демократии, развития и верховенства закона при Стэнфордском университете. Специальный помощник президента США Барака Обамы по вопросам национальной безопасности. Осенью 2011 года планируется назначение Макфола послом в Россию.

Бигмак по-русски
Как американская котлета испытала на прочность ядерную сверхдержаву
Кто-то, кажется, Пол Маккартни, сказал, что железный занавес начал рушиться под песни «Битлз». Хотя самую зримую брешь в нем пробила простецкая котлета. Речь идет, как вы, наверное, догадались, о появлении в Москве первого ресторана «Макдоналдс».
О том, как бигмак покорял СССР, «Итогам» рассказал президент «Макдоналдс» в России и Восточной Европе Хамзат Хасбулатов, человек, который 21 год назад возглавил самый первый ресторан — тот, что на Пушкинской площади.
— Хамзат Хамидович, а вы сами-то давно стояли у свободной кассы?
— Нет, недавно. Это было в середине апреля, когда отмечался день рождения компании. По старой традиции офисные менеджеры приходят на несколько часов поработать в рестораны сети, пообщаться, вспомнить старые времена. Вот и я в тот день стоял за прилавком первого «Макдоналдса» на Пушкинской площади, который возглавил более 20 лет назад.
К сожалению, уже не все процедуры помнишь. Но потом быстро старые навыки возвращаются. Очень многие нынешние управленцы «Макдоналдса» вышли из стен ресторана. У нас практически нет ни одного руководителя, который бы в свое время не работал за кассой или на кухне. Вице-президент по производству, по работе с персоналом, по маркетингу — все начинали с прилавка на Пушкинской площади. Даже финансовый директор когда-то был обычным рядовым сотрудником. Я называю такую карьеру историей from crew room to board room («от прилавка до главка», перевод «Итогов»).
— Чем вас так манила индустрия общепита?
— Мне это было просто интересно! Праздников в СССР было мало, и советские люди старались их отмечать по-особому, например ходили в рестораны. Мне же всегда хотелось быть частью этого праздника и даже немного его создавать.
Родился я в Казахстане, и мне было меньше года, когда семья вернулась в Россию. Детство прошло в Чечне. После окончания школы, будучи 16 лет от роду, я приехал в Москву поступать в институт. По рекомендации дяди выбрал «Плешку» и окончил курс «Технологии и организации общественного питания».
Поработав по распределению несколько месяцев замдиректора предприятия на одном закрытом объекте в Тушине, отправился служить на Дальний Восток и вернулся на гражданку только через 18 месяцев. Нисколько не жалею о том периоде, для меня это была очень интересная школа. Как только пришел в себя от армейской службы, снова принялся за работу в системе общепита.
Первым местом работы на гражданке оказался ресторан в Кунцевском районе. Затем я обслуживал Олимпийские игры в 1980 году, руководил сначала рестораном «Регата», потом замдиректорствовал в «Будапеште». И однажды, в середине 1988 года, мне позвонили из нашего управления, которое тогда называлось «Мосресторантрест», и пригласили на какое-то собеседование. Я понятия не имел, о чем речь. Но приехал, захожу в зал заседаний — а там сидит большая группа иностранцев. Среди них был и мой будущий руководитель, основатель «Макдоналдс» в Канаде и России Джордж Кохон. Начальник Главного управления общепита города Москвы говорит: «Садись, побеседуй с людьми. Их очень заинтересовала твоя кандидатура».
После часового интервью я наконец-то понял, что за место работы мне предлагают, но не имел ни малейшего представления о том, что такое «Макдоналдс». Как и любой другой советский человек, я понятия не имел, как живут обычные люди на Западе и куда они заходят перекусить. В общем, через несколько дней после встречи вновь раздался звонок, и меня спросили, что я по этому поводу думаю.
— С радостью согласились, конечно.
— Нет. Отказался... Дело в том, что на тот момент у меня не было никакого интереса менять свое руководящее кресло в «Будапеште». Я считал, что в мои 32 года жизнь в общем-то удалась... Но ровно через месяц, когда я уже успел забыть об этой вакансии, со мной еще раз связались из главка и сказали, что иностранцы остановили свой выбор на мне. И предложили место в команде, которая будет открывать первый «Макдоналдс» в Советском Союзе. По телефону мне в общем-то сразу дали понять, что возможности отказаться практически нет. Пришлось соглашаться в добровольно-принудительном порядке. В принципе, я ничего не терял, так как в противном случае у меня была возможность вернуться на бывшее место работы.
В августе 1988 года меня формально приняли на работу, и первого октября я появился в московском офисе компании. Если то помещение, которое она снимала, можно было назвать офисом — «Макдоналдс» расположился в нескольких номерах гостиницы «Минск».
— Но история покорения СССР «Макдоналдсом» началась ведь не с вашего выхода на новое место работы...
— Да, эта одиссея длилась к тому моменту без малого 12 лет! Шел 1976 год, в Монреале проходили летние Олимпийские игры, и компания «Макдоналдс», будучи их спонсором, предоставляла автобусы для перевозки национальных делегаций.
Однажды, выходя со своей семьей с олимпийского стадиона, Джордж Кохон заметил в одном из автобусов советских представителей и решил подойти познакомиться. Но на его пути встал канадский чиновник, который настоятельно советовал сначала обратиться в протокольный отдел МИДа и попросить разрешение на встречу с делегатами из СССР.
Кохон не растерялся и продолжал настаивать на своем. К тому же у него на руках был сильный козырь — автобус-то был фактически его. В итоге англоговорящие члены советской делегации услышали спор и подошли сами. Между ними завязалась беседа, слово за слово, никто и не заметил, как Кохон и компания оказались в ближайшем ресторане «Макдоналдс».Тогда канадец и задал советским чиновникам вопрос, который изменил будущее многих людей: «А хотели бы вы ходить в такой вот «Макдоналдс», если бы он был, скажем, в Москве?»
— Ответа «да» пришлось ждать долго...
— После этой встречи Кохон несколько раз посещал СССР, однако реальные планы стали обсуждаться через много лет после Игр в Монреале. В итоге в апреле 1988 года наконец-то было подписано соглашение между компанией «Макдоналдс» и правительством Москвы. Для открытия первого ресторана создали совместное предприятие «Москва — Макдоналдс», где 51 процент принадлежал правительству города, а 49 — компании. В то время это было единственным условием, которое позволяло выйти на советский рынок. Учитывая тогдашние сложные отношения между СССР и США, канадский филиал «Макдоналдс», а не американский, выглядел наиболее приемлемым партнером для этого начинания.
Планы у нас были очень амбициозные. В рамках соглашения предполагалось открыть аж 20 ресторанов в Москве! Тогда это считалось фантастическим проектом, просто немыслимым. К тому же мы планировали построить собственный пищеперерабатывающий комплекс, так как в Советском Союзе на тот момент было невозможно найти приемлемого поставщика.
Но для начала мне нужно было пройти производственную стажировку в Канаде и выучить язык. Так как я два слова не мог связать по-английски, мне пришлось все бросить и посещать интенсивные курсы. Параллельно занимался приготовлением к отъезду. В советское время для отбытия за рубеж необходимо было получить большой набор документов. Сначала они согласовывались начальством, потом шли в горком или райком партии, затем бумаги перехватывал КГБ, то есть везде тебя шерстили... Раньше ведь выпускали за бугор, как правило, в составе профсоюзной или научной делегации, а индивидуальные поездки были под пристальным вниманием. Короче, мне потребовалось около пяти месяцев, чтобы наконец-то получить разрешение уехать в Канаду. Только когда я был принят на работу, я узнал, что кроме меня готовили еще троих претендентов на позицию директора первого ресторана.
— Дублеры, как у космонавтов...
— Что-то вроде того. И «тренировочный полет» мы осуществили тут же: впервые попали в бизнес-класс «Аэрофлота». В то время выезд за границу был целым приключением! Одно дело — турпоездка в Болгарию или Чехословакию, другое — капстрана, фактически враждебный лагерь!
Мы прилетели в начале февраля, и сразу же — море впечатлений! Потребовалось несколько дней для адаптации, в том числе и для прихода в себя от шока. Только представьте: в Москве пусто, серо, люди ходили голодные, а тут...
Нас поселили по двое в квартире со всеми стандартными по западным меркам удобствами: с кондиционером, телевизором, который показывал кучу каналов... Помню, какое впечатление произвел на меня хоккейный матч в Торонто в рамках НХЛ. Это совершенно отличалось от того хоккея, который мы привыкли смотреть в Советском Союзе. Как раз тогда в канадскую профессиональную лигу приехали Макаров, Фетисов, Ларионов и другие. В Канаде я, кстати, познакомился с нашим легендарным хоккеистом Владиславом Третьяком. Мне довелось побывать на торжественном ужине в честь введения его в Зал хоккейной славы. С тех пор мы поддерживаем хорошие отношения.
В Канаде же я научился играть в гольф и делать барбекю, ходил на ужины, ездил на рыбалку, да и просто путешествовал по стране. За нашими переездами активно следили западные СМИ, и нам часто приходилось давать интервью: выход «Макдоналдс» в Советский Союз казался событием на грани фантастики!
— Словом, обуржуазились, Хамзат Хамидович, по полной.
— Компания давала нам деньги на карманные расходы. Сумма небольшая, порядка 100 долларов в неделю, но всем необходимым мы были обеспечены: транспорт, жилье, еда. Тогда мне казалось, что лучше не бывает. В общем, решил эту стажировку «дотерпеть» до конца.
Несмотря на то что я получил в Советском Союзе вроде бы профильное образование, оно не имело абсолютно никакого значения для компании «Макдоналдс». Всему приходилось учиться заново, с самых азов, и без отрыва от производства. Так что свой первый день практики я провел на кухне и жарил гамбургеры.
Постигая азы ресторанного дела на Западе, я много общался с людьми, и меня тогда поразила их открытость. Например, президент компании спокойно и непринужденно садился рядом с тобой пить кофе, общался на равных, приглашал к себе домой на выходные. Таким дружелюбием советская система, увы, не отличалась.
После стажировки в ресторане в Торонто нас отправили на дальнейшее обучение, и завершающая стадия освоения новой профессии проходила в университете гамбургерологии под Чикаго.
Этот корпоративный учебный центр был образован в 1961 году для сотрудников компании: директоров ресторанов, маркетологов, специалистов по недвижимости. Университет занимает порядка 12 тысяч квадратных метров и состоит из десятков учебных комнат, аудиторий и производственных лабораторий. Техническая оснащенность такая, что одновременно там можно обучать студентов на 28 языках. Интереснейшее заведение! Кстати, самого ресторана в университете не было, он находился напротив.
За два месяца до окончания стажировки мне сказали, что я буду директором первого ресторана «Макдоналдс» в Советском Союзе.
— А дублеры?
— Трое остальных претендентов становились моими замами. Когда мы вернулись в Москву, перед нами была поставлена задача набрать будущих менеджеров и работников ресторана на Пушкинской площади, а затем послать их вторым эшелоном для обучения на Запад.
— Почему выбор пал именно на Пушку?
— В то время пока я был в Канаде, строительство ресторана уже шло полным ходом. Место, на котором располагалось советское кафе «Лира», было предложено московским правительством. Дело в том, что, когда создавалось совместное предприятие, компания «Макдоналдс» взяла на себя обязательства по вопросам инвестиций, обучения персонала и управления бизнесом. Московская же сторона должна была предоставить площади. Вот они и отдали нам это место на Пушкинской площади, а также участок земли в Солнцеве, где был построен завод. В него вложили порядка 50 миллионов долларов и около 15 миллионов — в открытие первого ресторана. Часть продуктов брали на месте, но основное сырье привозили из-за рубежа. В России закупали мясную продукцию, молоко, овощи, муку. Сами выращивали в Подмосковье картофель.
Для строительства второго ресторана и офисного здания нам выделили место, которое находилось напротив Центрального телеграфа.
— Сейчас любой желающий может прийти на работу в «Макдоналдс». А как нанимали первых сотрудников?
— В первом ресторане работало порядка 650 человек. Чтобы их найти, мы дали объявление в «Московском комсомольце» и получили около 30 тысяч анкет. Пришлось проводить три цикла интервью, чтобы выбрать самых подходящих. Кстати, многие люди, которые были готовы стоять у прилавка или жарить картошку, имели высшее образование!
На первом этапе процесс курировали зарубежные специалисты. Открытие офиса и первого ресторана в Советском Союзе готовили порядка 80 иностранцев, некоторые из них работали на нашем заводе в Солнцеве, а некоторые обучали офисных менеджеров.
— Премьера прошла штатно?
— Да, как планировали открыть ресторан в конце января 1990 года, так и получилось.
Накануне этого события, 30 января, был дан торжественный прием в Кремле, на котором присутствовало около тысячи гостей из разных стран, а также все основные информационные агентства, телевизионные каналы и газеты.
Правда, мне пришлось это празднование пропустить: утром открытие, и я готовил ресторан. Всю ночь со мной был один из основателей компании «Макдоналдс» Фред Тернер. Много переживал, много курил и постоянно спрашивал меня: «Есть продукция? Есть сотрудники? Проблем завтра не будет?» И на каждый вопрос я давал развернутый ответ, успокаивал его как мог.
И вот 31 января, часов в 6 утра, собирается весь персонал, и мы готовимся к торжественной церемонии открытия. На улице — ни души! Все иностранцы в шоке, спрашивают, что случилось. Это было действительно странно, ведь накануне открытия была проведена обширная рекламная кампания, все только и говорили, что о приходе в СССР одного из символов Америки. Я тоже не мог понять, куда же подевался народ.
Во всем оказалось виновато метро: оно открывалось только в начале седьмого. Зато, как только первый поезд подошел к «Пушкинской», оттуда хлынула такая толпа, что у нас мгновенно образовалась гигантская очередь, протянувшаяся по всей Пушкинской площади. По нашим оценкам, к открытию «Макдоналдса» набралось более пяти тысяч человек.
После пресс-конференции и торжественной церемонии мы запустили первых посетителей. Было около 11 часов утра — все это время гости терпеливо ждали. Всего их в тот день у нас побывало более 30 тысяч. К слову: до этого ни одно заведение сети не обслуживало столько посетителей за одну смену. Всего же за 21 год «Макдоналдс» на Пушкинской обслужил более 143,2 миллиона человек. Почти все население России, если сравнить...
Как мне потом рассказывали, вокруг первого ресторана завязался целый посреднический бизнес, когда первые посетители покупали еду и потом перепродавали ее тем, кто не хотел стоять в очереди.
— Какие были базовые блюда?
— Все основные наши позиции в меню на тот момент были представлены. Бигмак, если я не ошибаюсь, стоил 3 рубля 25 копеек, рубль семьдесят стоил гамбургер.
— Кто-нибудь из представителей власти приобщился к американской культуре фастфуда?
— Конечно, без генерального секретаря и первого президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева приход «Макдоналдс» в нашу страну вряд ли бы состоялся. Кстати, мы с ним встречались накануне 15-летия бизнеса в России. Обсуждали разные вопросы, вспоминали тот период, когда проект только-только запускался. Из всего меню Михаил Сергеевич отдавал предпочтение бигмаку.
На открытие второго ресторана в Газетном переулке в 1993 году приезжал Борис Николаевич Ельцин. Я показывал ему здание, потом у нас был обед в офисе. Бигмаком он, кстати, тоже перекусил.
Еще я помню, как однажды летом после открытия «Макдоналдса» на Пушкинской я зашел в ресторан. Гляжу — сидит легендарный Арманд Хаммер, «официальный друг» Советского Союза, человек, встречавшийся с Лениным! Арманд пришел пообедать, и я не упустил возможности с ним пообщаться. Он начал рассказывать о том, как открывал СССР всему миру, как встречался с вождем пролетариата. В тот момент я осознал, что видел перед собой человека-легенду, что в общем-то неудивительно: ему тогда было уже более 90 лет. Это была, насколько я знаю, одна из его последних поездок в Россию.
— Августовский путч и период ГКЧП заставили поволноваться?
— Конечно, и мы, и иностранцы волновались за судьбу совместного предприятия. Однако одно наблюдение меня все-таки успокоило. Я помню, как стояли танки на Пушкинской площади, а между ними тянулась очередь в «Макдоналдс». Меня это потрясло! Война войной, а есть все равно хочется. Когда я показал фотографии иностранцам, они тоже изумились и сказали: «Поразительная страна!»
Когда распался СССР, сильнее всего пострадала сельскохозяйственная отрасль. Развалились колхозы, и посыпались наши поставщики. В итоге нам пришлось постепенно восстанавливать все цепочки, заключать договоры, платить за выращивание скота, даже закупать нашим партнерам производственные линии — лишь бы не встало производство.
В то время, когда мы запустили наш завод в Солнцеве, доля местной продукция была на уровне 20 процентов, а 80 процентов завозилось из-за рубежа. Сейчас все наоборот.
Мы первыми привезли в Советский Союз салат айсберг и начали выращивать его на предприятиях поставщиков. «Кока-Кола» приняла решение построить первый цех по производству напитков рядом с нашим заводом в Солнцеве.
Прошло более 20 лет с тех пор, как «Макдоналдс» пришел в Советский Союз. Тогда выход, пожалуй, самого известного американского бренда в нашу страну казался чем-то немыслимым, фантастичным, даже немного авантюрным. Однако я рад, что сейчас, по прошествии многих лет, можно с гордостью сказать, что первый ресторан позволил чуть-чуть приоткрыть тот железный занавес, который отделял нашу страну от остального мира. Интересное было время!

Товарищ посол
Джек Мэтлок — о том, кто придумал «империю зла», о Гаврииле Попове, слившем американцам имена гэкачепистов за месяц до путча, о Джордже Буше-старшем, в свою очередь сдавшем мэра Москвы агентам КГБ, о Михаиле Горбачеве, не понимавшем намеков, о русской кухне, «отборном зерне», а также о том, как, будучи консулом, выдал американскую визу супруге Ли Харви Освальда
В свои без нескольких месяцев 82 года Джек Мэтлок выглядит дай бог каждому. Подвижен, обаятелен, остроумен. Неизменные очки и аккуратный синий блейзер. А памяти и более молодые люди позавидуют. Правда, немного слух стал подводить. Но ничего. Он не жалуется. Общению это не мешает. И сборам в новую поездку по России тоже.
— Г-н Мэтлок, два десятилетия спустя после развала СССР в России все еще немало людей считают Америку причастной к этой драме...
— Советский Союз распался, не выдержав давления внутренних факторов. Он был ослаблен коммунистическим правлением. Система рухнула, потому что не отвечала чаяниям людей. США и многие наши союзники пытались помочь Михаилу Горбачеву заключить новый Союзный договор со всеми республиками, за исключением трех прибалтийских государств, которые мы никогда не считали законной частью СССР. Именно поэтому президент Буш (Джордж Буш-старший. — «Итоги») в своей киевской речи 1 августа 1991 года советовал всем 12 республикам одобрить предложенный господином Горбачевым документ.
Мы не хотели, чтобы Советский Союз исчез с карты мира. Мы понимали, что горбачевские реформы создают совершенно новое государство, отличное от прежней империи зла. Мы видели, что демократизация во многих республиках зависела от поддержки из Москвы. Мы не хотели появления нескольких новых стран с ядерным оружием. США и Запад не играли роли в этой драме. Может быть, очень косвенно, демонстрируя более успешные экономические модели.
Кроме того, посмотрите, кто рулил процессом. Это был не иностранец, это был президент РСФСР Борис Ельцин, который в сотрудничестве с лидерами Украины и Белоруссии разрушил СССР. Попытки винить посторонних — это попытки поставить историю с ног на голову.
— Вы работали в Совете нацбезопасности при Рональде Рейгане, когда он назвал СССР в одной из речей империей зла. Не ваша ли, кстати, авторская заслуга?
— Нет. Речь готовилась для внутренней аудитории, евангелистской конференции во Флориде, и нам в СНБ ее не показывали. Тем не менее я верю, что сталинский СССР, безусловно, был империей зла. Любое государство, в котором лидер позволяет себе уничтожать миллионы своих сограждан, благословенным назвать нельзя.
— Почему же тогда в США часто можно слышать утверждения, что Америка победила в холодной войне?
— Это абсурд. Холодная война — это условность, метафора. Это как война с бедностью, наркотиками или терроризмом... Окончание холодной войны — результат переговоров между США и СССР, между НАТО и государствами Варшавского договора. Победили все. Гонка вооружений была не только опасна. Она непомерной тяжестью ложилась на все экономики. Особенно тяжело было Советскому Союзу, советские люди платили тяжелую цену за оружие, которое им не было нужно, и при этом создавали себе врагов. Все выиграли, никто не потерпел поражение, за исключением идеи самой войны как таковой — она была бы самоубийственной...
— Вы родились в американской глубинке. Росли в то время, когда на Западе об СССР не говорилось ничего хорошего. Как в таких условиях возник интерес к нашей стране, к русскому языку?
— Интерес проснулся еще в школе, потому что мы следили за ходом боевых действий на советско-германском фронте и понимали, какой огромный вклад СССР внес в победу над Гитлером. Первый раз я услышал русскую речь по радио — это было выступление советского представителя на конференции в Сан-Франциско, где была образована ООН. Конечно, я ничего не понял, но подумал, как было бы здорово, если бы я знал этот язык. Раскопал в местной библиотеке грамматику русского языка, но сами понимаете, толку от этого было мало.
В первый год учебы в Университете Дьюка я прочитал «Преступление и наказание» Федора Достоевского, естественно, в английском переводе. Я был потрясен! Начал читать другие вещи Достоевского и обнаружил, что «Братья Карамазовы» еще более сильное произведение. Для меня до сих пор «Легенда о Великом Инквизиторе» остается самым мощным отрывком из всей русской и мировой литературы. Я был пленен и очарован Россией! Тут и созрело окончательное решение выучить русский, и, как только в университете в 1948 году впервые ввели курс русского языка, я немедленно стал посещать эти занятия.
— Кто еще из наших писателей вам внутренне близок?
— О, мой список длинный. Пушкин, Гоголь, Чехов... Лев Толстой с «Войной и миром» и «Анной Карениной», поздний Толстой менее интересен. Моя докторская диссертация посвящена Лескову — в ней я сравнивал переводы его произведений на английский, французский и немецкий языки. Из периода начала ХХ века я бы выделил Леонова, Булгакова, Платонова, Пастернака и Ахматову. Из современников я дорожу творчеством таких людей, как Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина и Вася Аксенов...
— Тогда понятно, почему темой вашего диплома в Колумбийском университете вы выбрали «Функционирование «руководящих органов» Союза писателей СССР».
— Для меня было очевидно, что СП был создан Сталиным как инструмент контроля над литературой по аналогии с другими творческими союзами. Мне ужасно хотелось понять, как он функционирует, как, говоря словами Сталина, он используется в качестве «передаточного ремня» для создания «инженеров человеческих душ».
— Классиков марксизма-ленинизма тоже штудировать пришлось?
— Разумеется. По причинам как культурным, так и политическим я не только погрузился в изучение русского языка и истории, других славянских языков и культур, в знакомство с нерусскими национальностями СССР, но и приобщился к марксистской идеологии. Читал «Коммунистический манифест» и «Капитал» Маркса, отдельные труды Энгельса и Ленина, «Государство и революция» например. А уж 13-томное собрание сочинений Сталина на русском языке прочел минимум два раза — от корки до корки. Не из любви: составлял индекс указателей к нему.
— Как пришло решение перейти на дипломатическую службу?
— Еще в начале 1950-х я пришел к выводу, что одной из самых трудных проблем американской дипломатии является выстраивание отношений с СССР. Я подумал, что могу стать частью решения этой проблемы... Мой дипломатический дебют отмечен курьезом. На подготовительных курсах нас, молодых дипломатов, спросили, чего мы ждем от своей карьеры. Я по наивности так и брякнул: «Хочу стать американским послом в Советском Союзе». Потом руководитель группы напишет в моей характеристике: «У Мэтлока нереалистичные амбиции, но он кажется достаточно благоразумным, чтобы умерить их в процессе продвижения по службе».
— Итак, в 1961 году, ровно полвека назад, вы впервые оказались в Москве...
— Москва с тех пор сильно изменилась, во многом к лучшему. А чего-то жаль. Тогда, например, не было такого понятия, как дорожные пробки. Я мог подъехать на машине к Большому театру, запарковаться и за несколько рублей наслаждаться прекрасным спектаклем. Культурная жизнь процветала, и мы с Ребеккой были в восторге от наших походов в театры, оперу и на концерты. Самым большим расстройством для нас тогда было то, что КГБ всячески препятствовал контактам между иностранными дипломатами, в особенности американскими, и советскими гражданами.
— Вы были вице-консулом. Чем запомнилась первая московская командировка?
— Я оформлял визу Марине Освальд, жене Ли Харви Освальда (единственный официальный подозреваемый в убийстве президента Джона Ф. Кеннеди 22 ноября 1963 года в Далласе. — «Итоги»). Он тогда решил вернуться в США. Она в своей анкете утверждала, что не является членом ВЛКСМ, потому что так сделать ей сказал ее муж. Конечно, я знал, что это неправда, и сделал пометку в документах, что она не может не быть комсомолкой. Поскольку этот момент не мог стать препятствием для выдачи визы, то я ее оформил. Позже моя пометка будет использована Комиссией Уоррена (занималась расследованием обстоятельств убийства президента Кеннеди. — «Итоги») как подтверждение того факта, что возвращение Освальда в США не было делом рук КГБ. Потому что там сведущие люди знали наши правила и требования и никогда бы не посоветовали врать насчет членства в комсомоле. С самим Освальдом я не контактировал, поскольку американскими гражданами занимался сам консул.
— В октябре 1962-го, в разгар Карибского кризиса, вы в Москве. Какие были настроения в посольстве?
— Мы были совершенно уверены, что войны не будет, что Хрущев только пытался давить на Запад. Советскому народу даже не говорили толком, в чем дело, не говорили о советских ракетах на Кубе. Позже, однако, мы узнали, что реальная опасность была куда большей, чем мы предполагали. Оказывается, советские офицеры на Кубе имели право самостоятельно, без санкции Москвы дать команду на пуск ракет с ядерными боеголовками в случае атаки на советский контингент на Кубе. Но в 1962 году мы себе такое не могли вообразить.
— Чем вы лично занимались в это время?
— С моим коллегой Гербертом Окуном мы переводили письма Хрущева к Кеннеди. Связь в то время была не такая, как сейчас, русский текст можно было передать только в английской транслитерации, что все равно бы потребовало перевода, чтобы госсекретарь и президент могли прочитать эти письма. Поэтому мы переводили их в Москве для последующей передачи телеграфом. Напряжение было большое, все надо было делать быстро, помню, что одно из писем было на 14 страницах. Но в два часа мы уложились. Хотя отправка советских ракет на Кубу была безрассудным шагом, Хрущев в достаточной мере проявил себя как государственный деятель, чтобы положить конец кризису. Казалось, что он вынужден был отступить под давлением, но в реальности Кеннеди согласился убрать американские ракеты из Турции, правда, на условиях секретности. Мы в посольстве про этот пункт не знали ничего, поскольку это делалось по неформальному каналу, через представителя КГБ в Вашингтоне.
— Уж коли мы упомянули Рейгана: комфортно ли вам было работать в его команде? Насколько я понимаю, на выборах 1980 года вы голосовали за Картера?
— Я действительно поначалу не был сильным приверженцем Рейгана. Меня пригласили в штат Совета национальной безопасности как профессионала дипслужбы и относились ко мне очень хорошо. Никто не спрашивал о личных предпочтениях на выборах. Моей задачей была разработка переговорной стратегии с СССР об ограничении и сокращении ядерных вооружений.
— Это в то время, когда президент США выдвигал одну инициативу за другой, включая пресловутую СОИ, по наращиванию военной мощи США?
— Не забывайте, он сделал лишь то, что рекомендовал его предшественник Джимми Картер. После вторжения СССР в Афганистан в США сложилось мнение, что мы слишком слабы, чтобы противостоять СССР и следует укрепить обороноспособность США. Рейган верил, что, имея военное преимущество, советские лидеры станут претендовать на преимущество политическое. Поэтому свои усилия по укреплению американского военного потенциала рассматривал как козыри для эффективных переговоров. Он искренне стремился ко всеобщему уничтожению ядерных арсеналов. Это была его философия, и это была его мечта.
— И как она совмещалась с его подчеркнутым антисоветизмом?
— Рейган жестко критиковал коммунистическую идеологию, осуждал попытки навязать силой эту систему другим странам и народам, публично подчеркивал, что система не отвечает интересам советских людей, а экономика работает не на пользу народу. Даже когда он назвал СССР империей зла, он имел в виду систему, а не людей. Заметьте, он никогда не призывал к смене режима внутри страны или чему-то подобному. Он даже не позволял себе личных выпадов против советских лидеров, хотя я-то помню, как советская пресса соревновалась в придумывании оскорбительных эпитетов для президента Рейгана.
— И в апреле 1987 года вы прибыли в Москву уже в качестве посла...
— Мой приезд совпал с визитом в СССР Маргарет Тэтчер (в то время премьер-министр Великобритании. — «Итоги»). И первое, что меня поразило, — ее речи и комментарии публиковались советской прессой, хотя содержали весьма критические замечания по поводу советской политики. Вообще наблюдалось причудливое смешение новых подходов и старой ортодоксии. В мае на Красной площади приземлился германский юноша Матиас Руст. Я узнал об инциденте вечером на приеме в посольстве от американского журналиста, который, как и многие другие его коллеги и рядовые москвичи, бросился к Кремлю посмотреть на такое невиданное дело. И вот журналист показывает пальцем на «Сессну» и спрашивает приставленного к ней милиционера, что этот самолет делает в самом центре Москвы. Милиционер глядит на него и отвечает: «Какой самолет?.. Где?..»
Я не считаю сам факт приземления «Сессны» на Красной площади показателем слабости советской системы ПВО. Военная авиация не использует спортивные самолеты для атак, и в СССР еще была свежа память о международном осуждении того, что советский истребитель сбил четырьмя годами ранее южнокорейский пассажирский авиалайнер. Но Горбачев смог использовать этот инцидент как предлог для отставки нескольких высокопоставленных военных чинов, препятствовавших сокращению вооружений.
— Как вы узнали о подготовке путча против Горбачева?
— В июне 1991 года ситуация в советских верхах была сложной, многое было непонятно. В поисках ответов на свои вопросы я пригласил нескольких политических деятелей к себе на ланч в четверг 20 июня, в том числе и только что избранного мэра Москвы Гавриила Попова. Однако утром из его офиса позвонили и сказали, что мэр не может прийти на ланч, но хотел бы встретиться со мной и попрощаться перед убытием в отпуск. Мы встретились в библиотеке Спасо–хауса. Я поздравил Попова с победой на выборах. Он спрашивал меня о моих планах после ухода с дипломатической службы. В какой-то момент, не прекращая разговора, он достал из кармана листок бумаги, что-то на нем написал и протянул мне. Крупными, неровными буквами по-русски там было написано, что против Горбачева готовится заговор и что необходимо эту информацию сообщить президенту Ельцину, который тогда был с визитом в Вашингтоне.
— Как вы отреагировали?
— Я постарался сохранить натуральность нашей беседы, одновременно на том же клочке бумаги написав: «Я доложу, но кто это организует?» Попов добавил несколько слов и протянул листок мне. Там было четыре фамилии: «Павлов, Крючков, Язов, Лукьянов». После того как я прочитал, Попов забрал у меня листок, разорвал на мелкие кусочки и сунул к себе в карман. Мы еще поговорили минут десять — пятнадцать, чтобы внезапное окончание разговора не возбудило подозрений. Его планы дальнейшего развития Москвы и перспектив частного сектора, вероятно, были адекватным прикрытием для микрофонов КГБ, хотя мы сами совершенно не вникали в смысл того, что произносили вслух.
— Что последовало дальше?
— Как только Попов ушел, около 12.30, я немедленно составил телеграмму для президента Буша, чтобы эту информацию передали Ельцину. Они встречались в тот же день, в 10 утра по вашингтонскому времени. Набросав второпях текст, я положил его в конверт, опечатал, вызвал сотрудника посольства, чтобы это передали моему заместителю Джиму Коллинзу с инструкцией отправить послание в Вашингтон максимально быстрым и безопасным образом. К счастью, из-за разницы во времени до встречи президентов было еще несколько часов.
— Какова была реакция в Вашингтоне?
— Она последовала очень быстро. По защищенному телефону мне позвонил заместитель госсекретаря Роберт Киммит. Он сказал, что, конечно же, президент Буш все передаст Ельцину, но необходимо также встретиться с Горбачевым и предупредить его тоже. Я был согласен, однако подчеркнул, что только Ельцин должен знать, от кого исходит эта информация. Никому другому имя Попова не должно быть раскрыто. Еще мы согласились в том, что было бы некорректно с нашей стороны называть конкретные имена, поскольку у нас не было независимых подтверждений этой информации. Скажу больше. Даже если бы наши сведения были более точны и детальны, я вряд ли решился бы называть фамилии заговорщиков. Как выглядел бы американский посол, убежденно заявляющий главе великой державы, с которой США еще недавно были врагами, что его премьер-министр, глава разведки, министр обороны и спикер парламента замышляют против него что-то недоброе? Мы сошлись с Вашингтоном на том, что я скажу о наличии у нас информации, которую мы не можем подтвердить, но которая серьезнее, чем просто слухи, — о замысле отстранить его от власти.
— Как оперативно вам удалось добиться приема у Михаила Сергеевича?
— К счастью, с этим не было проблем. Я связался с помощником Горбачева Анатолием Черняевым и попросил о срочной встрече с президентом. Он перезвонил буквально через несколько минут и предложил немедленно приехать. Я застал Горбачева уже на пути из кабинета. Тем не менее он не торопился выслушать, с чем я к нему пожаловал. Похоже, он был в хорошем настроении, поскольку приветствовал меня словами: «Товарищ посол». Потом стал объяснять, что привык воспринимать меня как члена совместной команды, занимающейся гармонизацией отношений между двумя странами, и как твердого сторонника углубления взаимопонимания между Америкой и СССР. Еще посетовал, почему же я уезжаю из Москвы в такой ответственный момент, когда столько дел начато и намечено... Я чувствовал дискомфорт от того, что собирался ему сообщить. Наконец мы присели за длинный стол в его кабинете, и я озвучил свои заготовки.
— И что же ваш собеседник?
— Я так понимаю, что он подумал — мы имеем в виду маневры в Верховном Совете, происходившие на той же неделе, когда премьер Павлов на закрытом заседании потребовал для себя некоторых президентских прерогатив. Горбачев посерьезнел и сказал, что признателен президенту Бушу за проявленную озабоченность. Что он поступил так, как поступают настоящие друзья. Но скажите ему, пусть не беспокоится, все под контролем и что завтра мы все увидим сами. ВС действительно проголосовал против предложения Павлова.
— А как случилось, что имя Попова как источника этой информации было раскрыто?
— На следующий день во время телефонного разговора с Горбачевым у президента Буша сорвалось с языка имя Попова как источника тревожной информации. И это по телефону, явно прослушиваемому КГБ!
Конечно, я не ожидал такой неосторожности от бывшего руководителя ЦРУ, который гордился своим профессионализмом и решительно осуждал утечки самой тривиальной информации. Ничего удивительного, что потом имя Попова оказалось в первых строчках списка людей, которых путчисты собирались арестовать в случае своего успеха. Правда, много позже, когда я просил у Попова разрешения описать всю эту историю, он заметил, что нет худа без добра, что, возможно, Крючков понял — полной секретности подготовки путча нет, и масштаб приготовлений и их интенсивность уменьшились. В конечном счете плохая подготовка послужила провалу путча. Все это показывает, какую большую роль в международных отношениях и в политике вообще может сыграть случай.
— Потом вы встречались с Горбачевым?
— Да, буквально за неделю до его ухода из Кремля. Я был в составе группы, обсуждавшей в Москве способы уменьшения этнической вражды. Горбачев приветствовал участников одного за другим и, когда подошла моя очередь, назвал меня «господин посол» и добавил: «У нас такой обычай: стал однажды послом — остаешься послом навсегда». Я ответил: «У нас то же самое: однажды президент — навсегда президент». Он был спокоен и казался примирившимся со своей судьбой, хотя заявил, что не решил еще вопрос о сроке своей отставки. К сожалению, этот вопрос скоро решили без него.
...Я убежден, что Россия в большом долгу перед Михаилом Горбачевым за то, что он освободил СССР от коммунистического диктата. Среди партийных лидеров его поколения, которые могли бы занять место генерального секретаря КПСС, только Горбачев обладал комбинацией опыта инсайдера и смелости и способностями политического маневрирования, чтобы отодвинуть от власти самовоспроизводящуюся клику, семь десятилетий держащую в заложниках всю страну. Его вклад в историю ХХ века по глубине и продолжительности мало с чем может быть сравним. Он был истинным модернизатором. Его отказ применить силу, чтобы остаться у власти, избавил страну от вероятной кровавой гражданской войны. Горбачеву не удалось превратить прежний СССР в демократическую федерацию республик, чему он отдал много сил, но это не должно затемнять его достижений. Как и того, что он сделал немало ошибок, включая назначение на высшие посты тех людей, которые попытались отстранить его от власти. Когда-нибудь история воздаст ему должное.
— Как развивались ваши отношения с Борисом Ельциным?
— Впервые я с ним встретился вскоре после моего прибытия в Москву, то есть в апреле 1987 года. Ельцин возглавлял партийную организацию Москвы, но за рубежом его мало кто знал. Когда в ноябре его сняли с поста, я не перестал считать его одним из самых объективных наблюдателей и комментаторов советской политики и продолжал общаться с ним. Иногда я с женой и Ельцин с супругой Наиной встречались за ужином. У Ельцина была репутация любителя выпить, но я никогда не видел его пьяным. Позже он станет известен своими «отсутствиями по болезни». Каждые несколько месяцев он вдруг пропадал с публичной арены на неделю-две, чтобы потом появиться в форме и готовым к борьбе. Я помню, как был гостем на свадьбе одного из его сотрудников. Ельцина не ждали, сообщалось, что он перенес трудную операцию на спине. Однако он появился в хорошем расположении духа и танцевал, по-моему, с каждой из присутствовавших там женщин. У него было острое чувство политического значения театральных жестов. Мне запомнилось его объявление о выходе из КПСС не на пресс-конференции или другим традиционным методом, а демонстративным уходом с партийного съезда под десятками телекамер.
Тогда он был более популярен, поскольку мог противостоять старой системе, не неся ответственности за решения. Но Ельцин преуспел гораздо больше в разрушении этой старой системы, чем в созидании новой. И его враждебные личные отношения с Горбачевым не отвечали интересам страны. Ирония судьбы заключается в том, что те россияне, кто сожалеет о развале СССР, словно забывают, что именно первый президент России сделал больше всего для этого развала.
Годы спустя невозможно избавиться от двойственности восприятия его образа. С одной стороны — самое полное воплощение самой важной демократической революции последних 50 лет. С другой — он был непредсказуем и не умел создавать государственные институты. Мне кажется, что Ельцин был также слаб в своих попытках построить институты по-настоящему демократические. И, вероятно, он мог бы сделать больше в борьбе с коррупцией.
— У кого — у вас или у вашего сменщика в Москве Роберта Страуса — больше оснований считать себя последним американским послом в СССР? Ведь он едва прибыл, когда Советского Союза не стало...
— Тем не менее Роберт Страус — последний посол США в СССР и первый — в новой России. Меня же можно считать последним американским послом в Союзе, отслужившим полный срок.
— Ваша увлеченность Россией общеизвестна. Передалась ли она детям?
— Более или менее. Все знают русский, одни лучше, другие хуже. Один из сыновей женат на русской девушке и живет в Москве.
Сын тут попробовал начать свой малый бизнес. Но по ряду причин потерпел неудачу. Главное в том, что в России нет атмосферы поддержки малого бизнеса и есть недружественное, неделовое отношение к иностранным инвестициям. Я знаком со многими людьми, которые сделали инвестиции в вашей стране и почти все потеряли. Теперь всем желающим сделать вложения в России я рекомендую для начала ознакомиться с рассказом моего любимого Лескова «Отборное зерно». Там довольный помещик объясняет: да, пропало прекрасное зерно, но все не внакладе, поскольку получили страховку. Ему возражают, позвольте, а как же насчет страховой компании? Подумаешь, отвечает помещик, она же иностранная... Для привлечения иностранного капитала в России следует еще много и много чего сделать.
— Кстати, о хлебе насущном. Приобщились ли вы к русской кухне? Что любите особенно? Случалось ли выпивать рюмку-другую водочки?
— Нам нравятся многие русские блюда, и мы довольно часто готовим их и кушаем. Среди любимых у нас борщ и бефстроганов.
— Вы продолжаете бывать в России. Каковы ваши впечатления — она вас обнадеживает, расстраивает или удивляет?
— Да, бываю... В Москве, Санкт-Петербурге, на Дальнем Востоке... Это большое удовольствие — повидаться с друзьями, соприкоснуться с вибрирующей культурной жизнью.
Но есть и не столь приятные вещи. Я, к примеру, был поражен, как плохо развивается Дальний Восток. Владивосток со всем его замечательным населением находится далеко позади других современных тихоокеанских городов. У него столько сравнительных преимуществ, а он теряет население в то время, как Ванкувер, Сиэтл и такие соседи, как Пусан и Далянь, процветают... Меня беспокоит снижение рождаемости в современной России, короткая продолжительность жизни, особенно среди мужчин, плачевное состояние здравоохранения... Высказывание Джорджа Кеннана: «Когда видишь два противоречивых сообщения по поводу России, то скорее всего они оба верны» — по-прежнему актуально.
— В США есть люди, считающие, что Россия — это не прежний мощный СССР и что она-де не отличается от многих других стран и какого-то особого отношения со стороны США не заслуживает.
— Мы должны сотрудничать. Для США Россия будет либо частью решения проблем, либо частью проблем. И наоборот. Ни одна сторона ничего не выиграет, отодвигая другую, и обе выиграют, работая совместно. При всех своих слабостях Россия продолжает быть жизненно важным фактором нового мирового порядка. Она располагает ядерным арсеналом, сравнимым по мощи только с американским. Она — постоянный член Совбеза ООН, и ее голос необходим, чтобы сделать в глазах всего мира законным или незаконным любое военное вмешательство. Ее земли полны естественными богатствами — нефтью, газом, всевозможными минералами. Население образованно. Если все использовать надлежащим образом, то открываются огромные возможности для развития и влияния на мировые дела.
Вашингтон
Николай Зимин
Досье
Джек Мэтлок
* Родился 1 октября 1929 года в Гринсборо (штат Сев. Каролина). Учился в Университете Дьюка и Колумбийском университете Нью-Йорка. Изучал русский язык и литературу. Преподавал эти предметы в Дартмутском колледже с 1953 по 1956 год.
* В 1956 году поступил на дипломатическую службу. Работал в дипмиссиях США в Вене, Гармиш-Партенкирхене, Аккре, Дар-эс-Саламе и на Занзибаре.
* Несколько раз был в командировках в Москве — впервые в 1961 году.
* В 1971—1974 годах руководил отделом СССР в Госдепе.
* В 1981—1983 годах служил послом США в Чехословакии. Затем в течение трех лет при Рональде Рейгане — специальным помощником президента и старшим директором по делам Европы и СССР в Совете национальной безопасности США.
* В апреле 1987 года назначен послом в Москву, откуда убыл 11 августа 1991 года, за неделю до ГКЧП.
* Выйдя в отставку после 35 лет дипломатической карьеры, вернулся к преподавательской и научной деятельности в Принстонском и Колумбийском университетах. Автор фундаментальных монографий: о крахе СССР — «Смерть империи» (Autopsy on an Empire — 1995 год), об окончании холодной войны — «Рейган и Горбачев» (2004 ) и об ошибках внешнеполитического курса США при президенте Джордже Буше-младшем — «Иллюзии сверхдержавы» (Superpower illusions — 2010).
* Владеет русским, французским, немецким, чешским и суахили.
* Жена — Ребекка Мэтлок. Супруги вместе уже 62 года.

Завершающийся сезон мировой политики 2010/11 стал звездным часом для любителей теории заговоров. Три громкие истории — «Викиликс», «арабская весна» и операция «Горничная» — легко интерпретировать как спецоперации.
Сначала массовый слив конфиденциальной (но несекретной) информации госдепартамента, которая много кого перессорила, усугубив общую нестабильность. Потом подозрительный эффект бикфордова шнура в Северной Африке и на Ближнем Востоке, когда в считанные недели с подачи социальных сетей (известно, кем управляемых) запылала дюжина стран, в двух из них сменился режим, третья стала объектом интервенции, а остальные балансируют на грани. Наконец, фантасмагория Доминика Стросс-Кана: сначала в ураганном темпе опозорили, а потом, устранив из политики, стремительно начали оправдывать. Невольно задумаешься о том, что чья-то воля управляет ходом событий.
Впрочем, за исключением последнего сюжета (тут совпадения совсем уж странны), остальное объяснимо не наличием чьей-то «невидимой руки», а как раз наоборот — отсутствием хоть какой-то управляемости. Открытое общество, доведенное до абсолюта современными всепроникающими коммуникациями, породило феномен, когда не политика управляет информацией, как это было традиционно, а информация, причем в небывалых объемах и не обязательно достоверная, управляет политикой.
Государственные деятели вынуждены быстро реагировать на вал сведений, захлестывающий их каждый день, не успевая проверить их достоверность, потому что если они будут тянуть с ответом, то рискуют быть опрокинуты ходом событий. Кстати, «Викиликс» доказал только то, что оценки и анализ, идущие по официальным каналам, в основном содержат те же спекуляции и домыслы, которые ежедневно можно прочитать в прессе.
Например, к войне в Ливии привело сочетание медийной истерики, которая давила на политиков, отсутствия ясного понимания происходящего в охваченной междоусобицей стране и стремления некоторых лидеров набрать легкие внутриполитические очки опять же в силу неадекватного знания реальности. В результате ведущие мировые державы, объединенные в «самый успешный военно-политический альянс в истории», уже четыре месяца не могут выпутаться из конфликта с периферийным и плохо вооруженным царьком.
Если пытаться коротко суммировать настроения истекшего сезона, то правильно определить их словом «растерянность». Никто не ожидал взрыва на Ближнем Востоке, и никто пока не может понять, к чему в конечном итоге приведут эти события. Напротив, в глубине души все знали, что кризис зоны евро после прошлогоднего «спасения» Греции будет только усугубляться, но предпочитали делать вид, что как-нибудь обойдется, потому что иначе надо принимать кардинальные меры, к которым не готовы. Сейчас тоже очевидно, что банкротство Афин неотвратимо, но отступить от предначертанного сценария не хватает духа.
Америка сбита с толку и деморализована в преддверии приближающегося дефолта — чисто технический вопрос утверждения повышенного лимита госдолга чуть не привел к полноценному экономическому потрясению из-за глубочайшего взаимного отторжения двух партий. Даже Китай, который все последние годы возвышался над международными отношениями как несокрушимая твердыня, демонстрирует легкие признаки нервозности: общая мировая нестабильность тревожит в связи с предстоящей сменой власти в Пекине — плановой и солидно подготовленной, но все же.
Углубляющийся кризис международных институтов уже не является новостью, процесс начался давно, но истекший период добавил новые краски. Беззубая «стратегическая доктрина» НАТО, принятая на фоне бессилия альянса в Афганистане и Ливии. Сохраняющаяся недееспособность ОДКБ, фатальная в контексте афганской непредсказуемости. Политическая фрагментация Евросоюза, усугубляемая экономическими проблемами и ростом антиевропейских настроений в странах-членах. Проблемы МВФ, связанные не столько с сексуальным скандалом, сколько с нарастающими сомнениями в целесообразности превращения этого органа в средство вытаскивания Европы из финансового болота. При этом БРИКС, только что заявлявший о себе как об альтернативе, образцово-показательно рассыпался как раз по вопросу об МВФ, где, казалось, были все основания выступить наконец единым фронтом. Да и Совет Безопасности ООН, казалось бы, вернувший себе функции основной площадки для принятия решений, выглядит странно, если взглянуть на плоды этих решений, например, в Ливии и Кот-д’Ивуаре.
Конспирология хороша тем, что создает нам понятный мир, которым кто-то управляет. Реальность много мрачнее, потому что всем происходящим на самом деле не управляет никто. Даже те, кто искренне верят, что это делают. Федор Лукьянов.

IQ-энерго
Российская энергетика мечтает поумнеть: какие у нее шансы?
В России нет острых проблем с доступностью энергоносителей. Видимо, поэтому заморское словосочетание Smart Grid, описывающее умные системы энергетики, сегодня у нас в отличие от США и Европы не имеет столь широкого хождения. Но все может измениться в недалеком будущем, считают в корпорации IBM, которая недавно объявила о намерении развивать в инновационном центре «Сколково» направление интеллектуальных энергетических сетей. О том, скоро ли поумнеет российская энергетика, «Итоги» расспросили Александра Соковнина, директора по развитию бизнеса IBM в России и СНГ.
— Александр, разъясните популярно, что это заверь такой — умная энергетика?
— Это означает, что на всех объектах, так или иначе связанных с электроэнергией — от домов, офисов, предприятий до электростанций, вырабатывающих энергию,— работают умные датчики, контролирующие ее потоки. И данные этих датчиков поступают в некоторые информационные системы, способные автоматизированно принимать решения о том, как следует изменить маршруты следования потоков электроэнергии или режим работы бытовых приборов либо промышленных установок, чтобы расходовать этот ценный ресурс максимально эффективно и, конечно, не допускать энергетических блэкаутов. Ключевой момент: в интеллектуальной энергетической сети параллельно с каналами передачи энергии функционируют двусторонние каналы обмена данными, по ним забирают информацию от объекта и доставляют ему управляющие команды.
— Реально ли ставить задачу модернизации всей российской энергетики, если она находится в упадке?
— Не соглашусь, что ситуация с российской энергетикой предельно удручающая. Инфраструктурный потенциал — здания, сооружения, ЛЭП, каналы связи — остался, есть интеллектуальный потенциал: ведущие отраслевые вузы готовят специалистов по умной энергетике. Кроме того, реализация концепции Smart Grid на практике является вызовом для любой страны, не только для современной России. Ведь она подразумевает переосмысление бизнес-стратегий и моделей управления всей индустрией. В мире уже есть более полутора десятков масштабных проектов интеллектуальных сетей. Так что позитивный опыт имеется.
— Он применим к российским реалиям?
— В мире есть две главные точки роста сферы интеллектуализации энергосистем: США и Евросоюз. Работы по созданию интеллектуальных сетей идут там около 10 лет. Причем в США особенно активно. Дело в том, что в Америке кондиционеры получили такое широкое распространение, что в дни сильной жары создавали перегрузку энергосетей. Это стало проблемой — научиться управлять энергетическими мощностями, чтобы быстро сглаживать пики нагрузок.
А уж после известной серии блэкаутов в северо-восточных штатах, которые затронули 55 миллионов человек, задача контроля за расходованием электроэнергии стала первостепенной. Как следствие, американские компании старались установить побольше приборов учета энергии, чтобы отслеживать рост потребления и, не дожидаясь катаклизма, подключать мощности других энергокомпаний из разных регионов США.
В определенной мере помогало и то, что в Америке энергокомпании всегда работали в условиях очень сильной конкуренции: в одном только Нью-Йорке распределением энергии занимаются восемь компаний.
В Европе дерегулирование энергетического сектора началось относительно недавно (в этом Россия больше похожа на Европу, чем на США: у нас пока не удалось создать полностью конкурентный рынок). Европейцы не работали в условиях жесткой конкуренции и потому не были зациклены, как американцы, на идее сглаживания пиков потребления. Для них более важную роль играли экологические факторы, которые дали мощный импульс использованию нетрадиционных источников энергии. Специальная программа Евросоюза подразумевает, что к 2020 году 20 процентов электроэнергии должно поступать от солнечных, ветряных и т. п. источников энергии.
— Недавно олигарх Прохоров сообщил, что собирается вложить деньги в создание первой в России цифровой подстанции. Это сложный проект?
— Да, это серьезный исследовательский проект, их во всем мире считаные единицы: помимо США и Европы они осуществляются в Китае, Индии и Японии. Дело в том, что слишком много в этой сфере до конца не исследованных проблем, связанных и со стандартизацией, и с созданием программного обеспечения, которое позволяло бы интегрировать в одной сети оборудование разных производителей, и с использованием различных каналов связи для обмена данными. Фактически речь идет о вновь создающемся рынке программно-аппаратных решений. С ними можно выходить не только на собственный, но и на зарубежные рынки, которые сегодня только формируются.
Помимо цифровой подстанции можно назвать и другие точки роста сферы интеллектуальных энергосетей. Например, создание комплексной системы обеспечения физической и кибербезопасности — это направление работ крайне востребовано не только в России, но и во всем мире. Или создание систем мониторинга сетей, включая интеграцию умных приборов учета разных производителей (у всех же свои методы учета, контроля измерений и т. д.).
— Наши компании занимаются такими решениями?
— Конечно. Федеральная сетевая компания (ФСК) ведет работы по созданию прототипов цифровых подстанций. Холдинг МРСК (межрегиональные распределительные сетевые компании) занимается системами контроля за потреблением электроэнергии. Энергокомпании работают над созданием интеллектуальной системы мониторинга сетевой инфраструктуры. Изучают, каким образом в будущую интеллектуальную энергосистему России будут встраиваться элементы распределенной системы хранения энергии, а также нетрадиционные источники энергии. То есть в части перехода к умной энергетике Россия находится совсем не в числе отстающих.
— Но для любой из этих задач требуются деньги. О каких масштабах инвестиций идет речь?
— Конечно, у каждой организации есть свои умные задачи, которые могут дать отдачу. Например, для ФСК это создание цифровой подстанции, которая обеспечит комплексный мониторинг инфраструктуры, более качественное реагирование на нештатные ситуации. Для МРСК — внедрение систем автоматизированного управления технологическими процессами или, например, контроль за расходованием электроэнергии на стороне потребителей.
Но в целом трудно ожидать от энергетических компаний миллиардных вложений за свой счет в то время, когда только формируется среда для интеллектуализации сетей и еще не до конца можно спрогнозировать окупаемость этих вложений. Вот почему практически всегда такие проекты реализуются в формате частно-государственного партнерства.
— Например?
— Один из флагманских мировых проектов реализует системный оператор в Нью-Йорке и его окрестностях. Он получил на развертывание интеллектуальной сети около 40 миллионов долларов от министерства энергетики США и еще почти 80 миллионов в рамках инвестиционного гранта из средств госбюджета, который распределяет президент США в рамках программы стимулирования экономики. Плюс вложения самих компаний. Интересный вопрос: как такое финансирование может осуществляться в России, если сетевые компании контролируются государством? Выделение средств из разных госкарманов? Надо тогда прямо говорить о полном бюджетном финансировании.
— Кто тогда будет расставлять задачи интеллектуализации? Тоже государство? Частным компаниям?
— Интересный вопрос. С одной стороны, построением умных сетей легче управлять централизованно. С другой стороны, каждый элемент этой цепочки — генерирующие мощности, распределительные и т. д. — работает в рыночных условиях, и по идее, они должны конкурировать. Значит, должны быть компании или властные структуры (например, региональные), которые больше, чем другие, заинтересованы в построении элементов интеллектуальной энергосистемы и, соответственно, в выделении средств. В США принцип софинансирования работает благодаря сильной конкуренции. Но в условиях лимитированной конкуренции, как у нас сейчас в России, по-видимому, нужен другой подход. Какой? Однозначного ответа пока нет.
— Известен критерий эффективности внедрения таких сложных и дорогих систем?
— С моей точки зрения, в эру всеобщей интеллектуализации необходимо оценивать не только непосредственную коммерческую составляющую (возврат на инвестиции и т. п. параметры), но и возможные риски. Скажем, после масштабных отключений на северо-востоке США стало очевидно, что во избежание миллиардных потерь в умные системы нужно вложить также миллиарды долларов. Вот эта вторая составляющая затрат, связанная с потенциальными рисками, оказывается более существенной, чем прямые затраты на выполнение проекта. Например, некоторое время назад структуры кибербезопасности ряда распределительных систем электроэнергии в США обнаружили вирус, который по сетям обмена служебными данными смог проникнуть в систему контроля энергоснабжения.
— Что еще способствует внедрению умной энергетики?
— Когда в 2006 году в провинции Онтарио (Канада) задумывался один из крупнейших в мире проектов по развертыванию интеллектуальной энергосети, там появился государственный акт «Об ответственности за энергосбережение», который обязал до 2010 года установить в домах и на предприятиях провинции умные счетчики. В США в 2007 году был принят акт «Об энергетической независимости и безопасности», который создал нужные условия для реализации этой идеи. В результате в США и Канаде продолжается развитие интеллектуальных сетей даже без централизованных указаний на этот счет. То есть децентрализованное развитие возможно.
В Евросоюзе развитие интеллектуальных сетей ведется в рамках программы «Технологическая платформа Smart Grid — будущее энергетических сетей в Европе». Она предполагает установку умных приборов учета электроэнергии в 80 процентах европейских домов до 2020 года и стимулирует энергокомпании — через законодательные инициативы — вкладывать средства.
— Чем поможет российской умной энергетике активность IBM в «Сколково»?
— Мы собираемся начать исследования по ряду направлений, ориентируясь в первую очередь на потребности российских компаний. Возможных точек соприкосновения множество: в части создания элементов интеллектуальных сетей, внедрения умных приборов учета, оптимизации портфеля генерирующих активов, а также предоставления вычислительных мощностей энергетическим компаниям, средств бизнес-аналитики, обеспечения безопасности и др. Конечно, рассматриваем выход российских разработок из «Сколково» на мировой рынок.
Елена Покатаева

Время для рефлексии
Резюме: К середине года пыль от революций и переворотов в Северной Африке начала оседать. Во всяком случае, стало понятно, что зона региональной турбулентности, вероятно, ограничится странами, которые уже охвачены потрясениями.
К середине года пыль от революций и переворотов в Северной Африке начала оседать. Во всяком случае, стало понятно, что зона региональной турбулентности, вероятно, ограничится странами, которые уже охвачены потрясениями. Остальные пока устояли. И хотя дальнейший ход событий в Ливии, Йемене, Египте неясен, ведущие мировые игроки уже могут подводить для себя предварительные итоги. Все они переживают период смятения, а многие (США, Россия, Китай, Франция) к тому же готовятся к смене власти, что всегда сопровождается повышенной нервозностью.
Дмитрий Ефременко задается вопросом, как может выглядеть внешняя политика России после завершения времени правления тандема. По мнению автора, фамилия будущего президента не так уж важна, поскольку коридор возможностей для любого лидера весьма узок, а бушующая вокруг нестабильность заставит проявлять максимальную осторожность и избегать бесповоротных решений. Николай Спасский размышляет, реально ли возрождение России в качестве сверхдержавы, а главное – нужно ли ей это в XXI веке. Ответ на оба вопроса, с его точки зрения, отрицательный, что не означает изоляции или отказа от амбиций. Алексей Левинсон подходит к той же теме с позиций социологии – насколько современные россияне ощущают свою страну империей и стремятся ли они к ее восстановлению. А Алексей Миллер предполагает, что вновь вспыхнувшие споры об истории – предвестие формирования в России новой политической и идеологической атмосферы.
Не менее оживленные дискуссии идут и в Соединенных Штатах. Уолтер Рассел Мид рассматривает феномен «движения чаепития» с точки зрения внешней политики. Исследователь полагает, что американскому истеблишменту впредь будет намного сложнее убеждать сограждан в необходимости активного вовлечения в мировые дела. Два офицера Вооруженных сил США, выбравшие себе псевдоним «Мистер Y» (отсылка к «Мистеру Х», за которым скрывался знаменитый Джордж Кеннан), предлагают новый «стратегический нарратив», призванный примирить идею самоограничения с сохранением мирового лидерства. Тимофей Бордачёв и автор этих строк рассуждают, почему эта попытка, скорее всего, не удастся.
Чарльз Глейзер затрагивает одну из самых насущных тем сегодняшней внешнеполитической полемики в США – приведет ли рост Китая к неизбежной конфронтации Вашингтона и Пекина. Он считает, что этого можно избежать, однако Америке придется скорректировать некоторые стратегические приоритеты, например, отказавшись от поддержки Тайваня. Джордж Фридман предлагает еще более радикальный пересмотр привычных подходов – прекратить давление на Пакистан, напротив, сделав все для укрепления этой страны, а также помириться с Ираном, положив конец трем десятилетиям жесткой конфронтации.
Александр Лукоянов уверен, что это вполне реалистичная задача: Тегеран сам ищет способы, как выйти из затянувшегося тупика и восстановить отношения с Соединенными Штатами. Агрессивная риторика иранского режима – подготовка более выгодных условий для торга, утверждает автор. Анатоль Ливен пытается понять сущность государства в Пакистане, о котором вновь заговорили в связи с ликвидацией там Усамы бен Ладена. Ученый приходит к выводу, что на Исламабад действительно бесполезно давить – страну легче разрушить на радость исламистам, чем трансформировать.
Александр Лукин приурочил свою статью к десятилетию ШОС. Наступило время для расширения организации, полагает он, принятие Индии и Пакистана преумножит ее возможности и превратит в наиболее влиятельную структуру Азии. Георгий Толорая посвящает свой материал ситуации на Корейском полуострове. Нажим на Пхеньян также не имеет смысла, не сомневается автор, но кропотливая работа может принести плоды и сделать КНДР партнером, способным договариваться.
Сергей Маркедонов подводит промежуточные итоги армяно-турецкого примирения, ход которого привлекал всеобщее внимание в 2009–2010 годах. На сегодняшний день процесс заморожен, однако не прекращен навсегда, поскольку меняющаяся внешняя среда толкает к поиску решения острых проблем. Расим Мусабеков напоминает, что никакое сближение Анкары и Еревана невозможно без учета интересов Баку. При этом он признает, что ключевыми игроками в регионе остаются Россия и Турция, и от того, как они выстроят взаимодействие, зависит будущее Южного Кавказа.
В следующем номере мы продолжим кавказскую тему и рассмотрим состояние международных организаций. Впрочем, никто не застрахован от очередных сенсационных поворотов, которые вновь изменят наши планы.
Ф.А. Лукьянов - главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Выпускник филологического факультета МГУ, с 1990 года – журналист-международник, работал на Международном московском радио, в газетах "Сегодня", "Время МН", "Время новостей". Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России.

«Движение чаепития» и американская внешняя политика
Что популизм означает для глобализма
Резюме: Новая эра в американской политике ознаменуется отчаянными попытками внешнеполитических деятелей убедить скептически настроенную общественность в правоте своих идей. Америка может вернуться в эпоху, когда видные фигуры считали полезным избегать явной связи с интернационалистскими идеями, далекими от интересов и ценностей джексонианства.
Статья опубликована в журнале Foreign Affairs, № 2 за 2011 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Ночью 16 декабря 1773 г. от 30 до 130 человек, некоторые из которых были переодеты индейцами племени могавков, проникли на торговые суда в бостонской гавани. В знак протеста против пошлин, введенных британским парламентом, они выбросили в море 342 ящика с чаем. По общему мнению, предводителем этой акции был Сэмюэл Адамс. Но исторические сведения довольно противоречивы: Адамс снял с себя ответственность, хотя сделал все возможное, чтобы разрекламировать это событие. На следующий год состоялась более чинная чайная церемония в Эдентоне, штат Северная Каролина, где госпожа Пенелопа Баркер собрала 51 активистку, чтобы поддержать сопротивление британской политике налогообложения. К чаю никто так и не притронулся, не говоря уже о том, чтобы его уничтожать, но в тот день произошло нечто более важное: встреча, организованная Баркер, считается первым женским политическим собранием в британской Северной Америке.
Оба чаепития взволновали британское общественное мнение. Хотя видные виги, такие как Джон Уилкес и Эдмунд Бёрк, поддержали американцев в их сопротивлении королю Георгу III и его карманному правительству, беззаконие в Бостоне и неслыханная политическая активность женщин в Эдентоне многим в Британии казались доказательством неотесанности колонистов. Идея женского политического собрания вызвала шок и, конечно, была подхвачена лондонской прессой, предоставившей подробный отчет о решениях, принятых эдентонскими активистками. Английский писатель Сэмюэл Джонсон издал памфлет, обличающий чайные собрания колонистов и их антиправительственную аргументацию. Он, в частности, писал: «Эти антипатриотические предрассудки есть не что иное, как мертворожденный плод безрассудства, оплодотворенного духом бунтарства и фракционности».
Сегодня «движение чаепития» возвращается в политику, и возражения Джонсона все еще сохраняют свою актуальность. Отсчет его существования в современном виде можно вести с февраля 2009 г., когда в прямом репортаже телеканала CNBC из здания Чикагской товарной биржи прозвучали громкие слова. Комментатор призвал к «чикагскому чаепитию» в знак протеста против того, что финансовая помощь лицам, не способным выплачивать ипотечные кредиты, оказывалась за счет налогоплательщиков. Возражая против непомерного роста госрасходов и государственных полномочий при президенте Бараке Обаме, республиканцы и разделяющие их точку зрения активисты без определенной партийной принадлежности (поддерживаемые симпатизирующими им богатыми людьми) вскоре создали сеть организаций во всех штатах Америки. Воодушевленные благожелательным освещением их деятельности на канале Fox News (и, возможно, критическими репортажами на каналах, которые героиня движения Сара Пэйлин назвала «мейнстримом хромых уток»), активисты «чайного движения» встряхнули политическую жизнь в Америке. Вызванная ими волна антиправительственных выступлений привела к чувствительному поражению демократов на выборах 2010 года.
Возникновение «движения чаепития» явилось самым неоднозначным и драматическим событием в американской политической жизни за многие годы. Сторонники встретили его с ликованием как возврат к основополагающим ценностям, противники заклеймили как расистский, реакционный и в конечном итоге бесполезный протест против формирующейся реальности многонациональных, мультикультурных Соединенных Штатов и новой эры государственного регулирования экономики.
В известной мере это противоречие неразрешимо. Движение представляет собой аморфную группу лиц неопределенной политической ориентации – от правоцентристских группировок до маргинальных представителей политического спектра. В этом движении нет единого центра, способного осуществлять руководство или хотя бы определять принадлежность к своим и чужим. По мере роста популярности движения к восходящей звезде захотели примазаться самые разные субъекты – от состоятельных либертарианцев из пригородов, сельских фундаменталистов и честолюбивых политических обозревателей до откровенных расистов и консервативно настроенных домохозяек.
Ведущий телеканала Fox News Гленн Бек – возможно, самый заметный представитель «движения чаепития». Однако его религиозные взгляды (он убежденный мормон) едва ли типичны для движения, в котором либертарианцы подчас более активны, чем социальные консерваторы, а Айн Рэнд (американская писательница, выступала за неограниченный капитализм. – Ред.) – более влиятельный оракул, чем Бригам Янг (лидер церкви мормонов в XIX веке. – Ред.). Вряд ли можно убедительно доказать, что списки литературы и уроки истории, рекомендуемые Беком в его вечернем эфире, нравятся сколько-нибудь серьезному числу сторонников движения (в ходе зондирования общественного мнения в марте 2010 г. 37% опрошенных выразили поддержку «чаепитиям»; это означает, что около 115 миллионов американцев по крайней мере отчасти симпатизируют движению, тогда как аудитория Бека на Fox в среднем составляет 2,6 миллиона телезрителей).
Другие видные политические деятели, связанные с «движением чаепития», также посылают общественности противоречивые сигналы. Техасский конгрессмен Рон Пол и его (менее догматичный) сын Рэнд Пол, недавно избранный сенатором от штата Кентукки, близко подошли к возрождению идей изоляционизма. Консервативный обозреватель Пэт Бьюкэнан поддерживает критику союза между США и Израилем, с которой выступал ряд известных ученых, например, Джон Миршеймер. В то же время Пэйлин является бескомпромиссным сторонником «войны с террором», в бытность губернатором Аляски она повесила флаг Израиля в своем кабинете.
Если «движение чаепития» не поддается четкой идентификации, то еще труднее определить, в какой мере оно повлияло на итоги промежуточных выборов 2010 года. С одной стороны, ажиотаж, внесенный в кампанию республиканцев такими деятелями, как Пэйлин, помог привлечь кандидатов, собрать средства и привести максимальное число своих сторонников к избирательным урнам на выборах в конце прошлого года. Победа республиканцев в Палате представителей – крупнейшее достижение основных американских партий, считая с 1938 г., – скорее всего, не была бы столь убедительной без той энергетики, которую вдохнуло «движение чаепития». С другой стороны, недоверие широкой общественности к некоторым кандидатам, таким как Кристина О’Доннелл из штата Делавэр (она сочла необходимым купить рекламное время, чтобы во всеуслышание заявить избирателям: я не ведьма), возможно, стоило республиканцам от двух до четырех мест в Сенате. Это не позволило им добиться доминирования в верхней палате.
В штате Аляска Пэйлин и лидеры «движения чаепития» поддержали на выборах в Сенат Джо Миллера, который победил на внутрипартийных праймериз нынешнего республиканского сенатора Лайзу Меркауски. Однако Миллер проиграл на общих выборах поскольку Меркауски воспользовалась опытом Строма Тёрмонда, который в 1954 г. стал сентарорм от Южной Каролины, предложив своим сторонникам вписывать его имя в бюллетени. Эта стратегия принесла победу и Меркауски. Если либертарианская Аляска отвергает кандидата от «движения чаепития», поддержанного Сарой Пэйлин, это серьезный повод усомниться в способности движения длительное время доминировать в политической жизни.
Однако имея столь неоднозначный политический послужной список, «любители чая», очевидно, задели американцев за живое, и исследователям американской внешней политики нужно подумать о последствиях, к которым может привести такой политический мятеж, сопровождаемый популистскими и националистическими лозунгами. Это особенно важно в силу того, что конституционный строй Соединенных Штатов позволяет меньшинствам препятствовать назначениям и важным законодательным инициативам, прибегая к обструкционизму, а также блокировать ратификацию договоров одной третью голосов Сената. Для такого негативистского движения, как «чайная партия», это мощные законодательные инструменты. Как часто бывает в США, чтобы понять настоящее и будущее американской политики, необходимо заглянуть в анналы политической истории. «Движение чаепития» уходит в нее корнями, и вспышки популистских протестов в прошлом помогут осмыслить современную траекторию и будущее этого движения.
Новый век Джексона?
В книге историка Джил Лепор «Белки их глаз» отмечается тот факт, что многие активисты «движения чаепития» примитивно истолковывают политическое значение американской революции. Но, несмотря на всю их прямолинейность в оценке прошлого, обращение к колониальному периоду не лишено смысла. Со времени первых поселений чувство неприязни к воспитанным людям с хорошей зарплатой и связями сливалось с подозрениями по поводу истинных мотивов и методов государственных чиновников и порождало волны народного недовольства политической системой. Подобная разновидность популизма часто называется «джексонианством» в память об Эндрю Джексоне – президенте, который мастерски использовал энергию народных масс в 30-е гг. XIX века, чтобы переделать партийную систему в Соединенных Штатах и ввести наиболее широкое избирательное право во благо страны.
Самые светлые и самые мрачные эпизоды в американской истории – во многом плод популизма, направленного против официального истеблишмента. Популисты, сплотившиеся вокруг Джексона, установили всеобщее избирательное право для белых мужчин и на 80 лет навязали стране очень уязвимую финансовую систему, уничтожив Второй банк США. Последующие поколения популистов занимались обузданием монополистических корпораций и вводили законодательную защиту для рабочих, а в то же время не поддерживали правительственные меры, направленные на защиту меньшинств, которым грозило линчевание. Требование дешевой, а лучше бесплатной земли в джексонианской Америке XIX века привело к принятию Гомстед-акта, позволившего миллионам иммигрантов и городских рабочих держать семейные участки. Этот закон также повлек за собой систематическое изгнание коренных жителей из их исконных охотничьих угодий, которое иногда сопровождалось геноцидом, а также массовое субсидирование «фермерского пузыря» – одного из факторов, вызвавших Великую депрессию. Популистская жажда земельных наделов в XX веке проложила путь к началу эпохи жилищных ипотечных кредитов, субсидируемых государством. Недавно мы стали свидетелями того, как этот пузырь лопнул с оглушительным треском.
Программа джексонианского популизма не отличается последовательностью. В XIX веке неприязнь к государственным займам сочеталась у джексонианцев с требованием безвозмездной передачи фермерским хозяйствам самых ценных государственных активов (право собственности на огромные государственные латифундии на западе страны). Джексонианцы сегодня хотят видеть сбалансированный государственный бюджет. Но они возражают против сокращения расходов на такие программы защиты среднего класса, как социальное обеспечение и бесплатная медицинская помощь престарелым.
В интеллектуальном плане джексонианские идеи уходят корнями в традиции здравого смысла, как его понимало шотландское движение Просвещения. Эта философия, согласно которой нравственные, научные, политические и религиозные постулаты могут определяться и формулироваться среднестатистическим человеком, – больше чем внутреннее убеждение в Соединенных Штатах; это культурная доминанта. Джексонианцы смотрят на так называемых экспертов с подозрением, полагая, что люди с университетскими дипломами и связями отстаивают интересы своего класса. Истеблишмент в политике, экономике, науке и культуре часто проповедует истины, противоречащие здравому смыслу и логике джексонианской Америки. Например, что дефицит федерального бюджета способствует экономическому росту, а свободная торговля с бедными странами повышает уровень жизни в Америке. В не столь отдаленном прошлом утверждение о том, что представители разных рас должны быть равны перед законом, также не совпадало с их представлением о здравом смысле.
Правота американского истеблишмента часто неоспорима, хотя нередко он заблуждается, а его способность добиваться поддержки курса, идущего вразрез с интуицией американского обывателя, является важным фактором политической системы. Сегодня, когда всплеск популистской энергии совпадает с утратой массами доверия к истеблишменту – от медийного мейнстрима, дипломатов и интеллектуалов до финансистов, корпоративных лидеров и самого правительства – джексонианство отказывает ему в способности формировать национальную повестку дня и политику. Неприятие научного консенсуса по поводу изменения климата – один из многих примеров популистского бунта против мнения, которое в экспертном сообществе Америки является общепринятым.
Лучше всего современное «движение чаепития» может быть понято как бунт джексонианского здравого смысла против будто бы коррумпированных и плохо ориентирующихся в современных реалиях элит. И даже если само это движение расколется и сойдет с политической сцены, вдохновляющая его популистская энергия быстро не исчезнет. Джексонианство всегда являлось важным фактором американской политической жизни, а в эпоху социально-экономических потрясений его значение только растет. Маловероятно, что новое джексонианство (в ближайшее время, да и вообще когда-либо) полностью подчинит себе правительство, но влияние популистского «мятежа» настолько усилилось, что исследователям американской внешней политики просто необходимо быть в курсе его последствий.
Популистская холодная война
Во внешней политике джексонианцы – сторонники ярко выраженного национализма. Твердая вера в американскую исключительность и всемирную миссию Америки сочетается у них с крайним неверием в то, что Соединенные Штаты способны создать либеральный мировой порядок. Они решительно противопоставляют локковское внутриполитическое устройство гоббсовой системе международных отношений. В конкурентном мире каждое суверенное государство должно ставить на первое место собственные интересы.
Джексонианцы интуитивно принимают вестфальские взгляды на международные отношения: то, что разные страны творят на собственном «дворе», может вызывать всеобщее порицание, но реагировать нужно лишь в тех случаях, когда государства откровенно нарушают свои международные обязательства или нападают на твою страну. Агрессия против Соединенных Штатов означала бы для джексонианцев тотальную войну до полной и окончательной капитуляции противника. Они настаивают на жестоком отношении к гражданскому населению вражеской страны в интересах победы; их не устраивают маломасштабные войны ради достижения ограниченных целей. Признавая значение союзников, не отрицая необходимость соблюдения международных обязательств, они не приемлют те международные обязательства, которые ограничивают право США на оборонительные действия в одностороннем порядке. На протяжении всего своего существования джексонианцы никогда не приветствовали международные экономические соглашения или системы, сковывающие действия американского правительства по проведению мягкой кредитной политики в собственной стране.
Популизм всегда был главным вызовом для американских политиков со времен президента Франклина Рузвельта, который внутри страны стремился заручиться поддержкой все более ярко выраженной интервенционистской политики по отношению к странам нацистского блока. Японцы решили проблему Рузвельта, напав на Пёрл-Харбор, однако президент прислушивался к джексонианскому мнению и после вступления во Вторую мировую войну. От стремления к безусловной капитуляции врага как главной цели в войне до интернирования американских японцев Рузвельт всегда внимательно следил за настроениями этой части электората. Если бы он был уверен, что джексонианская Америка согласится с размещением сотен тысяч американских военных за рубежом на неопределенное время, его диалог с Советским Союзом по поводу будущего Восточной Европы был бы более жестким.
Необходимость добиваться поддержки популистов оказывала влияние и на внешнюю политику Гарри Трумэна. Речь идет, в частности, о его отношении к советскому экспансионизму и вопросам мирового порядка. Такие центральные фигуры в администрации Трумэна, как государственный секретарь Дин Ачесон, верили, что после того, как Великобритания перестала быть мировой державой, образовался вакуум, и у Соединенных Штатов нет другого выбора, как только заполнить его. Исторически Великобритания служила гирокомпасом мирового порядка, сосредоточив в своих руках управление международной экономической системой, защиту открытых морских путей и поддержание баланса геополитических сил. Официальные лица в администрации Трумэна были согласны с тем, что вина за Великую депрессию и Вторую мировую войну отчасти лежит на США, которые не пожелали взять на себя бремя мирового лидерства после отказа от этой роли Великобритании. Они считали, что послевоенное нарушение Советским Союзом баланса сил в Европе и на Ближнем Востоке явилось тем вызовом мировому порядку, на который Америка обязана ответить.
С точки зрения творцов американской политики, проблема заключалась в том, что джексонианское общественное мнение не было заинтересовано в том, чтобы Соединенные Штаты приняли от Великобритании эстафету мирового лидерства. Джексонианцы поддерживали решительные операции против конкретных военных угроз, а в 1940-е гг., после двух мировых войн, и более активную в сравнении с эпохой 1920-х гг. внешнюю политику в сфере безопасности. Но Трумэн и Ачесон прекрасно понимали: чтобы джексонианцы одобрили проведение далеко идущей внешней политики, она должна основываться на противостоянии Советскому Союзу и его коммунистической идеологии, а не на идее построения либерального мирового порядка. Решение Ачесона быть «яснее истины» при обсуждении угрозы коммунизма и готовность Трумэна воспользоваться советом сенатора Артура Ванденберга «до смерти напугать коммунистическую заразу и изгнать ее из страны» породили популистские опасения в отношении Советского Союза, которые помогли администрации провести через Конгресс программу помощи Греции и Турции, а также план Маршалла. Политические лидеры того времени пришли к выводу, что без таких призывов Конгресс не поддержал бы выделение запрашиваемой финансовой помощи, и историки в целом с этим согласны.
Но, разбудив «спящих псов» антикоммунизма, администрация Трумэна потратила оставшееся время у кормила власти на попытки (порой безуспешные) справиться с джинном, выпущенным из бутылки. Уверившись в том, что коммунизм представляет прямую угрозу национальной безопасности, джексонианцы потребовали проводить более агрессивную политику в отношении коммунистических режимов, чем та, которая казалась разумной Ачесону и его главному помощнику и идеологу Джорджу Кеннану. Успех революции Мао Цзэдуна в Китае и кажущееся безразличие администрации Трумэна к судьбе страны с самым многочисленным населением в мире, а также находящихся там христианских миссий всколыхнули джексонианское общественное мнение, создав предпосылки для политической паранойи пятидесятых, ответственным за которую считается сенатор Джозеф Маккарти.
Коммунизм во многих отношениях представлял собой идеальный образ врага для джексонианской Америки, и в течение следующих 40 лет общественное мнение поддерживало большие расходы на оборону и зарубежные военные обязательства. Приоритеты холодной войны, с джексонианской точки зрения, заключались прежде всего в военном сдерживании коммунистов или националистов левого толка, вступавших с ними в альянс. Правда, эти приоритеты далеко не всегда совпадали с заветами Гамильтона (торговля и реализм превыше всего) и Вильсона (идеализм и многополярный мир), которыми руководствовались многие ведущие американские политики. Но в целом рецепт политического коктейля, требуемого для утверждения либерального мирового порядка, во многом совпадал с тем, что был необходим для борьбы с Советами. Вот почему строители либерального мирового порядка смогли заручиться достаточной поддержкой со стороны джексонианцев. Необходимость соперничества с Советами служила обоснованием целого ряда американских инициатив. Здесь и расширение либеральной торговой системы в соответствии с Генеральным соглашением по тарифам и торговле (ГАТТ), принятие плана Маршалла, согласно которому финансовая помощь увязывалась с экономической интеграцией Европы, помощь в развитии Африки, Азии и Латинской Америки, которая способствовала созданию новой системы международных отношений в некоммунистическом мире.
Этот подход позволил победить в холодной войне и создать гибкую, динамичную и вполне стабильную систему международных отношений, которая после 1989 г. постепенно и в основном мирно вобрала в себя большинство бывших коммунистических стран. В то же время США стали более уязвимы с точки зрения внутренних дебатов о внешнеполитическом курсе, и эта уязвимость в будущем только усугубится. Сегодняшние джексонианцы готовы сделать все необходимое для защиты интересов Соединенных Штатов, но они не верят в то, что создание либерального мирового порядка наилучшим образом отвечает этим интересам.
После конца истории
После развала Советского Союза в 1991 г. США стали прикладывать еще больше усилий, дабы создать либеральный мировой порядок. С одной стороны, с мировой арены исчез решительно настроенный противник этих проектов. Но с другой, американским лидерам необходимо было добиться от электората, над которым уже не нависала советская угроза, поддержки сложных, рискованных и дорогостоящих внешнеполитических инициатив.
Поначалу задача не казалась трудной. После головокружительных революций 1989 г. в Восточной Европе многие верили, будто поставленная цель осуществима настолько легко и дешево, что американским политикам есть резон сократить военный бюджет и расходы на внешнюю помощь, ведь либеральный мировой порядок создастся сам собой. Ни одно могущественное государство и ни одна идеология не противостояли его принципам. Считалось, что экономический план либерализации торговли и вильсонианская программа распространения демократии достаточно популярны как внутри Соединенных Штатов, так и за рубежом.
Явные внутриполитические препятствия внешнеполитическому курсу стали ощутимы в 1990-е годы. Администрация Клинтона прилагала серьезные усилия к тому, чтобы обихаживать законодателей-обструкционистов, таких как сенатор Джесс Хелмс из Северной Каролины, но добывать средства на осуществление важных внешнеполитических инициатив было все труднее. Конгресс всячески препятствовал своевременной уплате взносов в ООН, а после того, как в 1994 г. республиканцы взяли под контроль Палату представителей, пытался саботировать предлагаемые и фактические военные интервенции. Сенат отказался ратифицировать такие международные инициативы, как Киотский протокол и Международный уголовный суд (МУС). Неуклонное сокращение поддержки принципа свободной торговли после ожесточенных дебатов вокруг ратификации Северо-Американского соглашения о свободной торговле (НАФТА) и вступления США во вновь созданную Всемирную торговую организацию крайне сузило свободу маневра американских дипломатов на переговорах. Вскоре это привело к устойчивому замедлению темпов создания режима свободной торговли в мире.
Ситуация резко изменилась после 11 сентября 2001 года. Высокий уровень осознания угрозы после разрушительных терактов вернул внешнюю политику к тем рубежам, на которых она находилась в 1947–1948 годах. Уверившись в существовании реальной внешней опасности, общественность выразила готовность поддержать огромные расходы казначейства и смирилась с неизбежной гибелью американских военных. Джексонианцы стали снова интересоваться внешней политикой, и у администрации Джорджа Буша-младшего появился шанс повторить достижения администрации Гарри Трумэна. В частности, на волне озабоченности в связи с угрозой безопасности мобилизовать общественную поддержку далеко идущей программы построения либерального мирового порядка.
Историки еще долго будут обсуждать, почему администрация Буша упустила эту редкую возможность. Наверно, после ужасающих терактов она до такой степени жаждала соответствовать джексонианскому общественному мнению, что неадекватно отреагировала на террористическую угрозу. Беспощадная война до победного конца, объявленная террору, соответствовала представлениям джексонианцев. Но тем самым Белый дом неизбежно снизил способность взаимодействовать с ключевыми партнерами в стране и за рубежом. Так или иначе, к январю 2009 г. Соединенные Штаты вели две войны и осуществляли контртеррористические операции по всему миру, но так и не добились внутриполитического согласия даже в отношении общего внешнеполитического курса.
Идя к власти, администрация Обамы полагала, что Буш был слишком привержен джексонианству и в результате избирал несистемный и непоследовательный внешнеполитический курс, обрекавший его на поражение. Однополярный мир, некритичная поддержка любых действий Израиля, безразличие к международному праву, готовность без разбора применять военную силу, пренебрежительное отношение к интернациональным институтам и нормам, игнорирование угроз, не связанных с терроризмом (как изменение климата, например), воинственная риторика «кто не с нами, тот против нас»…
По мнению демократов, все эти черты администрации Буша служили наглядной иллюстрацией того, что бывает, если дать волю джексонианцам. Признавая стойкое влияние джексонианцев на американскую политику, но понимая, что их идеи безнадежно устарели и ведут страну в неверном направлении, Белый дом решил пойти на минимально необходимые уступки, но при этом ставил перед собой цель создания преимущественно вильсонианского мирового порядка. Команда Обамы не желала следовать стратагеме «мировой войны с террором», в рамки которой укладываются различные инициативы вплоть до оказания помощи, развития торговли и создания организаций. Администрация объявила угрозу терроризма одной из рядовых угроз, с которыми сталкиваются США, и отделила усилия, направленные на построение нового мирового порядка, от борьбы с терроризмом.
Еще рано делать прогнозы, но уже понятно, что с учетом крайне поляризованного и в известной мере травмированного общественного мнения администрация Обамы столкнется с серьезными трудностями, прежде чем сможет заручиться поддержкой своего курса. Обама пытается вывести внешнюю политику из-под влияния джексонианцев как раз в тот момент, когда синергия внешних и внутренних событий придает джексонианскому движению новый импульс. Соединенным Штатам постоянно угрожает внешний и внутренний терроризм, усиливающийся Китай, с которым связаны вызовы международной безопасности в Азии, а также экономическое соперничество. Как считают джексонианцы, именно последнее является причиной бедствий американского среднего класса, с ним связан и растущий дефицит федерального бюджета. И то и другое угрожает безопасности и процветанию страны. Сочетание этих угроз с социокультурным конфликтом (в восприятии американского обывателя) между «высокомерным» истеблишментом с его идеями, противоречащими интуиции, и «среднестатистическими» американцами, руководствующимися здравым смыслом, создает идеальные предпосылки для джексонианского шторма в политике США. Значение такого бунта выходит за рамки политических проблем администрации Барака Обамы. Разработка внешнеполитических стратегий, которые могли бы удовлетворить джексонианских обывателей внутри страны и быть достаточно действенными на международной арене, скорее всего, будет главным вызовом, на который еще какое-то время придется отвечать руководителям государства.
Вызов, брошенный Америке «движением чаепития»
Трудно сказать, как данный вид популизма, получивший новый импульс, повлияет на внешнюю политику Америки. Общественное мнение реагирует на конкретные события; террористическая угроза на территории США или кризис в Восточной Азии или на Ближнем Востоке могли бы в одночасье преобразить внешнюю политику. Дальнейшее ухудшение мировой экономической конъюнктуры способно еще больше развести полюсы внутренней и внешней политики Соединенных Штатов.
Вместе с тем, некоторые тенденции представляются очевидными. Прежде всего, соперничество сторонников Сары Пэйлин и Рона Пола внутри «движения чаепития», скорее всего, закончится победой пэйлинитов. Пол подходит к вопросам внешней политики с неоизоляционистских позиций, принимая в расчет исключительно внутренние интересы США. Подобные взгляды скорее сродни идеям Джефферсона, нежели напористому национализму Джексона. Оба крыла питают глубокую враждебность к любому подобию «мирового правительства». Но Пол и его последователи ищут способы избежать контактов с внешним миром, тогда как Сара Пэйлин и ведущий Fox News Билл О’Рейли больше склонны к «завоеванию» мира, нежели к изоляции от него. «Нам не нужно брать на себя роль мирового жандарма», – заявляет Пол. Пэйлин может сказать нечто подобное, но сразу добавляет: «Мы не хотим давать плохим парням свободу для маневра».
Крыло пэйлинитов стремится к энергичному и показательно активному решению проблемы терроризма на Ближнем Востоке на основе тесного союза c Израилем. Крыло Пола выступает за то, чтобы Соединенные Штаты дистанцировались от Израиля, из-за которого Вашингтон утрачивает авторитет как раз в той части мира, откуда исходит угроза. Сторонники Пола, скорее всего, проиграют. Логика и здравый смысл подталкивают американцев к тому, чтобы принять в качестве аксиомы тезис, казавшийся спорным в далекие 1930-е гг.: невозможно гарантировать внутреннюю безопасность, не погрузившись основательно в международные дела. Это ощущение еще больше углубляется ввиду беспрецедентного усиления Китая и угрозы терроризма. Чем опаснее мир, тем яснее понимание джексонианской Америки: нужно быть начеку, искать надежных союзников и действовать. Вряд ли в ближайшее время снова наступит период, подобный тому, что имел место с 1989 по 2001 гг., когда джексонианская Америка не видела серьезных угроз из-за рубежа, и основная масса американцев, примкнувших к «движению чаепития», вряд ли выберет новую форму изоляционизма.
Джексонианская поддержка Израиля – еще один важный фактор. Сочувствующие Израилю и озабоченные проблемами энергетической безопасности и терроризма джексонианцы, скорее всего, примут и даже потребуют продолжения дипломатической, политической и военной активности США на Ближнем Востоке. Не все американцы-джексонианцы поддерживают Израиль, но в целом растущее политическое влияние джексонианцев приведет к тому, что Вашингтон будет решительнее защищать еврейское государство. Это не только следствие влияния евангелического христианства. Многие джексонианцы не особенно религиозны, а многие из «рейгановских демократов», поддерживающих джексонианскую точку зрения, – католики, а не протестанты по вероисповеданию. Просто джексонианцы восхищаются мужеством и самостоятельностью Израиля и не считают арабские правительства надежными союзниками, на которых можно положиться. В целом их не беспокоит реакция Израиля на теракты, которую многие обозреватели считают «непропорциональной». Здравый смысл джексонианцев не воспринимает понятия «непропорциональное применение силы», поскольку они считают, что если враг на тебя нападает, ты имеешь полное право подавить его превосходящей мощью и принудить к капитуляции; более того, это твой прямой долг.
Можно спорить о том, насколько подобная стратегия жизнеспособна на современном Ближнем Востоке, но в целом джексонианцы признают за Израилем право защищать себя любыми доступными способами. Они больше склонны критиковать его за недостаточную жесткость и твердость в Газе и южном Ливане, чем за чрезмерную реакцию на теракты. Джексонианцы по-прежнему считают, что применение ядерного оружия против Японии в 1945 г. было оправдано; военная сила для того и существует, чтобы ее применять.
Любое усиление политического влияния джексонианцев повышает вероятность военного ответа на иранскую ядерную программу. Хотя реакция на ядерные успехи Северной Кореи была сравнительно сдержанной, недавние опросы общественного мнения показывают, что до 64% американцев благожелательно относятся к силовому решению с целью положить конец иранской ядерной программе. Глубокая обеспокоенность общественности по поводу нефти и Израиля в сочетании с воспоминаниями старшего поколения об иранском кризисе с заложниками в 1979 г. вызывает у джексонианцев органическое неприятие ядерной программы. Опросы показывают, что более половины американских избирателей считают: Соединенные Штаты должны защищать Израиль от Ирана, даже если Израиль нанесет удар первым.
Многие американские президенты оказывались втянутыми в войну против своей воли под влиянием общественного мнения. Конгресс и американская общественность до такой степени захвачены джексонианскими идями, что президент, который не попытается силой остановить Иран на пути к ядерному оружию, будет иметь крупные неприятности. Вместе с тем, будущим американским президентам не следует идти на поводу у джексонианцев. Военные операции, в которых не ставится цель безусловной победы, чреваты катастрофическими последствиями. Линдон Джонсон решился начать войну в Юго-Восточной Азии, поскольку считал (наверно, не без оснований), что джексонианцы, взбешенные победой коммунистов во Вьетнаме, сорвут его внутриполитические планы. И это добром не кончилось.
В остальном сторонники Пола и Пэйлин единодушны в нелюбви к либеральному интернационализму, приверженцы которого строят международные отношения на основе многосторонних организаций и постоянно ужесточающегося контроля в виде международных законов и договоров. По всем вопросам – от изменения климата и участия в МУС до обращения с боевиками, плененными в ходе нетрадиционных боевых операций, – оба крыла «движения чаепития» отвергают подходы, присущие либеральному интернационализму, и впредь не собираются менять позиций. В Сенате США, куда каждый штат делегирует по два представителя вне зависимости от числа избирателей, явными фаворитами оказываются штаты с меньшей численностью населения, где джексонианские настроения подчас наиболее ярко выражены. В ближайшие годы Соединенные Штаты вряд ли ратифицируют новые договоры, составленные в духе либерального интернационализма.
Новая эра в американской политике, возможно, ознаменуется отчаянными попытками внешнеполитических деятелей убедить скептически настроенную общественность в правоте своих идей. «Совет по международным делам был прогрессивной идеей, – сказал политолог Ульрих Бек в январе 2010 года. – Давайте возьмем средства массовой информации и наших яйцеголовых и вникнем в суть проблемы и предлагаемого решения, затем объясним его СМИ, а они уже доведут до масс, что нужно делать». Активисты «движения чаепития» намерены бдительно следить за тем, чтобы элиты с их идеями «мирового правительства» (по выражению активистов) и бюрократическими программами, основанными на классовых привилегиях, не доминировали во внешнеполитических дебатах. Америка может вернуться в эпоху, когда видные политики считали полезным избегать слишком явной связи с организациями и идеями, далекими от интересов и ценностей джексонианства и даже враждебными им.
В американском общественном мнении последних лет нарастает обеспокоенность усилением Китая, и всплеск джексонианских настроений повышает степень вероятности того, что пока еще сдерживаемая ярость и негодование дойдут до точки кипения. Свободная торговля – это вопрос, который исторически разделял популистов в США (идея импонировала аграриям и отвергалась промышленными рабочими). Джексонианцам нравится покупать дешевые товары в «Уолмарте», но здравый смысл подсказывает им, что главная задача американских представителей, участвующих в переговорах по свободной торговле – сохранить рабочие места для американцев, а не соглашаться с визионерскими «беспроигрышными» схемами мировой торговли.
Перспективы популизма
В более широком смысле оба крыла «движения чаепития» попытаются возобновить дискуссию о том, должна ли внешняя политика придерживаться национализма или космополитизма. Сторонники Пола в идеале хотели бы положить конец любым формам участия Америки в построении либерального мирового порядка. Пэйлиниты тяготеют к более умеренной позиции, но хотят быть уверенными в том, что при построении мирового порядка Вашингтон прежде всего будет заботиться о своих специфических национальных интересах. Их не устраивает роль Америки как бескорыстного борца за всеобщее благо. Позиция последних понравилась бы Ачесону, который не приветствовал грандиозных международных соглашений. В любом случае, творцы внешнеполитического курса должны ценить возможность ведения серьезной дискуссии о связи специфических американских интересов с требованиями либерального мирового порядка.
«Движение чаепития» способно притормозить внешнеполитическую мысль Соединенных Штатов, но эффективная внешняя политика должна начинаться с реалистической оценки внутриполитических факторов. Джексонианство вряд ли исчезнет. Американцам нужно радоваться тому, что во многих отношениях любители чаепитий, несмотря на недостатки, являются куда более надежным и дееспособным партнером в построении мирового порядка, нежели изоляционисты шесть десятилетий тому назад. В сравнении с джексонианцами времен Трумэна у нынешних гораздо слабее выражены расистские, антифеминистские и гомофобные настроения. Они больше открыты другим культурам и мировоззрениям. Их исходная позиция, согласно которой национальная безопасность требует участия в международных делах, значительно более многообещающая, чем рефлекторный изоляционизм, с которым приходилось иметь дело Трумэну и Ачесону. Даже после событий 11 сентября общественное мнение не поддерживало меры, аналогичные интернированию американских японцев после Пёрл-Харбора, и мы не слышали ничего подобного антикоммунистической истерии эпохи Маккарти. Современные популисты республиканского Юга куда более благожелательно настроены по отношению к основополагающим идеям либерального капитализма, чем популистские сторонники Уильяма Дженнингса Брайана сто лет тому назад. Бобби Джиндал во всех отношениях лучше Хьюи Лонга на посту губернатора штата Луизиана, а сенатор Джим Деминт от Южной Каролины несравненно прогрессивнее, чем Бен «Вилы» Тилман (губернатор Южной Каролины в 1890–1894 гг., защитник фермерских интересов и ярый противник президента Гровера Кливленда, сторонника панамериканизма. – Ред.).
Творцы внешней политики США, стремящиеся к тому, чтобы их оставили в покое для более важных дел государственного строительства и управления, не смогут закоснеть в рутине. Даже если «движение чаепития» уйдет в тень, его заменят другие выразители популистского протеста. Американские политики и их зарубежные визави просто не смогут качественно выполнять свою работу без глубокого понимания того, что составляет одну из главных сил в американской политической жизни.
Уолтер Рассел Мид – профессор внешней политики и гуманитарных наук в колледже «Бард» имени Джеймса Кларка Чейса и обозреватель журнала The American Interest.

Приведет ли подъем Китая к войне?
Почему реализм не означает пессимизм
Резюме: Вопреки стандартным доводам реализма, давление международной системы не будет подталкивать Соединенные Штаты и Китай к конфликту. Ядерное оружие, географическая преграда в виде Тихого океана и политические отношения, которые в настоящее время находятся на достаточно хорошем уровне, должны помочь обеим странам избежать милитаризации.
Это эссе основано на его недавней книге «Рациональная теория международной политики». Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 2 за 2011 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Самым важным сюжетом международных отношений XXI века станет, скорее всего, подъем Китая. Однако пока неясно, завершится ли это движение счастливым концом. Увеличит ли китайский взлет вероятность войны супердержав? Станет ли эра напряженности между США и КНР такой же опасной, как период холодной войны? Окажется ли она еще опасней, поскольку Китай, в отличие от СССР, будет не только геополитическим противником, но и серьезным экономическим конкурентом?
Эти вопросы рассматривало огромное количество специалистов-регионалистов, историков, экономистов, которые могли дать экспертную оценку по определенным аспектам ситуации. Однако уникальные черты Китая, его прошлое и траектория экономического роста могут оказаться менее важными для развития событий в будущем, чем полагают многие. Дело в том, что поведение страны в статусе супердержавы, как и то, приведут ли ее действия и действия других игроков к конфликту, определяется и общими схемами международной политики, и специфическими факторами. Более широкое рассмотрение условий, при которых смена мирового лидера может привести к конфликту, находится в фокусе внимания теоретиков международных отношений, которым есть что добавить к этой дискуссии.
До сих пор дебаты по Китаю среди специалистов по международным отношениям сталкивали оптимистов-либералов и пессимистов-реалистов. Оптимисты заявляют, что нынешний мировой порядок определяется экономической и политической открытостью, а потому он способен мирным путем приспособиться к подъему КНР. Соединенные Штаты и другие ведущие державы, говорят они, могут и будут демонстрировать, что приветствуют присоединение Китая к существующему порядку и процветание в рамках действующей системы. Пекин, в свою очередь, скорее пойдет на это, чем начнет дорогостоящую и опасную борьбу, чтобы разрушить этот порядок и установить новый по своему вкусу.
Реалисты, напротив, предсказывают активное противоборство. Растущая мощь Китая, заявляет большинство реалистов, позволит ему более агрессивно преследовать свои интересы, что заставит США и другие страны искать балансиры. Этот цикл приведет по меньшей мере к противостоянию, подобному тому, что существовало между Вашингтоном и Москвой в период холодной войны, а возможно, даже к столкновению за доминирование. Сторонники этой точки зрения обращают внимание на ужесточившуюся в последнее время позицию Китая по претензиям в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях и на более тесные отношения между Вашингтоном и Дели как на признаки того, что цикл агрессивности и поиска противовесов уже начался.
Однако на самом деле уточненная версия реализма дает основания для оптимизма. Подъем КНР не обязательно будет таким агрессивным и опасным, как предполагают традиционные реалисты, поскольку структурные силы, вовлекающие крупные державы в конфликт, будут относительно слабыми. Более того, существующие опасности прогнозируются не на основе рассмотрения мировой системы в целом, а напротив, являются результатом второстепенных споров, характерных для Северо-Восточной Азии, – и доминанта безопасности в международной системе должна облегчить разрешение этих споров для Соединенных Штатов и Китая. Поэтому в конечном итоге следствия подъема Пекина будут зависеть не от давления, оказываемого международной системой, а от того, насколько хорошо лидеры Америки и Китая смогут управлять ситуацией. Конфликт не предопределен – и если Вашингтон сможет приспособиться к новым международным условиям, пойдя на некоторые уступки и не преувеличивая опасности, крупного столкновения вполне можно избежать.
Хороший вариант дилеммы безопасности
Структурный реализм объясняет действия государств в терминах давления и возможностей, созданных мировой системой. Согласно этой точке зрения, для объяснения международного конфликта нет нужды учитывать внутренние факторы, потому что к войне могут привести обычные действия независимых государств, пытающихся обеспечить собственную безопасность в нестабильном мире. Это происходит не всегда, и объяснить, как страны, стремящиеся к безопасности, оказываются втянутыми в войну, достаточно трудно, поскольку логично было бы ожидать, что они предпочтут сотрудничество и преимущества мира. Решение этой загадки заключается в концепции дилеммы безопасности – ситуации, когда усилия одной страны по повышению уровня своей безопасности снижают уровень безопасности других.
Острота дилеммы отчасти зависит от того, насколько легко предпринять атаку или применить насилие. Если атаковать легко, даже небольшое увеличение сил одного государства существенно уменьшит безопасность других, что провоцирует страх и вооружение. Напротив, если защищаться и сдерживать агрессора легко, изменения в вооруженных силах одного государства не обязательно будут угрожать другим, а вероятность сохранения хороших политических отношений между игроками возрастет.
Также острота дилеммы определяется представлениями о мотивах и целях друг друга. Например, если страна верит, что ее противник руководствуется исключительно стремлением к безопасности, а не, скажем, непреодолимым желанием доминировать, тогда она не должна считать увеличение вооруженных сил противника тревожным сигналом и ощущать потребность ответить тем же, чтобы предотвратить политическую и военную эскалацию.
Тот факт, что острота дилеммы безопасности может колебаться, имеет огромное значение для теории структурного реализма и делает прогнозы не столь мрачными, как принято считать. Если дилемма безопасности злободневна, соперничество действительно будет интенсивным и война более вероятна. Это классические варианты поведения, прогнозируемые реалистами-пессимистами. Если дилемма безопасности стоит не так остро, структурный реалист увидит, что международная система создает возможности для сдерживания и мира. Более того, при правильном понимании дилемма безопасности предполагает, что государство будет более защищенным, если достаточно защищен его противник – потому что незащищенность способна заставить неприятеля прибегнуть к политике соперничества и угроз. Эта динамика создает стимулы для сдерживания и сотрудничества. Если противника можно убедить в том, что единственное, чего хочет государство, – это безопасность, а не доминирование, то оппонент может расслабиться.
Что все это означает в случае с подъемом Китая? В самом широком смысле, новости хорошие. Нынешние международные условия должны позволить и Вашингтону, и Пекину защищать свои жизненно важные интересы, не представляя серьезную угрозу друг для друга. Ядерное оружие дает возможность крупным державам относительно легко поддерживать высокоэффективные силы сдерживания. Даже если в какой-то момент мощь Китая значительно превзойдет мощь США, американцы сохранят способность противопоставить КНР ядерные силы, которые выдержат любую атаку Пекина и смогут нанести огромный ущерб при ответной атаке. Крупномасштабные удары Китая по территории Соединенных Штатов с применением обычных вооружений фактически невозможны. Поскольку две страны разделены огромным пространством Тихого океана, осуществить такую атаку очень сложно. Никакое прогнозируемое увеличение китайской мощи не сможет преодолеть это двойное преимущество американской обороны.
Кроме того, те же оборонительные преимущества относятся и к Китаю. Хотя в настоящее время КНР гораздо слабее США в военном плане, скоро она сможет создать ядерные силы, соответствующие требованиям сдерживания. Китай также не должен считать огромный американский арсенал обычных вооружений особенно угрожающим, так как основная масса войск Соединенных Штатов, логистика и поддержка находятся за Тихим океаном.
Совокупный эффект этих условий существенно смягчает дилемму безопасности. И Вашингтон, и Пекин смогут обеспечить высокий уровень защищенности как сейчас, так и при потенциальном подъеме Китая до статуса супердержавы. Это должно помочь двум государствам избежать действительно напряженных геополитических отношений, что, в свою очередь, способствует поддержанию дилеммы безопасности на среднем уровне и стимулирует сотрудничество. У США, например, появится возможность воздержаться от ответа на модернизацию ядерных сил Китая. Эта сдержанность поможет убедить Китай в том, что Соединенные Штаты не покушаются на его безопасность – и таким образом направит вниз политическую спираль ядерного соперничества.
А как же союзники?
В приведенном выше анализе не учитывается ключевой элемент внешней политики США – тесные альянсы с Японией и Южной Кореей, а также другие обязательства Соединенных Штатов, касающиеся безопасности в Северо-Восточной Азии. Хотя добавление союзников США делает картину более сложной, это не уменьшает общего оптимизма по поводу подъема Китая. Напротив, возникает вопрос о том, насколько региональные альянсы в Тихоокеанском регионе важны для безопасности Соединенных Штатов.
Союзнические обязательства Вашингтона были удивительно стабильными с начала холодной войны, но подъем Китая, по-видимому, приведет к возобновлению дебатов об их стоимости и выгодах. Приводя аргументы, сходные с упомянутыми выше, – что США могут быть в безопасности, просто используя преимущества своей мощи, географии и ядерного арсенала, – так называемые неоизоляционисты приходят к выводу, что американцы должны разорвать альянсы в Европе и Азии, так как они являются ненужными и рискованными. Если Соединенные Штаты способны сдерживать удары по своей территории, спрашивают они, тогда зачем участвовать в альянсах, которые могут вовлечь страну в крупные вооруженные конфликты на отдаленных континентах? Защищая своих союзников в Азии, США могут оказаться втянутыми в политические схватки и военную борьбу, что осложнит отношения с Китаем. Таким образом, по мнению неоизоляционистов, подъем Китая не будет представлять угрозу для безопасности Соединенных Штатов, в то время как сохранение нынешних альянсов может быть опасным.
Сторонники выборочного участия – подхода, сходного с существующей политикой Белого дома, – напротив, заявляют, что избранная ими стратегия также согласуется с принципами структурного реализма. В то время как неоизоляционисты хотят, чтобы американцы ушли с передовых позиций во избежание втягивания в региональные конфликты, приверженцы выборочного участия заявляют, что сохранение союзнических обязательств США в Европе и Азии как раз и является наилучшим способом предотвращения конфликтов.
Таким образом, анализ существующих союзнических обязательств Соединенных Штатов и их взаимосвязь с подъемом Китая является важным вопросом, так как затрагивает не только региональную политику, но и общую стратегию Америки. Если США сохранят свои союзнические обязательства, как, вероятно, и произойдет, им придется расширить средства сдерживания для Японии и Южной Кореи, чтобы противостоять превосходящим по численности и боеспособности обычным вооруженным силам Китая. Во многих отношениях этот вызов окажется аналогичен ситуации, когда Соединенным Штатам приходилось расширять средства сдерживания в Западной Европе в период холодной войны. Обе супердержавы обладали мощным ядерным потенциалом для нанесения ответного удара, а Советский Союз, как считалось, имел превосходящие вооруженные силы, способные захватить Европу.
Тогда эксперты обсуждали, обладают ли США достаточным потенциалом, чтобы сдержать масштабную атаку СССР с применением обычных вооружений в Европе. Они не соглашались, что доктрина гибкого реагирования НАТО, предусматривавшая сочетание крупных обычных вооруженных сил с ядерным арсеналом, позволяла Америке сделать ядерные угрозы достаточно убедительными, чтобы предотвратить советское вторжение с применением обычных вооружений. Сомнения по поводу готовности Вашингтона к эскалации конфликта отражали очевидную опасность, что подобная эскалация со стороны Соединенных Штатов будет встречена ответным ядерным ударом Советского Союза. Тем не менее, более мощный аргумент в этой дискуссии заключался в том, что стратегия действительно обеспечивала адекватное сдерживание советского нападения с применением обычных вооружений, поскольку даже небольшая вероятность ядерной эскалации со стороны США представляла огромный риск для Москвы.
Ту же логику можно применить при обсуждении будущей сверхдержавной мощи Китая. Сочетание четких союзнических обязательств, обычных вооруженных сил передового развертывания и значительных ядерных сил должно позволить Соединенным Штатам сдерживать атаку Китая против Японии или Южной Кореи.
Уверенность в эффективности американского сдерживания, вероятно, укрепится благодаря относительно хорошим отношениям между Вашингтоном и Пекином. Те, кто опасался, что США не смогут распространить свое сдерживание на Западную Европу, полагали, что СССР – это агрессивное ревизионистское государство, склонное к радикальному пересмотру статус-кво и готовое пойти ради этого на огромные риски. Пока нет реальных свидетельств, позволяющих предположить, что Китай ставит перед собой такие амбициозные цели, поэтому распространение зоны американского сдерживания будет менее сложным, чем в период холодной войны. И даже если КНР превратится в очень опасное государство, что весьма маловероятно, сдерживание по-прежнему будет возможным, хотя и более трудным.
По мнению некоторых реалистов-пессимистов, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, Пекину придется стремиться к региональному господству, что спровоцирует конфликты. Однако размер, мощь, расположение и ядерный арсенал Китая серьезно затруднят успешное нанесение удара. Пекину не потребуется вытеснять Америку из региона, чтобы чувствовать себя в безопасности, так как присутствие передовых американских сил не будет подрывать китайский потенциал сдерживания. Более того, вывод сил Соединенных Штатов не принесет Китаю регионального господства автоматически, потому что тогда Япония и Южная Корея, возможно, захотят приобрести собственные более мощные обычные и ядерные вооружения, что значительно уменьшит силовой потенциал КНР. Поэтому движение Пекина к региональному господству окажется ненужным и неосуществимым.
Военное присутствие США действительно увеличивает американские возможности проецирования силы, что ставит под угрозу способность Китая защищать свои морские пути и оказывать давление на Тайвань. Но союз Соединенных Штатов с Японией благоприятен для Китая, поскольку позволяет Токио сократить расходы на оборону. Хотя США значительно превосходят Японию по своей мощи, Китай рассматривает этот альянс как дополнительный фактор региональной стабильности, поскольку опасается Токио гораздо больше, чем Америки. С увеличением собственной мощи Китай, возможно, будет более ревниво относиться к влиянию Соединенных Штатов в Северо-Восточной Азии. И если отношения между США и КНР значительно не обострятся, Пекин, скорее всего, примет американское присутствие в регионе с учетом возможных альтернатив.
Компромисс по Тайваню?
Избежать интенсивного военного соперничества и войны вполне возможно, но рост мощи Китая, тем не менее, потребует некоторых изменений во внешней политике Соединенных Штатов, которые покажутся Вашингтону неприемлемыми – особенно в отношении Тайваня. Хотя Китай утратил контроль над островом более 60 лет назад во время гражданской войны, Пекин по-прежнему считает его частью своей территории, и объединение остается ключевой политической целью. Китай ясно дал понять, что применит силу, если Тайвань провозгласит независимость. Наращивание китайских обычных вооружений в основном направлено на увеличение возможностей давления на остров и сокращение возможностей вмешательства США. Поскольку КНР придает особое значение Тайваню, а Вашингтон и Пекин – что бы они ни заявляли официально – имеют совершенно разные подходы к легитимности статус-кво, вопрос представляет определенную опасность и вызов для китайско-американских отношений, переходя в иную категорию, нежели союзнические связи с Японией или Южной Кореей.
Кризис вокруг Тайваня может достаточно легко перерасти в ядерную войну, поскольку каждый шаг на этом пути будет казаться вполне разумным. Нынешняя политика Соединенных Штатов направлена на то, чтобы уменьшить вероятность провозглашения независимости Тайваня и дать понять, что они не придут на помощь Тайбэю, если это произойдет. Тем не менее, на США будет оказываться давление в связи с необходимостью защитить Тайвань от любых атак, вне зависимости от того, откуда исходит угроза. Учитывая различные интересы и взгляды разных групп, а также ограниченный контроль Вашингтона над поведением Тайбэя, кризис может развиваться таким образом, что Америка скорее будет следить за ходом событий, а не руководить ими.
Такая опасная ситуация сохраняется на протяжении десятилетий, но рост китайского военного потенциала может подстегнуть готовность Пекина к эскалации конфликта с Тайванем. Помимо усовершенствования обычных вооружений, Китай также модернизирует ядерные силы, чтобы повысить их возможность выдержать масштабную атаку Соединенных Штатов и нанести ответный удар. Согласно стандартной теории сдерживания, нынешняя способность Вашингтона уничтожить большую часть или все ядерные силы Китая укрепляет переговорную позицию и расширяет пространство для переговоров. Модернизация китайских ядерных сил может ликвидировать этот барьер, что позволит Пекину в будущих кризисах действовать более прямолинейно, чем в прошлом. В то же время попытки США сохранить возможности для защиты Тайваня могут спровоцировать гонку обычных и ядерных вооружений. Усовершенствование наступательных вооружений и стратегических систем американской противоракетной обороны может быть воспринято Китаем как знак враждебных намерений Вашингтона, что приведет к дальнейшему наращиванию китайского военного потенциала и в целом осложнит двусторонние отношения.
Учитывая эти риски, Соединенные Штаты должны рассмотреть возможность отказа от обязательств в отношении Тайваня. Это позволит устранить большую часть очевидных спорных вопросов между США и Китаем и проложить путь к улучшению отношений между ними в ближайшие десятилетия. Критики подобного шага заявляют, что это приведет не только к прямым, но и к косвенным убыткам для Соединенных Штатов и Тайваня: Пекину будет недостаточно такого умиротворения, напротив, его аппетиты и потребности станут расти, после того как Вашингтон потеряет репутацию надежного защитника своих союзников. Однако критики неправы, потому что территориальные уступки не всегда обречены на провал. Не все неприятели похожи на Гитлера, и в этом случае компромисс может стать эффективным политическим инструментом. Когда у противника есть ограниченные территориальные устремления, их удовлетворение ведет не к выдвижению новых требований, а скорее к принятию нового статус-кво и к снижению напряженности.
Таким образом, главный вопрос заключается в том, какие цели ставит Пекин: ограниченные или неограниченные. Действительно, у Китая есть территориальные претензии к нескольким соседям, но трудно предположить, что они перерастут в огромные территориальные амбиции в регионе или за его пределами. Есть риск, что уступки по Тайваню заставят Китай проводить более требовательную политику в вопросах, по которым статус-кво в настоящее время оспаривается, в том числе это касается споров об островах и морских границах в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Но в тех случаях, когда статус-кво абсолютно ясен, как, например, с Японией и Южной Кореей, риск уменьшения доверия к США как к защитнику союзников будет небольшим. Особенно если любое изменение политики по Тайваню будет сопровождаться уравновешивающими шагами, такими как подтверждение других союзнических обязательств Соединенных Штатов, усиление войск передового развертывания и увеличение совместных военных учений и технологического сотрудничества.
Будут ли США сокращать свои обязательства по Тайваню и как именно – сложный вопрос. Если Вашингтон все же решит изменить курс, постепенный отход от обязательств, вероятно, будет более предпочтительным вариантом, чем резкий, заранее анонсированный разрыв. И поскольку за последние несколько лет отношения между Тайванем и Китаем улучшились, у Соединенных Штатов будет достаточно времени и пространства, чтобы оценить и адаптировать политику к изменению ситуации в регионе и в мире.
В более широком смысле, хотя подъем КНР создает некоторые опасности, колебание баланса сил не делает жизненно важные интересы США и Китая несовместимыми. Потенциальные опасности не ведут с неизбежностью к столкновению, чреватому риском большой войны. Скорее, защита некоторых второстепенных, хотя и не менее значимых, американских интересов становится более трудной и требует от Белого дома пересмотра ряда обязательств во внешней политике.
Опасности преувеличения
Говоря о том, к чему приведет изменение баланса сил, реалисты основываются на предположении, что государства будут определенным образом реагировать на международные ситуации, с которыми сталкиваются. В этом случае оптимизм реалистов базируется на предположении, что американские лидеры оценят необычайно высокий уровень безопасности, которым на самом деле обладают США, и смогут действовать в соответствии с этим пониманием. Если эта посылка окажется неверной и Вашингтон преувеличит угрозу со стороны Китая, риски будущего конфликта значительно возрастут.
К сожалению, есть некоторые основания опасаться, что ожидания реалистов окажутся ошибочными. Например, популярные представления о том, что развитие Китая серьезно угрожает безопасности Соединенных Штатов, могут стать самореализующимся пророчеством. Если Вашингтону не удастся понять, что растущий военный потенциал Пекина не угрожает жизненно важным интересам США, он будет проводить чрезмерно агрессивную военную и внешнюю политику, а это, в свою очередь, станет сигналом для Китая, что у американцев есть враждебные намерения. Если КНР будет чувствовать себя менее защищенной, она, вероятно, начнет проводить агрессивную политику, которую Вашингтон посчитает угрозой. Результатом может стать отрицательная спираль, вызванная не международной ситуацией, с которой реально столкнулись государства, а их преувеличенной незащищенностью.
Более того, государства часто переоценивали свою незащищенность, поскольку не могли понять, насколько военный потенциал благоприятствует обороне. До Первой мировой войны Германия преувеличивала простоту вторжения извне, а потому считала, что растущая мощь России угрожает ее выживанию. В результате Германия развязала ненужную превентивную войну. Во время холодной войны США раздували ядерную угрозу со стороны Советского Союза и не могли осознать, что совершенствование советских вооруженных сил абсолютно не затрагивает ключевой аспект американского сдерживания – способность нанести масштабный ответный удар. К счастью, это не привело к войне, но повысило ее риск и вызвало ненужные трения и расходы. Вашингтону нужно постараться не повторить этих ошибок на фоне наращивания обычных и ядерных вооружений КНР и осложнения отношений из-за второстепенных вопросов.
Пока Соединенные Штаты не демонстрировали чрезмерной реакции на растущий военный потенциал Китая, но такая вероятность существует. В нынешней американской стратегии национальной безопасности, например, содержится призыв поддерживать превосходство в обычных вооружениях, но не поясняется, почему оно необходимо и какие силы для этого требуются. В обозримом будущем Китаю, в сравнении с США, будет недоставать средств для переброски войск и боевой техники на большие расстояния, но его военное наращивание уже сужает возможности американцев для ведения боевых действий вблизи китайских границ. В связи с этим скоро возникнут вопросы, зачем Америке всестороннее превосходство в обычных вооружениях, какие именно миссии американские военные не смогут выполнять без него и насколько неспособность выполнять эти задачи повредит безопасности Соединенных Штатов. Без четких ответов США могут переоценить последствия роста вооруженных сил Китая.
Опасность преувеличения угроз безопасности в ядерной сфере значительно больше. В ядерной стратегии-2010, подготовленной администрацией Барака Обамы, говорится, что «США и азиатские соседи Китая озабочены нынешними усилиями Пекина по военной модернизации, включая количественную и качественную модернизацию ядерного арсенала». Однако в документе не поясняется, какую именно опасность представляет военная модернизация Китая. Никакая прогнозируемая ядерная модернизация в обозримом будущем не позволит КНР уничтожить большую часть американских ядерных сил и подорвать способность нанести масштабный ответный удар. Самое большее, чего можно достичь при такой модернизации, – это лишить Соединенные Штаты серьезного ядерного превосходства, поскольку Китай приобретет более значительные и боеспособные силы и таким образом снизит возможности Америки угрожать ему ядерной эскалацией в случае крупного кризиса.
В ядерной стратегии говорится, что США «должны продолжать поддерживать стабильные стратегические отношения с Россией и Китаем», но КНР всегда не хватало того типа силы, который обеспечивает стабильность по американским стандартам. Если Соединенные Штаты решат, что их безопасность требует сохранения ядерного превосходства над Китаем, Вашингтону придется инвестировать средства в вооружения, предназначенные для уничтожения новых ядерных сил КНР. Подобные усилия будут соответствовать американской ядерной стратегии периода холодной войны, когда особое значение придавалось способности уничтожить ядерный арсенал СССР. Сейчас гонка вооружений подобного рода еще менее целесообразна, чем тогда. США смогут сохранить существенные способности сдерживания, даже если Китай модернизирует свои силы, а агрессивная ядерная политика повредит безопасности страны, дав Пекину сигнал о враждебности Вашингтона и повысив таким образом степень незащищенности Китая. Двусторонние отношения – осложнятся.
Без сомнения, наращивание Китаем обычных и ядерных вооружений ограничит некоторые возможности Соединенных Штатов, которые Вашингтон предпочел бы сохранить. Но США не стоит спешить с выводами и видеть в этом наращивании враждебность. Напротив, нужно понимать, что оно, возможно, просто отражает закономерное стремление КНР к безопасности. Когда Дональд Рамсфелд был министром обороны, он заявил по поводу роста китайских военных расходов: «Поскольку ни одно государство не угрожает Китаю, может возникнуть вопрос: зачем эти растущие инвестиции? Зачем эти продолжающиеся крупные закупки оружия?» Ответ должен быть очевиден. Если бы Китай мог использовать авианосные ударные группы у берегов Америки, а стратегические бомбардировщики могли бы атаковать ее территорию, Вашингтон, естественно, хотел бы иметь возможности воспрепятствовать этому. И если бы стратегические ядерные силы Соединенных Штатов были такими же уязвимыми и относительно небольшими, как у Китая (сейчас это где-то от десятой до сотой части сил США), американцы постарались бы сократить разрыв максимально быстро, поскольку обладают для этого достаточными ресурсами. Подобные действия не были бы связаны с каким-либо злодейским планом порабощения мира, и пока достаточно оснований полагать, что это справедливо и в отношении Китая.
Коротко говоря, подъем КНР может быть мирным, но такой исход отнюдь не гарантирован. Вопреки стандартным доводам реализма, давление международной системы не будет подталкивать Соединенные Штаты и Китай к конфликту. Ядерное оружие, географическая преграда в виде Тихого океана и политические отношения, которые в настоящее время находятся на достаточно хорошем уровне, должны помочь обеим странам обеспечить высокую степень безопасности и избежать милитаризации, которая приведет к серьезным трениям в отношениях. Обязательства США по защите союзников в Северо-Восточной Азии несколько осложняют ситуацию, но есть серьезные основания полагать, что Вашингтон сможет распространить возможности сдерживания на Японию и Южную Корею, своих важнейших партнеров в регионе. Вызов для Америки заключается в том, чтобы скорректировать свою политику в ситуациях, когда интересы, не являющиеся жизненно важными (например, Тайвань) могут вызвать проблемы, и не преувеличивать риски, связанные с растущей мощью и военным потенциалом Китая.
Чарльз Глейзер – профессор политологии и международных отношений, директор Института безопасности и конфликтологии в Школе международных отношений Эллиотта при Университете Джорджа Вашингтона.

В ожидании мистера Z
Почему «новый стратегический нарратив» не содержит стратегии
Работа двух офицеров Корпуса морской пехоты США – капитана Уэйна Портера и полковника Марка Майклби, – напечатанная в этом номере нашего журнала, была торжественно презентована минувшей весной в Вашингтоне. Особую значимость мероприятию должно было придать присутствие американского военного номер один – адмирала Майкла Маллена, главы Объединенного комитета начальников штабов. В обсуждении участвовали знаковые представители разных идеологических течений. Да и жанр авторы заведомо определили таким образом, чтобы максимально выпукло обозначить свои претензии на весомый вклад в осмысление курса Соединенных Штатов. Документ делает заявку на создание нового «стратегического нарратива», то есть на изменение направления дискуссии о внешней политике США. А псевдоним авторов – «Мистер Y» – без ложной скромности отсылает к, вероятно, самой знаменитой аналитической записке прошлого века – «длинной телеграмме» временного поверенного в делах Соединенных Штатов в СССР Джорджа Кеннана. Она была направлена из Москвы в феврале 1946 г., а годом позже опубликована в виде статьи «Источники советского поведения» на страницах журнала Foreign Affairs за подписью «Мистер X». Эта публикация и изложенная в ней концепция стратегического сдерживания Советского Союза на поколения определила стиль мышления американского военно-политического руководства.
Встревоженные генералы
Ниже мы остановимся на том, почему, на наш взгляд, авторам в погонах не удалось подобраться к планке, заданной Кеннаном, одним из самых блестящих американских дипломатов и внешнеполитических мыслителей ХХ столетия. Однако стоит отметить, что само по себе появление этого материала и в особенности тот факт, что он вышел из недр Вооруженных сил США, весьма симптоматичны.
По объективным причинам военные глубже других понимают масштаб проблем, с которыми приходится сталкиваться Соединенным Штатам в начале второго десятилетия ХХI века. Что такое «имперское перенапряжение», о котором применительно к США заговорили в середине 2000-х гг., солдаты, офицеры и генералы знают на собственной шкуре. Если для дипломатов, стратегов в мировых столицах и политических аналитиков провал попытки установления «однополярного мира», в котором доминировала бы Америка, – это схема большей или меньшей степени умозрительности, то для военных она означает каждодневные потери и недостаток средств для выполнения все новых задач. Не случайно адмирал Маллен не устает повторять, что главной угрозой национальной безопасности Америки является не «Аль-Каида», Китай или Иран, а гигантский дефицит государственного бюджета. Министр обороны Роберт Гейтс до последнего сопротивлялся вступлению Соединенных Штатов в ливийскую войну, предложив отправить к психиатру того из его преемников, кто захочет еще раз послать американских солдат на Ближний Восток.
Практики в военной форме, которым по определению положено не теоретизировать, а выполнять приказы, остро ощущают концептуальную неразбериху, которая царит в головах их политических руководителей с подачи тех, кто призван обеспечивать гражданскую власть профессиональными оценками и стратегическими рекомендациями. Эпоха после холодной войны знаменовалась на мировой сцене калейдоскопической сменой декораций, которая (а не чьи-то заранее обозначенные намерения) в основном и определяла фабулу разыгрывавшегося действия. Скорость, с которой раскручивался маховик сюжета, застала врасплох всех тех, кто считал себя авторами пьесы, и довольно скоро им не осталось ничего иного, кроме как попытаться формулировать собственную линию поведения вдогонку поворотам интриги. Видимо, в силу общей растерянности и недостатка времени на размышления вместо стройной картины получилась рассыпчатая мозаика из произвольно подбираемых элементов различных стратегических подходов – от старых добрых концепций из классической теории международных отношений до новомодных фантазий околополитических беллетристов.
Вне зависимости от качества нарратива, то, что действующие военные предпринимают попытку предложить собственное осмысление политических проблем и способов их решения, – тревожный звонок для всех тех, кому это положено по должности. Им, по сути, дают понять, что они свою работу не выполняют, создавая тем самым растущие проблемы для тех, кто обязан нести на себе тяготы и лишения, связанные с проведением американской национальной стратегии в жизнь. И политической элите Соединенных Штатов стоит обратить внимание на этот сигнал, который, если он не будет услышан, может в перспективе превратиться в основание для более серьезного и системного недовольства, которое «служивые люди» станут испытывать в отношении своих политических представителей.
Бессистемная взаимозависимость
Вызов, с которым сталкивается в наши дни вся мировая академическая и политическая элита, заключается в полном отсутствии ясности относительно того, что действительно важно, а что не очень. В чем разница между повествованием Мистера Y и очерком Мистера X помимо различий в литературном стиле, который у последнего отмечен непревзойденным изяществом? В том, что Кеннан всегда четко знал, о чем и для чего пишет. Он анализировал конкретный субъект действия – Россию/СССР, что позволяло делать недвусмысленные предсказания и давать ясные рекомендации, благодаря такому же концептуально безупречному исследованию истории и структуры изучаемого вопроса. Именно поэтому анализ Мистера X так хорошо служил интересам американской внешней политики в течение десятилетий. Кроме того, его умозаключения вносили существенный вклад в обеспечение структурной стабильности мира, поскольку именно на них основывалась стратегия США, крайне важного участника международной политики.
Изобретатели нарратива, напротив, не стремятся идентифицировать главное явление или событие, заслуживающего приложения интеллектуальных способностей с опорой на определенную методологию. Вообще, создается впечатление, что авторы избегают того, чтобы прямо и четко сформулировать свою мысль, пряча ее за бесконечным повторением идеологических клише. Это свойственно многим американским документам, в которых суть надо искать под толстым слоем обязательной риторики. Но здесь офицеры как будто бы опасаются, что их обвинят в отходе от незыблемых догматов представления Соединенных Штатов о себе, а в то же время и сами боятся в них усомниться, поэтому текст местами напоминает самовнушение. Констатация, которая подспудно угадывается за рассуждениями авторов, заключается в признании, что США должны ограничить свои устремления и не в состоянии играть роль безоговорочного мирового лидера. Однако артикулировать это невозможно, ибо на презумпции глобального лидерства строится все здание американской внешней политики, особенно после исчезновения СССР. Поэтому, давая понять, что Вашингтону нужно быть более сдержанным и повернуться к собственным внутренним проблемам, авторы в то же время горячо доказывают: именно это и есть путь к лидерству на международной арене.
Между тем, «динамичная и взаимосвязанная мировая система», несколько раз упоминаемая в нарративе, не представляется академически продуманным и серьезным понятием, на которое можно было бы ссылаться при дальнейших теоретических исследованиях. Скорее это констатация некоего важного эмпирического факта, которая, тем не менее, не дает нового инструмента анализа и не делает мировую политику яснее ни с точки зрения действующих лиц, ни с точки зрения структуры.
Очевидно, что система международных отношений меняется. Мировая политика, какой мы видим ее сегодня, – это продукт фундаментальных перемен, происходящих как на структурном уровне, так и на уровне действующих лиц. Вопрос в том, какие структурные перемены следует считать наиболее важными и какой из акторов вносит наиболее заметный вклад в стабилизацию или дестабилизацию ситуации?
Десять лет назад в стержень международных отношений попытались было превратить терроризм, олицетворяемый Усамой бен Ладеном. Результат говорит сам за себя – за истекшее время международная ситуация стала еще менее объяснимой и предсказуемой. А теперь не стало и самого бен Ладена. Его устранение было довольно смелым и решительным шагом. Ведь он хотя бы имитировал «системного оппонента», для противостояния которому могли сплотиться «ответственные участники мировой политики». Теперь нет и этого. Ни одна другая личность и ни одно иное государство не готовы выступить в этой роли. И на первый план снова выходит вопрос о том, на какой платформе строить политический анализ и как проводить избранную линию.
Из наблюдений Мистера Y не вытекают выводы о конкретном действующем лице мировой политики, относительно которого Соединенным Штатам следует рассчитывать свою силу и возможности. Во второй половине прошлого века Джордж Кеннан и Америка сумели правильно определить врага, собственно, он был очевиден. В каком-то смысле им повезло в том, что по воле истории у них был один явный и хорошо известный противник – «соперник, а не партнер на политической арене».
Нарратив также не помогает лучше понять устройство международной системы, тем более что ни авторы, ни прочие эксперты в этой сфере не могут решить, какие из «мировых взаимосвязей» действительно важны и фундаментальны, а какие вторичны. Следовательно, данное определение не способствует лучшему пониманию того, развитию каких возможностей должно уделить первостепенное внимание современное государство, чтобы составить точный перечень задач во внутренней и внешней политике.
Можно ли обойтись без этого при проведении государственной политики? Едва ли. Что будет делать политический истеблишмент, если интеллектуалы не обеспечат его надлежащей методологией? Неизбежно скатится либо к импульсивному авантюризму в суждениях и действиях (сначала на не вполне понятных основаниях бомбят Муаммара Каддафи, виновного в гибели сотен человек, а затем безучастно наблюдают за тем, как стремительно растет число убитых в Сирии или Йемене), либо под видом нового курса продолжит проводить традиционную политику. Обычно она преследует цель превратить страну в «сильнейшего конкурента» на мировой арене, хотя при этом неустанно подчеркивается, что мы живем в мире, где не может быть победителей и проигравших. В общем, всегда опасно оставлять политиков без четкого руководства, и военные это инстинктивно понимают.
Более того, отсутствие методологии для адекватной оценки того, какие вопросы или страны заслуживают главного внимания, может очень скоро привести к широкому плюрализму в отношениях, иными словами – к бессистемным связям, в которых отсутствует иерархия партнеров. Концепция «взаимозависимости» как раз и подталкивает к такому положению. Само по себе это может стать мощным фактором, подрывающим возможности и влияние конкретного государства на международной арене.
Как справедливо заметил Морис Эш в 1951 г., сила и влияние – «субъективный фактор, который во многом зависит от отношений». (Иными словами, они проявляются только в процессе структурированного взаимодействия государств.) В этом их кардинальное отличие от фактора вооружений, которые считаются «объективным понятием». Однако поддержание слишком большого числа связей практически равноценно отсутствию отношений. Притворное чувство удовлетворенности от связей со многими партнерами в разных областях («относительная влиятельность») не способно заменить наличие четких и продуманных контактов хотя бы в одной сфере. Поэтому, например, Россия и США держатся за консервативный и, казалось бы, устаревший процесс сокращения ядерных вооружений – это эталон глубоких, выверенных и полностью просчитываемых отношений.
Вышеупомянутое отличие X и Y – понимание главного стержня анализа в одном случае и отсутствие такого понимания в другом – не вина энтузиастов и авторов нарратива. Это отражение того, насколько современный мир отличается от мира, в котором жил и творил Джордж Кеннан. На него требуется конкретный ответ, ведь безопасность и стабильность зависят от того, как страны понимают и истолковывают действия и реакции других. То есть, как они оценивают допустимые границы действий на внешнеполитической сцене, за которыми эти действия принимают угрожающий характер. И как страны принимают решения, с каким государством-партнером нужно срочно обсудить тот или иной вопрос, а на какие страны можно не обращать внимания, ничем не рискуя ни сегодня, ни в будущем.
Неадекватное понимание или восприятие нередко приводило к началу войны. Большинство войн, если не считать структурных причин, начинались из-за неверного представления о том, насколько важно для противника то или иное обстоятельство. Вот почему исследователь международных отношений никогда не может считать неверное понимание (истолкование) намерений второстепенным или легко преодолимым фактором. Однако ошибочное восприятие становится особенно опасным, когда страна переоценивает свои возможности или неправильно оценивает силу и потенциал противника. Вот почему так важно правильно рассчитать и понять, из чего конкретно вырастает политическая власть (влияние). Это принципиально при выборе друзей и построении правильных отношений с врагами в большой политике, особенно в эпоху так называемого взаимозависимого мира, что делает его еще более опасным и непредсказуемым.
Неуловимый баланс
Пятисотлетняя идея баланса сил, которую политики и аналитики как минимум трижды в течение прошлого века – в 1919, 1945 и 1991 гг. – хоронили в колумбарии интеллектуальной истории, похоже, возрождается из пепла. Этому способствует крах практически всех концепций 1990-х гг. и угасание «избалованных чад холодной войны» – международных организаций, какими мы их знаем. Возвращению идеи баланса сил предшествовали яркие дебаты о «смещении центра силы и влияния» и временами серьезные, а временами не очень попытки воссоздать подобие биполярной конструкции путем противопоставления «рыночной демократии» и «рыночной автократии». Сегодня идея баланса сил – это не просто следствие нового международного контекста. Факторы, составляющие этот контекст, оказывают качественное влияние на ее теоретические и практические аспекты.
К этим факторам следует, во-первых, отнести снижение роли военного превосходства как системообразующего элемента межгосударственных отношений в мировом и во многих случаях в региональном масштабе. Во-вторых, с некоторыми оговорками, наблюдается возникновение подлинно «мировой экономики» – некоей независимой реальности, доступной для теоретических изысканий. В-третьих, можно говорить о качественном повышении значимости (внешнего и внутреннего) восприятия совокупных возможностей государства в процессе поиска им своего места в системе международных отношений. И, в-четвертых, демократизация мировой политики и появление новых, быстро усиливающихся стран со своей уникальной культурой, непохожей на известные нам, и c собственным представлением о справедливости. Последний фактор ставит под сомнение традиционные инструменты, с помощью которых можно определить намерения государств на мировом и региональном уровне.
Первый из вышеупомянутых факторов означает постепенное, но неуклонное снижение действенности военной силы как главного регулирующего механизма в международных отношениях. Исторически структуру мировой системы предопределяла именно военная мощь государств. Раймон Арон полагал, что международные отношения «строятся в тени войны». В своем классическом труде Эдвард Карр нисколько не сомневается в том, что из всех факторов, определяющих положение стран на мировой арене, военная мощь является первичным и важнейшим. Главный вопрос даже не в наличии военной силы как таковой и не в высокой вероятности ее применения, а в ключевой роли военной силы как главного элемента, определяющего поведение стран и способность системы международных отношений независимо функционировать.
В наши дни мы видим, как значение этого фактора постепенно снижается. Роковой удар по системе международных отношений, основанных на военной силе, был нанесен в 1991 г., когда закончилась конфронтация между Советским Союзом и США. Чтобы понять, до какой степени снизилось значение военной силы, достаточно сопоставить военный потенциал Соединенных Штатов, который превосходит совокупную военную мощь всех остальных стран мира вместе взятых, с весьма ограниченной способностью Вашингтона добиваться целей на мировом или даже региональном уровне.
Ситуация становится еще драматичнее, если посмотреть на масштаб угроз и вызовов, которые исходят от сравнительно небольших и отнюдь не самых продвинутых стран, таких как Иран и Северная Корея. Их твердая, порой истеричная решимость использовать все возможности, в том числе и военные, чтобы сопротивляться диктату из-за рубежа, означает, что даже самая сильная страна или группа стран не может считаться всемогущим лидером. Оказывается, что сегодня и абсолютного военного превосходства недостаточно для того, чтобы привести в исполнение угрозы и примерно наказать непокорные режимы. Яркой иллюстрацией является противостояние США, самой мощной военной державы в мировой истории, с Афганистаном, наиболее отсталым государством планеты. Все больше признаков того, что это противостояние завершится в пользу последнего.
Наиболее важная особенность нового мира состоит в нерациональности выбора в пользу применения силы как средства достижения политических целей. Это происходит не потому, что под влиянием внутренних преобразований или растущей зависимости от окружающего мира государства стали менее агрессивными и хищническими по своей природе. И фактор военной силы все еще играет роль последнего и решительного аргумента в любом споре (см. Россия – Грузия, 2008 г.). Аналогичным образом изменение роли военной силы не означает торжества тех, кто несостоятелен в военно-стратегическом отношении. Страны и региональные группы, не имеющие реальной военной мощи, не считаются важными игроками. Китай это прекрасно понимает и поэтому наращивает оборонительные возможности, чтобы они соответствовали его экономическому потенциалу. С другой стороны, как видно на примере России, даже отсутствие экономической, политической и идеологической силы и привлекательности можно отчасти компенсировать военной мощью. В то же время отношения между государствами в сфере безопасности, основанные на военной угрозе, перестали быть главным стержнем мирового порядка.
Второй из вышеперечисленных факторов – рождение новой «мировой экономики» – создает принципиально иные рамочные условия, в которых страны используют свои экономические ресурсы, в том числе такие блага, как природные запасы энергоносителей. Экономика в ее глобальном измерении приобретает все более ярко выраженный внешний характер. Похоже, она даже начинает играть роль некой входящей независимой переменной, которая трансформирует старую систему международных отношений, опиравшуюся на баланс сил. Таким образом, необходимо серьезно размышлять над тем, какое влияние экономическая взаимозависимость оказывает на межгосударственные отношения, и каковы механизмы этого влияния.
Третий фактор – качественное повышение важности (внешнего и внутреннего) восприятия совокупных возможностей страны – открывает новую дискуссию о том, как связаны между собой материальная и социальная мощь государства. Как уже говорилось, сила в международных отношениях проявляется скорее как субъективный фактор социальной нормы, и самое важное здесь – фактическое признание или непризнание этой нормы большинством конкретного сообщества. Только ее признание другими дает силе, наряду с самим фактом отношений, право на существование.
В совокупности эти три фактора, формирующие контекст современных отношений, ставят исследователей и политиков перед серьезной дилеммой. Бесконечное умножение параметров силы, которые необходимо принимать во внимание, ограничивает возможности анализа. Но самая важная проблема сегодня заключается в том, какие отношения могут служить подходящим инструментом для тестирования правильности восприятия силы и представления об имеющемся балансе сил. Это особенно важно потому, что все три вышеупомянутых фактора серьезно ограничивают применимость самого традиционного метода проверки – конфликта как универсального способа ранжирования стран.
Во многих научных и политологических статьях сегодня можно найти признание того факта, что конфликт больше не должен и не может считаться наиболее адекватным инструментом урегулирования в международных отношениях. Оно также включено в работу Мистера Y в качестве главного американского внешнеполитического императива («от сдерживания к устойчивости»). Однако неохотное вычеркивание конфликта из списка первоочередных и наиболее рациональных внешнеполитических решений само по себе ничего не значит, а лишь подводит нас к самой трудной задаче, которую человечеству когда-либо приходилось решать на протяжении всей своей истории. Речь идет о беспрецедентной мирной трансформации системы международных отношений. Наш прямой долг – определить возможности и инструменты для ее осуществления, а также подумать о том, что могут предпринять государства, чтобы изобрести эти инструменты. Конечно, прежде всего им нужно признать необходимость подобной трансформации, которая подразумевает большие изменения как на уровне мира в целом, так и на уровне действующих лиц и, по всей видимости, исключает саму возможность того, что некоторые государства обречены на роль «самого сильного конкурента и самого влиятельного игрока».
Но похоже, что с этими проблемами придется разбираться уже Мистеру Z.
* * *
Если не углубляться в теоретические дебри и не придираться к глубине научных изысканий, которые по определению не должны относиться к числу добродетелей действующих офицеров Вооруженных сил, сама задача, стоявшая перед авторами нарратива, вполне понятна. Это попытка привлечь внимание к обеспокоенности военных неудовлетворительной ситуацией с осмыслением мировых процессов и перевести дискуссию на более прикладные рельсы (хотя сам текст, как мы убедились, мало что привносит в этом плане). Соединенные Штаты достигли предела своих возможностей и нуждаются в новом выстраивании приоритетов и обозначении стратегических целей. Авторы текста желают примирить две основные тенденции американской внешней политики – упор на национальные интересы и, соответственно, отказ от интервенционизма, если он не связан с их непосредственной защитой, и мессианское желание распространять по всему миру «правильную» политическую модель. Симпатии Мистера Y явно на стороне первого подхода, однако он понимает, во-первых, невозможность изоляционизма в современном мире, во-вторых, укорененность мессианства в политическом сознании соотечественников. Поэтому все силы авторов уходят на доказательство того, что необходимое самоограничение никоим образом не подорвет способность и желание Америки служить маяком свободы и демократии для остального мира, даже наоборот, укрепит ее.
Однако дискуссия, начатая нарративом, без сомнения, будет набирать обороты в нынешнем десятилетии, к концу которого всем ведущим мировым акторам, вероятно, придется принимать серьезные решения о собственном месте в мире будущего. И поскольку Соединенные Штаты останутся игроком, от поведения которого на международной сцене зависит больше, чем от кого бы то ни было, изыскания американских авторов достойны как минимум заинтересованного внимания.
Т.В. Бордачёв – кандидат политических наук, директор Центра комплексных международных и европейских исследований НИУ ВШЭ.
Ф.А. Лукьянов - главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Выпускник филологического факультета МГУ, с 1990 года – журналист-международник, работал на Международном московском радио, в газетах "Сегодня", "Время МН", "Время новостей". Председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике России.

Консенсус после вашингтонского
Как кризис повлиял на развитие
Резюме: Американская версия капитализма если и не потеряла репутацию, то, по крайней мере, больше не является доминирующей. Запад, и в особенности США, впредь не будет рассматриваться как единственный центр инновационной социально-политической мысли. А когда дело касается международных организаций, голоса и идеи Соединенных Штатов и Европы доминируют все меньше.
Авторы являются редакторами книги «Новые идеи развития после финансового кризиса» (Johns Hopkins University Press, 2011), на основе которой написано это эссе. Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 2 за 2011 год. © Council on Foreign Relations, Inc.
Начавшийся в США глобальный кризис на этот раз не только потряс мировую экономику, но и отрицательно сказался на мировой политике. В свое время Великая депрессия 1929–1933 гг. положила начало переходу от жесткого монетаризма и политики невмешательства государства к кейнсианскому регулированию спроса. Более того, в глазах многих людей капиталистическая система лишилась легитимности, были заложены основы для роста радикальных и антилиберальных движений по всему миру.
В наши дни столь явного отторжения капитализма не наблюдается даже в развивающемся мире. В начале 2009 г., в самый разгар глобальной финансовой паники, Китай и Россия, две бывшие некапиталистические державы, ясно дали понять отечественным и зарубежным инвесторам, что не намерены отказываться от капиталистической модели. Ни один из лидеров крупных развивающихся стран не отступил от приверженности принципам свободной торговли и глобальной капиталистической системы. Напротив, именно развитые западные демократии подчеркивали, как опасно чрезмерно полагаться на рыночную глобализацию, и призывали к большему регулированию мировой финансовой системы.
Почему нынешний кризис вызвал гораздо менее экстремальную реакцию в развивающихся странах по сравнению с временами Великой депрессии? Во-первых, в развивающемся мире обвиняют в кризисе Соединенные Штаты. Многие в этих странах готовы согласиться с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой, что «этот кризис вызвали белые люди с голубыми глазами». Если мировой финансовой кризис и стал проверкой на прочность какой-либо модели развития, то именно рыночной, неолиберальной модели, которая отводит государству скромную роль в экономике, но делает акцент на дерегулировании, частной собственности и низких налогах. Немногие развивающиеся страны могут считаться полностью принявшими эту концепцию.
На самом деле до кризиса в течение многих лет они дистанцировались от данного подхода. Финансовый кризис конца 1990-х гг. в Восточной Азии и Латинской Америке дискредитировал целый ряд идей, ассоциирующихся с так называемым «вашингтонским консенсусом», в особенности те из них, которые касаются прямой зависимости от иностранного капитала. К 2008 г. многие страны с развивающейся экономикой прикрыли двери перед иностранными финансовыми рынками, накопив значительные валютные резервы и создав систему регулирования своего банковского сектора. Подобная политика обеспечила защиту от глобальной экономической волатильности. Это подтвердил впечатляющий подъем соответствующих стран после недавнего кризиса: развивающиеся экономики демонстрировали лучшие показатели роста, чем страны развитого капитализма.
Таким образом, американская версия капитализма если и не потеряла репутацию, то по крайней мере больше не является доминирующей. В ближайшие 10 лет страны с развивающимся рынком и низким доходом, скорее всего, продолжат вносить изменения в свой подход к экономической политике. Они будут жертвовать гибкостью и продуктивностью, ассоциирующимися с моделью свободного рынка, ради внутренней политики противостояния конкурентному давлению и глобальным экономическим потрясениям. Их станет заботить не столько свободный поток капитала, сколько минимизация социальной нестабильности посредством программ социальной защиты и более активная поддержка национальной промышленности. И еще меньше, чем раньше, они будут склонны полагаться на опыт развитых стран, считая – вполне справедливо, – что не только экономическая, но и интеллектуальная мощь начинает распределяться более равномерно.
Фетиш иностранных финансов
Одна из главных особенностей старого, докризисного экономического консенсуса воплощалась в тезисе о том, что развитые страны могут рассчитывать на значительную выгоду от увеличения притока иностранного капитала. Экономист Арвинд Субраманиан назвал это «фетишем иностранных финансов». Идея о том, что беспрепятственное движение капитала по всему миру, как и свободное обращение товаров и услуг, делает рынки более эффективными, в целом воспринималась в политических кругах как должное. В 1990-х гг. США и такие международные финансовые институты, как Международный валютный фонд, подталкивали заемщиков из развивающихся стран открывать свои рынки капиталов для иностранных банков и отказываться контролировать курс валют.
В то время как выгоды от свободной торговли подтверждались документально, преимущества полномасштабной мобильности капитала не столь очевидны. Причины кроются в фундаментальных различиях между финансовым сектором и «реальной» экономикой. Свободные рынки капитала действительно добиваются эффективного распределения капитала. Но крупные взаимосвязанные финансовые институты в отличие от крупных производственных фирм сталкиваются с рисками, которые способны оказывать огромное негативное воздействие на остальную экономику.
Одним из парадоксальных следствий финансового кризиса 2008–2009 гг., возможно, станет то, что американцы и британцы наконец осознают простую истину, известную в Восточной Азии уже более 10 лет. А именно, что открытый рынок капитала в сочетании с нерегулируемым финансовым сектором – это бомба замедленного действия. По завершении финансового кризиса в Азии многие американские политики и экономисты стали вновь акцентировать внимание на быстротечной либерализации и продвигать идею «последовательности», т.е. либерализации только после того, как будет создана мощная система регулирования с адекватным надзором за банками. Но они не задумывались о том, способны ли некоторые развивающиеся страны быстро ввести в действие такую систему или как будет выглядеть оптимальный режим регулирования. Они упустили из виду взаимосвязь между их новой идеей и их собственным случаем, а также забыли предупредить об огромном нерегулируемом теневом финансовом секторе, грозящем избыточной задолженностью, который возник в Соединенных Штатах.
Первым очевидным следствием кризиса, таким образом, стало падение фетиша иностранных финансов. Такие страны, как Исландия, Ирландия и государства Восточной Европы, с большим энтузиазмом принявшие на себя бремя данного фетишизма, пострадали особенно сильно, и их ожидает очень трудный период восстановления. Как и для Уолл-стрит, уверенный рост, который демонстрировали эти страны с 2002 по 2007 г., отчасти оказался иллюзорным. Он свидетельствовал о доступности кредитов и высокой доле заемных средств, а не о наличии прочного фундамента.
Забота о социальной защите
Второе следствие финансового кризиса 2008–2009 гг. – новая привязанность развивающихся стран к преимуществам разумной социальной политики. До кризиса те, от кого зависит принятие политических решений, были склонны приуменьшать значение социального обеспечения и программ социальной защиты, отдавая предпочтение стратегиям, нацеленным на экономическую эффективность.
Американский президент Рональд Рейган и британский премьер-министр Маргарет Тэтчер пришли к власти в конце 1970-х и начале 1980-х гг. на волне критики современного социального государства. Многие их критические замечания вполне обоснованы: государственный бюрократический аппарат во многих странах был раздутым и неэффективным, а в менталитете населения закрепился расчет на получение положенной социальной помощи. Вашингтонский консенсус не обязательно отвергал применение социальной политики, но его сосредоточенность на эффективности и бюджетной дисциплине часто вела к сокращению социальных расходов.
Однако кризис выявил нестабильность, свойственную капиталистическим системам – даже таким развитым и передовым, как в США. Капитализм – динамичный процесс, невинными жертвами которого регулярно становятся люди, теряющие работу или лишающиеся источника дохода. В период кризиса и после него граждане ожидали, что их правительства обеспечат им определенный уровень стабильности на фоне общей экономической неопределенности. Политические деятели в развивающихся странах вряд ли забудут этот урок; консолидация и легитимность их хрупких демократических систем будет зависеть от способности обеспечить более высокий уровень социальной защиты.
Рассмотрим реакцию континентальной Европы в сравнении с Соединенными Штатами. До сих пор с учетом кризиса в еврозоне Западная Европа переживала менее болезненное восстановление благодаря более развитой системе действующих автоматически антициклических социальных расходов, включая страхование на случай безработицы. Восстановление экономики без создания новых рабочих мест в США, напротив, делает американскую модель еще менее привлекательной для тех, кто принимает стратегические решения в развивающемся мире. Особенно для тех, кто подвержен политическому давлению и вынужден уделять внимание нуждам среднего класса.
Яркий пример нового акцентирования социальной политики можно обнаружить в Китае. Реагируя на быстрое старение населения, китайское руководство борется за создание современной пенсионной системы, что знаменует собой переход от традиционной тактики, сосредоточенной только на создании новых рабочих мест, к поддержанию социальной и политической стабильности. В Латинской Америке те же проблемы решаются иначе. С началом нового столетия регион полевел, устав от либеральных реформ 1990-х гг., и новые правительства увеличили социальные расходы, чтобы сократить бедность и неравенство. Многие страны, последовав успешному примеру Бразилии и Мексики, ввели схемы перевода денежных средств, предназначенных для бедных семей (при этом получатели помощи должны отправлять детей в школу или выполнять другие условия). В Бразилии и Мексике этот подход впервые за многие годы способствовал заметному сокращению неравенства доходов и помог защитить беднейшие семьи от недавнего кризиса.
Разумеется, вопрос в том, смогут ли подобные программы, адресованные бедным (и потому не требующие значительных бюджетных затрат), с легкостью привлечь долгосрочную поддержку растущего в регионе среднего класса. А также как эти и другие развивающиеся экономики, в том числе Китай, справятся с финансовыми затратами на более универсальные программы социального обеспечения, включая здравоохранение и пенсии. Преуспеют ли они в решении проблем, связанных с недофинансированием универсальных социальных программ, – проблем, которые сейчас стоят перед Европой и Соединенными Штатами из-за старения населения.
Видимая рука
Третьим следствием кризиса стало начало нового раунда дискуссий об индустриальной политике – стратегии страны по развитию определенных секторов промышленности, традиционно получающих такие виды поддержки, как дешевые кредиты, прямые субсидии или государственное управление банками развития. Подобная политика была признана опасной и несостоятельной в 1980-е и 1990-е гг. из-за поддержки неэффективных отраслей промышленности путем огромных бюджетных затрат. Но кризис и адекватная реакция на него некоторых стран могут укрепить уверенность о том, что компетентные технократы в развивающихся странах способны эффективно управлять участием государства в производственном секторе. Бразилия, например, использовала финансируемый правительством банк развития, чтобы быстро направить кредиты в определенные сектора в рамках первоначальной антикризисной программы, а Китай сделал то же самое с помощью государственных банков.
Однако эта новая индустриальная политика не связана с выявлением победителей или осуществлением крупных секторных сдвигов в производстве. Ее задача – координация решения проблем и устранения барьеров, которые мешают притоку частных инвестиций в новые отрасли и технологии, трудностей, с которыми рыночные силы не могут справиться в одиночку. Например, для развития инновационного производства по пошиву одежды в Западной Африке правительства могли бы обеспечить постоянные поставки текстиля или субсидировать строительство портов, чтобы избежать затруднений с экспортом. Тем самым, взяв на себя часть первоначальных финансовых и других рисков и более системно развивая государственную инфраструктуру, правительства помогут частным инвесторам справиться с высокими затратами при налаживании производства и внедрении инноваций во вновь возникающих секторах.
На протяжении последних 30 лет базирующиеся в Вашингтоне институты развития придерживались точки зрения, согласно которой некомпетентность правительства и коррупция представляют для роста гораздо большую угрозу, чем крах рынка. Изменится ли эта точка зрения сейчас, когда капитализм американского стиля рухнул со своего пьедестала? Возобладает ли идея о том, что государство способно принять на себя более активную роль? Для каждой в отдельности развивающейся страны ответ зависит от оценки возможностей государства и общего уровня управления. Самая строгая критика промышленной политики всегда касалась политических, а не экономических аспектов, поскольку подчеркивалось, что принятие экономических решений в развивающихся странах не может быть защищено от политического давления. Критики заявляли, что политики будут придерживаться протекционистских мер даже после того, как они выполнят свою первоначальную задачу по обеспечению резкого рывка национальной промышленности. Такие виды индустриальной политики, как сокращение зависимости от импорта и продвижение новых отраслей, хотя и критиковались позже в Вашингтоне, действительно способствовали достижению впечатляющего уровня экономического роста в 1950-е и 1960-е гг. в Восточной Азии и Латинской Америке. Проблема, однако, заключалась в том, что правительства в странах Латинской Америки были политически неспособны расширить этот протекционизм, поэтому их промышленность не смогла стать конкурентоспособной на мировом уровне.
Поэтому технократы в развивающемся мире должны учитывать политические аспекты своего намерения проводить промышленную политику. Существует ли достаточно компетентная и независимая от политического давления бюрократия? Хватит ли средств, чтобы поддерживать такой курс? Хватит ли сил для принятия жестких решений, например, чтобы отказаться от утративших свою эффективность политических решений? Большинство успешных примеров промышленной политики приходится на Восточную Азию, где традиционно существует мощная технократическая бюрократия. Странам, у которых отсутствует такое наследие, следует быть более осторожными.
Заставить бюрократию работать
Правительствам, вознамерившимся продвигать индустриальное развитие и обеспечивать социальную защиту населения, придется реформировать госсектор. Дело в том, что четвертым следствием финансового кризиса 2008–2009 гг. стало болезненное напоминание о том, что произойдет, если этого не сделать. В США регулирующие органы не получали достаточного финансирования, не могли привлечь высококвалифицированных сотрудников и сталкивались с политическим противодействием. И это неудивительно: доктрина Рейгана и Тэтчер подразумевала, что рынки являются приемлемой заменой эффективного правительства. Кризис продемонстрировал, что нерегулируемые или плохо регулируемые рынки могут обойтись очень дорого.
Правительства как развивающегося, так и развитого мира с восхищением наблюдали за удивительной способностью Китая оправиться от кризиса, в основе которой лежит жестко управляемый, выстроенный сверху вниз механизм принятия решений. Он позволяет избежать задержек, характерных для сложного демократического процесса. Следствием явилось то, что политические лидеры развивающегося мира сейчас связывают эффективность и возможности с автократическими политическими системами. При этом существует множество некомпетентных автократических режимов, на фоне которых Китай выделяется тем, что представляет собой бюрократию, которая, по крайней мере на высшем уровне, способна осуществлять управление и координацию продуманной политикой. Среди стран с низким уровнем доходов это делает КНР исключением.
Создание и поддержание эффективного госсектора – одна из самых сложных проблем мирового развития. Такие институты, как Всемирный банк и британский Департамент международного развития, осуществляли программы по укреплению госсектора, продвижению ответственного госуправления и борьбе с коррупцией на протяжении последних 15 лет, но не добились особых успехов. Тот факт, что даже финансовые регуляторы в Соединенных Штатах и Великобритании не смогли использовать свои полномочия, чтобы идти в ногу с быстро меняющимися рынками, лишний раз доказал: эффективный госсектор остается актуальным вызовом даже для наиболее развитых стран.
Почему в укреплении госсектора в развивающихся странах удалось добиться лишь незначительного прогресса? Первая проблема – бюрократия часто служит правительствам, которые, в отличие от идеального, обезличенного государственного аппарата представляют собой коалиции взяточников, действующих в личных интересах. Зарубежные доноры обычно не обладают необходимыми рычагами, чтобы заставить их измениться. В некоторых случаях исключением служат такие механизмы, как процесс вступления в Евросоюз. Вторая проблема состоит в том, что эффективные институты должны развиваться естественным путем, отражая политические, социальные и культурные реалии страны. Развитие обезличенной бюрократии на Западе было продуктом длительного и болезненного процесса, при этом внешние факторы (такие как необходимость военной мобилизации) сыграли значительную роль в создании сильных государственных институтов (например, знаменитой прусской бюрократии). Такие институты, как верховенство закона, редко становятся работоспособны, если просто копируют зарубежный опыт, общество должно вникнуть в их суть. Наконец, реформа госаппарата должна происходить параллельно с процессом построения нации. Если у общества нет четкого осознания национальной идентичности и общих государственных интересов, каждый отдельный человек будет демонстрировать большую принадлежность своей этнической группе, племени или приверженность своим покровителям.
Движение к многополярности
Спустя много лет историки вполне смогут назвать нынешний финансовый кризис окончанием американского экономического доминирования в мировой политике. Но тенденция движения к многополярному миру возникла гораздо раньше, а крах западных финансовых рынков и их неторопливое восстановление лишь ускорили процесс. Даже до кризиса международные институты, созданные после Второй мировой войны для разрешения проблем в сфере экономики и безопасности, находились на пределе своих возможностей и нуждались в реформировании. МВФ и Всемирный банк страдали от недостатков структуры управления, которая отражала устаревшие экономические реалии. Начиная с 1990-х гг. и далее в наступившем столетии, институты Бреттон-Вудской системы оказались вынуждены предоставить больше прав голоса странам с развивающейся экономикой, таким как Бразилия и Китай. В то же время «Большая семерка» – элитная группа, состоящая из шести наиболее экономически значимых западных демократий и Японии, оставалась неформальным мировым лидером, когда дело касалось глобальной экономической координации, несмотря на появление других центров силы.
Финансовый кризис в конце концов привел к тому, что G7 утратила роль основного координатора глобальной экономической политики и к ее замене «Большой двадцаткой». В ноябре 2008 г. главы государств G20 собрались в Вашингтоне, чтобы выработать глобальную программу стимулирования экономики – встреча с тех пор переросла в официальный международный институт. Поскольку G20, в отличие от G7, включает развивающиеся страны, такие как Бразилия, Китай и Индия, подобное расширение экономической координации представляет собой запоздалое признание новой группы глобальных экономических игроков.
Кризис также вдохнул новую жизнь в МВФ и Всемирный банк, подтвердил их легитимность. До кризиса создавалось впечатление, что МВФ быстрыми темпами превращается в отжившую структуру. Рынки частного капитала обеспечивали страны финансовыми средствами на выгодных условиях, не обставляя их требованиями, которыми часто сопровождались кредиты МВФ. Фонд с трудом финансировал собственную деятельность и находился в процессе сокращения персонала.
Ситуация изменилась в 2009 г., когда лидеры «двадцатки» договорились обеспечить институты Бреттон-Вудской системы дополнительными средствами в размере 1 трлн долларов, чтобы помочь странам пережить будущий финансовый дефицит. Бразилия и Китай вошли в число доноров специальных фондов, которые в итоге помогли поддержать Грецию, Венгрию, Исландию, Ирландию, Латвию, Пакистан и Украину.
Попросив развивающиеся рынки взять на себя более ответственную роль в международной экономической политике, западные демократии косвенно признали, что сами они уже не в состоянии справиться с мировыми экономическими проблемами в одиночку. Но то, что назвали «подъемом остальных» (в отличие от «упадка Запада». – Ред.), касается не только экономической и политической мощи. Подразумевается также глобальная конкуренция идей и моделей. Запад, и в особенности США, больше не рассматривается как единственный центр инновационной социально-политической мысли. Схемы оказания денежной помощи на определенных условиях, например, впервые были разработаны и введены в Латинской Америке. За последние 30 лет Запад внес скромный вклад в инновационное мышление в промышленной политике. Чтобы увидеть успешные модели на практике, стоит обратиться к примеру развивающихся стран, а не развитого мира. А когда дело касается международных организаций, голоса и идеи Соединенных Штатов и Европы доминируют все меньше. При этом страны с развивающейся экономикой, ставшие крупными донорами международных финансовых институтов, приобретают более значительный вес.
Все это говорит о конкретных изменениях в программе развития. Традиционно эта программа разрабатывалась развитым миром и затем вводилась (или, в действительности, часто навязывалась) в развивающемся мире. США, Европа и Япония по-прежнему останутся бесспорными источниками экономических ресурсов и идей, но развивающиеся экономики выходят на эту арену и станут крупными игроками. Бразилия, Китай, Индия и ЮАР будут одновременно донорами и реципиентами ресурсов для развития и способов их наилучшего использования. Значительная доля бедного населения планеты живет на территории этих стран, однако им удалось добиться уважения на мировой арене в экономической, политической и интеллектуальной областях. На самом деле развитие никогда не являлось чем-то, что богатые даруют бедным, скорее, бедные достигают этого самостоятельно. Видимо, западные державы, наконец, осознали эту истину в свете финансового кризиса, который для них отнюдь не окончен.
Фрэнсис Фукуяма – ведущий научный сотрудник Института международных исследований Фримена Спольи при Стэнфордском университете.
Нэнси Бердсолл – президент Центра глобального развития.

Пресса под ружьем
Как современная журналистика помогает войнам
Резюме: Когда гора идет к Магомету, ему уже не нужно напрягаться. В большинстве своем журналисты ленивы. Везде и всюду средства массовой информации охотно бросаются потреблять то, что им скармливают правительства и ведущие политики, обладающие подлинным или дутым авторитетом.
Безопасность, политика государств и общественное мнение – три феномена, которые оказывают друг на друга взаимное влияние. Правительства используют общественное мнение и пытаются его формировать. Средства массовой информации служат при этом их инструментами, иногда становясь хозяевами, а иногда – прислужниками. Новейшие технологии качественно преображают массмедиа, что, в свою очередь, меняет и характер их воздействия на настроения общества. Недавние кадры трассирующих снарядов в небе над Триполи в очередной раз продемонстрировали, насколько актуальна эта проблема.
Новая информационная эпоха наступила 17 января 1991 г. в 2.40 местного времени, когда с налета американских ВВС на Багдад началась первая война в Персидском заливе. При рождении эры тотального телевидения присутствовала телекомпания CNN. С балкона своего номера в отеле «Мансур» корреспондент Питер Арнетт в прямом эфире транслировал, как ракеты, запускаемые с самолетов США, разорвав черное небо яркой вспышкой, поражали цели. Спутниковые антенны и тарелки сделали свое дело, любой житель Земли, включивший в тот момент телевизор, впервые смог ощутить сопричастность настоящей войне в режиме реального времени.
С тех пор синхронность происходящих событий и их одновременное восприятие потребителями новостей значительно повысили степень манипулятивности информации. Стремительное распространение любительского видео, снятого при помощи мобильного телефона, усугубляет эту тенденцию. Диктат оперативности и давление конкуренции в сочетании с коммуникационными возможностями, имеющимися сегодня в распоряжении печатной прессы, меняют содержание и вес новостей.
Постоянная гонка и требование максимальной краткости губят рефлексию. Раньше у журналиста была функция очевидца. Тот факт, что он находился на месте событий и располагал средствами передачи информации, легитимировал его высказывание. Возможно, он прибыл всего час назад, впервые в этой стране, не владеет языком, не знает там ни единого человека и имеет лишь туманное представление о политической и социальной предыстории. Он описывает, что происходит, либо то, что имеет возможность увидеть или узнать из происходящего. Если репортеру повезло, и ему сразу встретились правильные люди, если он имеет богатый опыт работы и обладает интуицией и способностью чувствовать настроения и улавливать впечатления, вполне возможно, что мы получим качественные репортажи.
Но обстоятельства описывать намного сложнее, чем сами события. Между тем обстоятельства несопоставимо важнее, особенно если именно они становятся причиной потрясений. До тех пор, пока не исследованы обстоятельства, сиюминутные слепки меняющейся реальности только сбивают с толку, переключая внимание на побочные темы. Но именно эти сиюминутные слепки, иногда и вовсе совершенно мимолетные, формируют устойчивые представления миллионов людей. А настроениями этих миллионов, их оценками и предубеждениями руководствуются политики. На этой основе они принимают решения, иногда – ошибочные.
Техническая простота и доступность имеют оборотную сторону. Комментаторы от Тайбэя до Торонто, работой которых является интерпретация событий, вводят одни и те же ключевые слова в поисковую систему Google и получают идентичный набор из нескольких десятков статей. Стандартизация в оценке мировых событий и определенное интеллектуальное нивелирование при этом неизбежны.
Юбер Бёв-Мери, основатель Le Monde, когда-то внушал своим журналистам: будьте невыносимо скучными! Так, утрируя, он побуждал сотрудников к тому, чтобы они ставили содержание над формой, предпочитали существенное броскому. А ведь он даже не догадывался о грядущем пожелтении серьезных изданий и торжестве инфотейнмента.
Подмена точной информации привлекательной оболочкой превратилась в смертный грех нашего ремесла. Дэн Разер, который много лет возглавлял информационную службу CBS, давно предупреждал о «голливудизации» новостей. Правда, будучи противником такого подхода, он сам являлся его большим мастером. Однажды на встрече руководителей подразделений информации теле- и радиокомпаний он сказал: «Глубокие аналитические материалы никому не нужны. Растет спрос на шоу в прямом эфире. На работу надо нанимать мастеров видеоэффектов, а не писателей. Секрет хорошего интервью – удачный грим, а не хитрые вопросы. И, ради всего святого, никого не раздражайте. Make nice not news».
Триумф поверхностности, нежелание публики вникать в сложные контексты – это западня, в которой репортер одновременно оказывается и преступником, и жертвой. Существует множество причин небрежной работы журналистов. Вероятно, наиболее важной из них является следующее: даже самые мыслящие потребители новостей зачастую воспринимают только те факты, которые вписываются в их устоявшуюся картину мира. То, что выходит за ее рамки, вытесняется и быстро забывается. Оценки, вынесенные однажды, крайне редко пересматриваются на основе новых фактов.
Отсюда и труднопреодолимая инертность медиа, которые не хотят разбираться в запутанных взаимосвязях. Перевороты в арабском мире – свежий пример того, что западная картина исламского мира давно уже определяется преимущественно средствами массовой информации. Внимание журналистов десятилетиями приковано к региональным конфликтам от Йемена и Бахрейна, до Балкан и Чечни, от Ливии и Палестины, до Судана и Афганистана. Но в освещении мотивов и действующих лиц почти всегда преобладает негативизм.
Все мы знаем, что терроризм, апеллирующий к исламу, является делом крошечного меньшинства мусульман. Но восприятие широкой общественностью террористической угрозы ведет к упрощению общей картины. Ислам, политический ислам, исламизм, фундаментализм во всех его проявлениях, религиозно мотивированный экстремизм и готовность применять насилие для большей части западной публики сплавились в амальгаму, если не стали взаимозаменяемыми понятиями. Арабские деспоты успешно эксплуатировали эту амальгаму, утверждая десятилетиями: или мы, или исламистский хаос, и большинство СМИ популяризировали это послание.
Первой жертвой любой войны становится правда, писал Редьярд Киплинг. Вторая жертва – язык. Искажение действительности часто начинается со словоупотребления. Бомбежки превращаются в «хирургические удары», оккупированные земли – в «спорные территории», эскадроны смерти – в «элитные подразделения», убийства – в «точечные ликвидации». Несуществующее оружие массового уничтожения Саддама Хусейна, послужившее поводом к войне, до сих пор (хотя война доказала его отсутствие) именуется в многочисленных публикациях «преувеличенными данными» и «недостатками работы разведслужб». Никого не смущает, когда в нейтральном информационном тексте арабский или исламский политик характеризуется как «антизападный». Называли ли когда-нибудь какого-либо американского политика «антиарабским»? Радикальные исламисты «ненавидят» Израиль. Разве нет израильских экстремистов, которые ненавидят палестинцев?
Последняя война, репортажи о которой были относительно независимыми, – Вьетнам. Именно неприкрашенная картинка действительности способствовала растущему неприятию боевых действий в американском обществе, что заставило Вашингтон пойти на попятный. Но военные выучили урок. Переизбыток информации – одна из форм управления общественным мнением. Это наглядно продемонстрировала первая иракская война. Никогда раньше так много журналистов, снаряженных столь современным оборудованием, не видели настолько мало из происходящего.
Когда гора идет к Магомету, ему уже не нужно напрягаться. В большинстве своем журналисты ленивы. В прекрасно оборудованном пресс-центре в Саудовской Аравии, за сотни километров от боевых действий, не прекращался дождь из пресс-релизов, издавались горы вспомогательных материалов, услужливые сотрудники пресс-служб по первому требованию были готовы предоставить статистику и графическую информацию. Бесконечные пресс-конференции превратились в холостую словесную канонаду, поток сообщений ширился и нарастал.
Вторую иракскую войну освещали «прикомандированные журналисты» – новый термин, который неизбежно напоминает о военных шорах. Эти люди видят происходящее сквозь прорезь прицела, а не глазами пострадавших. Тема терроризма ведет к похожим искажениям оптики. Редко кто замечает, что место удара ракеты, запуск которой санкционирован государством, выглядит ровно так же, как и то место, где взлетел на воздух начиненный взрывчаткой автомобиль. По крайней мере, для жертв никакой разницы нет.
Когда в триумфальном коммюнике, выпущенном вооруженными силами НАТО в Афганистане, провозглашается, сколько убито талибов, кому-то из тех, кто занимает ответственные должности в органах власти или редакциях, стоит задуматься о том, что у каждого из убитых есть братья, сыновья, близкие родственники-мужчины, которые с того момента мечтают только об одном – о мести. Бывший британский посол в Риме Айвор Робертс метко назвал президента США Джорджа Буша лучшим агентом по вербовке в ряды «Аль-Каиды».
Тот, кто для одного является террористом, другому всегда представляется борцом за свободу. Для немецких оккупантов и режима Виши во Франции террористами были бойцы французского Сопротивления. Десять лет спустя в этой роли – теперь уже для французов – выступали повстанцы из алжирского Фронта национального освобождения. «Террористом» считался в свое время Нельсон Мандела. Будущие главы правительства Израиля Ицхак Шамир и Ицхак Рабин разыскивались за терроризм британской администрацией подмандатной Палестины. И Ясир Арафат, прежде чем он появился на лужайке перед Белым домом в качестве партнера по международным договорам, был террористом. Некоторые из вышеперечисленных лиц даже стали лауреатами Нобелевской премии мира. Об этом полезно вспомнить каждый раз каждому, кто утверждает, что его трактовка есть истина в последней инстанции.
Мы не ведем переговоров с террористами. Питер Устинов, человек удивительной выдержки, сказал однажды, может быть, слегка перегнув палку: терроризм – это война бедных, война – это террор богатых.
Везде и всюду средства массовой информации охотно бросаются потреблять то, что им скармливают правительства и ведущие политики, обладающие подлинным или дутым авторитетом, вплоть до того, что комментаторы заимствуют официальный вокабулярий. Когда президент каждую неделю твердит об иракском оружии массового поражения или иранских планах стать ядерной державой, они превращаются в виртуальную реальность. Средства массовой информации плохо приспособлены к тому, чтобы сопротивляться подобной ситуации. Все, что говорит президент или официально заявляет министр, должно быть изложено снова и снова, причем на наиболее видном месте.
Самым ужасным результатом в долгосрочном плане является то, что пропагандистские усилия приводят к дегуманизации, «расчеловечиванию» противника. Убийства или унижения врагов, объявленных террористами, становятся «простительными» прегрешениями. Тем самым мы загоняем в тупик себя самих, потому что рубим под корень возможность диалога и перспективу урегулирования. Стабильность и безопасность, в том числе нашу собственную безопасность, невозможно обеспечить, ведя беседу только с единомышленниками.
Наш альянс с коррумпированными тираническими режимами Ближнего Востока надолго дискредитировал в глазах народов этого региона идеалы демократии и прав человека, которые мы на словах проповедуем. Привычка к клише ведет нас самих к фатальному недоразумению. Нет ничего опаснее, чем начать верить собственной пропаганде.
Нашей публике, взращенной телевидением, нужны герои недели. В какой-то момент ими стали ливийские революционеры. О них практически ничего не известно. Кто-то из этих людей наверняка причисляет себя к либералам, но плечом к плечу с ними стоят религиозные экстремисты, представители племен, имеющих счеты к Каддафи, и перебежчики из числа его клевретов. Две наиболее значимые персоны в Национальном переходном совете еще пару недель назад занимали посты в правительстве Джамахирии, между прочим, они служили не главами почтового или какого-либо подобного ведомства, а министрами внутренних дел и юстиции, опорами любой диктатуры. Но стоило им только произнести волшебные слова «свобода» и «реформа», как немедленно выстроилась длинная очередь желающих поверить в сказку. Если кто-то на Западе заикается о том, что все на самом деле намного сложнее, он, как правило, вызывает неприязнь.
Где бы ни вспыхивали протесты против диктаторского режима, международные массмедиа без промедления приклеивают манифестантам ярлык «продемократического движения», обычно не задаваясь вопросом, действительно ли целью мятежников является свобода. В свое время некоторые комментаторы считали борцами за свободу и «красных кхмеров».
Рудольф Кимелли – немецкий журналист и писатель, долго работавший на Ближнем Востоке, корреспондент газеты Suddeutsche Zeitung в Париже.

ЕвроПРО как смена стратегической игры
Как России и Соединенным Штатам начать демилитаризацию отношений
Резюме: Трансформация стратегических отношений между Россией и Америкой на путях контроля над вооружениями невозможна в принципе. Наиболее реальный путь – формирование сообщества безопасности в Евро-Атлантике, в рамках которого связи между государствами Северной Америки и Европы, включая Россию, были бы демилитаризованы.
В конце 2011 г. в России должно быть принято решение о структуре системы воздушно-космической обороны. Оно, в свою очередь, будет зависеть от того, удастся ли Москве договориться с НАТО (а реально – с Соединенными Штатами) о параметрах сотрудничества в области противоракетной обороны Европейского континента, для краткости – ЕвроПРО. Этой теме будет посвящено заседание Совета Россия – НАТО на уровне министров обороны, намеченное на июнь 2011 года. Таким образом, предстоящие несколько месяцев определят характер и содержание военно-политических отношений между Россией и Западом.
Преодоление амбивалентности
Выбор, стоящий перед Москвой и ее партнерами, очевиден: либо сохранение амбивалентности, сформировавшейся после окончания холодной войны, либо переход к стратегическому сотрудничеству. К амбивалентности и в России, и на Западе успели привыкнуть. Она не является оптимальным состоянием взаимоотношений, чревата периодически возникающими кризисами, один из которых в 2008 г. привел к войне на Кавказе, но психологически комфортна, поскольку не заставляет принимать трудных решений, преодолевать наслоившиеся за десятилетия предрассудки, рисковать политическим положением сегодня ради негарантированных приобретений в неопределенном будущем.
Если России и Североатлантическому альянсу не удастся достичь договоренности о сотрудничестве в области ПРО, каждая из сторон пойдет своей дорогой. США с союзниками будут строить систему обороны Европы от баллистических ракет Ирана. Российская Федерация, в свою очередь, сделает ставку на систему для защиты преимущественно от удара со стороны Соединенных Штатов. На продвинутых этапах – третьем и четвертом – объявленной администрацией Обамы программы строительства европейской ПРО американские средства перехвата будут рассматриваться как представляющие угрозу российскому потенциалу сдерживания. Откроется перспектива новой гонки стратегических оборонительных и наступательных вооружений.
Это может серьезно скорректировать российскую внешнюю политику, цели и задачи которой пересмотрят в изоляционистском и нео-конфронтационном духе, а социально-экономический курс придется подчинить логике осажденной крепости и требованиям национальной безопасности. Эти ограничения – и сама истощающая ресурсы гонка вооружений – очевидно, не позволят России на нынешнем этапе справиться с задачей модернизации, законсервируют развитие страны, что создаст серьезную угрозу разложения и распада уже на выходе из «прохладной войны».
Европейцы, в свою очередь, не убеждены, что им грозит ракетная опасность со стороны Ирана, а платить за систему ПРО, которая к тому же может создать напряженность в отношениях с Россией, им совсем не хочется. Впрочем, заявление Москвы о намерении разместить в Калининградской области ракеты «Искандер» может изменить ситуацию. Контрмеры такого характера способны убедить Европу в необходимости американской защиты – хоть от Ирана, хоть от Москвы.
Не факт, однако, что США, разместив свою систему ПРО в Европе и консолидировав НАТО ввиду новой напряженности с Россией, окажутся в стратегическом выигрыше. Продолжающееся возвышение Китая и фундаментальные перемены на Ближнем и Среднем Востоке, которые делают неясными перспективы не только Египта, но и Саудовской Аравии; нерешенность ядерной проблемы Ирана; нестабильность и неопределенность в Афганистане и, что важнее, Пакистане… На фоне всего этого Вашингтону меньше всего нужен возврат к стратегической напряженности в отношениях с Москвой.
Если все эти соображения способны перевесить сиюминутный комфорт и отвращение к риску как таковому, Россия, Соединенные Штаты и Европа смогут, оказавшись сегодня в преддверии «трансформационного момента» в их стратегических отношениях, переступить этот порог. Об окончании холодной войны говорится беспрерывно, начиная со встречи Михаила Горбачёва и Джорджа Буша-старшего у берегов Мальты в 1989 г., но окончательно вырваться из психологического плена противостояния пока не удалось. Мало на что повлияла и декларация прошлогоднего Лиссабонского саммита Совета Россия – НАТО, в которой стороны договорились именовать друг друга стратегическими партнерами.
Не меняет ситуацию и российско-американский Договор по СНВ-3, подписанный и ратифицированный в 2010 году. Он, безусловно, важен и ценен как символ продуктивности «перезагрузки» и как продолжение военно-стратегического диалога между Москвой и Вашингтоном. Тем не менее, Договор, как и породивший его процесс контроля над вооружениями, являются инструментами регулирования отношений стратегической враждебности или, как минимум, соперничества. Регулируя эти отношения, Договор по СНВ их воспроизводит и укрепляет.
Дальнейшие шаги в области контроля над вооружениями – стратегическими и достратегическими, ядерными и «обычными», – безусловно, необходимы, но следует также иметь в виду, что и они не выведут отношения между Москвой и Вашингтоном, Россией и Западом в целом за рамки, очерченные в период советско-американского противостояния. Более того, чем ниже разрешенные «потолки» вооружений, тем сложнее сделать следующий шаг – особенно России, с учетом разницы экономических, научно-технических, финансовых, а также неядерных военных потенциалов сторон. Сохранение в совершенно иных условиях модели стратегических отношений, возникшей шесть десятилетий назад, представляет собой ловушку для Москвы.
Выбраться из ловушки
Существование этой ловушки косвенно признается в России. За два последних десятилетия в Москве не раз пытались найти из нее выход, дважды повторяя одни и те же маневры. В начале 1990-х гг. и в начале 2000-х гг. была популярна идея интеграции в западные структуры безопасности посредством вступления в НАТО и заключения военно-политического союза с США. Во второй половине 1990-х и в середине 2000-х господствовала идея создания геополитического противовеса Соединенным Штатам посредством формирования «центра силы» в СНГ, сближения с незападными центрами силы, прежде всего с Китаем, и установления ситуативных альянсов с оппонентами Вашингтона – от Белграда и Багдада до Тегерана и Каракаса. Эти усилия не привели ни к союзу с Америкой, ни к установлению удовлетворительного баланса в отношениях с ней.
Военно-политический союз с Вашингтоном – в том числе в форме присоединения к НАТО – в принципе нереален: Москва, очевидно, не намерена жертвовать своей стратегической независимостью. Это – глубокая убежденность подавляющего большинства российской политической элиты, которая вряд ли изменится в обозримом будущем. На пути в Североатлантический альянс есть много других препятствий, в значительной степени они связаны с позицией западных стран, но стратегическая самостоятельность России является отправным пунктом любых реалистических построений на тему военно-политического сотрудничества с Западом.
Создание противовеса влиянию Америки с помощью разнообразных геополитических комбинаций не только бесперспективно, но и ведет к результатам, обратным желаемым. Консолидация СНГ в «российский блок» не просто сопряжена с многочисленными трудностями, но практически недостижима. Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать внешнюю политику крупнейших стран Содружества – Украины, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии или хотя бы задаться вопросом о том, почему ни одна страна СНГ не последовала за Россией в вопросе признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Поддержка антиамериканских режимов чревата немалыми рисками из-за очевидной неспособности контролировать эти режимы. Кроме того, тесное общение с явными диктатурами сопряжено с репутационными потерями. Остается один реальный путь – блокирование с Пекином. В Китае, который привык действовать в одиночку, не испытывают, однако, нужды в союзнике – тем более претендующем на равный статус, материально не подкрепленный. Для России же отказаться от «неравного брака» с США, чтобы стремиться заключить подобный же союз с КНР, было бы абсурдом. Итак, что делать?
Начать надо с признания, что действительной потребностью России является не союз или паритет с Соединенными Штатами, а выход за пределы этой парадигмы и преодоление невыгодного положения, когда ни союз, ни баланс невозможны. Это означает установление с основными международными игроками таких отношений, которые гарантированно исключали бы применение военной силы для решения межгосударственных конфликтов и противоречий. Такое состояние обычно называется «стабильным миром», а совокупность государств, между которыми установлен стабильный мир, принято именовать сообществом безопасности. Упор делается именно на гарантированное исключение военно-силовых методов, война становится делом немыслимым, отношения между государствами демилитаризуются. Союз может и не случиться, но военный баланс однозначно утрачивает значение.
Сообщества безопасности уже более полувека существуют в рамках НАТО и Евросоюза (Атлантическое сообщество безопасности), в рамках альянсов между США, Японией, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и Канадой (Тихоокеанское сообщество), в Юго-Восточной Азии между странами АСЕАН, между арабскими государствами Персидского залива, в Северной Америке (Соединенные Штаты, Канада, Мексика). Такое сообщество, по-видимому, существует между Россией и рядом стран – например, Белоруссией или Германией. Итак, появление сообщества безопасности в Евро-Атлантике с участием Северной Америки и всей Европы, включая Россию, является важнейшей политической потребностью Москвы на западном направлении.
Создание подобного сообщества посредством заключения Договора о европейской безопасности представляется привлекательным, но на деле невозможно. Теоретически, конечно, можно допустить подписание такого договора и даже его ратификацию, но договоры не создают отношений, они их в лучшем случае оформляют. История пактов о ненападении – кстати, юридически обязывающих – не внушает особого оптимизма. Трудно всерьез доказывать, что государства не исполняют свои торжественные обязательства по целому ряду документов – от Хельсинкского Заключительного акта и парижской Хартии для новой Европы до стамбульской Хартии европейской безопасности – исключительно потому, что эти документы носят политический, а не юридический характер. Наверняка есть более существенные причины.
Для того чтобы понять, как выстраивать сообщество безопасности в Евро-Атлантике, необходимо уяснить, каковы на самом деле коренные проблемы безопасности в регионе. На наш взгляд, их две.
Одна связана со стойкой озабоченностью Москвы долгосрочными целями США в отношении России. Этим, в конечном счете, объясняются беспокойство по поводу расширения НАТО на восток и страхи, связанные с «цветными революциями». Россия озабочена активностью Вашингтона на пространстве СНГ, а также планами создания американской системы противоракетной обороны.
Вторая проблема – зеркальное отражение первой, но на другом уровне. Речь идет о беспокойстве стран Центральной и Восточной Европы по поводу внешней политики «вставшей с колен» России. Это беспокойство подпитывается официальной риторикой Москвы о зонах «привилегированных интересов» и о «защите граждан Российской Федерации за рубежом»; практикой перекрытия газопроводов; угрозами размещения ракет в Калининграде; маневрами у границ Балтийских стран и, конечно, ситуацией на Кавказе.
Без снятия этих двух проблем стабильный мир в Евро-Атлантике не наступит. Москва верно определила ключевое направление – российско-польские отношения – и сумела начиная с 2009 г. сделать очень важные шаги к историческому примирению с Варшавой. На сегодняшний день инерция примирения пока не набрала достаточную силу, чтобы сделать процесс необратимым. Российско-польский опыт еще не только не стал моделью для инициирования сходных процессов на других направлениях – в частности, для нормализации отношений со странами Балтии, – но фактически еще до конца не осмыслен в Польше и России. Тем не менее, движение в сторону решения «российской проблемы» Центральной и Восточной Европы началось.
Вторая часть двуединой задачи общеевропейской безопасности затрагивает отношения между Москвой и Вашингтоном. Сотрудничество в области создания ЕвроПРО может стать началом решения «американской проблемы» России.
Противоракетный ключ
Первый шаг – и это логично – сделали американцы. В сентябре 2009 г. президент Обама объявил о реконфигурации проекта ПРО в Европе и отказе в этой связи от планов администрации Джорджа Буша-младшего по созданию позиционного района американской ПРО в Польше и Чехии. По согласованию с Вашингтоном Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выдвинул идею совместной европейской системы ПРО с участием России. Москва заинтересовалась этой инициативой, и на Лиссабонском саммите альянса в ноябре 2010 г. президент Медведев представил российское предложение о «секторальной» ПРО в Европе.
Подробности натовского и российского предложений не публиковались, но в общих чертах речь идет, по-видимому, о координации систем ПРО (в первом случае) и о создании общей системы с заранее определенными секторами ответственности (во втором). Это существенное сближение позиций, и будет печально, если оно окажется недостаточным для достижения соглашения.
Фактически и Россия, и страны Североатлантического альянса признают наличие растущей ракетной угрозы. В Соединенных Штатах прямо говорят о ее источнике – Иране; в России, напротив, предпочитают об Иране в этой связи не упоминать, главным образом из политических соображений. В Москве согласны, однако, что неопределенность развития ситуации на Ближнем и Среднем Востоке в целом повышает риски, исходящие из этого региона.
Есть принципиальное согласие на уровне экспертов, что сотрудничество в области ПРО могло бы быть нацелено на создание системы защиты от класса ракет, который отсутствует в арсеналах и стран НАТО, и России – ракет средней и меньшей дальности (от 500 до 5500 км), запрещенных советско-американским Договором по РСМД 1987 года. В последние годы Россия и США предложили другим странам присоединиться к этому договору. Это предложение остается в силе.
Уже давно существует обоюдное понимание необходимости объединить информационно-аналитические средства России и стран НАТО в единую интегрированную систему контроля за пусками ракет. Еще в 2000 г. подписано российско-американское соглашение о создании центра обмена данными на этот счет, которое, однако, так и не было реализовано из-за ухудшения политических отношений между Москвой и Вашингтоном.
Если необходимость интеграции информационных систем – с непосредственной передачей данных на огневые средства – споров не вызывает, то объединение боевых систем представляется более проблематичным. Логично предположить, что ни одна из сторон не захочет передоверять свою безопасность другой, а система двух ключей легко может «заклинить» – с катастрофическими последствиями. Иными словами, «палец» на натовской кнопке должен будет остаться натовским, а на российской – российским.
Взаимодействие двух систем, распределение ответственности должно соответствовать решению общей задачи – защите Европы от ракет третьих стран. Речь, конечно, идет не о каком-то новом разделе Европы между Россией и Америкой, а о военно-технической целесообразности организации защиты европейских стран при полном уважении их государственного суверенитета. Возможность поражения одной ракеты двумя перехватчиками, стартующими с разных сторон, повышает надежность защиты. Чтобы не было споров, кому в каких случаях что сбивать, необходимы договоренности, достигнутые и зафиксированные заранее.
Сопоставление существующих и перспективных боевых потенциалов России и Соединенных Штатов в области ПРО свидетельствует о значительном отрыве американцев в этой области. Позиционный район, планировавшийся при Буше в Центральной Европе, в Москве называли третьим – в ряду аналогичных районов ПРО на Аляске и в Калифорнии. Помимо наземных, в Вооруженных силах США имеются комплексы ПРО морского базирования. Российский арсенал много скромнее. Он включает систему противоракетной обороны Москвы, основанную на принципе поражения ракет с помощью ядерных взрывов, и ограниченное число дивизионов комплексов С-300, к которым только начали присоединяться системы С-400, способные защищать объекты от ударов ракет средней дальности. В целом у России недостаточно средств ПРО для противодействия США, но их хватает, чтобы начать сотрудничество с американцами.
Россия только приступает к масштабному переоснащению Вооруженных сил, в рамках которого планируется значительно повысить возможности противоракетной обороны. Тем не менее, даже в обозримой перспективе не приходится говорить о равенстве потенциалов с Соединенными Штатами. Это означает, что, сотрудничая с США в области создания ЕвроПРО, нужно делать упор – в отличие от традиционного контроля над вооружениями – не на паритете и равенстве, а на полномасштабном и всеобъемлющем характере взаимодействия. Это означает, что концепция, архитектура и само строительство ЕвроПРО должны быть абсолютно прозрачными, открытыми и доступными для всех участников проекта – несмотря на то, что их долевой вклад на разных этапах может быть различным. Если искать ближайший аналог для такого проекта, им может стать МКС – с ее международным космическим экипажем, национальными модулями, наземными центрами управления и особенностями финансирования.
Почему мы считаем, что ЕвроПРО, подобно мирному космосу, может стать для России и Америки мостом от соперничества к сотрудничеству? Прежде всего – благодаря стратегическому характеру проекта. Не всякое сотрудничество, как свидетельствует опыт, способно создать условия для стратегического разворота. Так, участие российской армии в миротворческой операции НАТО в Боснии и Герцеговине (СФОР/ИФОР) не создало «критической массы». В то время как на Балканах действительно создавалась новая ткань отношений, в центре – в Генштабе и Пентагоне – на это взаимодействие смотрели как на нечто второстепенное. Другое дело – противоракетная оборона.
Сотрудничество в этой области влечет за собой последствия «по всей линии». Невозможно совместно обороняться от ракетного нападения с третьей стороны, в то же время бесконечно держа друг друга под ракетным прицелом и угрожая взаимным гарантированным уничтожением. Взаимодействие по линии ПРО логически ведет к трансформации ядерного сдерживания. Безъядерный мир не наступает, но ядерные отношения во все большей степени утрачивают заложенную в них с самого начала взаимную враждебность. Говоря иначе, ядерные арсеналы России и США сохраняются, но потребность в обоюдном сдерживании постепенно исчезает. Этот процесс может занять длительное время, но важен не момент осознания «отмены сдерживания», а направление движения.
Устойчивость процессу стратегической трансформации будет придавать практическое сотрудничество в определении общих угроз и принятии мер по их нейтрализации. По мере расширения и углубления взаимодействия в военной сфере начнется постепенная демилитаризация отношений между Москвой и Вашингтоном: военно-силовой компонент будет вынесен за скобки. В рамках этого процесса произойдет изменение стратегий национальной безопасности, военных доктрин, конкретных стратегических планов государств, а также предназначения вооруженных сил, их дислокации, сценариев учений, программ обучения и подготовки военнослужащих и т.п. ЕвроПРО, как локомотив, способна «потянуть» за собой целый военно-стратегический, оперативный и даже тактический «поезд».
Мы не ожидаем, что даже в результате реализации проекта ЕвроПРО Россия и Америка станут союзниками, если под «союзом» подразумевается модель НАТО или, к примеру, американо-японского договора безопасности. Москва в полной мере сохранит стратегическую самостоятельность, а Соединенные Штаты не будут обременены слишком близкими отношениями со столь негабаритным – ни младшим, ни равным – союзником, как Российская Федерация. Обе стороны сохранят достаточно возможностей для налаживания оптимальных отношений со «вторым номером» современной глобальной иерархии – Китаем. С самого начала Пекину должно быть предельно ясно: проект ЕвроПРО не направлен против КНР.
На пути к глобальной Европе
Итак, подведем итоги. Российская модернизация однозначно нуждается в технологических, инновационных, финансовых, инвестиционных и других возможностях развитых стран. Большая часть ресурсов, которые реально могут быть привлечены для этих целей, сосредоточена в государствах Европейского союза. Однако невозможно взаимодействовать с ЕС, сохраняя базовое враждебное отношение к НАТО. В случае возвращения напряженности между Россией и США не многого удастся достичь даже в контактах с Германией.
Трансформация стратегических отношений между Россией и Америкой на путях контроля над вооружениями невозможна в принципе. Снятие остаточного противостояния путем присоединения Российской Федерации к Североатлантическому альянсу маловероятно и отчасти нежелательно. Поиск противовеса Америке путем блокирования с ее оппонентами бесперспективен и крайне опасен. Наиболее реальный путь к трансформации отношений – формирование сообщества безопасности в Евро-Атлантике, в рамках которого отношения между государствами Северной Америки и Европы, включая Россию, были бы демилитаризованы. Идеал будущих отношений России и Соединенных Штатов – это сегодняшние отношения между Москвой и Берлином.
Для того чтобы возникло сообщество безопасности, необходимо установить прочное доверие между Россией и США, с одной стороны, и странами Центральной и Восточной Европы, с другой. Повышение доверия не произойдет автоматически, как функция простого временного отдаления от периода холодной войны. Требуются конкретные проекты тесного сотрудничества в стратегических областях. Именно на это указывает опыт Западной Европы и Атлантического сообщества после окончания Второй мировой войны. В качестве «головного» трансформационного проекта на американо-российском направлении мы предлагаем ЕвроПРО, общие контуры подхода к которому мы попытались изложить в этой статье.
Проект сотрудничества в области ПРО рассматривается именно как «головной» – с учетом того, что за ним последуют другие, а рядом будет реализовываться программа исторического примирения на востоке Европы. Очевидно, что сообществу безопасности в Евро-Атлантике потребуется экономическая основа. Эту роль может сыграть энергетическая интеграция – подобно тому, как 60 лет назад объединение угля и стали явилось не только основой европейского Общего рынка, но и фундаментом прочного мира между Германией и Францией.
Очевидно, что Евро-Атлантическое сообщество безопасности нуждается в соответствующем «нарративе» – идеологической, ценностной составляющей. При всем многообразии культур народов, населяющих это пространство, между ними имеется значительная общность. Эта общность коренится в самой природе европейской цивилизации, распространившейся далеко за пределы географической Европы, но являющейся лишь частью глобального мира. Важнейшей ролью «глобальной Европы» может стать как раз формирование современной модели сообществ безопасности, которая могла бы быть применима и за пределами Евро-Атлантики. Что же касается России, то она сумела бы таким образом обрести устойчивое равновесие на международной арене, необходимое ей для решения самых важных – домашних – дел.
Д.В. Тренин – директор Московского центра Карнеги.

Тоби Гати: Россия не так уж противилась расширению НАТО
Резюме Спустя 20 лет после распада СССР российско-американская атмосфера, с одной стороны, очень сильно изменились, но с другой – мощнейшая инерция, заданная холодной войной сохраняется до сих пор.
Спустя 20 лет после распада СССР российско-американская атмосфера, с одной стороны, очень сильно изменились, но с другой – мощнейшая инерция, заданная холодной войной сохраняется до сих пор. По мнению многих комментаторов, шансы на построение качественно иных отношений были упущены на ранней постсоветской фазе – в первой половине 1990-х годов. Тоби Гати, известный специалист по России, в 1993 году занимала позицию советника президента США и старшего директора по России, Украине и Евразии в Совете национальной безопасности. Именно она занималась подготовкой первого пакета помощи Москве со стороны администрации Клинтона и созданием комиссии Соединенные Штаты – Российская Федерация по экономическому сотрудничеству. С ней беседует корреспондент РИА Новости в Вашингтоне Светлана Бабаева.
- Вы начали работать в администрации в 1993 году, когда в Белый дом пришел Билл Клинтон, выиграв выборы у Джорджа Буша-старшего. Тот, кстати, пробыл президентом один срок, что довольно нехарактерно и, скорее, говорит о серьезных ошибках. На российском направлении допускались ошибки, которые нужно было срочно исправлять?
- Были президенты, остававшиеся всего один срок. Второй не выигрывали, как правило, в случае внутренних экономических трудностей… Что касается России, то когда пришла администрация Клинтона, очень многое уже было сделано, и мы начинали не с нуля.
За время президентства Буша не стало СССР, чего американский истеблишмент совершенно не ожидал. Как это, без СССР? Советский Союз был не просто страной, это была идея. Вся политика США строилась исходя из Советского Союза – военные программы, пропаганда, отношения с другими странами. И вдруг раз! – и нет.
По сути, исчезли принципы, на которых базировалась огромная часть нашей внешней политики, нужно было выстраивать новые связи, но не было ни понимания, ни ориентиров. Я помню, возникла идея организовать встречу с президентом тогда еще РСФСР Борисом Ельциным и министром Андреем Козыревым. В администрации сказали: а зачем? У нас есть Горбачев. Он – главный, он надежный партнер. Мы еще не осознавали, что надежным партнером он оставался, пока существовал СССР. Но когда этой страны не стало, мгновенно встал вопрос, а кто теперь главный партнер?
Когда я сейчас вижу изменения, происходящие на Ближнем Востоке, меня охватывают те же ощущения: солидные государства, которые могут вдруг исчезнуть… И что тогда? Мы видим, каким порывом охвачены там народы – для них это новый шанс. Но для политики новый шанс – это чаще всего риск.
- И большая головная боль.
- Конечно. Нужно начинать фактически с нуля, искать, с кем работать, над какими проблемами. 40 лет мы думали о Советском Союзе, знали, что властители подавляют собственный народ, но при этом были в курсе, что происходит с ядерным оружием. А теперь? Если кто-то вздумает продать химическое или ядерное оружие, станет ли об этом известно хотя бы в Москве? Сможем ли мы вместе предотвратить попадание оружия, скажем, в криминальные руки? И, напомню, поначалу ядерное оружие оставалось не только в России, но и в других бывших республиках, а теперь – независимых странах.
Помните знаменитую речь Буша-старшего в Киеве в августе 1991 года, где он призывал украинцев не торопиться с "самоубийственным национализмом"? Все уже было решено, Верховные советы союзных республик принимали декларации о суверенитете, а мы… Мы так долго мечтали о мире без СССР, что когда это произошло, воскликнули: Боже, а что теперь делать?
- Но вы сказали, к президентству Клинтона многое уже было сделано.
- Существовало два основных направления: помогать в областях, которые важны США и миру, например, в сфере контроля над ядерным оружием, и не допустить, чтобы на постсоветском пространстве повторился югославский сценарий. То есть чтобы не было гражданской войны.
Администрация Буша придавала значение еще одной теме – переоформлению на Россию советского долга, полагая, что если обрушатся финансовые договоренности, возникнет еще больший хаос. Думаю, это была одна из больших ошибок. Долг стал колоссальным бременем для нового государства, а скудные и без того ресурсы следовало направить на помощь людям. В этом, как потом стало ясно, крылась главная проблема: думали о государстве, о балансе сил и интересов. Но для среднего русского человека все стало только хуже. Как объяснить людям, что в результате огромного положительного события их жизнь лишь ухудшилась?..
Возможно, в США имелось очень узкое представление о советском обществе, и мы преувеличивали желание русских жить по нашим правилам. Даже не по нашим, мы ведь считали их общими. А оказалось, что даже сегодня, согласно опросам, лишь пятая часть россиян разделяет западные ценности…
Мы исходили из того, что период трансформации будет коротким и хаос, который, кстати, виделся не как хаос, а как переходный период, скоро сменится нормальной жизнью. Когда, скажем, закрывались заводы, ситуация не виделась тупиковой по двум причинам, связанным с собственно американским опытом. В США люди очень мобильны, они переезжают из штата в штат в поисках работы, во-вторых, и это факт нашей истории, каждое поколение живет лучше предыдущего. Экономическая сумятица воспринималась как временное явление, мы знали: наши дети все равно будут жить лучше. Сейчас американцы уже не так в этом уверены, но тогда вера в себя, в институты была гораздо крепче. Этот взгляд переносился и на Россию.
- Но у команды Клинтона с момента крушения Союза и до прихода в Белый дом было больше года на то, чтобы наблюдать и обсуждать.
- Россия являлась для Клинтона приоритетом. Часами обсуждали. Помню, был разговор: как помочь российским старикам, когда им не выплачивали пенсии. Сколько мы тратили на оружие, чтобы защищаться от Советского Союза!.. А на пенсии и требовалось-то несколько десятков миллионов, они ведь тогда в России составляли 15-20 долларов в месяц. Люди могли бы жить спокойнее… И вдруг кто-то говорит: как мы можем гарантировать пенсии русским, когда у наших пенсионеров нет такой гарантии? Мы не имеем права обещать русским больше,
чем своим. Как тут не вспомнить вашу пословицу "Сытый голодного не разумеет"? А ведь в России тогда в буквальном смысле не было еды…
- Эти возражения были от непонимания, от жадности, от того, что было что-то более важное, из-за проблем с Конгрессом?
- Насчет того, что надо помогать, существовал консенсус. Но были три основные проблемы. Первая – экономика Соединенных Штатов к приходу администрации Клинтона находилась в далеко не блестящем состоянии. На все денег не хватало. Не забывайте, помогали не только России, но всем постсоветским республикам, а проблемы возникали буквально в каждой сфере.
Проблема вторая – подход. Нужно помнить, это конец эпохи Рейгана, считалось: главное – чтобы правительство меньше мешало. Дать свободу, расцветет бизнес, и ситуация станет улучшаться гораздо быстрее, – такова была доминирующая идея. Чем она впоследствии обернулась для самой Америки, мы видим… Но тогда это очень сильно влияло на политику. России нужно помочь создать банковскую систему и биржи, говорили в Соединенных Штатах, а вот создавать регулирующий орган необязательно. В Советском Союзе, мол, было столько регуляторов, что сейчас лучше освободить русских от государства.
Третьей проблемой стало, думаю, то, что мы исходили из совершенно иных условий. К примеру, обсуждали, как выстроить в России систему ипотечного кредитования. Считали, люди возьмут ипотеку на 20 лет, купят дом, возникнет средний класс, который, в свою очередь, будет поддерживать порядок и демократию. Только мы не учли, что ипотека основана на низкой инфляции и предсказуемой финансовой и политической системе.
- Но были же экономисты, которые понимали, в каких условиях работают финансовые инструменты?
- Посмотрите на провалы в нашей собственной экономике и сделайте вывод об экономистах. Поэтому когда я слышу, что "на самом деле США устроили заговор с целью ослабить Россию", я отвечаю: это полная чушь! Главным кошмаром для нас был образ слабой России, превращающейся в Югославию, с войной на Кавказе и бесконтрольным ядерным оружием. Мы панически боялись такого сценария.
- Вы говорите об институтах, банковской системе. Но республиканцы считали крупнейшей ошибкой администрации Клинтона то, что она "оказала предпочтение личностям в ущерб принципам".
- Билл и Борис… По сравнению с будущими отношениями Буша и Путина, можно сказать, что Ельцин и Клинтон были просто знакомыми… Конечно, личное доверие очень важно. Оно было. Но Клинтон – прагматик, и он очень любил решать задачи. В России существовала масса проблем, где имелась возможность что-то делать. Он, кстати говоря, и к внутренним американским проблемам подходил так же. Однако вряд ли сразу после революции можно приступать к решению глобальных проблем. Надо просто сделать, чтобы стало чуть-чуть лучше, а на окончательное разрешение могут уйти десятилетия.
- Томас Джефферсон говорил: время после революции – лучшее для закрепления прав граждан. После необходимость обращаться к народу отпадет. А сам народ "забудет о своих нуждах и о себе в единственном стремлении делать деньги и не подумает объединиться для обеспечения должного уважения к своим правам". Что, мне кажется, и произошло в России. Так что в чем-то Клинтон был прав…
- В США после революции наступил период слабых институтов, но они существовали. И люди, даже будучи формально жителями колоний, знали, что такое свобода. В Союзе не было ни институтов, ни свободы, так что, мне кажется, эти периоды нельзя сравнивать. Мы до сегодняшнего дня спорим, что отцы-основатели хотели для Америки, но по ряду вещей в США есть консенсус. В частности, по Конституции – мы не меняем ее так быстро, как вы свою. И не доводим в нашей системе до ситуаций, подобных той, что сложилась у вас в 1993 году. В США тогда шли горячие споры, одни говорили, Ельцин правильно использовал силу против парламента; другие – что этого нельзя было допустить, потому что создан прецедент, который повлияет на будущее. Но мы страшно боялись коммунистов…
Буквально через несколько месяцев пребывания Клинтона на посту президента возник вопрос: кто потерял Россию? Можно не сомневаться, случись коммунистический реванш, республиканцы сказали бы: Буш дал русским свободу, а Клинтон вернул в Россию коммунистов. Вопрос поддержки был не просто внешнеполитической проблемой, а фактором нашей внутренней политики.
И напомню, тогда угроза реванша выглядела иначе. Не так, как она воспринимается по прошествии почти 20 лет. Вообще, на протяжении 1990-х было опасение, что Советский Союз появится вновь.
И если уж мы заговорили об ошибках, то серьезным упущением с вашей стороны было не реформировать судебную систему и силовые органы. А нашей ошибкой – то, что мы не настаивали…
- А почему вы не настаивали?
- Потому что не думали, что за такой короткий отрезок времени люди забудут, какую роль эти структуры играли… Впрочем, некоторые в России мне говорили: если мы уволим столько людей с оружием, что они будут делать? Демократию защищать? Надо было выбирать, что реформировать. С нашей точки зрения, главной была экономика. Мы полагали: изменится базис, поменяется и политическая система. Прямо как марксисты… А, может быть, надо было наоборот думать о политической системе. Конечно, хотелось, чтобы в России проводились выборы. Но мы не понимали, что самые важные выборы – не первые, а вторые и третьи. Лишь тогда создается модель сменяемости власти, возникает оппозиция, которая не воспринимается как враг. Для американцев это столь естественно, что они об этом давно не задумываются. Так же, как и о развитом гражданском обществе, которое защищает свои права и постоянно контролирует власть.
Полагаю, до конца мы так и не осознали, что разруха в Советском Союзе была полной. Мы помогали России строить новую систему и не задумывались, на какой основе. Не поняли, что наше сознание, наш менталитет тоже требовали изменений. Но такова психология: люди, страны меняются, лишь когда плохо. А если мы "выиграли", зачем меняться? А на самом деле, ни Россия не проиграла, ни США не выиграли. Мы, как боксер, оставшийся один на ринге. Легко быть единственной сверхдержавой, когда соперников нет…
- Это один из основных упреков в адрес Клинтона: США смотрели на Россию не как на равного, а как на проигравшую сторону.
- Это не так. Мы все в администрации думали, что Россия тоже выиграла. Русские сами сказали: мы не хотим больше жить в Советском Союзе. На следующий день после развала Союза русский народ остался тем же, что и днем раньше, но его возможность влиять на мир стала совсем другой... Хотя в своем регионе Россия, не Америка, осталась самой влиятельной силой.
- Кстати, о "сферах влияния". Одна из главных тем, отравляющих отношения до сих пор, - НАТО и расширение альянса. Были тогда возможности или планы наделить Россию членством?
- По поводу расширения у Клинтона был оживленный спор, и поначалу хватало противников, включая Строуба Тэлбота. Многие считали, что расширять НАТО вообще не нужно, а вопрос, станет ли Россия членом альянса, оставался лишь гипотетическим. Можно было и так работать вместе над множеством проблем.
- Почему тогда изменилось мнение о дальнейшем расширении?
- Есть несколько объяснений. Эти страны хотели стать членами Евросоюза. Но оказалось, что вступить в ЕС намного труднее, чем в НАТО, надо менять все законы, реформировать целые сферы экономики. Вступить в НАТО было гораздо проще. Плюс эти страны стремились в НАТО, видя в альянсе защиту, – Советского Союза не стало, но жила память о нем. Наконец, считалось, что влияние НАТО на эти страны будет положительным и приведет к изменению их политических и экономических систем. И с некоторыми так действительно получилось.
- Но Россия была сильно против их вступления. Вряд ли в администрации Клинтона не понимали, что отношения с Москвой сильно ухудшатся.
- Во-первых, нельзя было сказать, что Россия так уж противилась. Я хорошо помню, что ожидали больших проблем, если эти страны вступят в НАТО без согласия России. Но потом Ельцин сказал, что он не возражает. А мы что, должны быть против, если российский президент за?
Проблема в том, что Россия сама не знала, чего она хотела. И до сегодняшнего дня не знает... Какая она – западная, восточная, олицетворение третьего пути? Но вот что многим действительно надоело, так это то, что во всех своих ошибках и просчетах Россия всегда обвиняет Запад. Интересно, когда нас обвинят в том, что до сих пор нет трассы Москва – Питер? Легко списывать ошибки на врага или противника, но, думаю, людям в России уже пора сказать самим себе: если бы мы что-то хотели, мы бы делали. А если не делаем, - значит, не хотим.
Что-то можно привнести извне, но главное люди должны выучить сами. Когда мы, американцы, смотрим на события, происходящие на Ближнем Востоке, видим, как люди пытаются менять свои политические системы, мы думаем о надежде. А вы, русские, - об опасности. Да, наверное, революции происходят не только на надежде, но они дают шанс. Не гарантию, но все же шанс.

По заветам Меттерниха
Резюме: Если сосуществование различных школ мысли и баланс между разными державами и центрами силы смог почти на сто лет сохранить мир в Европе XIX века, то почему мы не сможем добиться этого в наши дни в глобальном масштабе?
В последние тридцать лет Китай является крупнейшей развивающейся страной и самой быстрорастущей экономикой мира. Россия, которой нет равных по запасам природных ресурсов, переживает самую глубокую трансформацию со времени окончания холодной войны. Соединенные Штаты, несмотря на трудности, с которыми они сталкиваются, остаются непревзойденной мировой сверхдержавой.
В эпоху холодной войны аналитики пристально изучали трехсторонние отношения между КНР, США и СССР. Ни до, ни после связи каких-либо трех держав не влияли на исторический процесс столь сильно и глубоко. И сегодня контакты между Китаем, Соединенными Штатами и Россией остаются важным, а, возможно, и решающим элементом формирования мировой архитектуры.
Россияне о трехсторонних связях
Российские ученые в целом позитивно настроены по поводу будущего отношений Китая, США и России. Большинство исследователей считает, что Пекину и Москве следует углублять сотрудничество, учитывая схожий исторический опыт, взаимную экономическую и геополитическую дополняемость, а также общность позиции по многим мировым вопросам. Взаимодействие с КНР позволит России успешно справляться с вызовами и давлением, которое она испытывает на других направлениях. Ряд специалистов полагает, что нужно укреплять отношения преимущественно с западными странами. Наконец, третья точка зрения заключается в том, что России необходимо развивать кооперацию вплоть до заключения стратегического альянса с Западом, сохраняя при этом тесные связи с Китаем.
Евгений Бажанов, известный российский китаист, напоминает о том, что предпринимавшиеся ранее попытки строить треугольники по схеме «двое против одного» заканчивались неудачами. В качестве примера можно привести альянс Китая с Россией против США в годы холодной войны, а также стремление Запада после развала Советского Союза привлечь Москву к сдерживанию Пекина. Сейчас некоторые американские ученые вновь полагают, что Москве и Вашингтону требуется тесное сотрудничество для противодействия экономическому и политическому усилению КНР. Однако Россия не желает изолировать себя от Китая и тем более быть его противником, поскольку ее главная цель – модернизация экономики и решение многочисленных внутриполитических проблем. Это означает, что не может быть и речи о долгосрочном американо-российском союзе против Китая или долгосрочном китайско-российском союзе против Соединенных Штатов. В длительной перспективе треугольник Китай–США–Россия будет неизбежно представлять собой три обособленных центра силы.
Игорь Зевелёв и Михаил Троицкий, авторы статьи «Россия и Китай в зеркале политики США», опубликованной в 2007 г. в журнале «Россия в глобальной политике», полагают, что Москве следует делать ставку на сотрудничество с Западом, тем более что для этого существует множество разнообразных институтов. Вообще изначально условия для совместной работы с Западом у России были более благоприятными, чем у Китая, правда, в настоящее время у КНР это получается лучше. Выбором для России, если следовать данной логике, должно быть балансирование между китайской моделью взаимодействия с Соединенными Штатами и позицией «младшего партнера» Америки, зависящего от нее в области безопасности.
Эдуард Лозанский в книге «Россия между Америкой и Китаем» (2007) обосновывает необходимость построения ровных отношений с обеими сторонами. Поддерживая дружественные связи с КНР, России следует сохранять тесные связи с другой авторитетной страной для уравновешивания влияния Пекина. Правда, эта страна, не менее весомая в мировой политике, чем Китай (понятно, что в такой роли могут выступать только Соединенные Штаты), будет ожидать от Москвы полной независимости в отношении Китая. Однако если случится конфликт между Китаем и Соединенными Штатами, и Москве придется делать выбор, она окажется в очень трудном положении. Следовательно, будущее стратегического партнерства между Россией и Китаем зависит от характера новых отношений во всем треугольнике Китай–Россия–Америка и от того, сумеют ли три державы мирно разрешать возникающие между ними противоречия.
Примечателен доклад «Россия–Китай–США: трехсторонние отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе», подготовленный в 2009 г. под руководством Василия Михеева. Авторы приходят к выводу, что отношения между каждыми двумя сторонами этого треугольника самостоятельны и не нуждаются в третьем участнике, в этих связях нет ни полного доверия, ни стремления к конфронтации, поскольку она не отвечает ничьим интересам. По мнению исследователей, главное – не использовать третью сторону для оказания давления на другого участника треугольника или принуждения его к компромиссу. Это особенно важно для реализации совместных интересов, таких, как антитеррористическая деятельность и северокорейский вопрос. Но еще более прогрессивный подход может заключаться в выработке общей позиции для понимания интересов каждой страны в условиях глобализации, которая позволит гарантировать мир в будущем.
Несмотря на разницу подходов, все они свидетельствуют об одном: вопрос взаимодействия трех держав представляет для академического сообщества очень большой интерес. Чрезвычайно важна и твердая позиция российских лидеров, нацеленных на установление более тесных отношений с Пекином, а также призывы широкой общественности к развитию контактов с Китаем. Эти факторы способствуют более доброжелательному освещению КНР в средствах массовой информации и влияют на принятие решений, касающихся отношений с Пекином. Естественно, между Китаем и Россией возникают и трения, но они не меняют общей направленности российской политики на стабильное и долговременное сотрудничество с Пекином. На самом деле это неплохие новости для Соединенных Штатов как третьей стороны.
Взгляд Запада и Китая
Некоторые западные политологи, особенно относящиеся к неоконсервативному лагерю, негативно воспринимают возможность сближения Китая и России. Наиболее яркий пример – работы Роберта Кейгана. Он бездоказательно заявляет, что и КНР, и Россия «враждебно настроены в отношении Америки», проявлениями чего он, в частности, считает неприятие Пекином и Москвой американской гегемонии и создание ШОС. Заявляя о возобновлении идейной борьбы, о конкуренции между либерализмом и автократией и о новом идеологическом разделении мира, автор сам ставит свои рассуждения на идеологический фундамент. Описывая отношения между Пекином, Вашингтоном и Москвой по окончании холодной войны, Роберт Кейган, тем не менее, размышляет исключительно в логике этого конфликта, повсюду находя приметы антагонизма. Так, когда Россия начала контрнаступление на грузинские войска в Южной Осетии 8 августа 2008 г. – в день открытия Олимпийских игр в Пекине, – Роберт Кейган утверждал, что это совместная акция мировой авторитарной системы.
Более популярная в Соединенных Штатах точка зрения заключается в том, что ухудшение отношений между Белым домом и Кремлем прокладывает путь к сближению Пекина и Москвы. Наиболее ярким ее выразителем является Кристофер Марш, директор азиатских исследований в Бэйлорском университете. В своей статье «Россия разыгрывает китайскую карту», написанной для журнала National Interest, он напоминает, что фундаментальное расхождение интересов США и России в Восточной Европе и Центральной Азии прервало короткий медовый месяц двух стран после завершения холодной войны. В то же время напряженность в китайско-американских отношениях сохранялась по причине всемирной военной экспансии Соединенных Штатов и вопроса о статусе Тайваня. На этом фоне происходит беспрецедентное сближение Китая и России. Однако, с точки зрения Марша, две страны не намерены создавать антиамериканский альянс, хотя КНР выгодно иметь под боком более сильную и дипломатически независимую Россию, которая проводит прагматичную политику и дистанцируется от Вашингтона. Многие в России обеспокоены усилением Китая и тем, что Пекин, возможно, займет место Москвы на международной арене, и все же Россия более решительно, чем другие крупные державы, настроена на сотрудничество с Китаем.
Марш усматривает сходство между нынешними китайско-российскими отношениями и американо-британскими отношениями после окончания Второй мировой войны. Россия надеется доказать свою значимость в мировой политике, участвуя в разрешении таких конфликтов, как кризис в Косово и корейская ядерная проблема, и в этом она подобна Великобритании, которая переживала закат могущества после Второй мировой войны. Китай, в свою очередь, больше напоминает усиливающуюся в то время Америку, и, перестав несколько десятилетий тому назад называть Россию «старшим братом», не считает старшим братом и себя, надеясь строить отношения с северным соседом на основе равенства.
Марш предупреждает, что США должны проводить более дружественную политику в отношении этих двух государств, потому что в противном случае Вашингтон может подтолкнуть Москву и Пекин к созданию союза, а это чревато более серьезными последствиями, чем однобокая политика Китая после 1949 года.
Еще одна точка зрения западных исследователей – молодых и практически настроенных экспертов – отличается прагматизмом; приверженцы этой школы предсказывают разнонаправленное будущее трехсторонних отношений. Так, Эндрю Качинс, в прошлом – глава Московского Центра Карнеги, считает, что, хотя китайско-российские связи переживают небывалый подъем, с экономической и стратегической точки зрения каждая из сторон сосредоточена на решении собственных проблем, а потому их отношения оказывают ограниченное воздействие на региональную и мировую политику. Но в перспективе сотрудничество Москвы и Пекина будет напрямую влиять на Соединенные Штаты.
Качинс считает, что сотрудничество между Россией и Китаем призвано решать проблемы каждой страны, и не представляет серьезной угрозы для Соединенных Штатов. По мнению автора, с точки зрения истории, культуры, географии и экономики Россия ближе к Западу, чем к Китаю. Лишь в случае чрезвычайно значимых событий Россия может отклониться от проводимого ею после окончания холодной войны курса на взаимодействие с Западом.
Трехсторонние отношения подробно анализирует в своей книге «Ось по расчету: Москва, Пекин и новая геополитика» Бобо Ло. «Треугольник» – не то, к чему Россия стремилась сразу после холодной войны. В то время Москва тешила себя иллюзиями относительно возможности управлять миром вместе с Соединенными Штатами. Но Вашингтон отверг подобные притязания, поскольку у России, на его взгляд, не было на это оснований. С приходом на пост главы российского МИДа в 1996 г. Евгения Примакова возобладала точка зрения, что развитие отношений с Китаем могло бы помочь России увеличить стратегическую гибкость, снизить зависимость от Запада, закрепить за ней роль моста между Западом и Востоком. Бобо Ло, однако, полагает, что в 1990-е гг. Москва не добилась своих целей – она не обрела новых рычагов влияния и не сумела компенсировать утрату своих возможностей на Западе наращиванием их в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В результате Россия оказалась вытесненной на обочину политики и на Востоке, и на Западе.
При этом Бобо Ло считает, что сегодня США, Россия и Китай могут претендовать на равный статус, что уже само по себе беспрецедентно. Беды и трудности Америки почти совпали с возрождением России. Рост цен на энергоносители вкупе с подъемом российской экономики позволили стране убедительно выступить на мировой арене, не обращая внимания на критику со стороны Запада. Еще более важный фактор перемен – усиление Китая. Хотя перед Пекином стоят самые разные проблемы, начиная с поиска ресурсов, поставок энергоносителей и защиты окружающей среды, государство, похоже, неуклонно движется к тому, чтобы стать сверхдержавой в первой половине XXI века.
Бобо Ло замечает, что главным фоном отношений Китая, США и России становится геополитическая анархия. В условиях относительного ослабления Соединенных Штатов Пекину предстоит сыграть ключевую роль в деле достижения стабильности и экономического процветания. В этом смысле китайско-российская «ось по расчету» лишь отражает дух времени.
Хотя неоконсерватизм по-прежнему оказывает воздействие на американское общественное мнение, более влиятельны голоса, призывающие к поддержанию мирового порядка посредством конструктивного взаимодействия трех держав, которое может к тому же сулить немалые выгоды.
В Китае после трагедии 11 сентября 2001 г. также состоялась интересная дискуссия о будущем трехсторонних связей. Профессор Су Гэ выдвинул теорию о том, что после окончания холодной войны отношения между Китаем, США и Россией претерпели изменения, и традиционный треугольник более неактуален. Следует «двигаться вместе со временем», прилагая усилия к тому, чтобы параллельно развивать китайско-американские и китайско-российские отношения во имя мира во всем мире. Однако некоторые политологи высказываются осторожнее. Например, Ши Сяохуй считает, что Россия возвращается к сотрудничеству с Западом и интеграции в западное сообщество после более чем десятилетних испытаний и метаний, поэтому отношения Вашингтона и Москвы переходят на новый уровень. С учетом глубочайших изменений в мировом сообществе после окончания холодной войны следует уделять большое внимание тому, будет ли улучшение отношений между Соединенными Штатами и Россией оказывать негативное влияние на китайско-российские и китайско-американские отношения.
Го Чжэньюань и ряд его коллег полагают, что, хотя события 11 сентября 2001 г. привели к переменам в трехсторонних отношениях, они лишь незначительно повлияли на развитие этих связей. Сочетание сотрудничества и конкуренции и без того становилось все более очевидным, и позиция Китая в трехсторонних отношениях укрепилась.
Как отметил Ян Цземянь в статье «Трехсторонние отношения между Китаем, США и Россией и их особенности», финансовый кризис открыл новые возможности. Все три стороны стремятся к дальнейшему развитию многосторонних отношений путем активной кооперации на мировом, региональном и субрегиональном уровнях. Хотя любые из двусторонних отношений в рамках треугольника имеют свою специфику и трудности, а механизм координации трехсторонних связей далек от совершенства, они будут, без сомнения, развиваться и дальше. Китайские ученые в полной мере отдают себе отчет в том, что трехсторонние отношения – это важная область международных связей, поскольку в долгосрочной перспективе они могут повлиять и на общую международную конфигурацию и внешнюю политику Китая.
Особенности трехсторонних отношений
После окончания холодной войны важность трехсторонних отношений становится все более очевидной. Пришло понимание того, что от их стабильного развития зависит устойчивость глобального мира, поэтому они важнее традиционных идеологических различий.
Хотя прогнозировать будущее очень сложно (международное сообщество вступило в переходный период в смысле формирования новых силовых конфигураций и интерпретации истории), США остаются ведущей мировой силой. В то же время сотрудничество между быстрорастущими экономиками и координация усилий обеспечивают относительную стабильность и равновесие мирового сообщества, и решительный поворот вспять в ближайшей перспективе маловероятен. Соединенные Штаты уже не могут претендовать на роль единственной сверхдержавы. Войны в Ираке и Афганистане поставили Вашингтон в затруднительное положение, а в ходе экономического кризиса США пережили институциональную, нравственную и экономическую драму. Пекин и Москва также столкнулись с серьезными трудностями, но усиливающийся Китай и постепенно выходящая из кризиса Россия способствуют ускорению сдвига в структуре международных отношений. Однако меняющееся соотношение сил пока не нашло полного отражения в архитектуре международных институтов.
Сближение России и Китая, происходящее с середины 1990-х гг., – следствие глубоких геополитических перемен. Во многом оно стало результатом давления Запада, которое поставило Россию и КНР перед одинаковыми вызовами. С одной стороны, расширение НАТО и Евросоюза, «цветные» революции, планы размещения системы противоракетной обороны в странах Центральной и Восточной Европы вызывают озабоченность России. С другой – Вашингтон укрепил традиционные союзнические отношения с некоторыми странами Азиатско-Тихоокеанского региона в качестве противовеса и меры сдерживания Китая. Хотя китайские принципы выстраивания отношений с Соединенными Штатами и их союзниками представляются более гибкими, чем конфронтационная конкуренция между Россией и Западом (по крайней мере, до последнего витка сближения), по сути, Москва и Пекин испытывают одинаковый по силе геополитический прессинг. Противоречие между экономическим сотрудничеством и давлением геополитических разногласий вообще характерно для современных международных отношений.
При этом внутриполитическое устройство Китая и России весьма сходно. То, что неоконсерваторы клеймят как «авторитарный капитализм», в действительности есть стремление двух стран выстроить рыночную экономику и централизованно демократизировать общество с опорой на мощный административный ресурс и с учетом внутренних обстоятельств. Долгосрочной целью и китайских, и российских реформаторов всегда было укрепление демократии и углубление рыночных реформ.
Наконец, трехсторонние отношения представляют собой сравнительно асимметричный и динамичный процесс. Так, в области экономики китайско-американские отношения, в которых многие видят локомотив мирового экономического развития, значительно интенсивнее российско-американских. В энергетической сфере Россия и Америка попытались выстроить взаимодополняющие отношения в начале 2000-х гг., но пока они еще не получили серьезного развития. А вот китайско-российское энергетическое взаимодействие характеризуется хорошей динамикой. Можно смело утверждать, что, развивая связи с обеими державами, Китай оказывается наиболее активным на экономическом поле.
В стратегической области связи России и Америки крепче, чем Китая и США. Вполне естественно, что две страны, обладающие самыми большими ядерными арсеналами в мире, уделяют большое внимание стратегическому сотрудничеству. Перезагрузка между Москвой и Вашингтоном, включавшая, в частности, подписание нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, говорит о готовности сторон к улучшению отношений, но нужно время, чтобы понять, что может происходить дальше.
В большинстве международных организаций Америка по-прежнему играет незаменимую роль, которая, однако, постепенно все больше оспаривается. В то же время расширяется и углубляется кооперация Китая и России в ООН, «Большой двадцатке» и Совете стран БРИК. Различный вес Китая, США и России в международных структурах не означает, что эти державы не могут сотрудничать друг с другом, и это еще один примечательный аспект трехсторонних отношений. Доказательством может служить резолюция СБ ООН по Ирану, принятая весной 2010 года.
Показательно, что, несмотря на доминирующее влияние России в Центральной Азии, а также стратегическую и экономическую интервенцию Соединенных Штатов в этом регионе, после событий в Киргизии Москва и Вашингтон проявили осмотрительность и сдержанность. И это осознание ограниченности возможностей лишний раз доказывает, что только развитие многосторонних отношений может стать гарантией стабильности.
Сравнивая Китай и Россию, мы сталкиваемся еще с одним проявлением асимметрии. Россия является членом «Большой восьмерки» и установила рабочие институциональные отношения с НАТО – единственной на сегодняшний день организацией в области безопасности и коллективной обороны, но Москва до сих пор находится за бортом ВТО. Китай же не выстроил официальных связей с НАТО и не входит в «Большую восьмерку», однако несколько лет тому назад присоединился к ВТО, пройдя очень сложную процедуру.
В культурном отношении, хотя Россия и США являются частью христианского мира, разница между восточным православием и западным христианством приводит к нестыковкам в разных областях – от культурных традиций до идеологии. Зато Китай может похвастаться долгой историей культурного обмена с обеими странами и понимает их не хуже, а в некоторых отношениях даже лучше, чем они понимают Китай. Таким образом, у Пекина есть свои преимущества в трехстороннем культурном обмене.
Признавая асимметрию отношений, Бобо Ло предлагает для их выстраивания позитивный метод, при котором главное внимание уделяется «терпимому отношению к различиям», а не просто стратегическому равновесию. По сравнению с обычным подходом достижения стратегического баланса, при котором главное внимание уделяется победе одного над другим, подход, подчеркивающий необходимость понимания различий и важность взаимной терпимости, а также взаимодействие идей и интересов, может привести к окончательному завершению холодной войны.
Трехсторонние отношения и устойчивость мира во всем мире
Изменения в глобальной расстановке сил – это результат политических игр, сравнительно независимый от воли народов. В противном случае две катастрофические мировые войны не разразились бы после того, как люди уже долго страдали от опустошительных войн. Вместе с тем, история человечества знавала периоды длительного мира и стабильности, такие как «столетний мир» при Венской системе XIX века, так называемый «век Меттерниха». Внимательный анализ этой исторической эпохи приводит нас как минимум к двум важным мыслям.
Во-первых, после установления Венской системы Европа вступила в период сосуществования и переплетения классического либерализма, социализма (не того, который впоследствии строили в СССР, а того, что заложил основу европейской социал-демократии) и национализма. По сути именно подобная модель, в рамках которой совмещались бы различные системы взглядов, и нужна сегодня для успешного выстраивания трехсторонних отношений. Несмотря на нескончаемые идеологические нападки Запада на Китай и Россию, эти державы, как и Соединенные Штаты, имеют свои планы развития современной рыночной экономики и демократической правовой системы, которые соответствуют их собственным условиям. Установки и политика трех держав сегодня больше напоминают эпоху Вестфальского мира, в основе которой лежит суверенитет национальных государств, нежели современную Европу. Следовательно, вполне разумно искать точки соприкосновения между тремя странами с целью поощрения сосуществования и взаимной терпимости, какие бы концептуальные разногласия их ни разделяли.
Во-вторых, столь же важной предпосылкой устойчивого «столетнего мира» в Европе XIX века, как сосуществование трех школ мысли, было геополитическое равновесие конкурирующих игроков. Если сосуществование различных школ мысли и баланс между разными державами и центрами силы смог почти на сто лет сохранить мир в Европе XIX века, то почему мы не сможем добиться его в наши дни в глобальном масштабе?
Европа позапрошлого столетия, конечно, отличается от современного глобального устройства. Тогда поддержание мира и баланса сил на континенте было возможно благодаря тому, что соперничество между европейскими державами разыгрывалось вдали от Старого Света и заключалось в борьбе за заморские колонии. Однако углубляющийся процесс глобализации дает возможность разным странам и регионам осуществлять взаимовыгодный обмен товарами и идеями. Перспективы мирного сосуществования разных государств и цивилизаций – не такая уж недостижимая мечта. Нет нужды говорить о том, что, имея более богатый опыт в этом отношении, Китай, США и Россия должны брать на себя больше ответственности и вносить более существенный вклад в построение нового международного порядка.
Фэн Шаолэй – декан Школы международных и региональных исследований, директор Центра исследований России Педагогического университета Восточного Китая, член Китайско-российского комитета дружбы, мира и развития, главный редактор журнала «Российские исследования».

Валютные войны
Кто оплатит выход из кризиса?
Резюме: Инструменты, имеющиеся у мирового сообщества для урегулирования валютного спора между США и Китаем, весьма ограничены. При неблагоприятном сценарии конфликт выльется в общий рост протекционизма. В случае второго витка долгового кризиса он приобретет геополитическое измерение.
«Сегодня, как и в прошлом, обострение экономических и финансовых проблем приводит к нарушению социального равновесия, подрыву демократии, падению доверия к институтам, и может перерасти в войну – гражданскую или международную».
Доминик Стросс-Кан, директор-распорядитель МВФ, 8 декабря 2010 года
В 1990-е гг. Международный валютный фонд с подачи Соединенных Штатов настойчиво рекомендовал странам с переходными экономиками привязывать обменные курсы к сильным и устойчивым мировым валютам, то есть к американскому доллару. Жесткие курсы минимизировали валютные риски зарубежных инвесторов и таким образом стимулировали приток иностранных капиталов, особенно в страны Юго-Восточной Азии.
В середине десятилетия США подняли ставки для борьбы с инфляцией. Чтобы удержать фиксированные курсы, развивающиеся страны были вынуждены тоже поднять ставки. Их валюты стали дорожать, что тормозило экспорт и увеличивало внешнюю задолженность. В 1997 г. на фоне обрушения тайского бата, индонезийской рупии, филиппинского песо и малайзийского ринггита Юго-Восточная Азия оказалась во власти сильнейшего финансового кризиса.
Понесенный ущерб фактически был той ценой, которую страны региона заплатили за одностороннее приспособление к денежно-кредитной политике Вашингтона. Теперь, 15 лет спустя, угроза односторонней адаптации нависла над Соединенными Штатами. Огромный дисбаланс по внешним расчетам, особенно с Китаем, делает американцев зависимыми от курса юаня. Впервые в современной истории страна – эмитент главной мировой валюты борется за проведение независимой экономической политики. До сих пор это право принадлежало ей безоговорочно и безраздельно.
Линия фронта
После окончания острой фазы кризиса главным стал вопрос о том, кто заплатит за восстановление экономического роста. Средства платежа определены заранее – безработица и снижение уровня жизни.
По официальным данным, рецессия в США закончилась в середине 2009 года. В четвертом квартале 2009 г. и в первом квартале 2010 г. ВВП рос со скоростью 4–5% годовых. Но во втором и третьем кварталах, когда отменили фискальные стимулы, темпы упали до 2% годовых. А этого явно недостаточно для сокращения безработицы, которая за время кризиса увеличилась вдвое – с 5 до 10% рабочей силы. Из потерянных к концу 2009 г. 8,4 млн рабочих мест за последующие три квартала удалось восстановить только 900 тысяч.
В начале ноября руководство Федеральной резервной системы (ФРС) объявило о втором этапе количественного смягчения: до конца второго квартала 2011 г. планируется скупить казначейских облигаций на общую сумму в 600 млрд долларов. Глава ведомства Бен Бернанке, выступая 19 ноября во Франкфурте-на-Майне, так объяснял это решение: «При нынешней траектории экономического развития Соединенные Штаты подвергаются риску иметь на протяжении многих лет миллионы безработных… Как общество мы должны признать этот выход неприемлемым». Согласно позиции ФРС, поддержка экономического роста в США вносит вклад в общий рост мировой экономики, а также повышает устойчивость доллара, который играет ключевую роль в международной валютно-финансовой системе.
Правда, ФРС умалчивает, что дальнейшая накачка долларовой ликвидности способствует долговременному обесценению доллара. А также о том, что дополнительная эмиссия всегда ведет к инфляции, и только страна с доминирующей в мире валютой может, по меткому выражению французского экономиста Жака Рюэффа, позволить себе «дефицит без слез». ФРС привычно рассчитывает на то, что новая порция избыточной долларовой массы будет размазана по миру, и потому не вызовет всплеска цен в самих Соединенных Штатах. То есть в денежно-кредитной политике Вашингтон действует по праву сильнейшего игрока: защищает национальные интересы и не слишком беспокоится об интересах партнеров.
Но есть сфера, где эта независимость уже нарушена. Речь идет о хроническом дисбалансе внешних расчетов США по текущим операциям, в том числе о значительном превышении импорта над экспортом (Рис. 1). В 2008 г. отрицательное торговое сальдо превысило 800 млрд долларов, увеличившись с 2001 г. вдвое. За тот же период времени дефицит в торговле с Китаем вырос в 3,2 раза, а доля КНР в данном показателе поднялась с 20 до 32%. Уже в 2004–2005 гг. Соединенные Штаты всерьез озаботились проблемой недооцененного курса юаня и начали требовать от Пекина его ревальвации. Американская позиция нашла поддержку на встречах министров финансов G7. Результатом этой кампании стало то, что Народный банк Китая (НБК), то есть центробанк, официально перешел от фиксированного курса юаня к управляемому плаванию.
Рис. 1. Баланс США по торговле товарами в 2001–2010 гг., млрд долл.

Примечание: 2010 г. – данные за 10 месяцев. Источник: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division
В июле 2005 г. обменный курс, находившийся долгие годы на отметке 8,28 юаня за 1 доллар, повысился до 8,11. Следующие три года он плавно рос и в сентябре 2008 г. достиг 6,82 юаня за доллар. В общей сложности за это время юань подорожал на 20%. Дальше случился глобальный кризис. Инвесторы стали уходить из валют развивающихся стран в доллары, считавшиеся самым надежным вложением. Хотя США находились в эпицентре кризиса, доллар испытал повышательное, а не понижательное давление рынков – исключительно благодаря статусу главной мировой валюты. Соответственно, укрепление юаня к доллару прекратилось, но, в отличие от многих других валют развивающихся стран, юань не обесценивался. Полтора года курс стоял на месте, а летом 2010 г. наметилось новое, очень осторожное повышение.
По итогам 2009 г. Соединенные Штаты значительно сократили импорт – с 2,1 до 1,6 трлн долларов, что позволило на 40% уменьшить дефицит торгового баланса – с 840 до 500 млрд долларов. В торговле с Китаем успех был минимальным, в результате на него пришлось чуть менее половины всего внешнеторгового сальдо США. Данные за десять месяцев 2010 г. немного лучше, но общей картины они не меняют. Американские власти убедились, что они могут сократить дефицит по внешним расчетам, но, увы, не с Китаем. Поднять пошлины на китайские товары или ограничить их ввоз количественно не позволяют правила ВТО. Остается только заставить Пекин ревальвировать юань. Для этого Вашингтону нужна широкая международная поддержка, особенно в лице МВФ и «Большой двадцатки».
На последнем саммите G20, состоявшемся 11–12 ноября 2010 г. в Сеуле, вопросам курсообразования придавалось первостепенное значение. В принятом совместном плане действий на первом месте значатся меры, призванные «обеспечить дальнейшее восстановление и устойчивый рост [мировой экономики], а также повысить стабильность финансовых рынков, в особенности за счет движения к рыночным системам курсообразования и поощрения гибкости валютных курсов». Участники саммита заявили о стремлении «воздерживаться от конкурентных девальваций». Развитым странам с резервными валютами было рекомендовано «избегать излишней волатильности и беспорядочных колебаний обменных курсов».
Саммит ясно обнаружил две точки зрения на происходящее в мировой валютной системе – развитых и развивающихся стран. У первых (главным образом в лице Соединенных Штатов) вызвал недовольство заниженный курс юаня и то, что были девальвированы некоторые другие валюты быстро растущих экономик. Вторые обеспокоены сильными колебаниями курсов доллара и евро, а также безответственной, по их мнению, денежно-кредитной политикой Вашингтона. И тех и других курсы валют волнуют по той причине, что в них сегодня уперся вопрос о глобальной стратегии возобновления экономического роста. То есть о том, какие страны будут на выходе из кризиса руководствоваться исключительно национальными интересами, а каким придется приспосабливаться к политике более сильных игроков. Важны не курсы сами по себе, а то, кто сможет навязать свою волю партнерам и переложить на них плату за восстановление мировой экономики.
Пекин, как и следовало ожидать, полностью отвергает обвинения США в заниженном курсе юаня. Согласно официальному заявлению, с 19 июня 2010 г. НБК перешел к более гибкому режиму курсообразования. Он также начал кампанию по подготовке китайских предприятий и банков к более частым и значительным колебаниям юаня. Экспортерам рекомендуется переключаться с трудо- и ресурсоемких производств на выпуск технологически сложных изделий, а также вкладывать средства в сферу услуг. Считается, что ее развитие позволит нарастить емкость внутреннего рынка, снизить зависимость от внешних рынков и создать множество рабочих мест.
Заместитель управляющего НБК Ху Сяолянь в заявлении, сделанном 30 июля 2010 г., главными целями экономической политики страны назвала экономический рост, полную занятость, ценовую стабильность и баланс расчетов НБК. По ее словам, «реформа режима обменного курса продемонстрировала международному сообществу приверженность Пекина задаче достижения глобального экономического баланса и обеспечения более благоприятного международного климата», притом что «плавающий курс юаня характеризует Китай как …ответственного участника мирового сообщества». Словосочетание «валютные войны» в официальных материалах НБК по понятным причинам не упоминается.
Куда более свободно и напористо выражает свои мысли Сяо Ган, председатель Совета директоров Банка Китая, одного из крупнейших коммерческих банков страны, бывшего до недавнего времени государственным. Его двухстраничная статья «Валютная война без победителей», опубликованная 12 ноября 2010 г., производит впечатление внешнеполитического ультиматума. Первый абзац звучит отрывисто, как выстрел: «Перекладывание государственного долга на другие страны, блокирование китайских инвестиций и ограничение экспорта нанесут ущерб восстановлению мировой экономики».
Федеральная резервная система Соединенных Штатов прямо называется «главной силой, подрывающей доллар», а политика денежного смягчения – опасной. «При процентных ставках, близких к нулю, страна снова печатает деньги, проталкивая их на американские рынки, откуда они растекаются по всему миру. В результате доверие к доллару подрывается, инфляционные ожидания растут, а цены на сырьевые товары бьют новые рекорды. Еще хуже то, что обесценение доллара уже негативно сказалось на экономике и валютах других стран, которые в ответ вынуждены ограничивать движение капитала или проводить интервенции на валютных рынках». По словам господина Сяо, США проводят политику разорения соседа, пытаясь интернационализировать госдолг, образовавшийся вследствие национализации частных долгов в период кризиса.
Особенно показательной является фраза, брошенная как будто невзначай, хотя в этом манифесте нет ни одного случайного слова: «Распределение накопленного долга по миру путем ослабления доллара заставит другие страны принять меры по защите своих валют, и, в конечном счете, изолирует доллар от тех, кто им пользуется. Поэтому Соединенным Штатам следует воздержаться от второго этапа количественного смягчения» (курсив мой. – О.Б.). Устами Сяо Гана Пекин сообщает Вашингтону, что век доллара не бесконечен, что его судьба зависит от доброй воли миллионов рядовых участников рынка, которых никто не может заставить использовать ту или иную валюту для заключения сделок. О том, что будет с курсом доллара, если Китай начнет диверсифицировать свои официальные резервы, достигающие 2,6 трлн долларов, говорить не приходится.
За китайской стеной
Действующий в Китае режим обменного курса власти именуют регулируемым плаванием, однако МВФ расценивает его как фиксированный – исходя из реального движения котировок. Возникает вопрос: почему Китай не переходит к свободному плаванию, то есть к курсу, который бы целиком определялся спросом и предложением на валютном рынке? Попытаемся ответить.
В финансовой сфере любая страна сталкивается с «магической триадой»: фиксированный курс, автономия денежно-кредитной политики и либеральный режим движения капиталов. Из трех условий можно выбрать только два, третьим приходится жертвовать. Когда центральный банк повышает или понижает ставку рефинансирования (иначе – учетную ставку), это приводит к соответствующему повышению или снижению всех остальных процентных ставок в экономике и заодно – доходности ценных бумаг с плавающим процентом. Зарубежным инвесторам становится более или менее выгодно, чем раньше, вкладываться в местную валюту. При росте процентной ставки их спрос на валюту растет, а при падении – падает. Приток или отток капиталов в страну толкает вверх или вниз курс местной валюты. То есть при свободном движении капиталов процентная политика самым прямым образом воздействует на обменный курс.
На практике это выливается в три возможные схемы. Первая – фиксированный курс плюс независимая денежно-кредитная политика и минус свободное движение капиталов. Именно эту схему практикует сегодня Китай. Вторая – фиксированный курс плюс свободное движение капиталов и минус независимая денежно-кредитная политика. Данная комбинация наиболее уязвима, поскольку денежные власти теряют возможность проводить антициклическое регулирование экономики. В периоды кризиса они обязаны любой ценой держать валютный курс, жертвуя интересами реального сектора. Именно это произошло в 2008–2009 гг. со странами Балтии, чьи национальные валюты были привязаны к евро в рамках механизма обменных курсов – 2 (МОК-2). Не случайно Эстония с 1 января 2011 г. поспешила перейти на евро, чтобы, наконец, освободить национальную экономику от валютного пресса. Третья схема – плавающий курс плюс независимая денежно-кредитная политика и свободное движение капиталов. Ее придерживаются все промышленно развитые страны и, естественно, эмитенты резервных валют.
При всем многообразии режимов обменного курса (валютное управление, фиксированный курс, валютный коридор, управляемое плавание и свободное плавание) главные баталии разворачиваются вокруг выбора между фиксированным и плавающим курсом. Их влияние на макроэкономическую политику одним из первых описал американский экономист Милтон Фридман, который еще в начале 1950-х гг. показал несостоятельность Бреттон-Вудской системы фиксированных курсов. Выкладки Фридмана подразумевали свободное движение капиталов, однако до начала 1990-х гг. почти все страны сохраняли валютные ограничения, а технические возможности систем трансграничных расчетов оставались весьма скромными. Рост информационных технологий, переход социалистических и развивающихся стран к открытой рыночной экономике, а также повсеместная отмена валютных ограничений радикально изменили обстановку на финансовых рынках.
Первый звонок прозвучал в 1992–1993 гг., когда под ударами спекулянтов были девальвированы фунт стерлингов, итальянская лира, шведская крона и еще несколько европейских валют. Валютный коридор, в рамках которого они привязывались к ЭКЮ (официально он именовался механизмом совместного плавания), оказался ненадежным укрытием в условиях развитых и подвижных финансовых рынков. Экономисты заговорили о том, что половинчатым решениям в курсовой политике приходит конец. Это только укрепило решимость стран ЕС перейти к единой валюте, незадолго до этого провозглашенной Маастрихтским договором. После кризисов в Юго-Восточной Азии и России 1997–1998 гг. вопрос о том, быть ли курсу фиксированным или плавающим, окончательно перебрался из учебников экономической теории на торговые площадки и в правительственные кабинеты.
С этого момента в мировой структуре валютных режимов началось вымывание середины. На Рис. 2 показано, как менялось число стран, практикующих различные валютные режимы. Для корректного сравнения из статистики исключены 34 страны с населением менее 1 млн человек (29 из которых имеют фиксированные курсы) и 14 государств Западноафриканского и Центральноафриканского валютных союзов (ЗАВС, ЦАВС). По данным МВФ, из оставшихся почти 140 стран в 1996 г. де-факто фиксированный курс имели 26, а в 2010 г. – уже 45. Число стран со свободным плаванием возросло за указанное время с 53 до 66. Правда, в 2009 г. МВФ изменил методику классификации валютных режимов, что добавило очков данной категории. Количество государств, практикующих смешанные режимы (валютные коридоры и управляемое плавание), сократилось в два с лишним раза – с 55 до 25.
Рис. 2. Режимы обменных курсов стран МВФ с населением более 1 млн человек в 1996–2010 гг.
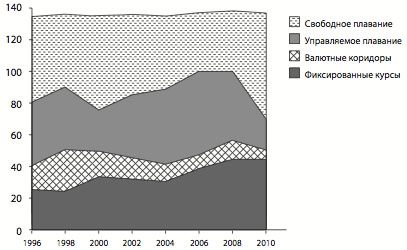
Примечание. МВФ дает сведения о реальных, а не декларируемых странами курсовых режимах. В группу стран с фиксированными курсами включены государства, практикующие также режим валютной палаты и официально отказавшиеся от национальных денежных единиц.
Источник: IMF Annual Report за соответствующие годы
Как видно, сегодня мировая практика не дает однозначного ответа в пользу свободного плавания. Да, его применяют все промышленно развитые страны и многие государства с формирующимися рынками, в том числе Мексика, Аргентина, Колумбия, Чили, Индонезия, Филиппины, Таиланд, Турция, Венгрия и Польша. Тем не менее, число стран, считающих необходимым избавить свой бизнес и население от валютных колебаний, неуклонно растет. Кроме Китая, к этой группе в 2010 г. относились, например, Гонконг, Бангладеш, Ирак, Шри-Ланка, Вьетнам, Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Катар, Бахрейн, Иордания, Кувейт, Ливия, Марокко, Намибия, Сирия, Тунис, Боливия, Венесуэла, Дания, Болгария, Латвия, Литва и Эстония. В списке мы видим не только крупный финансовый центр – Гонконг – но и богатых нефтеэкспортеров, а также членов Европейского союза.
Хотя международные институты обычно пропагандируют либеральный режим движения капиталов, его издержки не скрываются. В последнем «Глобальном докладе о финансовой стабильности», опубликованном МВФ в апреле 2010 г., говорится, что приток капиталов в страну расширяет базу для финансирования экономики, особенно в странах с недостаточными сбережениями, и содействует развитию финансовых рынков. Если же реальный сектор неспособен принять значительные объемы поступающих в страну инвестиций, это приводит к неадекватному расширению внутреннего спроса, перегреву экономики, инфляции и повышению реального обменного курса национальной валюты. Массированный приток капиталов «может также вызвать вздутие цен на фондовые активы и повышение системных рисков в финансовом секторе – в отдельных случаях даже при надлежащем надзоре и эффективной работе регуляторов». Далее эксперты МВФ честно признают, что эффективность контроля над движением капиталов оказывается тем выше, чем дольше он действует. Иначе говоря, сняв ограничения однажды, их нельзя ввести вновь, рассчитывая на прежний результат.
То есть фиксированный курс юаня вкупе с ограниченным движением капиталов необходимы Китаю для того, чтобы обеспечить управляемость национальной экономики. Легко представить, как это важно для страны с огромным населением, низким уровнем жизни и не поддающейся подсчету безработицей (по разным оценкам, она составляет от 30 до 150 млн человек). Сменив парадигму, Пекин улучшит условия для выхода из кризиса Соединенных Штатов, но оставит без тормозов собственную экономику. Возможно, через несколько лет обстоятельства изменятся, и страна проведет полную либерализацию валютной сферы. Но сейчас цена такого перехода была бы необоснованно высокой.
Мирные переговоры
Международная финансовая архитектура нуждается в коренной перестройке, с этим согласны все. Специалисты даже говорят о третьем Бреттон-Вудсе. Подразумевается, что действующая с 1971 г. система будет заменена на что-то кардинально иное. Главные направления реформы хорошо известны: изменение правил МВФ и его политики регулирования текущих балансов, совершенствование надзора за финансовыми рынками и использованием новых инструментов, учет возросшей роли развивающихся стран в мировых финансах, увязка действий МВФ и ВТО с тем, чтобы не допустить роста протекционизма.
Движение к новой системе займет несколько лет, возможно, десять и более. А решать вопрос конкурентных девальваций предстоит сейчас. Какие же для этого имеются средства?
Надо сказать, что вопрос о «правильном» обменном курсе – один из самых загадочных в современной экономике. Есть мнение, что, пока в ходу были монеты из благородных металлов, их обмен не вызывал проблем. Но это не так. Первые монеты появились в VI в. до н. э., а уже в III–II вв. до н. э. в Риме внутреннее денежное обращение было отделено от внешнего. В пределах государства ходили денарии и тяжелые бронзовые отливки полновесной монеты – aes grave. Для нужд внешней торговли чеканились монеты из серебра и легкой меди, не имевшие в самой метрополии официального статуса. Во второй половине XIX века большинство стран мира перешло с серебряного стандарта на золотой. Международная торговля велась исключительно на золото, а позже – на переводные векселя в фунтах стерлингов. Так или иначе, до краха Бреттон-Вудской системы обменные курсы базировались на золотом содержании валют.
Когда в 1971 г. это мерило исчезло, на первый план вышла концепция паритета покупательной способности (ППС), разработанная шведским экономистом Густавом Касселем. Согласно ей, валютный курс уравнивает количество товаров и услуг, которые можно приобрести за данную денежную единицу в стране-эмитенте и в другой стране после конвертирования. Увы, на практике ППС почти никогда не соблюдается. Известно, что за один доллар в Индии можно купить намного больше товаров, чем в Швейцарии. Внутренние цены сильно зависят от цен на местное сырье, топливо и рабочую силу. А поскольку в международную торговлю попадает не более трети всех производимых в мире товаров и услуг, то валютный курс не может и не должен отражать общего соотношения цен между странами. Как правило, обменные курсы развивающихся стран отклоняются вниз от ППС, а развитых – вверх (Рис. 3).
Рис. 3. Отношение номинального курса национальных валют к паритету покупательной способности в 2009 году
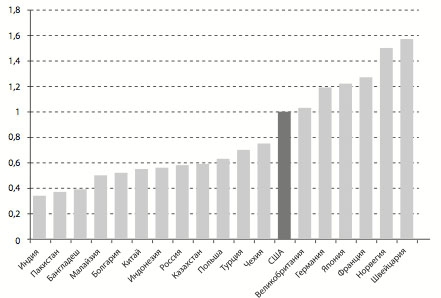
Примечание: рассчитано на основе вмененного курса международного доллара, используемого МВФ. Источник: World Economic Outlook Database, IMF
По данным МВФ, в 2009 г. текущий курс юаня составлял 55% от ППС, что находилось в одном ряду с показателями других развивающихся стран Азии. В России курс равнялся 58%, а в Польше – 63% ППС. Приведенные цифры не позволяют утверждать, что курс юаня в настоящее время занижен. Точно так же, как нельзя считать завышенными курсы норвежской кроны и швейцарского франка, хотя они в полтора раза выше ППС. Здесь уместно вспомнить девальвацию рубля в августе 1998 года. Кризис наступил в момент, когда курс поднялся до 70% ППС. По мнению многих аналитиков, для России – страны с переходной экономикой – данный уровень был завышен и не соответствовал рыночным реалиям. То, что сейчас курс рубля находится на более низкой отметке по отношению к ППС, усиливает эмпирическое обоснование данного утверждения.
Кроме ППС, существует несколько моделей равновесного курса. Их цель – рассчитать, при каком курсе экономика страны будет находиться в состоянии внутреннего и внешнего равновесия. Речь идет о нулевом или минимальном сальдо баланса по текущим расчетам, низкой инфляции, минимальной безработице и устойчивых темпах роста. Хотя данные модели позволяют выяснять, какой уровень курса лучше отвечает задачам экономического развития конкретной страны, они непригодны для международных сравнений. Тем более с их помощью невозможно измерить «справедливость» курсовых соотношений.
Трудно себе представить, как мировое сообщество могло бы заняться урегулированием валютного конфликта между США и Китаем, перейди он в острую фазу. Величина искомого курса неизвестна, а инструменты воздействия на участников поединка крайне ограничены. Да, G20 рекомендовала странам с активными балансами текущих расчетов наращивать внутренний спрос, а странам с пассивными балансами увеличивать размер сбережений и стимулировать экспорт. Начать первым, конечно, не захочет никто. Вернее, обе стороны осуществят небольшие подвижки, не противоречащие их текущим интересам. Китай, например, уже неоднократно повышал ставку рефинансирования и норму обязательного резервирования.
Решения G20 не имеют обязательной силы, и проведение их в жизнь зависит от приверженности участников общим целям. Средства принуждения возникают у МВФ, но только когда страна обращается к нему за кредитом. Изначально фонд создавался для помощи развивающимся и бедным странам на случай, если их отрицательное сальдо по внешним расчетам ведет к резкому обесценению национальной валюты. Механизмы МВФ не рассчитаны на то, чтобы заставить страну с главной мировой валютой восстановить баланс внешних расчетов или прекратить кредитную экспансию. Точно так же фонд не обладает полномочиями на случай заниженного курса валюты при большом профиците торгового баланса. То есть конфликт США и Китая выходит за пределы мандата МВФ. Тем более им не хочет и не будет заниматься ВТО, хотя некоторые склонны толковать конкурентные девальвации как необоснованные преимущества национальным экспортерам.
Еще один широко обсуждаемый выход – возвращение (частичное или полное) к золотому стандарту. С началом кризиса тема приобрела всемирную популярность, в России же с ностальгией стали вспоминать золотой червонец периода НЭПа. 8 ноября 2010 г. новостные ленты многих стран сообщили, что глава Всемирного банка Роберт Зеллик предложил привязать валюты ведущих экономик мира к золоту. Ничего подобного профессиональный экономист сказать, конечно, не мог. Дословно Зеллик заявил следующее: «Двадцатке следует дополнить ее программу восстановления экономики планом построения валютной системы, работающей на принципах взаимопомощи и отражающей экономические условия стран с формирующимися рынками. В новую систему, как представляется, нужно включить доллар, евро, иену, фунт и юань… Следует также рассмотреть возможность использования в данной системе золота как международного ориентира рыночных ожиданий в отношении инфляции, дефляции и будущей стоимости валют». В действительности возвращение к золоту невозможно, поскольку на этом пути лежит несколько непреодолимых препятствий.
Первое – золота недостаточно для того, чтобы обеспечить растущие потребности мировой экономики. Если курс валют будет жестко фиксирован к золоту, выпуск каждой новой банкноты должен будет сопровождаться новой порцией желтого металла, положенного в государственное хранилище. С 2004-го по март 2010 г. объем золота в резервах стран МВФ сократился с 898 до 871 млн унций (примерно с 28 до 27 тыс. тонн). Ежегодная мировая добыча золота держится в последние годы на уровне 2,5 тыс. тонн и не увеличивается, несмотря на рост цен. Почти половину названного объема добывают пять стран: Китай, Австралия, ЮАР, США и Россия (автор благодарит пользователя журнала old-pferd.livejournal.com за дискуссию и консультацию по вопросам добычи золота).
Отношение добычи к резервам составляет 9%, а ежегодный прирост денежной массы – не менее 6–8% (исходя из 4–5-процентного прироста ВВП и 2–3-процентной инфляции). Иначе говоря, привязав сегодня все валюты мира к имеющемуся золоту, мир очень скоро столкнется с его нехваткой для обеспечения нормального денежного оборота. И это при условии, что вся добыча пойдет в хранилища центробанков.
Вторая причина коренится в показанной выше взаимосвязи денежно-кредитной и валютной политики. При курсе, фиксированном к золоту, странам удастся сохранить свободное движение капиталов, только если они откажутся от проведения независимой денежно-кредитной политики. Другими словами, возвращение к золотому стандарту означало бы, что все страны переходят к режиму валютной палаты (currency board), при котором ЦБ фактически не может проводить антициклическую политику. Что станет при золотом стандарте с межбанковскими ставками, вообще трудно себе представить. Не исключено, что денежные рынки тихо отомрут.
Третья причина – золото не только денежный, но и обыкновенный промышленный товар. Спрос на него предъявляют ювелирная промышленность, а также электронная, электротехническая, космическая и передовое приборостроение. То есть при гипотетической привязке денег к золоту цели денежной политики будут вступать в противоречие с развитием высоких технологий. Коллизия, прямо скажем, не из лучших.
Общие выводы, которые следует сделать мировому сообществу, включая Россию, сводятся к следующим тезисам:
Трансформация мировой валютной системы в сторону многополярности, начавшаяся с введения в 1999 г. единой европейской валюты, медленно набирает силу. Участие в нынешнем валютном конфликте первой и третьей по величине ВВП стран мира придает происходящему важное геополитическое звучание.
Конфликт еще раз высвечивает проблемы, с которыми сталкиваются промышленно развитые страны ввиду усиливающейся глобализации. В последнее десятилетие они поддерживали экономический рост и уровень благосостояния во многом за счет увеличения государственного долга. Теперь этот источник близок к исчерпанию, а противоречие между экономическими центрами с разной стоимостью рабочей силы и разными системами социального обеспечения приобретает новые формы.
России следует максимально осторожно подходить к дальнейшей либерализации ее валютного режима и режима движения капиталов. Не исключено, что в ближайшее время отдельные страны начнут усиливать контроль над этой сферой, особенно если политика денежного смягчения в США усугубит волатильность курсов главных валют и мобильность спекулятивных капиталов.
Инструменты, имеющиеся у мирового сообщества для урегулирования валютного спора между Соединенными Штатами и Китаем, весьма ограничены. При благоприятном сценарии конфликт останется латентным. При неблагоприятном – выльется в общий рост протекционизма. Многое будет зависеть от того, насколько странам Запада удастся снизить уровень государственной задолженности. При втором витке долгового кризиса он приобретет геополитическое измерение.
О.В. Буторина – д. э. н., профессор, заведующая кафедрой европейской интеграции, советник ректора МГИМО (У) МИД России, член научно-консультативного совета журнала «Россия в глобальной политике».

Выбранные места из переписки Бориса Ельцина и Уильяма Дж. Клинтона
Борис Ельцин, Билл Клинтон
Борис Ельцин - советский партийный и российский политический и государственный деятель, первый Президент России.
Резюме Выбранные места из переписки Бориса Ельцина и Уильяма Дж. Клинтона
Б. Н. Ельцин – У. Дж. Клинтону, 30 января 1997 г.
Дорогой Билл,
<…> Так сложилось, что целый ряд вопросов стратегического характера предстоит решать именно сейчас. Как пойдет эта работа – во многом будет зависеть от договоренности между нами.
В первую очередь это, конечно, вопрос о НАТО. Для нас это принципиальный вопрос. Поэтому мы неизменно негативно относимся к планам расширения альянса и особенно к возможности продвижения военной инфраструктуры НАТО на восток. На этот счет у нас в стране существует консенсус практически всех политических сил, в том числе представленных в Государственной Думе, где на ратификации сейчас находятся несколько важных договоров и соглашений между нашими странами.
Наша позиция не имеет ни антиамериканской, ни антизападной направленности. Она продиктована тем, что реализация планов расширения НАТО объективно, вне зависимости от того, ставит ли кто такую цель или нет, приведет к созданию новых разделительных линий в Европе, ухудшению всей геополитической ситуации. Мы не можем довольствоваться заявлениями о том, что за планами расширения не стоит намерение создать отчужденность между государствами Европы.
Расширение НАТО коренным образом ухудшит геостратегическое положение России, нанесет непосредственный ущерб интересам нашей национальной безопасности.
Но я вовсе не считаю ситуацию тупиковой. Я тебе верю и рассчитываю на то, что наша обоснованная озабоченность будет, как ты и говорил, не просто принята во внимание, но и учтена в ясной и четкой форме. Лучше всего это было бы сделать, как ты сам заявлял публично, в форме официального соглашения между Россией и НАТО.
Должны быть зафиксированы гарантии непродвижения военной инфраструктуры альянса на восток, включая неразмещение иностранных войск и их вооружений, неразвертывание объектов военной инфраструктуры или каких-либо «объединенных» сил, а также неразмещение ядерного оружия и его носителей.
В этом контексте существенное значение имело бы ускорение переговоров о модернизации Договора об обычных вооруженных силах в Европе.
Одновременно в соглашении необходимо разработать механизм консультаций и взаимодействия между Россией и НАТО, обеспечивающий равноправное сотрудничество в сфере безопасности, консенсусное принятие решений по вопросам, которые могут затронуть наши интересы.
Времени для отработки всех этих вопросов не так уж много. Поэтому действовать надо энергично и целеустремленно. Конечно, решать принципиальные, ключевые вопросы, в конечном счете, придется нам с тобой. Наша предстоящая встреча в марте будет иметь особое значение и с этой точки зрения.
Другой крупный блок – вопросы контроля над вооружениями. Как и проблема НАТО, они тоже существуют не в вакууме. И на них влияет общая обстановка.
Я полностью согласен с тобой – мы должны помнить, что во многом благодаря успехам в разоружении наши страны смогли перейти от конфронтации «холодной войны» к нынешнему взаимодействию. Как и ты, я обеспокоен судьбой процесса сокращения стратегических наступательных вооружений. В марте буду готов поделиться с тобой конкретными соображениями на этот счет. Сейчас же хотел бы подтвердить некоторые принципиальные моменты.
Должны быть выполнены все договоренности, которые мы с тобой достигли в апреле прошлого года. Речь идет не только о ратификации Договора СНВ-2 и обсуждении следующего этапа – еще более глубоких сокращений стратегических наступательных вооружений, но и об обеспечении тех стратегических условий, в которых это будет возможно. Имею в виду прежде всего нашу с тобой договоренность укрепить Договор по ПРО.
На самом сложном этапе нашей совместной работы, когда согласовывалось решение по высокоскоростным системам нестратегической ПРО, переговоры забуксовали. Необходимо придать им импульс. Таким импульсом могла бы стать фиксация совместного обязательства, что на период до завершения переговоров по разграничению стороны не будут испытывать системы, в отношении которых мы ведем переговоры применительно к Договору по ПРО.
Прошу тебя еще раз рассмотреть нашу озабоченность относительно сроков осуществления сокращений по Договору СНВ-2. По чисто финансово-экономическим причинам мы не сможем уложиться с реализацией сокращений в первоначально намеченные сроки. Ведь когда Договор подписывался в 1993 году, мы исходили из того, что его осуществление тоже начнется в 1993 году. С тех пор прошло четыре года. Это нельзя игнорировать. <…>
Я сознательно заостряю твое внимание на самых сложных вопросах, хотя есть и другие – глобальные, региональные и двусторонние, – о которых нам нужно будет с тобой поговорить при встрече. Но эти вопросы сейчас центральные.
Убежден, что мы с тобой оба понимаем значение переживаемого момента.
С уважением, Б. Ельцин
Б.Н. Ельцин – У.Дж. Клинтону, 10 июля 1997 г.
Дорогой Билл,
В последнее время и ты, и представители администрации США неоднократно поднимали вопрос о российских контактах с Ираном. М. Олбрайт в Париже передала специальное обращение о якобы имеющем место сотрудничестве ряда российских организаций с Тегераном в ракетной области.
Хочу тебе подтвердить, что мы своему слову верны и в этой связи обращения такого рода воспринимаем серьезно. Как я и обещал, по моему указанию проведена тщательная проверка материалов, которые нам были переданы Госсекретарем США.
Во-первых, никаких контактов по линии официального межгосударственного сотрудничества, каким-либо образом противоречащих нормам Режима контроля над ракетной технологией (РКРТ), участниками которого являются и Россия, и США, не было и нет. Мы проверили и единичные контакты отдельных институтов, предприятий, научных коллективов. В абсолютном большинстве случаев нарушений режима также не выявлено. Даже обучение иранских студентов в российских высших учебных заведениях проводится исключительно на открытых материалах, которые по терминологии Приложения РКРТ не выходят за рамки «общедоступных». В других случаях (скажем, научно-исследовательского института «Полюс») сотрудничество с Ираном касается оборудования для гражданских самолетов, которое отношения к компонентам ракет не имеет. Лишь в одном случае – Самарский научно-производственный комплекс им. Н. Д. Кузнецова (бывший НПО «Труд») – речь шла об узлах и агрегатах, которые могли быть задействованы в ракетной программе. Соответственно российскому экспортеру было отказано в выдаче лицензии на поставку.
В целом сотрудничество российских предприятий с другими странами в ракетной области, в том числе с Ираном, находится под нашим плотным контролем, и я дал указание его усилить.
В свою очередь, Билл, хотел бы привлечь твое внимание к растущей у нас неудовлетворенности некоторыми действиями американских представителей по вопросам, где у нас были достигнуты необходимые понимания о сдержанности. Это касается прежде всего продолжающихся поставок оружия американского производства в районы вблизи российских границ. Пример тому – Афганистан. На озабоченности, которые передавались с нашей стороны по этому вопросу, ясного ответа мы не получили.
Кроме того, мы рассчитываем на то, что заработают обещания США содействовать выходу российской промышленности на рынки высоких технологий. Но такие рынки, в том числе и для закупок в США, скажем, компьютеров, остаются по многим параметрам закрытыми для нашей промышленности. В отдельных же регионах – и у нас есть уверенная информация на этот счет – американская сторона применяет нажимные приемы противодействия российскому, прежде всего оружейному, экспорту, что никак нельзя считать совместимым с принципами добросовестной конкуренции.
Рассчитываю, Билл, что ты дашь необходимые поручения с тем, чтобы эти наши озабоченности были сняты удовлетворительным образом, чтобы наше сотрудничество в такой чувствительной сфере, какой является передача высоких технологий, а тем более оружия, развивалось в полном соответствии с теми пониманиями, которых нам с тобой удалось достичь.
С уважением, Б. Ельцин
Б.Н. Ельцин – У.Дж. Клинтону, 12 июля 1997 г.
Дорогой Билл,
Следуя установившейся между нами практике доверительного обмена мнениями по актуальным международным проблемам, хотел бы высказать ряд соображений, касающихся Закавказья.
Исторически так сложилось, что Закавказье представляет для России регион ее важных интересов. Основная задача российской политики в отношении этого региона – обеспечение надежной стабильности на наших южных рубежах, содействие становлению там территориально целостных, устойчивых и дружественных нам государств – Азербайджана, Армении и Грузии.
Между тем Закавказье, к сожалению, относится к числу наиболее взрывоопасных точек на постсоветском пространстве. Неурегулированность конфликтов в Нагорном Карабахе, Абхазии и Южной Осетии не только препятствует нормальному развитию новых независимых государств в Закавказском регионе, но и ухудшает ситуацию на Кавказе в целом, что как ты понимаешь, особенно болезненно для России.
Нам удалось с помощью других заинтересованных государств, ООН и ОБСЕ вывести закавказские конфликты на определенные позитивные рубежи: соблюдается прекращение огня, действуют соответствующие переговорные механизмы. Однако нынешнее состояние «ни мира, ни войны» чревато новыми угрозами.
Е. Примаков и М. Олбрайт, как известно, обсудили положение дел в урегулировании абхазского конфликта. В июне мы предприняли ряд дополнительных шагов, чтобы вывести переговоры из тупика. Удалось согласовать документ, в котором фиксировались договоренности сторон по ключевым проблемам урегулирования, – сохранение территориальной целостности Грузии и возвращение беженцев. Абхазское руководство, не без нашего нажимного воздействия, выразило готовность подписать документ. Грузинская же сторона, представители которой в Москве с ним согласились, затем начала настаивать на дополнительном обсуждении текста. Сейчас, пожалуй, практическое политическое решение зависит в гораздо большей степени от Тбилиси, чем от других.
Следует отметить и то, что у Тбилиси проявляется стремление решить абхазскую проблему силой – руками российского миротворческого контингента. Как ты понимаешь, мы на это пойти не можем. В такой ситуации, по имеющейся у нас информации, грузинская сторона рассчитывает получить согласие США направить воинский контингент других стран, ядро которого, согласно планам Тбилиси, могут составить американские вооруженные силы.
На военное решение абхазской проблемы Президента Грузии настойчиво подталкивают экстремистские, реваншистские элементы. Их расчет очевиден – втянуть Грузию в новый виток вооруженного конфликта, урегулирование которого тем самым будет вообще поставлено под вопрос, дискредитировать Э. Шеварднадзе, свернуть Грузию с демократического пути развития.
В этих условиях считаю важным, в интересах дела, да и самого Э. Шеварднадзе, чтобы Тбилиси не получил «сигналы», которые могли бы быть интерпретированы им как возможность силового возвращения беженцев. Продолжение политических переговоров может проходить только при сохранении мирных условий в зоне конфликта, а это обеспечивается главным образом присутствием там российских миротворцев. Их уход может привести к новому кровопролитию.
Мы намерены предпринять дополнительные усилия с тем, чтобы убедить стороны выйти на подписание согласованного в Москве документа. Сейчас – это главная задача. Попытки же пересмотреть сложившуюся схему и формат переговоров, в том числе путем созыва некоей международной конференции по Абхазии, могут, по нашему мнению, лишь осложнить идущий переговорный процесс, отбросить его назад к нулевой отметке.
Вызывает удовлетворение взаимодействие, которое установилось между нашими странами в урегулировании другого конфликта – нагорно-карабахского. Вопрос об этом конфликте был в центре переговоров с Президентом Азербайджана Г. Алиевым во время его недавнего визита в Москву. Разговор был, разумеется, непростым, но у нас возникло понимание, что в его итоге все же удалось убедить Президента Азербайджана в необходимости более гибкого и конструктивного подхода к ключевым проблемам урегулирования. Мною даны указания российскому МИД интенсифицировать работу с конфликтующими сторонами. Я, однако, не хочу, чтобы эти мои слова были интерпретированы в какой-то степени как стремление России проводить автономную линию по вопросам нагорно-карабахского урегулирования.
Мы, как договорились, будем и далее действовать в формате трех сопредседателей от России, США и Франции. И от этой линии отступать не собираемся.
Более того, необходимо, на мой взгляд, развить то позитивное воздействие, которое оказало на конфликтующие стороны Заявление президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху, сделанное в Денвере, усилить политический прессинг. Важно, чтобы стороны в конфликте буквально чувствовали дыхание в затылок трех великих держав, поняли, что иного пути, кроме как ведущего к миру и согласию, на основе тех рациональных и нестандартных по своему содержанию предложений, которые положили на стол переговоров наши страны, у них просто нет.
Надеюсь на взаимопонимание в изложенных мною выше вопросах.
Со своей стороны мы готовы к активизации взаимодействия с США для обеспечения стабильности и безопасности в Закавказье и мире в целом.
С уважением, Б. Ельцин
Б.Н. Ельцин – У.Дж. Клинтону, 30 октября 1997 г.
Дорогой Билл,
У нас с тобой стало доброй традицией регулярно, напрямую «сверять часы» по текущим делам. Если есть достижения – думать, как развить успех, если сталкиваемся с проблемами – оперативно локализовывать и устранять их. В предстоящие месяцы нам требуется тесно взаимодействовать, чтобы будущий российско-американский саммит в Москве оправдал наши ожидания.
Я удовлетворен проделанной этой осенью совместной работой. Переговоры Е. М. Примакова в Нью-Йорке и А. Гора в Москве позволили ощутимо продвинуться по ключевым направлениям, которые мы определили в Хельсинки, Париже и Денвере.
Подписанный в Нью-Йорке солидный пакет разоруженческих документов считаю кардинальным успехом. Эти договоренности будут определять ход разоруженческого процесса на годы вперед. Заключение соглашений по разграничению стратегической и нестратегической противоракетной обороны укрепляет жизнеспособность Договора по ПРО. Договоренности по вопросам СНВ ясно говорят о нашей с тобой решимости продвигаться и далее по пути сокращения ядерных арсеналов. Столь крупные шаги в последовательной реализации наших хельсинских решений позволяют нам активизировать работу по обеспечению ратификации и скорейшему вводу в действие Договора СНВ-2. Занимаюсь сейчас этим вплотную.
В этой связи особо хочу отметить, что придаю принципиальное значение твоему согласию уже сейчас вести предметную экспертную работу над СНВ-3. Такой подход позволит нам сразу после ратификации Договора СНВ-2, не теряя времени, провести полномасштабные переговоры и выйти на новый Договор СНВ-3, который видится мне как наш главный совместный вклад в обеспечение ядерной безопасности и стратегической стабильности уже для XXI века. Предлагаю подумать над тем, чтобы на нашей следующей встрече дать оценку экспертной работе по СНВ-3, подвести в какой-то форме промежуточный итог того, что к тому времени будет сделано и, если нужно, обозначить дополнительные ориентиры.
По экономическому досье также вижу обнадеживающие перспективы. Как всегда насыщенно прошла очередная сессия Комиссии Черномырдин – Гор. Важный результат – принятие развернутого программного документа о совместной деятельности на ближайшие годы, подготовленного по нашему поручению. Запущен механизм региональной инвестиционной инициативы, с которой мы связываем расчеты на существенное увеличение притока американских капиталовложений непосредственно в российские регионы под гарантию местных администраций. В. С. Черномырдин дал поручение нашим экспертам подготовить к очередной сессии, которая планируется в начале следующего года в США, предложения по совершенствованию работы Комиссии. Думаю, что по сложившейся традиции В. С. Черномырдин и А. Гор могли бы взять на себя и подготовку крупного блока вопросов к нашему саммиту.
Таким образом, по ключевым направлениям налицо уверенное движение вперед. Но наряду с этим есть обстоятельства, которые начинают нас серьезно беспокоить.
Первое – Иран. Убежден, что было бы опасно превращать наши отношения в заложника одного, пусть важного, «иранского фактора». Как я писал тебе, никаких нарушений норм ракетного нераспространения с нашей стороны нет.
Сотрудничества с Ираном по государственной линии в сфере баллистических ракет мы не вели и не ведем. Что касается контактов российских организаций, то либо и здесь утечки ракетной технологии не существовало, либо – если такой риск появляется – мы сами предпринимали и будем предпринимать против этого решительные меры. Российско-иранское сотрудничество в мирной атомной энергетике ведется транспарентно и в полном соответствии с нормами нераспространения. Я держу свое слово и лично контролирую весь комплекс этих вопросов.
Хочу подчеркнуть: мы исходим не только из нашей с тобой договоренности, но и из собственных национальных интересов. Иран – наш сосед, и мы, разумеется, не хотим появления там ракетно-ядерного потенциала. Поэтому мы так настойчиво добиваемся интеграции Тегерана в многосторонние усилия по предотвращению распространения оружия массового уничтожения.
Когда у вас есть конкретные озабоченности – готовы их обсуждать и снимать. Для этого мы и назначили наших полномочных представителей. По каналу Коптев – Визнер мы предоставили детальную информацию по каждому поднятому вопросу и были предельно откровенны. Согласен с оценкой этого сотрудничества между нашими странами, содержащейся в совместном докладе наших спецпредставителей, как весьма удовлетворительного.
Но что получается? Наша искренность ставится под сомнение. То и дело у вас допускаются утечки в прессу сугубо доверительного материала наших конфиденциальных обменов. Вокруг этой проблемы нагнетается ажиотаж. Мы вообще пошли на беспрецедентный шаг – приняли директора ЦРУ и ознакомили его с оперативной информацией. Тем самым хотим внести абсолютную ясность в этот вопрос, показать, что здесь нет какого-то «двойного дна».
Тем не менее меня не покидает ощущение, что в США нарастает активность тех, кто хочет использовать иранскую тему, чтобы осложнить наши отношения, в том числе торгово-экономические. Как иначе расценить попытки нажима в связи с контрактом на разработку газового месторождения в Иране с участием российского «Газпрома»? Соглашение с иранцами на этот счет, подписанное совместно с французским и малазийским партнерами, полностью соответствует общепринятым принципам свободной торговли и честной конкуренции. Нет нужды говорить о том, что мы не признаем экстерриториальный характер соответствующего американского законодательства. Считаем, что оно посягает на неотъемлемое право государств свободно развивать торгово-экономические связи друг с другом.
Если угроза санкций против крупнейшей российской компании будет реализована, то, вольно или невольно, нашим отношениям будет нанесен ощутимый ущерб. Очень рассчитываю, что ты предпримешь все необходимые меры, чтобы не доводить до этого дело.
Другой беспокоящий вопрос – нагнетание страстей в США вокруг темы «российской организованной преступности». Доклад американских экспертов на этот счет вызвал весьма негативный резонанс у нас в стране. С крайне пессимистическими прогнозами публично выступали и официальные представители твоей администрации, в частности, директор ФБР.
Да, мы сталкиваемся с реальными проблемами, связанными с оргпреступностью и коррупцией. Однако тебе известно о моих шагах, направленных на искоренение этого зла. Борьбу с преступностью мы ведем решительно и жестко. Но не следует бросать тень на развивающееся предпринимательство в России и отождествлять весь российский бизнес с «мафией». Особо беспокоит, что проблема «российской оргпреступности» возводится в ранг угрозы интересам национальной безопасности США. Волна спекуляций на эту тему может только осложнить разворачивающееся антикриминальное сотрудничество между нашими правоохранительными органами, которому мы придаем большое значение. Готовы мы и к наращиванию такого сотрудничества с другими государствами, в том числе и в рамках механизмов «восьмерки». Рассчитываю, что ты дашь указание выправить негативные акценты в этом плане.
Еще один вопрос, возникновения которого в наших отношениях – скажу откровенно – ожидал менее всего. Он вызывает у меня большую озабоченность своим явным несоответствием тому высокому уровню доверия, которому я, как, уверен, и ты, придаю первостепенное значение.
Дополнительное звучание этому вопросу придает тот факт, что он напрямую касается одного из центральных как в двустороннем, так и в глобальном плане процессов – сокращения и ограничения вооружений. Развитие этого процесса невозможно без участия в нем российских и американских военных специалистов, многие из которых являются носителями важных государственных секретов. До последнего времени безопасность российских военнослужащих, посещающих США в составе инспекционных групп и военных делегаций, обеспечивалась на должном уровне.
Вместе с тем, меня информировали об инциденте с одним из офицеров Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.
С 28 сентября по 5 октября с. г. в США с целью подготовки российско-американских учений по противоракетной обороне находилась делегация российских военных экспертов, членом которой был полковник Егоров Владимир Леонидович. В 10 часов вечера 28 сентября в номере 392 нью-йоркской гостиницы «Рамада» на него было совершено нападение, насильственно сделана инъекция специального препарата, а затем проведен разведывательный опрос.
Медицинское обследование полковника Егорова В. Л., проведенное по возвращении в Россию, подтвердило факт введения ему психотропных средств.
Очевидно, Билл, что подобные действия в стиле времен «холодной войны» недопустимо оставлять без внимания, чтобы исключить их рецидивы в дальнейшем. Поэтому я решил лично обратиться к тебе в связи с этим инцидентом.
Билл, мы уже не раз показывали скептикам, как находить решения порой весьма сложных вопросов и выходить на результаты, отвечающие взаимным интересам. Я уверен, что мы будем конструктивно и слаженно работать над подготовкой перспективной российско-американской повестки дня к Московскому саммиту.
С уважением, Б. Ельцин
У.Дж. Клинтон – Б.Н. Ельцину, 3 апреля 1999 г.
Дорогой Борис,
Пишу тебе вновь по вопросу о Косово, который стал одной из самых трудных проблем, с которыми мне приходилось иметь дело в ходе моего президентства – не в последнюю очередь потому, что он столь обременителен для российско-американских отношений. Как и ты, я хотел бы, чтобы насилие прекратилось как можно скорее. Как и ты, я готов изыскивать любые пути, которые могли бы привести к миру. Однако события последней недели четко говорят о том, насколько серьезна эта угроза миру.
Сообщения, поступающие из Косово, действительно потрясают. Имеются обширные свидетельства того, что сжигаются целые деревни, проводятся казни ни в чем не повинных гражданских лиц без суда, а десятки тысяч изгоняются из мест проживания, но не действиями НАТО, а вследствие преднамеренной и заранее спланированной кампании югославских сил безопасности. Я весьма высоко ценю твое сильное заявление о том, что Россия не позволит втянуть себя в конфликт. Я рад, что ты признал, что такая вовлеченность была бы опасным развитием событий, и я прошу тебя продолжать твердо выступать против этого.
Мы с интересом восприняли твое предложение о проведении экстренной встречи «восьмерки» по Косово. М. Олбрайт изложила И. С. Иванову нашу реакцию и некоторые дополнительные соображения. Они будут продолжать обсуждать то, как мы можем наилучшим образом согласовать наши усилия, направленные на восстановление условий для мира и безопасности в Косово.
Весьма важно, чтобы мы оставались едиными, насколько это возможно, в том, какие сигналы от нас поступают Белграду. С. Милошевич должен знать, что если он хочет закончить этот конфликт, он может это сделать в любой момент посредством прекращения своей военной кампании против косовских албанцев, вывода своих сил, как он это обязался сделать в октябре, и обеспечения безопасности и самоуправления для жителей Косово. Но он должен также знать, что если он не готов принять эти условия, натовская кампания воздушных ударов будет продолжена. Я основательно обсуждал эту проблему с Ж. Шираком, Г. Шредером и Т. Блэйром, и между нами имеется полное согласие на данный счет.
Я знаю, что события в Косово привели к напряженности в отношениях между нашими странами. Но я рад, что мы можем продолжать сотрудничать по многим важным вопросам в нашей двусторонней повестке дня. Мы несем ответственность перед народами наших стран и всем миром за то, чтобы активное американо-российское партнерство пережило столь трудные времена и продолжало оставаться продуктивным. Соглашение по основным элементам адаптации ДОВСЕ, достигнутое 31 марта, является подлинно историческим достижением, ради которого мы все упорно работали. Мне также доставляет удовлетворение то, что, несмотря на отмену на прошлой неделе очередной сессии Российско-Американской Комиссии по экономическому и технологическому сотрудничеству, конкретная работа Комиссии была продолжена, в результате чего на прошлой неделе было подписано Соглашение по ВОУ-НОУ и ожидается подписание Договора о взаимной правовой помощи и Соглашения о воздушном сообщении.
Мне также внушает надежду то, что МВФ направит полномасштабную миссию в Москву для продолжения переговоров. Как мы с тобой неоднократно говорили об этом, принятие обоснованной экономической программы имеет политически важное значение для реализации устремлений народа России. Как я тебе говорил раньше, когда Россия и МВФ заключат соглашение, я буду готов к упорной работе с партнерами по реструктуризации российского долга.
Наконец, я хотел бы поздравить тебя по поводу твоего превосходного послания Федеральному Собранию России. Оно было красноречивым изложением твоего видения демократической, толерантной и процветающей России, того, каким образом избежать возвращения к «холодной войне» и содействовать интеграции России в мировую экономику. Ты знаешь, что я разделяю это видение и привержен тому, чтобы сотрудничать с тобой в деле его претворения в жизнь. Оно является подлинно непоколебимым основанием американо-российских отношений. В неспокойные времена, подобные нынешним, твое мужество, здравый смысл и дальновидность придают надежду мне лично и всем тем, кто пытается построить новый, более безопасный мир для будущего столетия.
С уважением, Билл
Б. Н. Ельцин – У. Дж. Клинтону, 6 апреля 1999 г.
Дорогой Билл,
Ситуация в Югославии с каждым днем становится все более трагичной и угрожающей. Бомбардировки городов, в результате которых разрушены государственные учреждения, аэродромы, мосты и даже жилые кварталы, оборачиваются многочисленными человеческими жертвами, терроризируют мирное население. Характер подлинной катастрофы приобрела проблема беженцев из Косово. Масштабы ее неумолимо растут, распространяясь на соседние государства. Положение на Балканах вновь становится фактором европейской и международной напряженности.
Совершенно очевидна необходимость принятия самых срочных мер, чтобы переломить критическую ситуацию, вернуть ее из военного в политическое русло. Россия неизменно действует в этом направлении, используя все доступные нам каналы. В этом контексте не может, конечно, не вызывать сожаления, что сигнал, поданный С. Милошевичем после поездки в Белград Председателя Правительства Российской Федерации Е. М. Примакова, не был услышан. Потеряно время, что обернулось новыми жертвами и страданиями.
В ответ на мое послание сегодня от Белграда удалось добиться еще одного принципиально важного сигнала: С. Милошевич только что официально заявил о прекращении военных и полицейских акций в Косово. Это решение, принятое – что особенно существенно – в одностороннем порядке без предварительных условий, позволяет, на наш взгляд, остановить, наконец, бессмысленное кровопролитие и насилие, незамедлительно начать движение к прочному, справедливому и гуманному косовскому урегулированию.
Обращаюсь к Вам с настоятельным призывом дать миру в Европе шанс – не отвергать инициативу С. Милошевича, рассмотреть его заявление без предубеждения, в конструктивном ключе и отреагировать надлежащим образом, вновь передав решение проблемы Косово от военных дипломатам. Со своей стороны буду готов внимательно изучить любые Ваши соображения, идущие в данном направлении.
Все мы получили теперь реальную возможность совместными усилиями отвести нависшую над нами общую беду. Ее следует использовать ответственно и с наибольшим эффектом. Другого история и наши народы не простят.
С уважением, Б. Ельцин
Б.Н. Ельцин – У.Дж. Клинтону, 18 октября 1999 г.
Дорогой Билл,
Хотел бы доверительно и предельно откровенно поделиться с тобой соображениями относительно ситуации, складывающейся в настоящее время в нашем диалоге по вопросам СНВ и ПРО.
Сразу хочу подчеркнуть, что считаю это направление не только одним из ключевых в российско-американских отношениях, но и затрагивающим основные интересы безопасности всего международного сообщества. Убежден, что наращивать достигнутое за последние годы в области контроля над вооружениями – единственно разумный путь. Именно поэтому придаю особое значение принятому нами в Кёльне Совместному заявлению [встречи «Большой восьмерки»], внимательно слежу за его реализацией. Положение дел здесь, однако, оставляет двойственное впечатление.
С одной стороны, налицо определенный прогресс. С удовлетворением воспринял подтверждаемую тобой приверженность тем договоренностям, которые мы достигли ранее. Прежде всего имею в виду проявленную американской стороной готовность к продолжению работы над дальнейшими сокращениями стратегических наступательных вооружений, не исключаемую тобой возможность идти в этих сокращениях ниже согласованного в Хельсинки [на российско-американском саммите в 1997 г.] уровня ядерных боезарядов. Это было бы на пользу всем.
Вместе с тем, и мы с тобой об этом неоднократно заявляли, фундаментальное значение для дальнейших сокращений СНВ, для укрепления стратегической стабильности и международной безопасности имеет Договор по ПРО. Мы совместно зафиксировали в Кёльне наше намерение продолжать усилия по укреплению этого Договора, повышению его жизнеспособности и эффективности в будущем. В связи с этим меня глубоко обеспокоило подписание тобой закона, провозглашающего развертывание национальной системы противоракетной обороны территории страны политикой Соединенных Штатов, и тем более – продолжение реальных испытаний ее элементов. Развертывание такой системы, как ты знаешь, несовместимо с ключевым положением Договора по ПРО, составляющим его суть, – обязательством сторон не развертывать системы ПРО территории своей страны и не создавать основу для такой обороны. Отказ от этого обязательства означал бы, по существу, принципиальную переориентацию Договора по ПРО, то есть Договор стал бы разрешать то, для запрещения чего был разработан и подписан. Это был бы отнюдь не укрепленный Договор по ПРО, а совсем другой договор. Возможные последствия такого изменения, скажу тебе откровенно, нам представляются опасными не только для дальнейших сокращений СНВ, но и всего разоруженческого процесса и международной стабильности в целом. А тебе, как и мне, думаю, небезразлично, каковы будут результаты наших общих усилий в этой области, какой запас прочности международной безопасности мы оставим нашим преемникам.
Мне уже приходилось слышать утверждения американской стороны, что развертывание национальной системы ПРО территории страны не поставит под угрозу способность России к стратегическому сдерживанию и что США, мол, готовы предоставить России соответствующие гарантии.
Билл, с самого начала процесса ограничения и сокращения стратегических наступательных вооружений тридцать лет назад этот процесс основывался на главной идее, заложенной в Договор по ПРО, а именно, что обе наши стороны остаются уязвимыми для СНВ другой стороны, поскольку только так можно обеспечить надежность сдерживания от ядерного нападения при уменьшающихся количествах наступательных вооружений. Альтернатива такому подходу – более высокие уровни СНВ и других ядерных вооружений и менее надежная и менее стабильная система стратегических взаимоотношений, при которой первый удар может при определенных обстоятельствах перестать быть абсолютно иррациональным. Все это особенно четко просматривается на пониженных уровнях СНВ, предусмотренных в Договоре СНВ-2, и особенно тех, о которых мы ведем разговор в рамках обсуждения СНВ-3. И никакие гарантии в такой ситуации не были бы способны устранить объективно присущую системе ПРО и возрастающую с ее развитием роль сильнейшего дестабилизирующего фактора в стратегическом уравнении. А планами США, насколько я информирован, предусматривается наращивание потенциала системы ПРО. Не лучшая, на мой взгляд, перспектива создавать такую ситуацию. Россия может оказаться поставленной в такое положение, когда она будет вынуждена принять соответствующие, не обязательно симметричные, меры по адекватному обеспечению собственной безопасности. Именно поэтому хочу повторить еще раз, что отказ от ключевых ограничений, установленных Договором по ПРО, несет с собой угрозу сорвать процесс ограничения и сокращения ядерных вооружений. Мы не хотели бы быть участниками этого.
Совершенно не убежден и в том, что развертывание ПРО будет тормозить процессы распространения технологий оружия массового уничтожения и средств его доставки. Думаю, результат скорее будет обратным – развертывание ПРО подхлестнет эти процессы и подтолкнет новые страны на путь овладения такими технологиями в условиях своей фактической незащищенности перед сверхвооруженностью США. Для укрепления режимов нераспространения возможности далеко не исчерпаны, и о некоторых из них шел разговор в Кёльне.
С другой стороны, я уверен, что, если мы будем твердо придерживаться Договора по ПРО и задействуем потенциал договоренностей по разграничению стратегической и нестратегической ПРО 1997 года, а также подключим усилия на глобальном уровне, включая сотрудничество в области нераспространения ракетных технологий и экспортного контроля, то, действуя совместно, мы сможем успешно противостоять тем угрозам, на которые американская сторона ссылается, выступая за создание НПРО США.
Хотел бы, Билл, обратить твое внимание и на то, что такой сложный и капиталоемкий процесс, как создание и развертывание стратегической ПРО, имеет огромную собственную инерцию развития. Будучи запущенным, он рискует далеко перекрыть те границы, о которых сейчас идет речь в известных нам американских программах.
Понимаю, что ситуация вокруг Договора по ПРО сейчас чрезвычайно сложная. Из нее, однако, на мой взгляд, нужно найти выход с учетом всего того, о чем я говорил выше. И это зависит во многом, если не в первую очередь, от тебя.
Просил бы тебя, Билл, еще раз все взвесить, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги в области стратегической ПРО. Разумеется, права вето на такую деятельность Соединенных Штатов ни у кого нет, равно как нет такого права и в отношении деятельности России в области обеспечения своей безопасности. Но полагаю, что не лучшим способом было бы встречать третье тысячелетие крушением того, что было создано в интересах мира совместными усилиями России и США. Надеюсь также, что американская сторона сможет пересмотреть свой нынешний подход к нашему проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по вопросу о сохранении и соблюдении Договора по ПРО, который полностью основывается на наших с тобой договоренностях.
С уважением, Б. Ельцин
Б.Н. Ельцин – Ж. Шираку, 30 октября 1999 г.
Дорогой Жак,
Хотел бы доверительно и предельно откровенно поделиться с тобой соображениями относительно ситуации, складывающейся в настоящее время вокруг Договора по ПРО.
Хочу подчеркнуть, что российская сторона считает этот Договор, несмотря на узкий состав его участников, имеющим большое международное значение, затрагивающим интересы многих государств мира. И это определяется его фундаментальной ролью в современной структуре договоренностей в области контроля над вооружениями, тем, что Договор по ПРО является одним из важнейших условий глубоких сокращений стратегических наступательных вооружений, краеугольным камнем стратегической стабильности. Знаю, что и ты разделяешь такую точку зрения.
Хотел бы также отметить, что наш курс на сотрудничество с ведущими странами мира в области контроля над вооружениями не подвержен конъюнктуре, носит долгосрочный характер. Считаю, что было бы большой ошибкой допустить откат в разоруженческом процессе. Убежден, что наращивать достигнутое за последние годы – единственно разумный путь для государств, несущих особую ответственность за международную безопасность.
Недавняя встреча «восьмерки» в Кёльне дала возможность России и США подтвердить свою приверженность продолжению усилий по укреплению Договора по ПРО, повышению его жизнеспособности и эффективности в будущем. В связи с этим меня глубоко обеспокоило подписание Президентом США Б. Клинтоном, и я об этом ему прямо сказал, закона, провозглашающего развертывание национальной системы противоракетной обороны территории страны политикой Соединенных Штатов. Но развертывание такой системы, как ты знаешь, несовместимо с ключевым положением Договора по ПРО, составляющим его суть, – обязательством сторон не развертывать системы ПРО территории своей страны и не создавать основу для такой обороны. Отказ от этого обязательства означал бы по существу принципиальную переориентацию Договора по ПРО, то есть Договор стал бы разрешать то, для запрещения чего был разработан и подписан. А это есть не что иное, как фактическая ликвидация Договора.
В усилиях США «подправить» Договор по ПРО мы четко просматриваем стремление Вашингтона к созданию однополярного мира, в котором одна страна, будучи отгороженной от остального мира противоракетной стеной, будет способна делать на мировой арене все, что ей заблагорассудится. Возможные последствия такой ситуации нам представляются далеко не безопасными не только для дальнейших сокращений СНВ, но и всего мироустройства и международной стабильности в целом. А тебе, как и мне, думаю, небезразлично, каковы будут результаты наших общих усилий в этой области, какой запас прочности международной безопасности они создадут.
Поэтому Россия не намерена быть соучастницей развала этого Договора. Знаю, что в лице Франции мы имеем здесь партнера, на понимание которого мы хотели бы рассчитывать. Не исключаю, что некоторые другие влиятельные государства могут поддержать наши общие с вами подходы. Нам не следует ослаблять своих усилий на этот счет.
Нельзя не учитывать и то, что такой сложный и капиталоемкий процесс, как создание и развертывание стратегической ПРО, имеет огромную собственную инерцию развития. Будучи запущенным, он рискует стать необратимым.
Совершенно не убежден и в том, что развертывание ПРО, как иногда приходится слышать, будет тормозить процессы распространения технологий оружия массового уничтожения и средств его доставки. Думаю, результат скорее будет обратным – развертывание ПРО подхлестнет эти процессы и подтолкнет новые страны на путь овладения такими технологиями в условиях своей фактической незащищенности. Для укрепления режимов нераспространения возможности далеко не исчерпаны, и о некоторых из них шел разговор в Кёльне.
Я обратился к Президенту США с просьбой еще раз все взвесить, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги в области стратегической ПРО. Разумеется, права вето на такую деятельность Соединенных Штатов ни у кого нет, равно как нет такого права и в отношении деятельности России и других стран в области обеспечения своей безопасности. Но полагаю, что не лучшим способом было бы встречать третье тысячелетие крушением того, что было создано в интересах мира совместными усилиями ведущих государств.
Мы с тобой имеем совпадающие взгляды на тот счет, что на современном этапе возникла настоятельная необходимость привлечь внимание мирового сообщества к возможным последствиям разрушения Договора по ПРО вследствие развертывания в США противоракетной обороны территории страны. Мировому сообществу, представленному в Организации Объединенных Наций, следовало бы, на наш взгляд, выступить в поддержку этого Договора. На это нацелен и предлагаемый нами проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о сохранении и соблюдении Договора по ПРО, который был передан французской стороне. Внимательно изучаем полученный в ответ ваш вариант такой резолюции.
Хотел бы надеяться, Жак, что ты внимательно отнесешься к высказанным соображениям и сделаешь все зависящее от тебя в интересах продолжения разоруженческого процесса, поддержания стратегической стабильности и обеспечения международной безопасности.
С уважением, Б. Ельцин
Ж. Ширак – Б. Н. Ельцину, 17 ноября 1999 г.
Господин Президент! Уважаемый Борис Николаевич,
Благодарю тебя за твое письмо от 30 октября и за откровенность, с которой ты изложил в нем свои взгляды. Считаю необходимым сказать тебе, что полностью разделяю твои озабоченности по поводу перспектив Договора по ПРО. Они связаны с обеспокоенностью более широкого плана: как нам вновь воссоздать ту благоприятную атмосферу, которая несколько лет назад позволила нам приступить к сокращению крупнейших ядерных арсеналов, запретить химическое оружие, заключить Договор о запрещении ядерных испытаний, сократить количество вооружений в Европе и сдержать распространение ядерного оружия? Я уже имел возможность публично высказаться по этому вопросу, и все инициативы, предпринятые Францией с тех пор в этом отношении, отражают эту озабоченность.
Хотя Франция не является участницей Договора по ПРО, она считает его важнейшим элементом усилий по сокращению вооружений. Незыблемость его принципов – одно из условий обеспечения стратегической стабильности. Я с удовлетворением отмечаю, что мы по-прежнему разделяем этот принцип. Удовлетворение вызывает и твое совершенно четкое заявление о том, что Россия не пойдет на разрушение Договора.
Поэтому я весьма рад, что совместными усилиями нам удалось добиться принятия проекта резолюции по ПРО в Первом комитете Генеральной Ассамблеи. Нам пришлось много поработать для достижения такого результата, и в этой связи особенно важно, чтобы проект поддержало как можно больше стран. Франция сделает все возможное для того, чтобы добиться проведения окончательного голосования в Нью-Йорке.
Я согласен с тем, что одним из опасных последствий пересмотра Договора по ПРО может, среди прочего, стать то, что такой пересмотр подтолкнет процесс распространения в мире. Но мы не можем игнорировать тот факт, что в качестве основного довода в пользу развертывания систем ПРО США выдвигают именно распространение. Системы ПРО не являются подходящим ответом, между тем борьба с распространением необходима. Именно поэтому, когда наши страны совместно работали над проектом резолюции по ПРО, Франция настойчиво добивалась того, чтобы в нем решительно подчеркивалась важность нераспространения. Считаю весьма важным продолжать работу в этой области – совместно и в сотрудничестве с другими странами.
Как ты знаешь, Франция приложила немало усилий в области разоружения – как самостоятельно, так и, если это было целесообразно, в рамках договоров. Я весьма обеспокоен событиями последнего времени, которые не внушают большого оптимизма. Убежден в том, что мы заинтересованы в придании этому процессу нового импульса. В этой связи задачей первостепенной важности для нас становится немедленное проведение переговоров о прекращении производства военных расщепляющихся материалов.
Обещаю, что Франция будет и впредь всячески содействовать сохранению стратегической стабильности; опасность движения вспять в процессе разоружения существует, но мы не должны поддаваться искушению полагаться лишь на судьбу.
Прими, уважаемый Борис Николаевич, заверения в моем самом высоком уважении.
Искренне твой, Жак Ширак

Системный подход к нехватке ресурсов
Глобальное управление и индивидуальные действия
Бас де Леув – исполнительный директор Института по устойчивому развитию Data Meadows в штате Вермонт (США). Ранее он возглавлял отдел единого управления природными ресурсами в Программе ООН по окружающей среде (ЮНЕП).
Резюме Мир – это комплексная и взаимосвязанная система, но вместо того чтобы рассматривать ее в целом, во взаимосвязях, мы сосредотачиваемся на отдельных составляющих элементах. Вместе с тем становится все более очевидно, что необходимо целостное и разумное управление, а также надзор за ним.
Очевидно, что природные ресурсы в мире заканчиваются. Это не случится завтра или даже в следующем году, но в обозримом будущем мы не сможем примирять стремление к росту с потребностью в ресурсах. Публичные дебаты по этому вопросу претерпели изменения. Когда-то при одном упоминании о возможной нехватке ресурсов вас обвинили бы в том, что вы сеете панику. Теперь же тональность дискуссий стала иной.
Снова пределы роста
Залежи некоторых металлов, критически важных для развития информационных технологий, могут быть исчерпаны в недалеком будущем. Месторождения этих металлов не скудеют в количественном отношении, но они находятся на территории ограниченного числа стран, что вызывает озабоченность по поводу безопасности поставок. Серьезную тревогу внушает вопрос водоснабжения, который может стать причиной конфликтов. На ограниченность ресурсов при отсутствии альтернативы экономика реагирует неуклонным ростом цен, особенно когда социальные и экологические последствия нехватки сырья привлекают повышенное внимание. Одновременно с истощением природных ресурсов наша планета становится все грязнее и опаснее для здоровья и, несмотря на перспективы экономического роста, бедность пока далека от искоренения.
Население Земли неуклонно увеличивается, и столь же неуклонно растут его потребности. Но, несмотря на все конференции, многосторонние соглашения и протоколы, мы все еще очень далеки от обеспечения достойного уровня жизни для всех людей на нашей планете. Может быть, стремление к этому – утопия? Вряд ли, на самом деле это естественное желание каждого человека, и оно вполне осуществимо. Но прежде всего нужно осознать нынешнее положение, а затем работать над изменением подходов в соответствии с текущими реалиями.
К сожалению, до настоящего момента мы отрицали очевидное. Деннис Медоуз, соавтор революционной книги «Пределы роста», предложил обзор критических отзывов на этот труд, в котором впервые поднимается проблема нехватки ресурсов в современном обществе. В 1970-е гг. утверждалось, что пределов роста быть не может. В 1980-е гг. признавалось, что пределы, возможно, существуют, но до них еще очень далеко. В 1990-е гг. критики согласились, что пределы уже не за горами, но внушали нам, что рынки и технологии позволят избежать проблем. В первое десятилетие нового века отмечалось, что рынки и технологии пока еще не решили вопросы нехватки ресурсов, но смогут это сделать, если удастся продолжить рост. В 2010 г. наконец-то критики начали признавать, что рост может фактически усугублять проблему, и заявили, что… уже слишком поздно, и ничего нельзя изменить.
На самом деле путь от науки до конкретных политических решений столь же долог, как от принятия действительности до попыток что-то изменить. Так почему мы сегодня так опаздываем? Мне часто задают этот вопрос – обычно не во время официальных дискуссий, а скорее в кулуарах. Возможно, люди просто боятся поднимать эту тему, думая, что я скажу «да, уже слишком поздно». Однако обычно я говорю, что никогда не поздно изменить свою жизнь, а потому никогда не поздно изменить наш мир. Главное – это эффективная организация процесса перемен. В настоящее время мы видим, что многие правительства хотя бы начали брать на себя ответственность, признавая, что нужно что-то предпринимать, если мы хотим решить проблему сырьевой безопасности и обеспечить устойчивое потребление и производство.
Проблема в том, что от этого осознания мало что меняется. Мы оказались в замкнутом круге повторяющихся ритуалов: дипломаты ведут переговоры без четкого представления, о чем идет речь. Поскольку секретариаты не предоставляют им четких и своевременных отчетов о промежуточных результатах проводимой политики, они опираются на официальные заявления и второстепенные итоги, но не понимают, каким образом все это вписывается в общую картину и как решается главный вопрос. Необходимо уделять больше внимания поддающимся проверке результатам политики и следить не за заявлениями, а за статистикой.
Международные воздушные замки
Ныне не существует действенных международных механизмов для того, чтобы осуществить этот положительный сдвиг. Малоперспективно достижение международного соглашения о «потреблении» или об «использовании природных ресурсов на душу населения». Подобные договоренности остаются несбыточной мечтой, мы даже не приступили к предварительному анализу, который понадобится для подготовки таких документов. Несмотря на призыв разработать рамочное соглашение по устойчивому развитию и производству, который прозвучал из уст лидеров стран, присутствовавших на Всемирном саммите по устойчивому развитию в 2002 г. в Йоханнесбурге, пока еще нет даже базовых расчетов. Где цифры, свидетельствующие о потреблении и производстве на душу населения в мире и отдельных государствах? Каковы тенденции, к каким последствиям они могут привести и какие цели должен ставить перед собой мир? Что произойдет, если мы не достигнем желаемого? Статистика необходима для того, чтобы вдохновить мировое сообщество на сотрудничество и довести до общего сведения критичность нынешнего положения. Чем яснее картина, тем слаженнее действия.
Обнадеживает то, что на государственном и местном уровнях удалось добиться колоссального прогресса. Инструментарий экологически устойчивого производства и потребления используется гораздо лучше и эффективнее – появились существенные инновации в области образования, маркетинга, экологического дизайна, экологической маркировки и более чистого производства. Однако примечательно, что тот механизм, к которому могут прибегать только правительства, используется в наименьшей степени. Я имею в виду законодательство.
Я не говорю о внедрении заповеди «не потребляй», но законодательное ограничение предложения неоптимальных товаров и услуг необходимо. Слишком часто правительства допускают производство и распространение подобной продукции, одновременно призывая потребителей (посредством информационных кампаний) делать альтернативные покупки. Это слишком опосредованный и неэффективный способ регулирования. Похоже, власти не решаются прибегнуть к прямому регулированию, но только так они смогут добиться существенного улучшения потребления и производства.
Однако прогресса на национальном и местном уровнях недостаточно. Чтобы решить вопрос нехватки природных ресурсов, необходимо сделать больше. Хорошо известно воздействие экологической, экономической, социальной устойчивости нашего производства и потребления; ученые рассчитывают и моделируют риски, пишут и спорят о верных решениях уже несколько десятилетий. Но уже сейчас имеются все необходимые стратегии и инструменты для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему.
Жизненно важным элементом в процессе изменений будет принятие так называемого системного подхода. Имеется в виду признание и понимание того, как разные элементы влияют друг на друга в рамках единого целого. Мир – это комплексная и взаимосвязанная система, но до сих пор любые попытки решения глобальных проблем низводились до уровня конференций и встреч, у каждой из которых была своя повестка дня, своя методика и своя сеть контактов. Вместо того чтобы рассматривать мир в целом, в его взаимосвязях, мы сосредотачиваемся на отдельных составляющих его элементах. Вместе с тем, становится все более очевидно, что необходимо более целостное и умное управление и надзор.
Динамичный системный анализ, при котором рассматриваются сценарии «а что если…», может стать общей, единой платформой для переговоров. Только так можно продемонстрировать реальные последствия бездействия в области устранения нехватки сырья и показать, каким должен быть конечный результат – чтобы мы точно уяснили для себя, что означает «экологически устойчивое» производство и потребление, и добивались его.
Эффективные индивидуальные действия
Сегодня очевидно, что необходимо предоставить больше возможностей для индивидуальных действий – скоординированных, грамотных и организованных. Мы много говорим о глобальном управлении и о роли национальных государств, но часто забываем о роли личности в решении таких проблем, как дефицит природных ресурсов. Однако изменения будут опираться на три столпа: действенное глобальное управление, эффективные национальные государства и эффективные индивидуальные действия. Отдельные люди все отчетливее понимают связь между личными решениями и мировыми проблемами. Как сказал Клаус Тепфер, бывший исполнительный директор ЮНЕП, «потребителей все больше интересует “мир, который стоит за приобретаемыми товарами”. Помимо цены и качества, они хотят знать, как, где и кем был создан этот товар. Эта растущая осведомленность о социально-экологических аспектах производственной деятельности служит маяком надежды. Государство и промышленность должны опираться на эту осведомленность».
Предоставление людям дополнительной информации еще больше повысит их осведомленность. Но информация должна использоваться не просто потому, что она помогает принимать решения о покупках, но еще и потому, что она может содействовать в поиске инновационных решений мировых проблем. Все больше людей объединяются во всемирную сеть. В прошлом большое значение имело место рождения, проживания и образования, а также социальное окружение. Теперь же фактически любой человек, имеющий доступ к ноутбуку и Интернету, может распространять свои идеи, способные спасти мир, и получать поддержку.
Это должно высвободить огромную творческую энергию, благодаря которой будут предложены жизнеспособные решения. Вопрос в том, начнем ли мы действовать прямо сейчас? Давайте дерзнем описать реальную проблему крупным планом, системно, в ее взаимосвязях, и давайте попробуем определить те рычаги, с помощью которых мы сможем повлиять на ее решение. Давайте делать это на основании четких статистических выкладок и говорить правду. Тогда разные группы, которые готовы предложить решение – вовсе необязательно официальные представители разных стран, – могут встретиться и сосредоточиться на решении проблемы и распределении ролей. Они смогут точно определить, что в состоянии сделать каждый участник, а затем осуществить задуманное и тем самым повлиять на качество жизни миллиардов других людей, которым не нужно ежедневно думать об устойчивом развитии. Им просто нужны правильные товары и услуги и правильная информация.

Образ желаемой современности
Дмитрий Ефременко
Шансы России в постамериканском мире
Дмитрий Ефременко – доктор политических наук, заместитель директора Института научной информации по общественным наукам РАН.
Резюме Сохранение за Россией статуса самостоятельного глобального игрока, даже если для этого потребуется привлечь серьезные дополнительные ресурсы, окажется менее затратным и рискованным, чем вхождение в зону притяжения одного из более мощных полюсов.
Советский Союз еще был жив, хотя и дышал на ладан, когда торжествующая победу в холодной войне Америка начала гонку триумфалистских манифестов. В одних декларировалась историческая необратимость американоцентричного миропорядка; авторы других были более осторожны, как, например, Чарльз Краутхаммер, который ограничил временной горизонт глобального доминирования США тремя-четырьмя десятилетиями. Но едва миновала половина этого срока, как аналитики и обозреватели принялись соревноваться, делая заявления с обратным знаком.
Фарид Закария, автор модной книги «Постамериканский мир», видит главную проблему не в упадке Америки, а в «подъеме остальных», что стало возможным благодаря американскому экономическому, политическому, военному и культурному лидерству. Вместе с тем он откровенно говорит об ошибках и провалах, которые привели к сокращению периода абсолютного американского доминирования после окончания холодной войны. Книга Закарии была опубликована в первой половине 2008 г., еще до того, как разразился глобальный финансовый кризис. Но именно он стал точкой невозврата в процессе «постамериканизации». Благодаря кризису международные отношения обретают новое качество, адаптироваться к нему придется всем их участникам. В том числе, разумеется, и России.
Мир многополярный, постамериканский – это то, к чему Москва стремилась, начиная по крайней мере со знаменитого разворота Евгения Примакова над Атлантикой. Но теперь, когда желанный миропорядок становится реальностью, впору задать вопрос: а готова ли к нему Россия? Благодаря эрозии американской гегемонии открываются не только возможности, но и риски, связанные с силовым полицентризмом. Ведь после окончания холодной войны Россия испытывала не только горечь от приниженного положения в системе международных отношений и страх перед минимизацией ее влияния на постсоветстком пространстве, но и комфортное чувство пребывания в нише крупнейшего экспортера энергоносителей. И хотя последнее можно рассматривать как признак экономической деградации и дискриминации в системе мирохозяйственных связей, Владимир Путин с успехом использовал «тучные годы» для терапевтического лечения социальных травм, вызванных посткоммунистическими трансформациями. Он также сумел сконцентрировать ресурсы, достаточные, чтобы позволить себе в Мюнхене «откровенный разговор» с западными партнерами. Теперь же эти «преимущества дискриминации» постепенно уходят, а за реализацию новых возможностей еще только предстоит бороться, и, по всей видимости, бороться упорно.
Для России американская гегемония была тягостна, неприятна, в иные моменты – едва выносима. Но все-таки стоит признать: раз уж какой-то державе было суждено на время достичь глобальной гегемонии, то в американской версии она оказалась меньшим из зол. Гегемония, исходящая от любого европейского или азиатского государства, была бы, наверное, и вовсе непереносимой. И если представить себе другой исход холодной войны, то советская глобальная гегемония была бы, вероятно, одним из худших видов гнета, а едва ли не главной его жертвой стали бы народы самой державы-гегемона.
Об исторических уроках однополярного мира еще будут написаны целые библиотеки, но несколько выводов для международной политики наступающей эры многополярности могут быть сделаны уже теперь:
– постамериканский мир – это пока не завершенное состояние, но необратимый процесс, имеющий свои стадии;
– на следующих стадиях процесса «постамериканизации» нужно стремиться к максимальному снижению его конфликтного потенциала;
– необходимо предотвратить возникновение в будущем любой новой глобальной гегемонии, от кого бы она ни исходила;
– следует найти механизмы стабилизации многополярного мира и предотвращения холодной войны всех против всех.
Эти выводы не являются специфическими и тем более исчерпывающими для России. Они скорее позволяют увидеть, что в рамках нового миропорядка появятся возможности для согласования интересов самых разных акторов международных отношений. И в этом – шанс для России. Но далеко не единственный.
Возвышение Китая как риск
«Подъем остальных» как движущая сила «постамериканизации» означает появление множества национальных «историй успеха» и, соответственно, множества игроков, претендующих на значительное укрепление своего международного статуса. Но на нынешней стадии становления многополярного мира все просто заворожены Китаем. Глобальный экономический и финансовый кризис способствовал тому, что китайская модель все чаще рассматривается в качестве альтернативы «Вашингтонскому консенсусу», а обостряющееся соперничество между Китаем и Западом представляется как неизбежная схватка цивилизаций или идеологий.
Российский взгляд на Китай неизбежно будет отличаться от западного. Еще в позапрошлом веке русский философ Константин Леонтьев предостерегал: «Россия может погибнуть только двояким путем – или с Востока от меча пробужденных китайцев, или путем добровольного слияния с общеевропейской республиканской федерацией». «Пробуждения» Китая ждали и опасались у нас на протяжении десятилетий. Не случайно при всех зигзагах российской (советской) внутренней и внешней политики стремление к «нормализации отношений», а затем и к стратегическому партнерству оставалось внешнеполитической константой со времен Юрия Андропова. И нельзя не признать, что нынешний уровень российско-китайских отношений представляет собой ценнейшее достижение, которое, правда, не гарантирует от осложнений в будущем.
Сейчас, когда Китай «пробудился», рассуждения об угрозе могут быть более опасны, чем сама «угроза». В подъеме Китая следует видеть не угрозу России, а риск, то есть ситуацию, в которой возможен как проигрыш, так и выигрыш. Тактический выигрыш для российского политического режима уже очевиден. Прежде всего в том, что сопоставление исторического опыта двух стран дает властям дополнительные аргументы в пользу модернизации под жестким государственным контролем: путь Дэн Сяопина был правилен, путь Горбачёва – ложен; сильно (скорее всего – безнадежно) отстав от восточного соседа, Россия возвращается на правильный путь. При этом достижения Китая меняют и шкалу политических ценностей, поскольку успех и эффективность перестают однозначно отождествляться с либеральной демократией.
Потребность в устойчивом присутствии России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) – ключевой части мира XXI века – сегодня не вызывает никаких сомнений. Поворот на восток требуется «всерьез и надолго». При этом, сохраняя и наращивая преимущества добрососедства с Пекином, необходимо избежать превращения Москвы в его сателлита. Иначе говоря, фактическая слабость нынешних позиций России в АТР должна компенсироваться за счет активной политики, направленной на максимальную диверсификацию экономических и политических возможностей.
Среди причин, по которым для России предпочтителен вариант стабильного, но несколько дистанцированного партнерства с Китаем, далеко не только гигантская разность демографических потенциалов с двух сторон общей границы. Угроза китайского заселения Сибири и Дальнего Востока – это скорее «бумажный тигр», во всяком случае, в среднесрочной перспективе. Гораздо серьезнее опасность закрепления структурного дисбаланса в двусторонней торговле, быстрого скатывания к положению ресурсного придатка новой «всемирной мастерской». Однако выход из сырьевой ниши – это важнейший вопрос модернизации российской экономики, а не только торговых отношений между Москвой и Пекином.
Пожалуй, самая серьезная проблема, из-за которой России следует избегать слишком тесной привязки к китайскому локомотиву – это его скорость. Казалось бы, поддерживаемые уже не первое десятилетие двузначные (или близкие к двузначным) темпы экономического роста являются именно тем, чего нам так не хватает для успеха модернизации. Но чем дольше длится китайское экономическое чудо, тем больше нарастают экономические, социальные и региональные диспропорции, и тем более опасными могут быть последствия резкого торможения. Соответственно, для России усиливается актуальность поиска страховочных механизмов, запасных вариантов и новых возможностей.
Прежде всего, важно сохранять позицию открытости к более тесному сотрудничеству с Японией как в сферах экономики и научно-технической деятельности, так и в вопросах региональной безопасности. Однако неурегулированность территориального спора не позволяет видеть в сотрудничестве с Токио противовес китайскому фактору. Более многообещающей может стать интенсификация связей с региональными акторами второго порядка – Южной Кореей, Тайванем, Вьетнамом, Индонезией и другими странами АСЕАН. Ни одна из этих стран в одиночку не способна служить альтернативой континентальному Китаю, но в совокупности их можно рассматривать как множество потенциальных опорных точек на периферии Срединной империи.
В общеазиатских масштабах ценнейшим партнером является Индия. Отсутствие конфликтного потенциала и восходящая к истокам индийской независимости традиция дружественных двусторонних отношений составляет прочную основу стратегического взаимодействия Москвы и Дели в XXI веке. Однако есть и трудности, главным образом психологического характера. В России еще не вполне освоились с тем, что Индии уже не пристало быть ведомой, что по ряду ключевых показателей страна способна стать равновеликим партнером, а в скором будущем – более мощным полюсом постамериканского мира, чем Россия. Но в любом случае Дели как раз тот самый собеседник, с которым в числе первых следует обсуждать и растущую китайскую мощь, и любую другую серьезную проблему Евразии. При этом надо учитывать, что в Индии с ее опытом военного конфликта 1962 г. подъем Китая вызывает большую настороженность, чем в России, которая сумела урегулировать пограничные проблемы с КНР.
Российская стратегия «поворота на Восток» должна в полной мере учитывать американское влияние в АТР. США и Россия осознают ключевое значение региона для их будущего в XXI веке, равно как и отсутствие здесь сколько-нибудь серьезного конфликта интересов двух сторон. И если говорить о расстановке сил и тенденциях региональной безопасности, то надо признать, что и военное присутствие Соединенных Штатов в АТР вовсе не противоречит российским интересам. Ситуация здесь существенно отличается от обстановки на западных и южных рубежах России, где укрепление позиций США и НАТО представляет собой как минимум фактор дискомфорта. Во всяком случае, Москве едва ли имеет смысл вливаться в число энтузиастов лозунга «Окинава без американцев», который столь неудачно пытался воплотить в жизнь бывший японский премьер Юкио Хатояма.
Сказанное не означает, что России следует очертя голову формировать вместе с Америкой новые схемы региональной безопасности, в которых Пекин неизбежно усмотрел бы угрозу своим интересам. Важно видеть грань между поиском оптимального для Москвы баланса сил и созданием реальных или виртуальных антикитайских коалиций, участие в которых для России недопустимо. В то же время именно раскрытие потенциала российско-американского взаимодействия в АТР могло бы стать основанием для будущих отношений между Москвой и Вашингтоном, для сохранения и развития крайне хрупких результатов «перезагрузки».
Отношения с державой № 1 постамериканского мира
Звучит иронично и одновременно банально: державой №1 постамериканского мира остаются Соединенные Штаты Америки. Ослабление американского могущества продолжается, но не следует думать, что этот процесс бесконечен. Во-первых, неуклонный подъем основного конкурента – Китая – также не предопределен. Во-вторых, даже если вторая волна кризиса нанесет новый, еще более мощный удар, можно ожидать, что Америка, в конце концов, выкарабкается на более или менее стабильное плато, и дальнейшее (относительное) снижение ее глобальной роли приостановится. С другой стороны, проблемы США как нисходящей сверхдержавы поистине глобальны, поскольку любой вариант их решения будет иметь последствия для всего мира. Кризис показал не просто зависимость всех остальных стран от Америки как международного центра финансового могущества и главного источника дестабилизации мировой экономики, но и огромную социальную цену, которую придется рано или поздно заплатить всем за санацию этой системы.
Вполне понятно стремление России не платить за оздоровление американоцентричной глобальной экономики больше, чем требуется. Уже одно это соображение – стимул к конструктивному участию во всех международных институтах и механизмах антикризисного управления. Москва заинтересована и в том, чтобы способствовать «мягкой посадке» Вашингтона в постамериканский мир, предотвратить стратегически безнадежные, но рискованные для России попытки восстановить ускользающую глобальную гегемонию Соединенных Штатов. Не менее важно создать в обозримом будущем благоприятные предпосылки для конструктивного и стабильного партнерства с США.
По всей видимости, перезагрузка как важный внешнеполитический проект администрации Барака Обамы составляет один из компонентов комплексной переоценки глобальной роли США в контексте мирового кризиса. Всем, очевидно, было понятно, что в XXI веке совсем не Россия будет представлять для Америки основную проблему. Но чем же обернулась перезагрузка на деле?
С началом глобальных экономических потрясений многие в России с торжеством возвестили «закат Америки», тогда как в самой Америке немало обозревателей приветствовали «падение России с небес на землю». Таким образом, поначалу перезагрузка немногим отличалась от российско-американских интеракций постсоветской эпохи, характеризующихся столкновением ресентимента с высокомерием. Между тем в результате кризиса обе страны оказались в рядах проигравших, и именно это обстоятельство должно было стать реалистичной основой для диалога на основе баланса интересов. Но и здесь ситуация оказалась парадоксальной.
Например, Сергей Караганов вместе с рядом коллег из Совета по внешней и оборонной политике сформулировал весьма радикальную программу «большой сделки» – компромисса, нацеленного на нахождение баланса интересов России и Соединенных Штатов. По всей видимости, к ней с пониманием отнеслись близкие к администрации Обамы сторонники реалистического подхода, а динамика двусторонних отношений весь последний год создавала впечатление, что стороны негласно следуют основным параметрам «большой сделки». А именно: Россия конструктивно подходит к американским интересам в различных регионах Азии и проявляет сдержанность на постсоветском пространстве, а США, в свою очередь, не предпринимают попыток еще больше ослабить позиции России в странах СНГ и создать еще более дискриминирующую ее архитектуру безопасности в Европе. Но именно негласно. На официальном уровне эти параметры невозможно даже облечь в словесную форму, не говоря уже об их переводе в статус комплексных формальных договоренностей.
В результате даже после подписания Пражского договора СНВ-3 и поддержки Россией санкций против Ирана в Совете Безопасности ООН все по-прежнему выглядит как избирательное улучшение двусторонних отношений. Каждый, пусть даже незначительный, шаг по пути перезагрузки сопровождается заявлениями или действиями, призванными сгладить их эффект, продемонстрировать локальный характер, доказать, что Вашингтон по-прежнему следуют курсу на «продвижение демократии» и отвергают любые претензии на «сферы влияния», от кого бы они ни исходили. Но если перезагрузка пока нисколько не повлияла на доминантный дискурс двусторонних отношений, едва ли стоит удивляться, что при первом же серьезном внутриполитическом повороте в Америке почти весь достигнутый позитив может быть скомкан, а то и вовсе отброшен в угоду электоральным перспективам одной из влиятельных групп политического истеблишмента.
Значит ли это, что идеи перезагрузки или тем более «большой сделки» в принципе неработоспособны? В качестве селективного подхода перезагрузка едва ли может рассчитывать на успех, но если под ней понимать кропотливую и целенаправленную работу по формированию устойчивой основы российско-американских отношений в XXI веке, то у нее неплохие шансы. В этом смысле азиатский фокус поиска взаимного баланса интересов может иметь решающее значение. Однако сам этот баланс должен в конечном счете зафиксировать изменение общего соотношения сил, в котором Соединенные Штаты – все еще наиболее мощная держава постамериканского мира, а Россия – один из полюсов нового мирового порядка. Политические следствия такого баланса интересов должны быть вербализованы, проговорены на самом высоком политическом уровне, а затем и трансформированы в совокупность формальных и неформальных обязательств.
Насколько далеко могут (и должны) идти эти обязательства? Основным контекстом выстраивания российско-американского партнерства является возвышение Китая и возникающая в связи с этим новая сфера близости интересов России и Америки. Учитывая «низкий старт» двусторонних отношений, Москва заинтересована в том, чтобы в обозримой перспективе уровень ее партнерства с Вашингтоном оказался сопоставимым с нынешним уровнем российско-китайских отношений. Но если двигаться в этом направлении дальше, то плюсы все быстрее начнут меняться на минусы, и Россия окажется втянута в игру, в которой в лучшем случае останется на вторых ролях, а в худшем – превратится из игрока в фигуру, которой основные игроки при случае могут и пожертвовать.
По всей видимости, во втором десятилетии XXI века разговоры об интеграции России в НАТО или какую-либо другую форму военно-политического союза с участием США и стран Европейского союза будут только активизироваться. Пока такие разговоры далеки от конкретики, но они начались, и начались не случайно. Суть динамики процесса можно понять и по характеру обсуждения проекта Договора о европейской безопасности (ДЕБ), предложенного президентом России. Саму идею не решился отвергнуть никто, и в Москве уже третий год слышат вежливые заявления о намерении «тщательно изучить» и «всесторонне рассмотреть». Несколько реже звучат фразы о принципиальной поддержке предложенного Договора и о солидарности с его базовым постулатом о неделимости европейской безопасности. «Изучение» проекта может продолжаться неопределенно долго, если только в какой-то момент партнеры в Вашингтоне и Брюсселе не захотят обнаружить, что Договор, в сущности, предлагает единую систему безопасности не только для Европы, но для индустриально развитого Севера в целом, и исключает из этой системы Китай и другие страны быстро развивающегося Юга.
Вероятно, что кошмарный сон российской внешней политики – дальнейшее расширение НАТО на восток – так и не станет явью. В принципе, в этом состоит основное достижение мюнхенского курса Владимира Путина, хотя скорее всего экспансия альянса на постсоветском пространстве окончательно утратит актуальность в контексте общей динамики «постамериканизации». Проект ДЕБ также призван блокировать расширение НАТО, но если это произойдет, то лишь как международно-правовая фиксация fait accompli (уже свершившегося факта. – Ред.). Следовательно, это уже не тот приз, за который стоит платить любую политическую цену. Гораздо важнее сама возможность равноправного участия в определении правил игры и в вопросах европейской безопасности, и в том, что касается более широкого спектра отношений в Большой Европе.
В поисках Большой Европы
С Европой связаны фундаментальные интересы России. Но ситуация здесь почти патовая. Похоже, что чем дольше Россия и Европейский союз взаимодействуют, тем больше их взаимное отчуждение. Сам институциональный дизайн ЕС фактически блокирует сколько-нибудь существенное сближение с Москвой. И ожидать качественных прорывов в отношениях между Россией и институциями Евросоюза (если, конечно, не относить к числу прорывов велеречивые декларации о партнерстве и долгосрочные планы действий) в ординарных обстоятельствах едва ли приходится.
Хуже всего то, что участие в Европейском союзе неизбежно ограничивает свободу политического маневра отдельных его членов, включая и самых мощных, с которыми Россия стремится развивать привилегированные отношения на двусторонней основе. В этих условиях особое значение имеет способность Москвы максимально использовать возможности, связанные с перемещением центра глобальной финансовой и индустриальной мощи в АТР. Только утвердившись там в качестве активного и влиятельного игрока, Россия сможет более уверенно вести диалог с другими европейскими странами. И главное: российские территории к востоку от Урала должны быть задействованы в качестве резерва национального развития, а не пространства демографического и индустриального вакуума.
В конце концов, ничто не вечно, включая и застой в отношениях Россия–Евросоюз. И в этом смысле важно не отворачиваться от еэсовской машины, а продолжать разговор и с ее функционерами, и с европейской общественностью, той силой, от выхода которой на политическую арену Юрген Хабермас и Жак Деррида относительно недавно ожидали «второго рождения Европы». Надежды двух философов оказались преждевременными. Но европейская публичная сфера все-таки играет очень важную роль в том, что касается определения ситуации, буквально соответствуя теореме Томаса: «Если ситуация мыслится как реальная, то она реальна по своим последствиям». Интересам России могла бы соответствовать фиксация того, что Европейский союз неравнозначен Европе и что другая архитектура Большой Европы возможна.
Даже если Россия определяет свою собственную роль как участие в «подъеме остальных», то открытость к широкому диалогу с отдельными странами ЕС и с Евросоюзом в целом должна сохраняться. Особенно важна способность генерировать нестандартные идеи и ходы, задающие направления дискуссии. В этом смысле можно только приветствовать идею «Союза Европы», которую намерен продвигать Сергей Караганов. Будучи весьма проблематичной в качестве конечной цели, она очень важна процессуально, поскольку может серьезно расширить пространство маневра для России, государств – членов Европейского союза, других европейских или полуевропейских стран.
Международные отношения и цивилизационный выбор в эпоху «междуцарствия» модерна
При обсуждении перспектив России в многополярном мире нельзя обойти вниманием и аргументы более общего порядка. Зигмунт Бауман, анализируя динамику модерна в начале XXI века, обращается к термину «междуцарствие» (Interregnum), с помощью которого Антонио Грамши описывал ситуацию ожидания радикальных перемен, вызванных социальными потрясениями эпохи Великой депрессии. Грамши вкладывал в это понятие особый смысл, имея в виду приближение одновременных и глубоких изменений социального, политического и юридического порядка. Сегодня, как и во время заточения Грамши в туринской тюрьме, многие глобальные концепции, институты и механизмы демонстрируют прогрессирующую дисфункциональность. В то же время полноценной замены этим столпам современности пока не видно.
Процесс «постамериканизации» также вписывается в эту картину «междуцарствия», но не исчерпывает ее. На кону нечто большее. Несколько успокаивающий термин Фарида Закарии «подъем остальных» на деле означает, что пятисотлетний «момент однополярности» западной цивилизации близится к завершению. При этом с каждым днем множатся факты, опровергающие представления о некой единой и неповторимой европейской (западной) версии модерна.
Как известно, теория множественности модернов была выдвинута Шмуэлем Эйзенштадтом. Он подчеркивает, что структурная дифференциация неевропейских обществ совсем не обязательно воспроизводит европейскую модель. По его мнению, европейская модель стимулирует появление различных институциональных и идеологических паттернов за пределами Европы. При этом «наилучший путь понимания современного мира… состоит в рассмотрении его как повествования о непрерывном конституировании и реконституировании разнообразия культурных программ». В контексте теории Эйзенштадта метафора междуцарствия могла бы означать, что западная версия модерна в основном исчерпывает свою миссию «перенастройки» незападных культурных программ и вступает в период сосуществования и конкуренции с другими, возникшими на основе этих программ версиями модерна. Но это сосуществование означает ни больше ни меньше, как признание плюрализма ценностей, институтов и моделей политического устройства вслед за признанием плюрализма культурных программ.
Динамика системы международных отношений воспроизводит многочисленные манифестации тех же самых сдвигов. Достаточно указать на феномен БРИК и, в частности, на быстрый переход российских руководителей от гордости за почти полноправное членство в западном клубе G8 к энтузиазму соучредителя клуба, в который входят новые лидеры глобального экономического роста. Активность России в этом качестве принимается далеко не всеми, хотя среди тех, кто наиболее жестко ставит под сомнение обоснованность присутствия России в БРИК, по странному стечению обстоятельств почти не звучат голоса из Китая, Индии или Бразилии. Стоит отметить, что автор термина «мягкая сила» Джозеф Най, крайне сдержанно отзывающийся о феномене БРИК в целом, умалчивает, что эта конструкция, даже оставаясь преимущественно виртуальным объединением, уже становится новым источником «мягкой силы», начинает продуцировать и консолидировать нормативную власть. Нормативное послание БРИК выражается не только в отстаивании вестфальских принципов суверенитета и стремлении к многополярности, но в принципиальном признании плюрализма ценностей, культурных программ и моделей политического устройства. В сущности, нормативное послание БРИК есть перевод теории множественности модернов Эйзенштадта на язык глобальной политики.
Процесс становления постамериканского мира побуждает корректировать преобладающие концептуализации международных отношений. Один из вариантов корректировки состоит в том, чтобы отделить качественные характеристики международного порядка от изменения глобальной роли США. Так, Джон Айкенберри готов говорить лишь о «кризисе успеха» западного проекта модерна, но не о кризисе представлений о его единственности и неповторимости. Согласно этой логике, движущей силой единого проекта модерна выступает общий интерес ведущих международных акторов к воспроизводству либерального порядка, который, по крайней мере теоретически, приносит блага всем и каждому. При этом получается, что, согласно Айкенберри, потребности и интересы незападных держав могут быть удовлетворены благодаря еще большему распространению принципов и практик западного либерализма.
Международный порядок – вещь инерционная, и в условиях «междуцарствия» трудно ожидать его быстрого переформатирования. Скорее всего, многие устойчивые глобальные взаимозависимости в сферах безопасности, торговли, финансов и охраны окружающей среды будут трансформироваться гораздо медленнее, чем изменение экономического и политического веса ведущих глобальных игроков. Однако фундаментальной особенностью либерального международного порядка является установление иерархических отношений, которое в долгосрочном плане несовместимо с «подъемом остальных».
Неудивительно, что реакция западного экспертного сообщества на возвышение незападных держав характеризуется растерянностью и даже алармизмом, когда в этих государствах видят представляющих угрозу чужаков. В то же время раздаются призывы рассматривать усиливающиеся страны незападного мира как «нам подобных», нуждающихся в социализации и в обучении правилам. Как отмечает Тим Данн, в контексте современной международной политики обе стратегии, по сути, постулируют безальтернативность западной версии модерна, причем такой подход останется востребованным даже несмотря на его прогрессирующую неадекватность.
Означает ли это, что и Россия «обречена» адаптироваться к постамериканскому миру, упорно сохраняя верность догме о сингулярности модерна? Оправданно ли в эпоху «междуцарствия» форсировать цивилизационный выбор, или по крайней мере связывать себя жесткими внешнеполитическими обязательствами, которые свидетельствовали бы о приверженности западной версии модерна?
Вопрос не в том, что цивилизационный выбор в пользу Запада невозможен или неприемлем, а либеральные ценности на российской почве прорастают какими-то уродливыми сорняками. Одной из причин взаимного разочарования России и Запада было как раз то, что зона совпадения или близости ценностей очень велика, тогда как различия казались в конечном счете преодолимыми. Но в итоге в России сформировалось стойкое убеждение, что дискуссии о ценностях направлены на подрыв российских интересов, тогда как многие на Западе от неоправданных иллюзий периода горбачевской перестройки и ельцинских реформ перешли к уверенности в «неисправимости» России. В этих условиях единственным конструктивным решением может быть перевод политических дискуссий на язык интересов; споры о ценностях лучше оставить для научного сообщества и активистов неправительственных организаций.
Хотя двадцатилетие распада СССР уже не за горами, преждевременно говорить о том, что в России сформировалась новая политическая нация, а посткоммунистические трансформации окончательно завершены. Сам факт провозглашения линии на модернизацию свидетельствует по крайней мере о частичной неудаче всей постсоветской социально-экономической политики, основной вектор которой даже в период воссоздания «вертикали власти» оставался либеральным и вестернизаторским. Ясно, что требуется поворот, серьезная коррекция курса. И если уж решено называть этот поворот «модернизацией», то следует исходить из того, что модернизация в эпоху междуцарствия модерна должна быть сугубо прагматическим действием.
В сущности, это все та же кошка Дэн Сяопина, единственным значимым качеством которой является эффективность в ловле мышей, а не соответствие стандартам породы западного модерна. Если экономика России, ее государство и общество начнут «ловить мышей», то локализация российского модерна в созвездии современностей не заставит себя ждать, а вопрос о его совместимости с западной версией модерна может затем сколь угодно долго оставаться предметом академической дискуссии.
В конечном счете речь идет о том, чтобы во втором десятилетии XXI века Россия выработала эффективную модель решения социальных и экономических проблем, используя при этом в интересах своего внутреннего развития новые возможности, открывающиеся в контексте становления постамериканского мира. Россия слишком долго пребывала на периферии западной цивилизации, чтобы теперь, на излете ее доминирования, присоединяться к ней и делить ответственность за все ее грехи. В конце концов, у России слишком много своих собственных грехов. Главное же, Россия обнаруживает, что у нее есть выбор, что заповедь Владислава Суркова «не выпасть из Европы, держаться Запада» не означает отказа от участия в «подъеме остальных» и формировании институтов и механизмов нового миропорядка. А появление такового будет свидетельствовать о завершении эпохи междуцарствия модерна.
Незаменимый полюс и свобода выбора
Будучи крупнейшим осколком Советского Союза, Россия объективно все еще имеет немало оснований претендовать на статус одного из полюсов в многополярном мире. Однако общая динамика на протяжении двух последних десятилетий в случае России была понижательной, а для периода 1990-х – обвальной. Даже стабилизация и нефтегазовый бум в период президентства Владимира Путина пока могут рассматриваться лишь как временное торможение на крутом спуске вниз. Иными словами, Россия по инерции остается одним из полюсов мировой политики, но сохранение в этом качестве потребует от российской власти способности привлекать все больше дополнительных ресурсов.
Вполне вероятно, что вскоре мы услышим голоса, настаивающие на новом понижении позиции России во всемирной табели о рангах. В качестве аргументации будет предъявлена непозволительность затраты значительных ресурсов на сохранение высокого международного статуса, а также то, что вхождение в зону притяжения какого-то другого полюса позволит оптимизировать риски существования в турбулентном многополярном мире. Отвергать эту позицию только потому, что Россия должна быть великой, могучей и никакой иной, по меньшей мере недальновидно. При определенных обстоятельствах у нас в самом деле может не оказаться другого выбора. Но несомненно, что любая власть в России должна стремиться к предотвращению подобной ситуации.
У России имеются и специфические основания к удержанию статуса одного из полюсов многополярного мира. Многовекторность и высокая маневренность российской внешней политики в нынешних условиях выступают важными механизмами компенсации слабостей, обусловленных структурой экономики, демографической динамикой, низким качеством управления, коррупцией и технологическим отставанием. Однако помимо решения тактических задач, маневренности требуется и «сверхзадача»: не принадлежа к первой тройке основных центров силы постамериканского мира, Россия должна быть тем полюсом, полномасштабное партнерство с которым способно обеспечить несомненный и решающий перевес для любого из основных центров силы.
Но опять-таки: все эти преимущества могут проявиться и сохраняться до тех пор, пока Россия остается самостоятельным центром силы многополярного мира, имеющим свободу маневра и открытым для развития партнерских отношений с самыми разными глобальными игроками. Как только Россия окажется вовлеченной в какие-либо жесткие союзы или интеграционные механизмы с участием более мощных центров силы, преимущества будут утрачены. Получается, что Россия должна быть везде и ни с кем.
Сохранение за Россией статуса самостоятельного глобального игрока, даже если для этого потребуется привлечь серьезные дополнительные ресурсы, окажется менее затратным и рискованным, чем вхождение в зону притяжения одного из более мощных полюсов. В последнем случае затраты ресурсов и риски будут обусловлены усиливающимся внутренним напряжением, вызванным необходимостью удерживать развитие страны в русле, общее направление которого задано извне. Вполне понятна логика сторонников этого подхода, стремящихся через жесткие международные обязательства подтолкнуть запаздывающие внутренние изменения. К сожалению, более реален сценарий, при котором подгоняемые под импортный шаблон внутренние изменения приведут к новой волне имитации институциональных практик правового государства и к запуску цепной реакции вполне реальных дестабилизирующих сдвигов в сфере межнациональных и федеративных отношений.
Совокупность возможностей, открывающихся перед Россией в процессе становления постамериканского мира, должна быть использована для создания благоприятных условий внутреннего развития страны, а не для их усложнения, связанного с вовлеченностью в жесткие союзы и поспешной ориентацией на одну из нескольких актуальных версий модерна. В то же время российское общество нуждается в подлинной открытости миру, в широком диалоге с носителями самых разных культурных программ, в готовности воспринимать извне все, что может способствовать практическому решению внутренних проблем. То, что действительно имеет высокую цену в эпоху многополярности – это свобода выбора. Не только выбора стратегических партнеров, но также путей и методов модернизации и даже образа желаемой современности.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter