Новости. Обзор СМИ Рубрикатор поиска + личные списки
Главные отличия.
Платный доступ на polpred с деловой информацией высшего качества. Скажите об этом директору библиотеки.

Стена – признак слабости
Николай Стариков о перспективах нормализовать отношения с Европой
Саркисов Григорий
Почему Запад так упорно пытается «отменить» Россию? Обречены ли Запад и Восток на изоляцию друг от друга? Что означает для гегемонии Америки успешное завершение специальной военной операции? Удастся ли стравить Россию с Китаем? На эти и другие «глобальные» вопросы отвечает писатель Николай Стариков.
– Нынешние враждебные отношения с Западом – это навсегда? Или ещё есть шанс прийти к согласию и сотрудничеству?
– На Западе и в России живут сотни миллионов людей, ценности которых во многом совпадают. Но англосаксы руководствуются своей геополитикой, исходя из постулата, что противостояние постоянно и неизбежно, и проходит оно по линии «суша – море». Себя англосаксы относят к «морю», а Россию – к «суше», к континентальным державам. Задача держав «моря» – загонять державы «суши» как можно дальше в глубь континента, не давать им выхода к морю, давить и ослаблять. Задача держав «суши» – прорываться к морю, создавать союзы, стараться контролировать торговые пути и иметь мощный флот, способный «сделать больно» державам «моря».
Сегодня Европа подчинена англосаксам, сознательно ослабляющим Старый Свет, чтобы сделать его послушнее. Например, через повышение цен на энергоресурсы, что сделает неконкурентоспособной продукцию европейских компаний. Великобритания и «отстегнулась» от ЕС, чтобы реализовать англосаксонский проект сохранения противостояния между Россией и Европой, когда акцент делается на различие, а не на общие цели. Отсюда и атака на Россию по всем направлениям по принципу «русские – исчадие ада», а значит, и среднестатистический «гражданин мира» не должен иметь с нами ничего общего. Главная задача англосаксов – избежать создания большого союза «сухопутных» европейских держав, в первую очередь союза России с Германией.
– Этого же добивались англосаксы перед мировыми войнами, сталкивая Россию с Германией?
– Да, цели не изменились. Москва и Берлин пытались наладить тесное сотрудничество, началось строительство «Северного потока», способного обеспечить бесперебойную поставку дешёвых российских энергоресурсов для немецкой экономики. Путин выступал в рейхстаге на немецком языке, подчёркнуто демонстрируя наше дружелюбие и желание установления прочных отношений. Я уже не говорю о том, что СССР дал добро на объединение Германии.
Этот курс буквально за год уничтожен частью немецкой политической элиты, полностью подчинённой англосаксам. Начали с использования фальшивых поводов для торможения экономического сотрудничества и введения санкций. Достаточно вспомнить «отравление Навального», задуманное англосаксами как повод для прекращения строительства «Северного потока – 2». При Меркель Германия хоть как-то сопротивлялась – ругала Россию, но продолжала строить «трубу». Шольц кардинально изменил эту политику и недавно с гордостью заявил, что «Германия избавилась от зависимости от российских энергоносителей», – что так же глупо, как гордиться избавлением зависимости от обувной промышленности по случаю ампутации ног. Англосаксам удалось окончательно «растащить» Германию и Россию, используя украинские события, начавшиеся в конце 2013 года.
– В чём причина того, что у нас многие называют деградацией европейских политических элит?
– Это вполне рукотворная деградация. Существуют глубинные силы, контролирующие мировую политику, условно назовём их мировыми банкирами. Предполагается, что и в «странах моря», и в «странах суши» должны рулить политики, подконтрольные наднациональным силам. При этом европейские лидеры должны принимать решения в интересах США. Именно так действует коалиция во главе с Олафом Шольцем. Так же действуют и все ведущие политические силы в Европе, и бюрократия Евросоюза, и МВФ.
– На Западе понимают, какой катастрофой может обернуться раздробление России на мелкие квазигосударства?
– А разве развал СССР в 1991 году стал катастрофой для англосаксов? Это для нас с вами развал Союза – трагедия и главная геополитическая катастрофа ХХ века. Точно так же и развал России не станет катастрофой для США. Но между ситуацией 2022 и 1991 годов есть одна огромная разница. Эта разница называется Китай.
В 1991 году никто не говорил, что Китай – «страна номер два» и вот-вот станет «страной номер один». Сейчас это уже факт, меняющий всю картину. Развал Западом России может привести к контролю Китая над российскими природными ресурсами и контролю Китая над частью нашей территории. А значит, чрезмерное ослабление или, не дай Бог, распад России объективно усиливают Китай. Для Запада это совершенно неприемлемо. Поэтому, ослабляя Россию, англосаксы хотят ослабить её так, чтобы она была подконтрольна им. Запад предполагает решение «русской проблемы» через установление контроля над Россией с помощью агентов влияния, которых Запад мечтает иметь в Кремле. Вот тогда они скажут: мы друзья России, а потому давайте дружить против Китая. План весьма сомнительный, но эту стратегию они уже опробовали на Украине.
– США планируют «задвинуть» Россию раньше, чем Китай достигнет своей максимальной мощи? Не воевать же им на два фронта?
– А США и не собираются воевать ни с Россией, ни с Китаем. Их устроит «украинский вариант», когда войну за американские интересы ведут марионетки. Вашингтону всё равно, какая у Китая армия, потому что, по американской задумке, воевать с Китаем должны не США, а Россия. Америке всё равно, сколько русских погибнет в этой войне, – как всё равно Америке, сколько сейчас гибнет украинцев, хоть миллион, хоть два миллиона. Для Вашингтона это – расходный материал. Главное – получить контроль над российской политической системой и через несколько лет столкнуть Россию с Китаем. Запад будет накачивать Россию оружием и выдавать щедрые кредиты с одним условием: воюйте в наших интересах с теми, на кого мы укажем, и так долго, как мы скажем.
– Почему на Западе говорят, что победа России на Украине будет означать поражение США и НАТО?
– Потому, что в случае победы России все американские геополитические задумки пойдут, извините, коту под хвост. Как стравливать Россию с Китаем, если Россия самостоятельна, если она усилилась, а её армия получила огромный боевой опыт? А если в эту армию вольются ещё и обстрелянные украинские военные, которые примут российскую присягу? Кому придёт в голову воевать с такой армией? А как можно стравить Москву и Пекин? России нужно от Китая, чтобы он покупал её газ, – так он и покупает наш газ. Китаю от России нужны энергоресурсы – Россия их и поставляет. Где тут почва для конфликта? Нет её. Победа России на Украине и объективная невозможность русско-китайской войны – залог геополитического поражения США. Вот почему Вашингтон зорко следит за тем, чтобы никакой Илон Маск не вздумал ставить под сомнение постулат о необходимости победной войны с Россией до последнего украинца. Это жизненно важно для США.
– Победа России на Украине будет означать конец американской гегемонии в мире?
– Да, США могут перейти из статуса «державы номер один» в разряд «державы номер три». Важно довести до нашего общества, что для России нет альтернативы победоносному завершению военной операции на Украине. Альтернатива, даже завёрнутая в любой «миролюбивый» фантик, – это поражение России и куда более масштабное военное столкновение с Китаем в обозримом будущем.
Победа России сейчас означает мир на десятилетия, а может, и на столетия, потому что воевать нам будет просто не с кем. У нас есть экономические интересы, но ни к кому нет территориальных претензий. Постепенно наладятся и нормальные отношения с Европой – именно поэтому США заранее стараются выстроить как можно более высокую стену между нами и европейцами. А значит, в Вашингтоне вовсе не уверены в своей победе на Украине – стеной отделяются от того, кого победить не могут. Китайцы построили свою Великую стену, чтобы отделиться от кочевников, не потому, что Китай их громил, а как раз потому, что разгромить не мог. Стена – это всегда признак слабости, а не силы.

Новая арена глобального противостояния
В неё США превращают Арктику, наращивая в этом геополитическом макрорегионе своё военное присутствие.
Администрация Джо Байдена с некоторой задержкой, но всё же обнародовала серию стратегий, которые определяют приоритетные направления государственной политики США в различных сферах. Одной из первых стала «Национальная стратегия США для Арктического региона», которая появилась даже раньше основополагающей «Стратегии национальной безопасности». Что за этим стоит и на что направлена новая арктическая стратегия? Эти и другие вопросы стали темой беседы нашего обозревателя с политологом Александром Перенджиевым, доцентом кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова.
– Александр Николаевич, в последние годы Крайний Север превратился в поле геополитической конкуренции. Что вы скажете в этой связи?
– Действительно, этот до недавнего времени в общем-то периферийный в контексте мировой политики макрорегион буквально на глазах превращается в один из основных объектов повышенного внимания многих государств, а также крупнейших транснациональных корпораций. И тому есть объяснение.
Прежде всего, следует отметить набирающий силу процесс глобального потепления. Если раньше он ещё подвергался сомнению, то на примере быстрого таяния льдов в Арктике приобрёл вполне осязаемый характер. А значит, открывается доступ к огромным как по численности, так и по объёму, ресурсам Крайнего Севера.
Согласно опубликованным прогнозам, здесь находятся 90 млрд баррелей нефти, 47,3 трлн куб. м газа, 44 млрд баррелей газового конденсата. По зарубежным оценкам, это составляет более 25 процентов от мировых неразведанных запасов углеродов. К перспективным районам их добычи относят шельфы Восточно-Сибирского, Чукотского морей и моря Лаптевых. В будущем прилегающий к её территории арктический шельф может стать основным источником нефти и газа для России и для мирового рынка в целом.
Кроме того, в Арктическом макрорегионе находятся в огромных количествах такие полезные ископаемые, как уголь, апатитовый концентрат, никель, кобальт, медь, вольфрам, платиноиды, олово, ртуть, золото, серебро, алмазы, марганец, хром, титан и другие. В краткосрочной перспективе многие полезные ископаемые можно уже будет добывать открытым способом, из-за таяния льдов. В северных морях находится более 150 видов рыб, в том числе важнейшие для рыбного промысла треска, сельдь, пикша, камбала.
Можно и далее продолжать перечислять природные богатства Арктики. Однако не только ими определяется значение этого региона и рост конкуренции в нём. Здесь ещё пролегает Северный морской путь (СМП), который представляет собой кратчайшую дорогу из Азии в Европу. Так, например, путь через Суэц из Кореи в Англию имеет протяжённость свыше 23 тысяч километров, а та же дорога через СМП составит только свыше 14 тысяч. Это не только сокращает время переброски грузов, но и значительно удешевляет их.
И наконец, следует подчеркнуть, что на сегодня нет ни одного международного документа, который бы определял правовой статус Арктики. Существует лишь Конвенция по морскому праву, согласно которой у берегов каждой из стран есть 12-мильная зона, которая признаётся суверенными территориальными водами. Следующие 200 миль – исключительная экономическая зона со свободным судоходством, в пределах которой государство получает контроль над природными ресурсами.
Всё это вкупе и вызывает рост конкуренции в Арктике, которая всё более превращает регион в арену глобального противостояния, имеющего и военное измерение.
– И тон в этом задают Соединённые Штаты, которые уже неприкрыто заявляют, что их не устраивает существующий расклад сил в северных широтах. По сути, они стремятся изменить его в свою пользу…
– Совершенно верно. И свидетельством разыгравшегося аппетита Вашингтона можно считать новую «Национальную стратегию США для Арктического региона», которую Джо Байден утвердил 7 октября этого года. Стратегия рассчитана на десять лет. Основное внимание в ней уделено сдерживанию России и Китая в Арктике по четырём направлениям: безопасность, устойчивое экономическое развитие, международное сотрудничество, изменение климата.
Согласно этой стратегии, США намерены лишить нашу страну по максимуму доступа к освоению ресурсов Северного Ледовитого океана и его морей, с одновременным взятием их под свой контроль, либо контроль своих ближайших союзников по НАТО – Канады, Исландии, Дании, Великобритании, Норвегии. Речь идёт и о контроле над Северным морским путём. Официальный Вашингтон пока говорит о международном контроле, фактически это будет американский контроль.
Для США сейчас важно как можно дольше отвлекать внимание Москвы от Арктики. Затягивание киевскими властями вооружённого противостояния позволяет американской стороне рассчитывать на истощение ресурсов РФ, чтобы затем воспользоваться новым соотношением сил в своих интересах и продавить уступки по правовому статусу СМП.
– Какие конкретные шаги предпринимает Америка в плане реализации своей стратегии?
– Прежде всего, необходимо отметить, что администрация Байдена намерена наращивать американское присутствие в этом регионе. В этой связи ставка делается на усиление группировки боевой авиации, а вместе с ней аэродромов, РЛС, систем ПВО/ПРО. Намечено модернизировать командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), расширить арктическую телекоммуникационную инфраструктуру, включая широкополосную связь и 5G. Укрепится ледокольный флот, что поможет поддерживать постоянное присутствие США в Арктике. Построят порт с глубокой осадкой в городе Номе на западе Аляски, а также несколько более мелких портов.
Новая стратегия предполагает, что США будут продолжать расширять свою военную деятельность в Арктике, в том числе посредством проведения регулярных учений совместно с партнёрами по НАТО.
– В план противоборства с Россией вовлечены и страны Северной Европы. Какая им отводится роль?
– Они должны стать этаким ядром формирующегося «Северо-Ледовитого альянса» – пока это мой условный термин. Именно в этих целях Швецию и Финляндию втягивают в НАТО. При этом вполне возможно, что Вашингтон совместно с Лондоном, Осло, Стокгольмом и Хельсинки попытаются создать суперсеверные газовые потоки, организовав добычу газового конденсата в Северном Ледовитом океане.
В американских замыслах превратить Великобританию в газовый хаб с созданием его филиалов в Норвегии, Швеции и Финляндии. Это даст возможность сформировать геоэкономические инструменты управления Европой со стороны англосаксов. Сразу скажу, что это пока только моё предположение. Однако оно даёт по-другому взглянуть на подрыв «Северных потоков», а также нежелание Турции видеть в составе НАТО Швецию и Финляндию. То есть в Анкаре больше опасаются ущемления своих экономических интересов вследствие переконфигурации системы ключевых магистральных газопроводов в Европу, чем поддержкой скандинавами ряда курдских радикальных организаций.
– Как Россия должна реагировать на усиление активности США и других стран в Арктическом регионе?
– Наше государство уже давно реагирует на эти вызовы и угрозы. Во-первых, сформирована соответствующая система государственного управления. Создано Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики на базе бывшего Минвостокразвития, с 2015 года осуществляет свою деятельность Государственная комиссия по вопросам развития Арктики. В составе Совета Безопасности РФ в августе 2020 года появилась межведомственная комиссия по вопросам обеспечения национальных интересов РФ в Арктике. Во-вторых, укрепляются оборонные возможности России в Арктике. В-третьих, формируется инфраструктура вдоль берегов Северного морского пути, островов северных морей и даже внутри самого Северного Ледовитого океана.
– Одним из звеньев этой цепи, думаю, стала и новая Морская доктрина, которую Президент России утвердил 31 июля 2022 года.
– Безусловно. Среди национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане этой доктриной, процитирую, определены такие, как «развитие Арктической зоны Российской Федерации как стратегической ресурсной базы и её рациональное использование, включая полномасштабное освоение континентального шельфа Российской Федерации за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны Российской Федерации после закрепления его внешней границы в соответствии со статьёй 76 Конвенции Организации Объединённых Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года; развитие Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации, конкурентоспособной на мировом рынке».
Также к жизненно важным районам (зонам) обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане Морская доктрина относит Арктический бассейн, прилегающий к побережью Российской Федерации, включая акваторию Северного морского пути.
К основным вызовам и угрозам национальной безопасности и устойчивому развитию Российской Федерации, связанными с Мировым океаном, отнесены усилия ряда государств, предпринимаемые в целях ослабления контроля Российской Федерации над Северным морским путём, наращивание иностранного военно-морского присутствия в Арктике, возрастание конфликтного потенциала в этом регионе. «Ряд государств» – это как раз те державы, о которых мы с вами вели речь. Словом, англосаксы…
– Несмотря на географическую удалённость, наблюдается растущий интерес к Арктике и со стороны Китая.
– Действительно, Китай не является государством, каким-либо образом имеющим отношение к Крайнему Северу. Тем не менее он стремится к укреплению своего присутствия в Арктике. Оно носит, насколько я могу судить, исключительно мирный характер. Это находит проявление и в том, что Китай вступил в качестве наблюдателя в Арктический совет – организацию, которая по статусу должна играть значительную роль в принятии решений, связанных с деятельностью в регионе. Поднебесная также вкладывает немалые инвестиции в освоении арктических ресурсов. Наша страна заинтересована в такой деятельности Пекина, так как позволяет развивать российско-китайское экономическое и научное сотрудничество в обоюдных интересах.
Вашингтон это не устраивает. Не случайно новая арктическая стратегия США не признает Китай «приарктическим государством», а классифицируют его как неарктическую страну. При этом в документе подчёркивается необходимость принятия решительных мер по сдерживанию КНР в Арктическом регионе. По оценке Пекина, США политизируют деятельность Китая и России в Арктике и используют усиление конкуренции в качестве предлога в попытках установить контроль над регионом, видя его всё более заметную экономическую и военную ценность.
– На ваш взгляд, как будут развиваться события в Арктическом макрорегионе?
– Уверен, что Российской Федерации удастся удержать в своих руках необходимые для её развития арктические ресурсы и Северный морской путь. Перефразируя хорошо известную фразу великого русского учёного М.В. Ломоносова, могу сказать: «Богатство России будет Арктикой прирастать».
Марина Елисеева, «Красная звезда»

Интервью Посла России в США А.И.Антонова МИА «Россия сегодня», 9 ноября 2022 года
Вопрос: Как выстраивается сегодня наше взаимодействие с властями США? Согласны ли Вы с недавно озвученной Госдепартаментом оценкой о том, что, несмотря на кризис в отношениях, США и Российская Федерация располагают достаточным числом каналов для донесения своих позиций друг до друга, когда это необходимо?
Ответ: Российско-американский политический диалог – на беспрецедентно низкой отметке. Его можно считать почти парализованным. Доверие подорвано. Обрушено сотрудничество даже по вопросам, представляющим взаимный интерес. Общение сторон ограничено и во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем.
Взаимодействие Посольства с органами исполнительной власти США по американской инициативе заблокировано. Госдепартамент предпочитает контактировать только по телефону или через электронную переписку. Крайне редки очные беседы с представителями Белого дома.
Практикуются эпизодические телефонные разговоры высокого уровня, в том числе по линии министерств обороны. Важно сохранять коммуникации для предотвращения конфронтации, чреватой эскалацией с непредсказуемыми последствиями.
Вопрос: Почему, на Ваш взгляд, американское руководство избегает диалога с Россией по украинской проблематике? Считаете ли Вы, что Вашингтону попросту выгодно затягивать этот конфликт? Согласны ли Вы с оценкой Дж.Байдена, что мир сегодня стоит на пороге Армагеддона?
Ответ: Часто слышим от представителей администрации, что они «не будут говорить с Россией об Украине без участия самой Украины». Что Киеву самому решать, в какой момент садиться за стол переговоров. Неясно, чего в этих словах больше – лицемерия или банального нежелания признавать собственные ошибки.
Центр принятия решений о судьбе Украины находится где угодно, но только не в Киеве. В этом все смогли убедиться в марте, когда одного окрика из Вашингтона хватило, чтобы режим В.Зеленского обнулил все договоренности, достигнутые в ходе интенсивных контактов двух стран. Белому дому не уйти от ответственности за затягивание конфликта и гибель невинных людей. Однако США продолжают с маниакальным упорством придерживаться тактики войны на истощение. Изматывание всех – украинцев, россиян, европейцев. А также рядовых американцев. Как говорится, война с Россией «до последнего украинца». Почему так происходит? Оснований для этого несколько, одно из них – наличие экономической заинтересованности. Стремление «снять сливки» за счет массовой продажи военной продукции, поставок СПГ: только бизнес, ничего личного.
На этом фоне запугивание мировой общественности «приближающимся Армагеддоном» безосновательно и опасно. Громкие заявления, звучащие из США, и даже из уст президента Дж.Байдена, преследуют единственную цель – настроить как можно больше государств против России.
Американцы, переворачивая все с ног на голову, обвиняют в безответственной ядерной риторике именно нас. Если же посмотреть на факты, то становится ясно, что мы никому не угрожаем ядерным оружием. Наоборот, стремимся предотвратить развитие ситуации по неконтролируемому сценарию. Российские официальные лица и лично Президент России В.В.Путин неоднократно подтверждали, что мы не собираемся применять ядерное оружие, в том числе тактическое, на Украине.
Несмотря на это, в США спекуляции продолжаются. При том что самые откровенные высказывания о готовности использовать ядерное оружие мир слышал не от России, а от союзника Вашингтона – Великобритании в лице ее уже бывшего премьер-министра Л.Трасс. Подобные заявления крайне опасны. Тем более когда разговоры о применении ОМУ фактически становятся нормой. Это притупляет осторожность в сознании тех руководителей на Западе, которые подливают «масла в огонь» украинского конфликта. На них лежит ответственность за недопущение сценария, о котором обмолвился американский президент.
Вопрос: Насколько надежно сегодня обеспечена безопасность Посольства? Получают ли российские дипломаты угрозы в свой адрес и с какими ограничениями они сталкиваются в работе?
Ответ: Мы стремимся соответствовать вызовам времени. А оно сейчас непростое, требует от каждого из нас повышенного самоконтроля, бдительности. В этом плане наши дипломаты не находятся в привилегированном положении. Посольство – тоже в каком-то роде передовая. К своим служебным обязанностям относимся с высокой долей ответственности.
Что касается угроз – они действительно нередки. Обычной и электронной почтой, через соцсети недоброжелатели пытаются запугать дипломатов и членов их семей. Получали угрозы и в мой адрес. Бывают митинги у ворот, когда эмоции захлестывают через край. На слуху вопиющие случаи, когда манифестанты, например, пытались заблокировать вход гостям, прибывающим на прием в честь Дня России. Или когда фасад Генконсульства в Нью-Йорке был залит несмываемой краской. Все это очень неприятно, но на фоне истеричной и однобокой подачи новостей местными СМИ – не слишком удивительно.
У нас налажен диалог с полицией и Секретной службой, которая охраняет президента США и посольства. В подавляющем большинстве случаев правоохранители оперативно отзываются на просьбы о помощи. Хотя рассказывают о результатах расследований по итогам инцидентов очень неохотно.
Работаем в условиях многочисленных ограничений, которые постоянно придумывает для нас принимающая сторона. Для выезда за город всем дипломатам теперь надо за неделю-две предупреждать Госдепартамент о точном маршруте. Причем американцы могут отказать без объяснения причин. Честно говоря, непонятно, какой в этом смысл. Ведь Америка, несмотря ни на что, – гостеприимная и очень интересная страна. Исходя из личного опыта могу сказать: чем дальше от Вашингтона, тем меньше русофобии.
Вопрос: Ведется ли работа по возобновлению диалога с американской стороной о выработке соглашения на замену ДСНВ? На Ваш взгляд, время еще есть, чтобы договориться? Или мы понемногу приближаемся к «точке невозврата»? Насколько велики шансы не договориться вообще? Пойдет ли Россия на какие-то уступки США для того, чтобы продемонстрировать Вашингтону свой интерес к переговорам по этой теме?
Ответ: Запущенный в 2021 г. диалог по стратегической стабильности, в рамках которого велось обсуждение возможных договоренностей на замену ДСНВ, «заморожен» по инициативе американской стороны. Никаких практических шагов к его возобновлению Вашингтон не предпринимает. Россия заинтересована в равноправном и взаимовыгодном диалоге по контролю над вооружениями. Но мы не будем упрашивать США вернуться за стол переговоров. Свою национальную безопасность обеспечим в любых обстоятельствах. Не исключено, что, в конце концов, администрация «очнется» и захочет договариваться. В юридическом вакууме между двумя странами с крупнейшими ядерными арсеналами никто не заинтересован. Сколько еще будет упущено – неизвестно. Для достижения результата по стратегической стабильности сторонам необходимо много времени. Не стоит рассчитывать на повторение сценария 2010 г., когда нам удалось договориться всего за год. Обстоятельства кардинально поменялись. Позиции сторон существенно расходятся, возникли новые технологии и угрозы. Растет значение фактора «третьих» ядерных стран. Если будет принято решение возобновить стратконсультации, не сомневаюсь, что российская делегация будет добросовестно стремиться к поиску взаимоприемлемых решений. Но ни о каких односторонних уступках в ущерб безопасности России речи быть не может.

Статья Посла России в США А.И.Антонова «Радиационная катастрофа во имя удушения России?», 9 ноября 2022 года
На протяжении более восьми лет киевский режим последовательно истребляет население Донбасса.
Стержнем политики украинских властей стали неонацизм, русофобия, массовые нарушения прав человека. Тех, кто говорит и думает по-русски, называют «нелюдями» и призывают «убираться вон». А несогласных с линией Киева просто уничтожают. В отношении русскоязычного населения осуществляется геноцид во всех его ужасных проявлениях. Мы не забудем о зверствах в одесском Доме профсоюзов – когда фашисты заживо сожгли ни в чем не повинных людей.
Задайте себе вопрос: вы бы оставили ваших сестер и братьев на растерзание тем, чья идеология – нацизм? Спали бы спокойно, зная, что жизнь близких может оборваться в любую минуту?
24 февраля 2022 г. российским руководством было принято единственно верное решение – начать специальную военную операцию (СВО). Ее задачи – демилитаризация и денацификация Украины. Избавление людей от репрессий киевского режима.
Запад воспринял это как посягательство на выдуманный им «порядок, основанный на правилах». Поставил цель во что бы то ни стало сохранить свою шатающуюся гегемонию. Вашингтон и его союзники превратили Украину в главный антироссийский плацдарм. При этом не скрывали свою готовность бороться с Россией «до последнего украинца».
С начала СВО Соединенные Штаты предоставили Киеву военную помощь в объеме 17,9 млрд долл. Во главу американского курса была поставлена поддержка реваншистских настроений режима В.Зеленского: накачка тяжелым вооружением, снабжение разведданными, направление боевиков и советников, прямой инструктаж о том, как и куда бить.
Кульминацией западного лицемерия стало игнорирование слов В.Зеленского о намерении вернуть стране ядерный статус. Мир содрогнулся, но на Западе сделали все возможное, чтобы эти заявления «утонули» в потоке антироссийской пропаганды.
Сегодня мы стоим перед угрозой радиационной катастрофы. Киев вынашивает планы по осуществлению диверсии с применением «грязной бомбы». Детонация такого устройства будет иметь масштаб, сравнимый со срабатыванием ядерного боеприпаса малой мощности. Ударная волна распылит радиоактивные вещества в периметре до нескольких тысяч квадратных метров. Зараженные территории превратятся в зону отчуждения на 30-50 лет.
Выполнение задачи по созданию «грязной бомбы» поручено двум украинским организациям. Работы находятся на заключительной стадии. У Киева имеется необходимая производственная база и научно-технический потенциал, запасы урана-235 и плутония-239, являющиеся основным компонентном ядерного заряда.
Еще более опасным вариантом развития событий, который прорабатывается Киевом, является осуществление провокации на АЭС, расположенных на подконтрольной Украине территории. Это может привести к аварии, сопоставимой с Чернобыльской и Фукусимской катастрофами, от которых мир до сих пор не оправился.
Россия всеми силами пытается достучаться до международного сообщества, предупредить о надвигающейся угрозе. Однако в Вашингтоне от наших предостережений отмахиваются, называя их «ложными» и «безосновательными». Используют формулу «сам дурак», как будто не понимая, насколько высоко вздернуты ставки. Совершенно очевидно, что цель украинских властей – замаскировать провокацию под использование Россией тактического ядерного оружия и, притворившись жертвой, напрямую втянуть США и НАТО в конфликт. Лицом к лицу столкнуть ядерные державы.
Здесь продолжают делать вид, что не видят этих опасных тенденций. Покрывая киевский режим, сами становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма.
Наши призывы одуматься скользят мимо ушей горячих голов в администрации. Все чаще мы слышим безрассудные и провокационные заявления. Яркий тому пример – недавние высказывания командиров 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США о решимости незамедлительно подключиться к боям на украинской территории. Впрочем, такие выпады уже не должны нас удивлять, ведь стремление нанести нашей стране стратегическое поражение официально закреплено в обновленной стратегии национальной безопасности США.
Мы не начинаем войну. Мы – ее заканчиваем. Вопрос лишь в том, насколько далеко готовы пойти США. Будут ли они в состоянии остановиться у опасной черты?

Принесут ли выборы в США перемены в политике по отношению к Украине? Комментарий Георгия Бовта
Некоторые представители Республиканской партии обещают, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах расходы на боевые действия резко сократятся. Что это — популистские заявления или следование общественным настроениям?
В США 8 ноября состоятся так называемые промежуточные выборы, которые проводятся в середине срока полномочий президента. На них избирают весь состав палаты представителей и треть сената, также пройдут выборы губернаторов в 36 штатах. Стоит ли ждать, что выборы подкорректируют позицию Вашингтона относительно России и конфликта на Украине?
В палате представителей республиканцам достаточно будет отвоевать еще пять дополнительных мест, чтобы получить большинство. Это им по силам, оптимистичные прогнозы дают им итоговый перевес в примерно 30 мест из 435. Палата инициирует все законопроекты, связанные с ассигнованиями или налогами. В сенате переизбираются 35 членов. Республиканцам надо завоевать дополнительно всего одно место, чтобы получить перевес. Сделать это будет непросто, поскольку переизбранию в этом году подлежит больше сенаторов-республиканцев, чем демократов.
Прогноз на победу республиканцев в нижней палате сейчас в массмедиа почти единодушный на фоне обеспокоенности в обществе высокой инфляцией, ростом цен на бензин и довольно низкого рейтинга действующего президента Джо Байдена. Соперник Байдена по прошлым выборам Дональд Трамп уже приготовился использовать «республиканскую волну» и, как ожидается, в ближайшие недели может объявить о намерении вновь побороться за президентское кресло в 2024 году.
Вопреки недавним избирательным кампаниям, тема «русского вмешательства» в выборы отошла на задний план. Хотя СМИ обратили внимание на провокационное заявление владельца компании «Конкорд» и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, когда он сказал: «Господа, мы вмешивались, вмешиваемся и будем вмешиваться», но вмешательства идут «аккуратно, по-хирургически, как мы это умеем». Российская тема фигурирует главным образом в связи с конфликтом на Украине и поддержкой Киева со стороны США.
Газета The Washington Post даже вышла с алармистской статьей: мол, Украину случае победы республиканцев ждут «холодная зима» и сокращение военной помощи. Действительно, в последнее время от представителей республиканцев звучали заявления в том духе, что Украина и так уже достаточно получила и хватит транжирить деньги налогоплательщиков. «При республиканцах Украине не достанется ни копейки», — категорично заявила член палаты представителей республиканка от Айовы Марджори Тейлор Грин. Ранее лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти тоже говорил, что у Украины не должно быть «чека с открытой суммой» в то время, как на Америку надвигается рецессия.
Другие республиканцы предлагают европейцам взять на себя большую долю финансирования — не все же одной Америке раскошеливаться. Общий объем уже одобренной, хотя еще не дошедшей в полной мере до Украины помощи от США со времени прихода администрации Байдена достиг почти 60 млрд долларов. С другой стороны, лидер республиканского меньшинства в сенате ветеран Митч Макконнелл, наоборот, призвал Байдена увеличить помощь Киеву и ускорить ее выделение.
Эти дискуссии идут на фоне участившихся публикаций в американских СМИ на тему возможных мирных переговоров. То якобы Белый дом просил Зеленского дать сигнал о готовности в принципе к переговорам. То якобы советник по нацбезопасности Джейк Салливан вел тайные переговоры с высокопоставленными российскими представителями. То со ссылкой на неназванные источники та же The Washington Post публикует рассуждения о возможности достижения прекращения огня и некоего компромисса в случае, если ВСУ отобьют обратно Херсон.
Ко всем этим публикациями надо относиться с большой долей скепсиса. Признаков готовности к мирным переговорам не видно ни с какой стороны. Равно как скептически стоит относиться и к отдельным заявлениям республиканцев о сокращении помощи Киеву. Этот вопрос может стать предметом торга с Белым домом по другим вопросам, однако предположения о возможности существенного сокращения помощи под давлением республиканцев необоснованны.
Более того, поддержка Украины в американском обществе в целом остается довольно высокой. Недавний опрос Университета Мэриленда показал, что американские обыватели готовы оплачивать высокие энергозатраты, чтобы помочь Украине, примерно в той же степени, как на аналогичный вопрос они отвечали в июне: 60% заявили, что готовы сделать это, в том числе 80% демократов и 48% республиканцев. Летом поддержка среди избирателей-республиканцев была даже чуть меньше. Что касается инфляции, то 57% респондентов заявили, что готовы принять рост цен, связанный с тем, что США помогают Украине, в том числе 74% демократов и 44% республиканцев.
И снова республиканцы в октябрьском опросе были более склонны мириться с повышением цен на энергоносители и ростом инфляции, чем республиканцы в июньском опросе. Эти результаты противоречат некоторым изменениям в риторике отдельных представителей партии. Так что до перелома в общественном мнении еще очень далеко. Значит, далеко и до перемен в политике.

Дырка от санкций: почему некоторые иностранные бизнесы возвращаются или не торопятся уходить из РФ? Комментарий Семена Новопрудского
На девятом месяце специальной военной операции и беспрецедентных ограничений против России становится понятно, что одним из новых правил санкционной политики будут… исключения из правил. Ограничения против России уже помогают обходить не только так называемые дружественные страны, но и сами авторы и «исполнители» санкций, подчеркивает колумнист
На днях стало известно, что Минпромторг России запретил параллельный импорт парфюмерии и косметики Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase, так как эти бренды готовы возобновить поставки в Россию. Физически официальные поставки продукции этих брендов, по версии Минпромторга, должны возобновиться через три месяца.
Известные парфюмерные и косметические бренды внесли в список параллельного импорта в начале августа. Однако еще в мае глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал о переговорах по возобновлению поставок косметической продукции ведущих мировых производителей. И вот, похоже, известные производители косметики и парфюмерии убедили себя, что «деньги не пахнут», и решили вернуться на прибыльный рынок в надежде на сохранение здесь платежеспособного спроса. Тем более что духи или помада вполне невинные, мирные товары, точно не детали для ракет и не беспилотники.
В конце марта, когда против России еще продолжали вводиться достаточно масштабные санкции (сам этот процесс тоже постепенно идет на спад), чтобы избежать резкого исчезновения привычных россиянам и востребованных иностранных товаров из «недружественных» стран после ухода с российского рынка многих иностранных компаний, российское правительство легализовало параллельный импорт. Но теперь к этому глобальному механизму обхода санкций добавляются локальные «исключения из правил» от тех, кто эти санкции вводил.
В частности, Министерство финансов США и Госдепартамент негласно призвали крупные американские банки Citigroup и JPMorgan продолжать поддерживать связи с некоторыми российскими предприятиями. Эти банки оказывают финансовые услуги «Газпрому», «Фосагро» и «Уралкалию» — ключевым поставщикам газа и минеральных удобрений на мировые рынки.
Гуманитарную помощь, газ и продовольствие санкции против России не затрагивали изначально, но многие компании и банки под воздействием других санкций в рамках общего тренда прекращали работать с российскими партнерами по политическим причинам. Однако теперь сами авторы и «операторы» санкций (в США ими управляет именно Минфин) подталкивают часть своего бизнеса к продолжению работы с Россией. Потому что иначе от голода будут гибнуть миллионы людей в Африке, которая очень далека от проблем российско-украинских или российско-американских отношений. И в самих странах Запада, где демократия означает зависимость политиков от воли избирателей, не все готовы наслаждаться запущенной еще при борьбе с ковидом и усугубленной нынешними ограничениями против России рекордной за 40-50 лет инфляцией или нехваткой тепла и воды.
Когда в мире идет большая война, свою цену платят все, даже те, кто в ней вроде бы лично не участвует.
А вот еще одна свежая новость того же ряда про «дыры в санкциях», или исключения из неписаных правил, которые делают для России «недружественные» страны. 7 ноября стало известно, что телеканал «Матч ТВ» покажет матчи Кубка и Суперкубка Испании по футболу. Холдинг стал обладателем телевизионных прав на трансляцию этих турниров на территории России.
Матчи предварительного раунда Кубка Испании покажут на тематических каналах «Матч ТВ» на этой неделе. Трансляции трех матчей Суперкубка состоятся 11, 12 и 15 января. Чемпионат Испании по футболу в России не показывают, так как Испания приостановила контракт. При этом в каждом матче «Ла Лиги» вместе с титрами команд и текущим счетом на заставке расположен флаг Украины.
А, например, итальянскую серию А и германскую Бундеслигу в России транслировать не прекращали. Во многих видах спорта российским спортсменам и командам запрещено выступать в официальных международных соревнованиях даже под нейтральным флагом. А, например, в самбо и боксе можно даже под российским.
Таких исключений из правил санкционного давления против России с течением времени, с большой долей вероятности, будет становиться больше. Это и есть ответ на вопрос об эффективности санкций. Если их цель постепенно ослабить страну или затормозить развитие, они относительно эффективны: Иран, живущий под санкциями почти 45 лет, полвека назад был гораздо более развитым и богатым государством. Если же цель санкций остановить боевые действия или заставить какую-то страну изменить политику — они бесполезны.

США не хотят отказываться от первого ядерного удара
Об этом свидетельствуют ключевые военно-политические стратегии, обнародованные Белым домом.
После долгих раздумий нынешняя администрация США обнародовала серию ключевых военно-политических стратегий: 12 октября вышла «Стратегия национальной безопасности», а 27 октября – сразу три документа: «Стратегия национальной обороны», «Обзор ядерной политики» (ядерная стратегия) и «Стратегия противоракетной обороны». Наша редакция попросила прокомментировать эти документы Владимира Козина, члена-корреспондента Академии военных наук России, автора монографии «Ключевые военные стратегии США: их национальные и международные последствия».
– Владимир Петрович, чем вызвана публикация одновременно трёх американских стратегий – обороны, ядерной и противоракетной?
– Обычно каждая из этих важнейших национальных стратегий публикуется с временным интервалом. Такой практике следовали практически все американские президенты. Но поскольку подготовка этих доктринальных военно-стратегических установок по каким-то причинам затянулась, нынешняя администрация решила обнародовать сразу три документа. Тем более что такое государство, как США, не может долгое время руководствоваться стратегиями, одобренными несколько лет назад, к тому же утверждёнными политическим конкурентом – предыдущим президентом-республиканцем Дональдом Трампом. Да и союзники по НАТО, надо полагать, заждались изложения военно-стратегических установок своего «старшего партнёра». Джо Байдена подтолкнули к этому крайне важные для демократов промежуточные выборы в конгресс США, которые пройдут 8 ноября.
– Учитывая, что за океаном все активнее разыгрывают ядерную тему, обновлённая ядерная стратегия США несомненно вызывает интерес. Что вы скажете по этому поводу? Как она определяет роль ядерного оружия в американской внешней и оборонной политике?
– Прежде всего хотел бы пояснить, что обнародован несекретный вариант стратегии. Имеется ещё текст c особой степенью секретности, который не публикуется. Известно лишь, что он содержит список целей ядерного нападения в первом превентивном и упреждающем ударе по четырём категориям объектов потенциальных противников США и НАТО. Цели определены по каждой стране в отдельности.
Замечу также, что из обновлённой стратегии исчезли 14 оснований для применения ядерного оружия, которые были изложены в такой же стратегии Трампа. Предполагаю, что они перешли в секретный вариант ядерной стратегии Байдена.
Что касается обнародованной её части, то в ней сразу оговорено, что ядерная стратегия 2022 года дополняет две основополагающие национальные стратегии: национальной безопасности и обороны, которые также вышли в октябре этого года. При этом подчёркивается приверженность политике эффективного ядерного сдерживания и расширенного ядерного сдерживания. В последнем случае под этим понимают предоставление ядерного зонтика всем 29 союзникам по НАТО, а также внеблоковым партнёрам США: Австралии, Израилю, Южной Корее и Японии. Такая формулировка употребляется всегда, это уже стало прочной традицией.
Американское ядерное оружие стратегического и тактического назначения призвано сдержать агрессию против страны и укрепить её безопасность, заверить в поддержке союзников и партнёров, а также обеспечить успех, если сдерживание окажется неудачным. Подчёркнуто: ничто не может заменить ядерное сдерживание.
Ядерное оружие сохранится в военном потенциале США в будущем на неопределённый период времени. Оно составит важный элемент комбинированной и более широкой триады, чем ядерная, в которую входят три оперативно связанные между собой компонента: ракетно-ядерные вооружения, система ПРО и силы общего назначения (СОН).
В стратегии также обращается внимание на возможность перерастания боевых действий с применением СОН в боевые действия с использованием ядерных вооружений. Надо напомнить: в последние годы вооружённые силы США проводят масштабные обычные военные учения, которые заканчиваются нанесением условных ядерных ударов.
В стратегии содержится установка на определение среди союзников оптимального взаимодействия между ядерными и неядерными потенциалами стратегического назначения. Делается акцент на внедрение перспективных технологий и инновационного дизайна при создании ракетно-ядерных арсеналов.
– Каким образом изменится американский стратегический и тактический ядерный потенциал в свете реализации новой стратегии?
– Американское военно-политическое руководство продолжит основательную модернизацию всех видов национальных стратегических и тактических ядерных вооружений, средств их доставки, а также командно-штабной системы управления ядерными силами и оперативного взаимодействия с ними.
Постепенно произойдёт техническое обновление всех трёх компонентов стратегических ядерных сил (СЯС). В 2023–2027 годы будет продолжаться создание новой МБР – «Сентинел», которая в американских документах ранее называлась «МБР стратегического сдерживания наземного базирования». Она заменит «Минитмен-3» в полном объёме, то есть их общее количество сохранится в неизменном виде: ровно 400 единиц. На них будут установлены боезаряды двух видов: W87-0/Mk21 и W87-0/Mk21A.
Появление такой МБР опровергает мнение ряда экспертов, считающих, что американские СЯС перейдут на диаду, полностью исключив из традиционной стратегической триады ядерные ракеты межконтинентальной дальности наземного базирования.
– А что с морским компонентом СЯС США?
– С 2030 года ПЛАРБ типа «Огайо» начнут заменять атомными ракетоносцами типа «Колумбия». Их общее количество будет доведено минимально до 12 субмарин. На них останутся прежние баллистические ракеты «Трайдент-II D5», которые завершат вторую фазу продления срока их службы. Будет выполнена программа замены ядерных боезарядов W88 Alt 370. На некоторых ПЛАРБ сохранятся БРПЛ с боезарядом малой мощности W76-2 (по открытым данным, от пяти килотонн и меньше).
США параллельно окажут содействие Великобритании в деле замены ядерных боезарядов на британских ПЛАРБ.
СЯС воздушного базирования будут представлены модернизированным тяжёлым бомбардировщиком В-52Н, который останется в строю до 2050 года, а также новым бомбардировщиком В-21 «Рейдер», который заменит стратегический бомбардировщик В-2А. Предполагаемое общее количество самолётов В-21 – минимум 100 машин.
Произойдёт замена крылатых ракет воздушного базирования на ракету повышенной дальности с ядерным боезарядом W80-4 для установки на бомбардировщиках, которые при патрулировании будут находиться «в зонах ожидания нанесения удара».
Будут выведены из состава ядерных сил боезаряды воздушного базирования В83-1 и крылатые ракеты морского базирования в ядерном снаряжении. Сроки пока не объявлены.
Продолжатся программы замены ядерных авиабомб трёх модификаций – В61-3, В61-4 и В61-7 тактического назначения на более высокоточную корректируемую авиабомбу В61-12 с мощностью боезаряда от 0,3 до 50 килотонн. Предстоит, кроме того, замена носителей ядерного оружия в виде тактических истребителей F-15E на F-35A, которые уже поступили и продолжают поступать на вооружение ряда государств – членов НАТО и внеблоковых стран – партнёров США. Самолёты F-35A, сертифицированные под доставку ядерных авиабомб, будут переданы даже безъядерной Финляндии, которая официально пока не стала членом НАТО. В Хельсинки уже заказали 64 такие машины.
– Как прописан в стратегии российский сюжет? Какие новации просматриваются в нём?
– Оценки ядерной политики России даются вслед за КНР. Они прописаны в довольно агрессивно-обвинительном ключе и с упорным утверждением, что российская сторона в последнее время делает упор на возможность применения ядерного оружия против Украины. И это при том что российское военно-политическое руководство ни разу не сделало какого-то заявления на этот счёт.
Утверждается, что Россия располагает 2000 тактическими (в тексте стратегии – нестратегическими) ядерными боезарядами, а также боезарядами на перспективных носителях, которые не засчитываются в суммарные уровни, определённые двусторонним российско-американским Договором СНВ-3. Касательно количества у России ядерных боезарядов тактического назначения надо отметить, что ни Москва, ни Вашингтон никогда не объявляли их количества, поскольку не вели переговоры об их ограничении или сокращении.
– А что в документе сказано о Китае, учитывая, что в недавно утверждённой «Стратегии национальной безопасности» он назван государством, представляющим особую угрозу для США?
– В документе обращается внимание, что КНР создала стратегическую ядерную триаду, стремится повысить степени её живучести, надёжности и эффективности, осуществляет программу модернизации своих ядерных вооружений, а к концу текущего столетия попытается довести национальный ядерный арсенал до одной тысячи ядерных боезарядов. Предполагается, что это позволит китайской стороне расширить опции использования ядерных сил в преддверии какого-то кризиса или в ходе его развития. Естественно, кризис не обозначен, но можно предположить, что имеется в виду Тайвань.
– Исходя из изложенных в стратегии Байдена планов по модернизации американской стратегической триады, а также стремления США подмять под себя весь мир, перспективы достижения договорённостей по контролю над вооружениями представляются, скорее всего, призрачными. Как вы считаете?
– Согласен с вами. Тем более что и в обнародованной ядерной стратегии США просматриваются явные противоречия на этот счёт. Например, голословно провозглашается, что Соединённые Штаты имеют желание снизить опору на ядерные вооружения в глобальном масштабе, а также уменьшить их роль в стратегии страны. Но при этом никакие практические инициативы во имя достижения обозначенной цели не выдвигаются.
Скажем, с одной стороны, содержится положение о продолжении контактов с другими ядерными государствами по контролю над ядерными вооружениями. Но с другой, в ядерную стратегию включены такие оговорки: по возможности, только на основе взаимности, при наличии доверия и с целью снижения ядерных рисков. Не много ли оговорок на этом пути? Да и при желании их все можно трактовать и применять по-своему, под предлогом обеспечения национальных интересов.
Американская сторона по-прежнему ставит задачу вовлечь КНР в переговорный процесс по контролю над ядерными вооружениями. А что США сделали для этого? Ничего. Наоборот, обозначили цель укрепления их военного потенциала в многовекторной среде: в космосе, кибер- и воздушном пространстве, под водой, а также намерены усилить ракетно-ядерные средства в Индо-Тихоокеанском регионе.
В американском документе говорится о возможности снижения уровня боеготовности ядерных сил США. Высказана заинтересованность в предотвращении ядерной войны, которая имела бы катастрофические последствия для Соединённых Штатов и всего мира. Звучит позитивно. А чем подкреплена такая точка зрения? Какими политическими инициативами и военно-техническими мерами? Их нет.
Более того, США снижают порог применения ядерного оружия. Об этом свидетельствуют и заметно участившиеся масштабные ядерные учения США и НАТО, регулярное патрулирование воздушного пространства Европы американскими стратегическими бомбардировщиками близ границ России и КНР, многонациональные операции ВВС альянса с самолётами «двойного назначения», проводимые в непосредственной близости от российских рубежей…
Записано, что американская сторона хотела бы уменьшить готовность противников нанести первый ядерный удар по США. Но сам Белый дом не отказался от стратегии нанесения первого ядерного удара и не намерен отказываться от неё и впредь.
В ядерной стратегии 2022 года одновременно открыто зафиксировано положение о необходимости повышения надёжности ядерного потенциала Североатлантического союза, а также более тесного взаимодействия СЯС США с ядерными силами Великобритании и Франции. Записано, что боевая готовность самолётов «двойного назначения» и возможность применения новой авиабомбы В61-12 в зонах передового базирования, то есть близ российской территории, не должна снижаться.
Многих американских законодателей весьма тревожит тот факт, что все американские президенты, включая нынешнего, имеют единоличное право отдавать приказ СЯС США применить ядерное оружие в первом ударе под сомнительными предлогами. Изменить этот порядок пока не удаётся.
В завершение выскажу мнение: с такими подходами и практическими действиями американской стороны, с её отказом вывезти всё тактическое ядерное оружие из Европы и Азии и демонтировать комбинированную оборонительно-наступательную глобальную систему ПРО на Евразийском континенте говорить с Соединёнными Штатами о взаимном и проверяемом контроле над вооружениями, увы, нереально.
Владимир Кузарь, «Красная звезда»

Лоуренс Макдональд: ЦБ РФ действовал проактивно, защищая экономику России
Лоуренс Макдональд, бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers, банкротство которой в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса, в интервью РИА Новости оценил грядущие выборы в конгресс США, усилия ФРС по снижению инфляции, последствия санкций против России и ситуацию на нефтяном рынке.
— Что вы думаете о том, как администрация Байдена управляет экономикой США?
— Когда они (демократы. — Прим. ред.) заняли офис, то совершили атаку на нефтяную отрасль. Около 12-18 месяцев не было вообще никаких инвестиций, и теперь мы испытываем дефицит вложений. Мы не имеем ресурсов, чтобы добыть достаточно нефти для удовлетворения спроса. Вся администрация неверно оценила энергетический кризис.
— Как вы считаете, растущая инфляция может стоить демократам победы на выборах в этом году? Как, по вашему мнению, победа республиканцев на промежуточных выборах этого года повлияет на экономическую ситуацию в США?
— Они (демократы. — Прим. ред.) будут уничтожены, они просто будут уничтожены. Потеряют палату представителей, возможно, потеряют сенат, и тогда мы окажемся в безвыходном положении. Вот почему облигации начинают подниматься в цене: потому что следующие пару лет будут одним большим тупиком.
— Вступит ли экономика США в рецессию в следующем году? Как долго, по вашему мнению, будет сохраняться инфляция?
— Рецессия уже наблюдается в значительной степени. Если вы посмотрите на данные МВФ, если вы посмотрите на данные Федерального резервного банка Филадельфии, региональные данные, то единственный показатель, который не был затронут инфляцией, — это рабочие места. Для этого есть множество причин. Это объясняется длинным летним автомобильным сезоном, многие люди возвращаются на рабочие места, но процесс действительно сильно замедляется. Вы не можете повысить ставки <… > за шесть месяцев на 325 базисных пунктов, а США во многом использовали эти финансовые рычаги. Когда вы повышаете ставки, это чрезвычайно опасно, это намного опаснее, чем 20 лет назад, так как сегодня на планете на 200 триллионов больше долгов и на 50 триллионов больше, чем в 2018 году. Так что, когда вы повышаете ставки при слишком большом долге, это действительно оказывается разрушительным для многих вещей.
— Как вы думаете, высокие цены на газ в США связаны с так называемым путинским налогом, о котором постоянно говорит Байден?
— Да, несомненно, но цены на газ безусловно выросли еще до начала военных действий. Военные действия просто добавили больше бедствий в уравнение, но есть много чего-то наподобие манипуляций, когда люди пытаются переписать историю. Но в итоге мы просто умножили проблемы, связанные с нефтью и газом.
— Считаете ли вы, что Запад эффективно изолирует Россию и ее финансовую систему?
— Они пытаются сделать это, да, но Россия обходит их (попытки изоляции. — Прим. ред.) множеством различных путей. БРИКС особенно формирует это. Посмотрите на кооперацию саудитов и России. БРИКС формируется как альянс вокруг Соединенных Штатов. США совершают очень опасные движения, они толкают эти страны к объединению в блок.
— Кто больше всего страдает от западных санкций?
— Это сложный вопрос. У меня нет точного ответа. Знаете, я не обладаю действительно хорошими данными о том, что происходит в России.
— Как вы оцениваете политику ЦБ России по стабилизации ситуации в России в условиях западных санкций?
— Политика российского Центрального банка <…> в целом, они были довольно проактивными, действуя на опережение. Центральный банк, правительство, они купили много золота, они продали большой объем казначейских облигаций. В России намного больше твердых активов на душу населения, чем в западных странах, и твердые активы вполне нормально существуют в инфляционных режимах.
— Как вы думаете, могут ли Россия и ее союзники создать реальную альтернативу SWIFT?
— Да, в том-то и проблема, что Запад должен использовать игру со SWIFT в рамках санкций раз в десять лет, а они использовали ее против многих стран. Санкции против России — ну хорошо; но, c точки зрения США, проблема заключается в том, что вы ударили по голове десять разных стран санкционной картой, тем самым вынуждая эти страны формировать блок против вас. Вот что происходит. Через два года доллара, вероятно, будет намного меньше, потому что планета ищет способы обойти SWIFT.
— Как вы думаете, возможна ли дедолларизация?
— Это определенно случится, но это вопрос, вероятно, от десяти до 30 лет. Это не проблема ближайшего времени. Может быть, через 20-30 лет, поскольку США владеют очень большим объемом благосостояния, мы обладаем огромной военной мощью. Но лучшие годы — годы пика доллара — без сомнения, проходят прямо сейчас.
— Как вы считаете, может ли нынешний мировой кризис, вызванный пандемией COVID-19 и обострившийся из-за украинского конфликта, подтолкнуть мировую экономику к финансовому кризису, как это было в 2008 году, или даже хуже?
— Совершенно ясно, что риски финансовой стабильности на данный момент перевешивают результаты борьбы с инфляцией, и поэтому они пытаются избежать еще одной ситуации, похожей на (банкротство. — Прим. ред.) Lehman Brothers. Cуть заключается в том, что, если вы поднимете ставку по федеральным фондам до пяти процентов, я думаю, это приведет к чему-то наподобие того, что случилось с Lehman. Это слишком высокий процент.
— Терпит ли лидерство США крах после того, как ОПЕК проигнорировала призыв Байдена отсрочить сокращение добычи нефти?
— Ну, просто, вы знаете, они действительно противостоят США, и это смелый шаг. Они пошли против течения, как только началась пандемия COVID-19. У них есть свои собственные экономические модели, они обеспокоены карантином в Китае, у них есть множество причин сократить добычу. Глобальная экономика разрушается. И США передали большую часть контроля над ценой саудовцам и русским.
Это рана, нанесенная самим себе. Мы снизили добычу в США с 13 миллионов баррелей в день до примерно десяти (миллионов баррелей в день. — Прим. ред.) в период с 2019 по 2021 год. Эти объемы растут. Я хочу пояснить, что это восстанавливается, производство в США восстанавливается. Но суть в том, что когда мы так сильно сократили производство, то передали больше контроля над ценой саудовцам и русским.
Мы могли бы добывать по 16 миллионов баррелей в день. Если бы мы качали по 16 миллионов баррелей в день, то у саудовцев и русских не было бы возможности сокращать добычу, как они делают, потому что у США была бы большая доля рынка. Но мы отключили сотни и сотни буровых установок и предоставили больше производственных мощностей и контроль над ценой саудовцам и русским. Не очень умное решение.

Лоуренс Макдональд: ЦБ РФ действовал проактивно, защищая экономику России
Лоуренс Макдональд, бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers, банкротство которой в 2008 году принято считать отправной точкой мирового финансового кризиса, в интервью РИА Новости оценил грядущие выборы в конгресс США, усилия ФРС по снижению инфляции, последствия санкций против России и ситуацию на нефтяном рынке.
— Что вы думаете о том, как администрация Байдена управляет экономикой США?
— Когда они (демократы. — Прим. ред.) заняли офис, то совершили атаку на нефтяную отрасль. Около 12-18 месяцев не было вообще никаких инвестиций, и теперь мы испытываем дефицит вложений. Мы не имеем ресурсов, чтобы добыть достаточно нефти для удовлетворения спроса. Вся администрация неверно оценила энергетический кризис.
— Как вы считаете, растущая инфляция может стоить демократам победы на выборах в этом году? Как, по вашему мнению, победа республиканцев на промежуточных выборах этого года повлияет на экономическую ситуацию в США?
— Они (демократы. — Прим. ред.) будут уничтожены, они просто будут уничтожены. Потеряют палату представителей, возможно, потеряют сенат, и тогда мы окажемся в безвыходном положении. Вот почему облигации начинают подниматься в цене: потому что следующие пару лет будут одним большим тупиком.
— Вступит ли экономика США в рецессию в следующем году? Как долго, по вашему мнению, будет сохраняться инфляция?
— Рецессия уже наблюдается в значительной степени. Если вы посмотрите на данные МВФ, если вы посмотрите на данные Федерального резервного банка Филадельфии, региональные данные, то единственный показатель, который не был затронут инфляцией, — это рабочие места. Для этого есть множество причин. Это объясняется длинным летним автомобильным сезоном, многие люди возвращаются на рабочие места, но процесс действительно сильно замедляется. Вы не можете повысить ставки <… > за шесть месяцев на 325 базисных пунктов, а США во многом использовали эти финансовые рычаги. Когда вы повышаете ставки, это чрезвычайно опасно, это намного опаснее, чем 20 лет назад, так как сегодня на планете на 200 триллионов больше долгов и на 50 триллионов больше, чем в 2018 году. Так что, когда вы повышаете ставки при слишком большом долге, это действительно оказывается разрушительным для многих вещей.
— Как вы думаете, высокие цены на газ в США связаны с так называемым путинским налогом, о котором постоянно говорит Байден?
— Да, несомненно, но цены на газ безусловно выросли еще до начала военных действий. Военные действия просто добавили больше бедствий в уравнение, но есть много чего-то наподобие манипуляций, когда люди пытаются переписать историю. Но в итоге мы просто умножили проблемы, связанные с нефтью и газом.
— Считаете ли вы, что Запад эффективно изолирует Россию и ее финансовую систему?
— Они пытаются сделать это, да, но Россия обходит их (попытки изоляции. — Прим. ред.) множеством различных путей. БРИКС особенно формирует это. Посмотрите на кооперацию саудитов и России. БРИКС формируется как альянс вокруг Соединенных Штатов. США совершают очень опасные движения, они толкают эти страны к объединению в блок.
— Кто больше всего страдает от западных санкций?
— Это сложный вопрос. У меня нет точного ответа. Знаете, я не обладаю действительно хорошими данными о том, что происходит в России.
— Как вы оцениваете политику ЦБ России по стабилизации ситуации в России в условиях западных санкций?
— Политика российского Центрального банка <…> в целом, они были довольно проактивными, действуя на опережение. Центральный банк, правительство, они купили много золота, они продали большой объем казначейских облигаций. В России намного больше твердых активов на душу населения, чем в западных странах, и твердые активы вполне нормально существуют в инфляционных режимах.
— Как вы думаете, могут ли Россия и ее союзники создать реальную альтернативу SWIFT?
— Да, в том-то и проблема, что Запад должен использовать игру со SWIFT в рамках санкций раз в десять лет, а они использовали ее против многих стран. Санкции против России — ну хорошо; но, c точки зрения США, проблема заключается в том, что вы ударили по голове десять разных стран санкционной картой, тем самым вынуждая эти страны формировать блок против вас. Вот что происходит. Через два года доллара, вероятно, будет намного меньше, потому что планета ищет способы обойти SWIFT.
— Как вы думаете, возможна ли дедолларизация?
— Это определенно случится, но это вопрос, вероятно, от десяти до 30 лет. Это не проблема ближайшего времени. Может быть, через 20-30 лет, поскольку США владеют очень большим объемом благосостояния, мы обладаем огромной военной мощью. Но лучшие годы — годы пика доллара — без сомнения, проходят прямо сейчас.
— Как вы считаете, может ли нынешний мировой кризис, вызванный пандемией COVID-19 и обострившийся из-за украинского конфликта, подтолкнуть мировую экономику к финансовому кризису, как это было в 2008 году, или даже хуже?
— Совершенно ясно, что риски финансовой стабильности на данный момент перевешивают результаты борьбы с инфляцией, и поэтому они пытаются избежать еще одной ситуации, похожей на (банкротство. — Прим. ред.) Lehman Brothers. Cуть заключается в том, что, если вы поднимете ставку по федеральным фондам до пяти процентов, я думаю, это приведет к чему-то наподобие того, что случилось с Lehman. Это слишком высокий процент.
— Терпит ли лидерство США крах после того, как ОПЕК проигнорировала призыв Байдена отсрочить сокращение добычи нефти?
— Ну, просто, вы знаете, они действительно противостоят США, и это смелый шаг. Они пошли против течения, как только началась пандемия COVID-19. У них есть свои собственные экономические модели, они обеспокоены карантином в Китае, у них есть множество причин сократить добычу. Глобальная экономика разрушается. И США передали большую часть контроля над ценой саудовцам и русским.
Это рана, нанесенная самим себе. Мы снизили добычу в США с 13 миллионов баррелей в день до примерно десяти (миллионов баррелей в день. — Прим. ред.) в период с 2019 по 2021 год. Эти объемы растут. Я хочу пояснить, что это восстанавливается, производство в США восстанавливается. Но суть в том, что когда мы так сильно сократили производство, то передали больше контроля над ценой саудовцам и русским.
Мы могли бы добывать по 16 миллионов баррелей в день. Если бы мы качали по 16 миллионов баррелей в день, то у саудовцев и русских не было бы возможности сокращать добычу, как они делают, потому что у США была бы большая доля рынка. Но мы отключили сотни и сотни буровых установок и предоставили больше производственных мощностей и контроль над ценой саудовцам и русским. Не очень умное решение.

Конкуренция и сотрудничество: парадокс в стратегии США
БЕН СКОТТ
Научный сотрудник Института Lowy, в прошлом – австралийский дипломат.
В новой Стратегии национальной безопасности США, по крайней мере, признаётся наличие проблемы, хотя пока ещё не предлагаются пути её решения.
На первой странице Стратегии национальной безопасности администрации Байдена, опубликованной недавно, определены «два стратегических вызова».
Первый – то, что обычно описывается как возвращение «соперничества великих держав» и что в стратегии характеризуется как «соперничество… между крупными державами» за формирование новой эры.
Второй – «общие трансграничные вызовы», включая «изменение климата, отсутствие продовольственной безопасности, инфекционные заболевания, терроризм, дефицит энергии и инфляция». Часто называемые «транснациональными проблемами», это вызовы, которые «в силу своей природы… требуют от правительств сотрудничества для ответа на них».
Как Вашингтон может одновременно решать обе стратегические задачи? Как конкурировать с Китаем, Россией и другими странами, одновременно налаживая международное сотрудничество в борьбе с изменением климата? В Стратегии эта проблема описывается как «сотрудничество для решения общих проблем в эпоху конкуренции», но её также можно охарактеризовать как конкуренцию во взаимозависимом мире.
Белый дом откровенно признаёт сложность данной проблемы и то, что у него пока нет понимания, как её решить. Попытка разобраться с этим парадоксом привела к самому запутанному предложению в документе: «Мы не сможем преуспеть в конкуренции с крупными державами, предлагающими иное видение мира, если у нас не будет плана сотрудничества с другими странами для решения общих проблем, и мы не сможем этого сделать, если не поймём, как обострение конкуренции в мире влияет на сотрудничество и как необходимость сотрудничества влияет на конкуренцию».
Как достичь этого понимания? В следующем предложении говорится: «Нам нужна стратегия, которая не только ищет ответ на эти два вызова, но и признаёт взаимосвязь между ними, и адаптируется под них».
Именно так. Вывод 48-страничной Стратегии национальной безопасности – «нам нужна стратегия».
В отсутствие такой стратегии Вашингтон попытался применить несколько подходов к разрешению этого парадокса «конкурентного сотрудничества».
Первый подход – это стремление к разделению на категории. Это было сжато выражено в аккуратной формулировке госсекретаря Энтони Блинкена о том, что подход США к Китаю будет «конкурентным, когда это необходимо, с опорой на сотрудничество, когда возможно, и конфронтационным, если это потребуется». Администрация Байдена решительно отвергает любую связь между этими видами деятельности. Она не хочет, чтобы её воспринимали так же, как администрацию Барака Обамы, преуменьшавшего геополитическую конкуренцию, чтобы склонить Пекин к сотрудничеству. Напротив, в новой Стратегии национальной безопасности нынешняя администрация настаивает: «Ни одна страна не должна сдерживать прогресс в решении экзистенциальных транснациональных проблем… из-за двусторонних разногласий».
Хотя это требование может быть морально оправданно, оно не помешало Китаю (и России) поступить совершенно противоположным образом. После того как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайвань, Пекин отменил все переговоры о сотрудничестве с Вашингтоном. Министр иностранных дел Китая Ван И высказался более философски, заявив, что Вашингтон «хочет, чтобы сотрудничество в области изменения климата стало оазисом в отношениях… однако, если оазис окружён пустынями, он рано или поздно тоже превратится в пустыню». Таким образом, разделение на категории работает только при условии согласия обеих сторон. Если же между ними нет согласия, проблема превращается в игру нервов (кто первым моргнёт).
Второй подход. Усилия Пекина по использованию в своих интересах таких вопросов, как изменение климата, и, в более близкой перспективе, готовность Москвы рисковать ядерной катастрофой – олицетворяют противоположный подход к конкуренции во взаимозависимом мире. Вашингтон использует менее экзистенциальные взаимозависимости там, где это возможно, чтобы не ставить под угрозу само существования человечества. Благодаря глобальной зависимости мировой экономики от доллара США, финансовые санкции стали невоенным оружием, избранным Америкой. Но чем чаще используется этот меч, тем больше он тупится.
Чем чаще эксплуатируется зависимость стран, тем больше они стремятся к самодостаточности.
Третий подход к парадоксу конкурентной взаимозависимости заключается в минимизации зависимостей, уязвимостей и поддержки конкурентов. Последним шагом Вашингтона на пути к «отсоединению» от Китая стал ряд мер экспортного контроля в отношении искусственного интеллекта и полупроводниковых технологий, которые, по словам одного из экспертов, представляют собой «новую политику США по активному удушению крупных сегментов китайской технологической промышленности – удушению с намерением её убить». Вашингтон делает этот шаг сейчас, чтобы защитить своё конкурентное преимущество в области передовых полупроводников. Но существует явный риск, что подобные шаги ускорят достижение Китаем технологической независимости и тем самым уменьшат силу рычага, используемого сегодня Соединёнными Штатами.
Наименее модный подход к проблеме «сотрудничества в эпоху конкуренции» заключается в расширении взаимозависимости и сотрудничества с целью создания рычагов влияния и ограничения конкуренции, в том числе путём создания большего количества каналов связи. В настоящее время мало стран заинтересовано в таком подходе, но любая попытка американцев «понять, как более конкурентный мир влияет на сотрудничество и как необходимость сотрудничества влияет на конкуренцию», будет неполной без признания имеющегося потенциала.
Может ли Вашингтон действительно разработать новую стратегию, чтобы распутать парадокс конкуренции и сотрудничества? Описанные выше подходы не привели к созданию какой-либо очевидной господствующей теории. Представляется более вероятным, что решения о том, когда и как сотрудничать и конкурировать, будут приниматься в каждом конкретном случае индивидуально. Они будут зависеть от контекста и временных рамок. По мере обострения геополитической конкуренции экономическая эффективность может превратиться в уязвимость цепочки поставок, и наоборот. Но в идеале эти решения не будут основываться только на узком анализе затрат и выгод отдельных сделок. Тот факт, что Белый дом стремится к более глубокому пониманию сложных взаимоотношений между конкуренцией и сотрудничеством, даёт основание для надежды, что он будет лучше справляться с обеими задачами одновременно.
The Interpreter

Путин закрыл дверь в прошлое
о выступлении президента на Валдайском форуме
Михаил Хазин
Владимир Путин произнёс чрезвычайно важную речь. Но прежде напомню: в США произошли очень серьёзные изменения. Два года Байдена радикально изменили ситуацию, стало понятно, что план «вернём всё к временам Обамы» не работает. Более того, идёт экономический спад, который составляет где-то 6—8% ВВП. Все предприниматели это видят, капитал не возобновляется. Похоже, что примерно месяц тому назад американский истеблишмент принял решение эту финансовую глобалистскую инфраструктуру вместе с командой Байдена выкидывать на помойку, возвращаться на линию AUKUS и задействовать план Трампа по восстановлению реального сектора экономики — с Трампом или без. США будут отказываться от любых глобалистских проектов: они слишком дорогие. Второе, они должны в рамках AUKUS ослабить Англию, потому что британский монарх является главнокомандующим канадской и австралийской армиями… Не исключено, что мы частично возвращаемся к ситуации 1950-х—1960-х годов, когда СССР и США дружно делили колониальную систему Великобритании.
Речь Путина была целиком посвящена будущему. Иными словами, впервые Путин позволил себе закрыть дверь во всё это прошлое — с господством транснациональных банков, ВТО, МВФ и т. д. Путин сказал, что впервые Запад становится в мире меньшинством, но мы не должны забывать, что у него имеются интересы. Некоторым проектам финансовых глобалистов, включая современный украинский режим, придётся тяжело, и это ещё мягко сказано… И обратите внимание: «Прошлое закончено, его уже обсуждать бессмысленно». Уже закончено!
И ещё одно обстоятельство: Путин говорит о многополярном мире, а Си на Съезде сказал о биполярном. Для Си наступают очень тяжёлые времена. Потому что уход США на линию AUKUS означает для Китая резкое сокращение экспорта. Китай ждёт серьёзный экономический кризис, и Си нужно провести через него Китай. Для него этот переходный период, около 10 лет, самый судьбоносный. И в рамках этого кризиса и Россия, и Китай, и Индия, как они и договорились в Самарканде, будут пытаться противостоять умирающей, но от этого всё равно ещё очень сильной либеральной глобалистской инфраструктуре, не исключено, что вместе с отступившими США, потому что глобалисты будут драться. И это, безусловно, биполярная схема: все против глобалистов. Поскольку для России эти 10 лет могут быть значительно менее жёсткими, чем для Китая или, скажем, для США, то Путин описывает уже то, что будет после кризиса. По этой причине никаких противоречий у Путина и Си нет: Си делает акцент на ближайшие 10 лет, а Путин – на то, что будет после этих 10 лет.

В новой Стратегии безопасности США делают ставку на будущее, в котором Россия будет менее значима
НИКОЛАС ГВОЗДЕВ
Профессор по вопросам национальной безопасности Военно-морского колледжа США.
Москва долгое время утверждала, что ни одна глобальная проблема не может быть решена без активного участия России, теперь США готовы оспорить этот постулат.
Если после окончания холодной войны ещё оставались надежды на то, что Соединённые Штаты могут выстроить партнерство с Россией, то их развеяла недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности страны 2022 года. Администрация Байдена признаёт, что никакого прогресса в восстановлении отношений невозможно добиться, пока Владимир Путин находится у власти («теперь ясно, что он не изменится»). Поэтому Белый дом ожидает, что в будущем россияне изберут правительство, которое будет действовать в рамках возглавляемой США либеральной международной системы.
В американской стратегии произошёл настолько кардинальный сдвиг, что возможность кооперативного подхода даже не рассматривается. В предыдущих документах подобного рода подчеркивались разногласия и соперничество, однако отмечалось наличие общей повестки (стратегическая стабильность, борьба с терроризмом, энергетика и так далее), в версии 2022 г. термин «сотрудничество», не говоря уже о «партнёрстве», не используется. Вместо них мы встречаем тщательно продуманную фразу «прагматичные способы взаимодействия».
К счастью, в Стратегии обошлись без идеи о том, что противоречия между Россией и США – это результат недопонимания.
В документе признаётся, что Вашингтон не может удовлетворить запросы Москвы на пересмотр положения в Европе и Евразии, а также в других регионах, которое сложилось после 1991 года.
США больше не поддерживают иллюзию, что понимают интересы Путина и России лучше, чем он сам, и осталось лишь подобрать правильные формулировки, чтобы убедить в этом российского лидера. Американцы ясно дают понять, что не видят работоспособных компромиссов в отношениях с Россией и не считают нужным искать новые подходы к европейской безопасности. Соединённые Штаты планируют придерживаться политики дальнейшего расширения евроатлантических институтов как единственной гарантии безопасности, которую Россия может принять или продолжить сопротивляться, но все её усилия вызовут противодействие (и в конечном итоге, надо надеяться, будут сведены на нет).
Ранее я отмечал, что, если бы Соединённые Штаты вступили с Россией в соперничество великих держав, у них было бы два варианта: превратить Россию из практически равного соперника в друга или превратить её в неравного соперника. Команда Байдена и Харрис считает, что после многолетних усилий первый подход провалился. Теперь в стратегии отмечается, что российская спецоперация на Украине в этом году неизбежно приведёт к ослаблению позиций РФ в военном и экономическом плане, поэтому США следует воздерживаться от открытого конфликта, особенно от столкновений, которые могут повлечь обмен ядерными ударами.
В целом же Стратегия, если не брать раздел о России, призывает США создать коалицию партнёров для совместного решения проблем следующего поколения, связанных с климатом и четвёртой индустриальной революцией. Идея понятна: российские природные ресурсы, обеспечивавшие рост индустриальных экономик XX века, утратят свою значимость, поскольку ключевые цепочки поставок и новые технологии пойдут в обход России или её углеводороды просто больше не понадобятся. Россия, выключенная из глобального экономического мейнстрима, не сможет трансформировать свою экономику и общество. В то же время другие государства постсоветского пространства, прежде всего Украина, будут интегрированы в евроатлантическую экономику и станут альтернативным транспортным коридором в Индо-Тихоокеанский регион, Южную и Восточную Азию.
Стратегия 2022 г. подразумевает шаги, которые – если будут реализованы – нанесут удар по планам Путина возродить Россию как великую державу XXI века. Россия не сможет стать ключевым геоэкономическим связующим звеном между Европой и Восточной Азией, потеряет статус надёжного поставщика традиционных углеводородов, а также водорода и минералов для перехода к «зелёной энергетике», под вопросом окажутся позиции России в Арктике, которую Путин в стратегии развития региона определяет как фундамент для сохранения позиций страны в международной системе. Возглавив поиск альтернативных транспортных коридоров и поставщиков, США снизят значимость России не только для Европы, но и для Южной и Восточной Азии.
В то же время администрация Байдена придерживается «реглобализации» – подхода, который предполагает обновление международной системы и пересмотр Соединёнными Штатами и их партнёрами правил и норм для XXI века.
Россию нельзя исключить из Совета Безопасности ООН, но США могут найти новые площадки, где РФ не представлена и не имеет права вето, их можно использовать, чтобы избавиться от наследия старых институтов и наладить международную дипломатию.
Москва долгое время утверждала, что ни одна глобальная проблема не может быть решена без активного участия России, теперь США готовы оспорить этот постулат. Поскольку претензии России на место за глобальным столом переговоров в определённой степени основываются на её военных возможностях, включая ядерный арсенал, стратегия предлагает Соединённым Штатам совместно с партнёрами разработать новые механизмы обороны, которые позволят нивелировать оставшийся военный потенциал РФ и связанные с ним угрозы.
Следует отметить, что все стратегии национальной безопасности США – это скорее устремления. Титанические усилия, чтобы проложить новые коридоры в обход России, потребуют огромных расходов, на которые американские налогоплательщики, возможно, не захотят пойти. А традиционные партнёры России могут решить продолжать коммерческие и политические отношения с Москвой даже в новых условиях. Тем не менее команда Байдена вынесла свой вердикт: в мире будущего Россия будет менее значима.
Russia Matters

Выход из зоны комфорта
Япония оказалась перед выбором, которого ждала, но не ожидала
СЕРГЕЙ АГАФОНОВ
Журналист, в прошлом собственный корреспондент газеты «Известия» в Японии.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Агафонов С.Л. Выход из зоны комфорта // Россия в глобальной политике. Т. 20. № 6. С. 174-188.
Согласно доминирующим у нас стереотипам, Япония – едва ли не самый дисциплинированный американский сателлит, лишённый амбиций и инициативы, приученный к абсолютному послушанию, многократно доказавший беззаветную преданность США. Миф о японском смирении и покорности чужой воле настолько укоренён в сознании отечественной политологической страты, что даже скромный намёк на японскую «самость» воспринимается как откровенная ересь. На деле, однако, всё обстоит сложнее.
Реальная жизнь вовсе не монохромна, под японским послушанием и покорностью кроется давнее и лютое раздражение патроном, а представления о Японии как о безликой политической сущности не верны.
Этот посыл не просто ложный, но ещё и ситуативно вредный, поскольку сбивает оптику в момент ответственного японского выбора: либо и дальше оставаться в рамках навязанных почти восемьдесят лет назад вассальных обязательств перед Соединёнными Штатами, либо решиться на самостоятельный дрейф в мировых делах. До 24 февраля 2022 г. актуальность такого выбора выглядела, мягко говоря, сомнительной. Но устойчивый миропорядок после этой даты окончательно пошёл вразнос, и вектор движения в стремительно меняющейся реальности становится для страны первоочередной проблемой. Хотя и не новой: дискуссия о необходимости избавления от внешнего управляющего и обретении своего пути началась в Японии ещё в период американской оккупации. О том, как она складывалась и к чему пришла сегодня, имеет смысл напомнить.
Внешний управляющий
После капитуляции Японии американской оккупационной администрации досталась в управление страна в руинах, сохранившая в неприкосновенности единственную общенациональную скрепу – иерархичную управленческую вертикаль. Ведущую роль в ней играли жёсткие поведенческие регламентации, скреплённые личностными, групповыми и сословными обязательствами, которые были основаны на принципах «достойного служения». Пришельцам такая конструкция представлялась архаичной и дикой, но им хватило ума не сносить укоренённую вековой традицией пирамиду лояльности, а использовать её. Разгромленной элите и покорённому народу позволили сохранить сложившуюся за столетия структуру общественных отношений, не ломая её, а… достроив. В традиционной конструкции появился дополнительный элемент (оккупационная администрация), который и стал главным, поскольку венчал иерархию.
Формальной точкой отсчёта новых отношений можно смело считать 27 сентября 1945 года. В этот день случилось невероятное: на аудиенцию к главе оккупационной американской администрации генералу Дугласу Маккартуру прибыл император Хирохито. Занятно, что фотографию из американского посольства, на которой рядом с генералом в рубахе с открытым воротом, упирающим руки в боки, запечатлён потомок богини Солнца во фраке, замерший по стойке смирно, японские газеты публиковать отказались. Потребовалось специальное распоряжение оккупационных властей, чтобы тираж всё же напечатали. В продажу, однако, не поступил ни один экземпляр. И никто за это не был наказан.
Японцы предложили пришельцам оригинальный поведенческий модуль: исполняем должное, но сохраняем лицо и сглаживаем углы.
Американцев предложение устроило, поскольку других идей, как держать в повиновении незнакомую враждебную территорию, у них не имелось, зато была задача избежать повторения «германских ошибок» и не допустить в Японию недавних союзников по военной коалиции, СССР прежде всего.
Вассал с претензией
Уже на старте новых отношений японская элита, исповедующая прагматичный принцип «сила солому ломит», упаковала органичное неприятие внешних управленцев в понятную японскому большинству формулу «строптивого приспособленчества». Оно складывалось из нескольких принципиальных моментов и сохранялось практически в неизменном виде все годы, минувшие с сентября 1945-го.
Первый (и основополагающий) касается истории и оценок прошлого. Японская версия и трактовка событий, приведших к национальной катастрофе, радикально отличается от понимания за пределами страны. Американские исследователи, да и официальные лица тоже неоднократно использовали для обозначения различий обтекаемую формулировку – «после поражения Японии в войне и её оккупации там не случился катарсис наподобие германского». Хотя можно сформулировать и жёстче: японцы не только не расстались с прошлым так, как рекомендовал новый сюзерен, но поступили совершенно по-своему. После того, как в августе 1945 г. император по радио зачитал рескрипт о принятии условий капитуляции, страну охватило всеобщее покаяние – подданные скорбели. Но лишь о том, что были недостаточно усердны в защите трона и Отечества и тем самым подвели монарха, поставив его в неподобающее положение. Борьбу с таким подходом пацифистски настроенных представителей общества (левые партии и движения, свободолюбивые студенты, профсоюзы и пр.) не стоит переоценивать – хотя антивоенные настроения (достаточно сильные порой) имели место, массово японцы оставались в имперской парадигме, которая жива и по сей день.
Не замечать этого представители оккупационной администрации не могли, но задачу «наказать и привести в соответствие» затмевала более актуальная – «удержать в повиновении и купировать коммунистическую угрозу». Принятая японской элитой вассальная уния такую дихотомию как раз и решала нужным образом. Из тюрем по указанию оккупационной администрации вышли политические заключённые, но «разгул» левых движений пресекался твёрдо и бескомпромиссно, свобода самовыражения была заявлена, однако проявления общественного недовольства давились на корню. В целом схема себя оправдала, хотя обнаружились побочные явления. Поскольку исполнителем директив и распоряжений оккупационных властей остался прежний имперский бюрократический аппарат, очерёдность действий и настойчивость в реализации указаний внешнего управляющего регулировались именно им. Открытого саботажа американских инициатив и деструкции не было. Но манипуляции в толкованиях, торможение и «заматывание» наиболее радикальных начинаний через многоэтажные согласования и консультации практиковались изначально, что порой превращало процесс исполнения в фикцию.
Основой развития страны (так называемая «доктрина Ёсиды» – по имени премьер-министра Сигэру Ёсиды, занимавшего пост в 1946–1947 и 1948–1954 гг.) стал приоритет укрепления экономического потенциала, в то время как вопросы безопасности, позиционирования в мире и внешнеполитический курс полностью определялись американскими кураторами. В оккупационной администрации Ёсида считался эффективным исполнителем «переформатирования» Японии, задуманного внешними управленцами. Однако именно Ёсиде принадлежит «формула пути»: «Японская политика в отношении Соединённых Штатов должна измениться, как только улучшится положение экономики и, соответственно, повысится международный статус страны и её самоуважение». Каким виделся этот новый статус, на какие изменения намекал сверхлояльный американцам премьер? Ответы на эти вопросы не прозвучали, да их в период послевоенного восстановления никто и не требовал.
Между показательной покорностью внешнему управляющему и реальным отношением к нему в Японии была (и остаётся) большая разница.
Такое раздвоение присуще японскому менталитету и полностью соответствует традиционному принципу татэмаэ/хоннэ (контраст поведения на публике и истинных скрытых намерений), который и по сей день почитается как основополагающий в японском мироустройстве. Японцев, иными словами, двоедушие не угнетало тогда и не тревожит теперь, а американцы традиционно достаточно толстокожи по части искренности чувств и душевных метаний туземцев – им важен результат. В итоге японский «новый вассалитет» формировался не как зависимость в тяжёлых формах (вплоть до самопожертвования во славу господина), соответствующая вековой традиции, а как подчинённость ситуативная, то есть временная. И именно такой смысл был «зашит» в прогнозную формулу премьера Ёсиды.
Достаточно быстро скрытая двойственность стала проступать в японской повседневности. С одной стороны, оккупационные власти вроде как ломали старые порядки, но с другой — ожидаемого эффекта «расчищенной поляны» не возникало. Даже Токийский трибунал, осудивший два десятка высокопоставленных персон и вынесший смертные приговоры наиболее заметным военным преступникам, был встречен неоднозначно. Многие японцы скептически, с большим сомнением воспринимали (и до сих пор) легитимность процесса, а имена казнённых оказались не на национальной «доске позора», а в святцах храма Ясукуни (их лики в музее при храме размещены в отдельном зале). Репрессивные меры в отношении видных функционеров и ярых националистов, масштабная кадровая санация в первые годы оккупации – решительные меры, инициированные американцами, закончились амнистией, которую японские власти объявили после формального окончания оккупации. В 1952 г. с полумиллиона осуждённых сняли все обвинения, 570 тыс. были восстановлены в гражданских правах, для 270 тыс. сократили сроки тюремного заключения. Из 210 тыс. 288 лиц, подвергшихся чистке, к весне того года реабилитированы оказались уже 201 тыс. 577 человек. Видные деятели поверженного режима выходили на свободу в ореоле мучеников за правое дело и возвращались во власть и политику триумфально – сохраняя прежнюю закваску и создавая на старых «дрожжах» новые партии и движения.
Американцев не слишком интересовало, что происходит за кулисами. А там всё входило в привычные берега: чиновники остались чиновниками, вновь сформированный полицейский корпус был укомплектован не только старыми кадрами, но и элитой армейского офицерства, с помпой распущенные дзайбацу (монополистические торгово-промышленные группы) возродились под видом зонтичных конгломератов с перекрёстным владением акциями (кэйрецу). Составленную американскими экспертами «демократическую Конституцию», содержавшую особую миролюбивую статью с запретом Японии иметь армию, флот и использовать силу за рубежом, приняли, но вскоре у страны и армия (размеры и именование значение имеют вторичное), и флот (сначала береговые патрульные силы) появились – после начала Корейской войны требовалось охранять коммуникации ключевой тыловой базы американского экспедиционного корпуса, которой по факту стала Япония.
Глубинный тренд
Ключевую роль в послевоенном восстановлении страны играли наиболее влиятельные представители «большой тройки» – японской политической, бюрократической и экономической элиты. Отдельных «солистов» выделять не стоит, система функционировала не как персоналистский триумвират, а как усечённая (без вершины) пирамида: решения и общий курс вырабатывались через серию согласований с учётом предпочтений задействованных сторон. Стратегическая задача экономического возрождения Японии на новой основе и преодоление «синдрома побеждённого» – консенсусное решение «большой тройки», принятое ещё в период американской оккупации. И оно исполнено.
Иное дело, дискуссия о «подобающем месте» и уровне субъектности в мировых делах – здесь единого понимания не сложилось, вопрос остаётся на повестке дня. А значит, сценарии, не сведённые к общему знаменателю, множественны, и предлагаемые векторы действий разнятся, поскольку у каждой грани японской пирамиды собственное понимание «структуры момента» и своя вертикаль компетенций. Как глубинный тренд конкуренция внутриэлитных подходов к чувствительной теме в японской политике присутствовала изначально. Стремление вернуть субъектность, установить с американцами равноправные отношения и выйти из унизительного положения покорного ведомого присутствовало на протяжении всех послевоенных десятилетий. Эти попытки, правда, не приводили к прорывным успехам, но инициировались системными игроками, которые представляли на разных этапах разные конфигурации ключевых межэлитных групп. И неудачи всех подобных начинаний обусловлены не столько жёсткой внешней уздой, сколько внутренним раздраем и отсутствием консолидированной поддержки внутри «большой тройки».
Семейные хроники
Первая в послевоенный период серьёзная заявка на самостоятельность во внешних делах и «собственный голос» связана с именем Итиро Хатоямы, одного из патриархов японской политики (он стал депутатом императорского парламента ещё в 1915 г.). Во многих исследованиях его причисляют к «голубям» и прогрессистам (то ли за принадлежность к баптистам, то ли за связь с масонами), хотя на самом деле он был человеком своей эпохи – преданным трону убеждённым консерватором и националистом. В качестве министра просвещения (в начале 1930-х гг.) эффективно боролся с инакомыслием и координировал репрессии в отношении вольнодумцев. В годы войны заседал в нижней палате и состоял в ассоциации Великой Японии. С приходом американцев действовал на политическом пепелище стремительно – уже в 1945 г. основал Либеральную партию, с которой победно прошёл в новый послевоенный парламент. Плодами успеха, правда, воспользоваться не удалось: Итиро Хатояма подвергся чистке за сотрудничество с милитаристами в годы войны – в 1946 г. ему на пять лет запретили любую политическую деятельность. За время рестрикций, впрочем, влияние (и сторонников) он не потерял и уже в 1954 г. презентовал новый проект – Демократическую партию, во главе которой вновь выиграл парламентский мандат, а потом занял и премьерское кресло (1954–1956 гг.). Итиро Хатояма добивался освобождения заключённых по приговорам Токийского трибунала, первым после окончания оккупации заявил о необходимости пересмотреть Конституцию и отказаться от антивоенной статьи, выступал за восстановление оборонного потенциала страны и призывал к ревизии ущемлявшего интересы Японии договора безопасности с США, безропотно подписанного его предшественником Сигэру Ёсидой. Последнего он обвинял в бесхребетности и податливости внешнему давлению. Самым резонансным начинанием премьера Хатоямы стало намерение полностью нормализовать японо-советские отношения.
Излагать подробности смысла нет (об этом дипломатическом триллере написаны книги, ему посвящены десятки исследований). Важно только отметить, что именно здесь заявка на политическую субъектность и самостоятельность во внешних делах, с которой выступил глава правящей партии и правительства, встретила категоричное неприятие всех сторон. И американских кураторов (прямое вмешательство Вашингтона на решающем этапе блокировало заключение мирного договора с СССР и не допустило всестороннего урегулирования, включая территориальное), и внутренних оппонентов Хатоямы, поддержанных японской бюрократией. Саботаж осуществлялся откровенный и жёсткий. Внутрипартийная оппозиция ограничивала манёвр главе правительства, а МИД Японии во главе с министром Сигэмицу (он подписывал акт о капитуляции Японии на борту линкора «Миссури», был признан военным преступником на Токийском трибунале и приговорён к девяти годам заключения, но в 1950 г. получил свободу и вернулся в политику) противодействовал намерениям премьера. Это тормозило процесс и приводило на подготовительном этапе даже к срывам переговоров. Хатояма бился отчаянно и в итоге преодолел сопротивление: он восстановил дипотношения с Советским Союзом, подписав вместо мирного договора совместную декларацию, это открыло дорогу к вступлению в ООН – Япония по факту была восстановлена в международных правах.
Причудливым образом ситуация политической борьбы на два фронта повторилась с внуком Итиро Хатоямы – Юкио, возглавившим японское правительство в 2009 году. Он, как и дед, декларировал намерение строить независимый внешнеполитический курс, в основу которого ставил «выравнивание баланса» – уменьшение зависимости от США при налаживании диалога с Китаем и Россией, создание Восточноазиатского сообщества по аналогии с Евросоюзом, но без американского участия. В рамках задуманного Юкио Хатояма остановил программу тыловой поддержки американских операций в Афганистане и поставил вопрос о пересмотре соглашений по дислокации контингентов США на Окинаве. «Ответка» прилетела не только из Вашингтона, представители которого сначала упрекали главу японского кабинета в неадекватности, а потом обвинили в антиамериканизме, но и от внутренних системных оппонентов – против премьера дружно сыграли политические конкуренты и высшие чиновники двух правительственных ведомств (МИДа и управления самообороны). Итогом стала отставка Юкио Хатоямы, а попытки пересмотра внешнеполитического курса сочли досадным «отклонением». При этом, однако, даже его противники были вынуждены признать, что «отклонение» не стоит считать случайным. Хатояма-младший пытался реализовать не собственный каприз, а программные установки давно оформившегося (прямая отсылка к деду!) политического течения «автономистов», которому симпатизирует часть японской элиты.
Приоритеты другой элитарной группировки (идущей к той же цели, но иным путём) чётко просматриваются при сопоставлении политических курсов премьер-министров Нобусукэ Киси и Синдзо Абэ, оказавших в разное время большое влияние на политическую жизнь.
Нобусукэ Киси американцы арестовали в 1945 г. по подозрению в совершении военных преступлений («подозреваемый категории А»), его называли «монстром Маньчжурии» за жёсткое администрирование покорённой территории в 1930-е гг., а пост министра он занимал в трёх кабинетах военного времени, в том числе и в правительстве казнённого по решению Токийского трибунала Хидэки Тодзё. Триумфальное возвращение Киси к административным высотам стало венцом прогрессировавшей регенерации имперской элиты в условиях «новой реальности». Чудесное вознесение убеждённого имперца в высший эшелон «демократической Японии» началось после выхода из заключения в 1948 г. (без предъявления обвинения со стороны оккупационных властей), продолжилось после снятия запрета на участие в политической деятельности (в 1952-м) и привело к избранию на пост главы правительства в 1957 году.
Как ему удалось добиться симпатии американцев, загадка: его подпись стояла под декларацией японского правительства об объявлении войны США, он не отрекался от своих убеждений и оставался принципиальным националистом, выступал за изъятие из Конституции антивоенной статьи и восстановление оборонного потенциала, добивался пересмотра навязанного договора безопасности, который превращал Японию в американский протекторат (с правом вмешательства во внутренние дела, свободой размещения военных объектов без всяких консультаций с туземным населением, экстерриториальностью для военнослужащих). И при всём этом именно он импонировал внешним управленцам, именно с ним президент Дуайт Эйзенхауэр установил особо доверительный контакт, и ему он дал согласие подготовить новую версию договора безопасности, которая учитывала японские пожелания и озабоченности.
В самой Японии, однако, авторитарный стиль Киси, который продавливал принятие необходимых ему решений, не считаясь ни с чем, вызвал негативную реакцию не только оппозиции, но и однопартийцев. Дело дошло до уличных беспорядков, после которых отставка с поста главы кабинета была предрешена. В последний день премьерства на Нобусукэ Киси было совершено нападение – у входа в резиденцию он получил шесть ударов ножом в бедро, что привело к большой кровопотере. Артерии, к счастью, задеты не были, дело закончилось наложением 30 швов и арестом безработного Тайсукэ Арамаки, заявившего, что он хотел лично наказать политика за «допущенные ошибки». В версию одиночки мало кто верил, но о каких «ошибках» шла речь, никого не интересовало. Хотя в кулуарах грешили на злой умысел внутрипартийных конкурентов, раздувать инцидент не стали.
Спустя 60 лет Синдзо Абэ, которого с полным основанием называют не только кровным (внук по матери), но и прямым политическим наследником Нобусукэ Киси на премьерском посту, пытался продолжить историю деда. Он поддерживал традиционные ценности (вплоть до борьбы с либерализацией сексуального воспитания в школах), игнорировал призывы к историческому покаянию, посещал храм Ясукуни, выражал сомнения в легитимности Токийского трибунала. Оставаясь твёрдым националистом и сторонником восстановления субъектности Японии в международных делах, Абэ пытался выстроить «новую парадигму» внешнеполитического курса, в основе которой было не безропотное подчинение внешнему управлению, а принцип распределения ответственности и установление «прагматичного баланса» в рамках партнёрских отношений с США. Под этим подразумевалось увеличение японского вклада в сфере обеспечения безопасности, укрепление оборонного потенциала, пересмотр Конституции, продвижение широкого спектра японских региональных инициатив.
Российское направление было для Абэ особенно важным, ради успеха он предпринял беспрецедентные усилия (сформирован личный штаб премьера для координации контактов, на определённом этапе от переговорного процесса отодвинули даже японский МИД), но они не увенчались успехом: готовность радикально изменить позицию по территориальному вопросу (отход от требований возврата четырёх островов сразу) не встретила энтузиазма у российской стороны, зато вызвала неприятие американцев, консолидированное сопротивление политических оппонентов и бюрократической элиты, почувствовавшей себя ущемлённой в правах. Выйти на внутренний межэлитный консенсус Синдзо Абэ так и не удалось, хотя он не утратил веса и влияния в японском политикуме после отставки. Его убийство в июле 2022 г. вызывает множество вопросов, поскольку, как и в случае с покушением на премьер-министра Киси, в версию одиночки мало кто верит. Особенно после публикации результатов экспертизы действий охранников, отвечавших за безопасность политика, – Синдзо Абэ, согласно выводам комиссии, имел стопроцентные шансы на спасение, но погиб.
Открытый финал
Вопрос о будущем политическом векторе страны открыт. Нынешний премьер-министр Фумио Кисида, занявший пост в период резкого обострения международной напряжённости, внешнеполитическое наследие Синдзо Абэ ожидаемо похоронил, дисциплинированно встроившись в американский фарватер. Со времени вступления в должность ни единого намёка на необходимость поиска пути для обеспечения японских национальных интересов из его уст не прозвучало, зато сентенций о важности и нерушимости союзнических отношений с Соединёнными Штатами, приверженности американскому лидерству и общих ценностях было в избытке (особенно на встрече «семёрки» в Баварии и саммите НАТО в Испании). Некоторые эксперты стиль нового премьера оценили как «избыточную лояльность», а в кулуарах с иронией отмечали, что он унаследовал её от дяди, бывшего премьера Киити Миядзавы (намёк прозрачный и обидный: на обеде в честь Джорджа Буша-старшего, приехавшего в Японию с визитом, президента США прямо за столом стошнило на колени хозяину, который встретил неожиданность поклоном и подал гостю салфетку).
Но главное не в деталях, а в сути: после привычного «возврата в строй» положение Японии устойчивей не стало, и на внешнеполитической поляне ничего не изменилось – вопрос суверенизации остаётся на повестке дня, а поиск внутриэлитного консенсуса на этот счёт так же актуален. Принципиальная разница в сравнении с минувшими годами состоит в одном: нынешний этап эскалации международной напряжённости, начавшийся после 24 февраля 2022 г., не отодвигает сюжет до лучших времен (как уже не раз бывало прежде), а выводит его в разряд первоочередных, поскольку «лучших времён» в привычном понимании больше не будет. В нынешнем контексте участь исполнителя чужой воли и тыловой базы Соединённых Штатов не просто незавидна – она однозначно трагична.
В случае глобального передела Япония в таком статусе становится разменной монетой в чужой игре, в случае глобального конфликта неизбежно превращается в мишень. Так что времени определиться с перспективой у японцев немного.
В настоящий момент в японском политическом мире присутствуют три устойчивых сценарных концепта. Правые консерваторы добиваются суверенизации страны через согласованное повышение японской роли и перераспределение полномочий в рамках японо-американского альянса. «Автономисты» пытаются уйти от жёсткой зависимости при сохранении основного каркаса отношений с США в сфере безопасности через развитие собственного внешнеполитического вектора в ближнем и дальнем зарубежье. Наконец, «верные оруженосцы» исповедуют преданность курсу на абсолютную лояльность внешнему сюзерену, который задан американскими оккупационными властями в далёком 1945-м. В условиях новой геополитической реальности шансов на свою игру ничто из перечисленного не даёт: базовым элементом у всех остаётся опора на американский фактор как главное условие обеспечения безопасности страны, а это тупиковый путь – длина поводка, равно как и натяжение ошейника могут создать иллюзию свободы манёвра, но никогда не дадут свободу. Понимание этого проникает в японское сознание медленно и встречает ожесточённое сопротивление внутри ключевых элитных групп, привыкших к комфортному существованию в рамках действующей парадигмы. Но возникновение альтернатив неизбежно, тем более что к этому японцев подталкивают и сами американские кураторы.
В общественную дискуссию тема введена в начале 2000-х гг., когда стали популярны рассуждения про Кимерику – американо-китайский симбиоз как образ будущего миропорядка. В рисовавшихся американскими авторами картинах светлого грядущего Японии отводили малозначительную роль статиста и элемента регионального декора. Ситуация не стала лучше и после того, как перспективы Кимерики начали блёкнуть по мере обострения американо-китайских трений – Япония и в этом раскладе оказывалась в пассиве, её интересы были американцам безразличны. В экспертном сообществе Токио заговорили о «двух японских кошмарах»: сближении США и КНР и конфликте между ними – в обоих случаях исход оказывался плачевным.
Для Японии американо-китайские перипетии – своего рода «зона накопленных обид», поскольку счёт японских претензий к сюзерену здесь длинный и давний. Резвое сближение, случившееся между Вашингтоном и Пекином при Никсоне в начале 1970-х гг., стало для Токио оскорбительным сюрпризом: японцев не просто держали в неведении о крутом вираже, но и заставили оплатить издержки манёвра (в прямом смысле – пролоббированные американцами японские транши дали старт китайскому подъёму к экономическим вершинам, а понуждение Японии повысить курс иены и сократить дефицит в торговле с США расчистили площадку для взрывного роста китайского экспорта). Предложенная американцами компенсация в виде возвращения Японии Окинавы оказалась не свидетельством «зрелых равноправных отношений», а жестом символическим. «Право голоса» японцам никто давать не собирался, американский контингент и вся военная инфраструктура на острове остаются, а Токио после созданного прецедента обречён и в будущем платить за геополитические упражнения гаранта безопасности, который использовал японский «кошелёк» как резервный фонд, но саму Японию при этом не щадил (почти тридцатилетняя депрессия японской экономики после американских мероприятий на валютном и торговом направлениях подтверждают это в полной мере).
Несмотря на всё это, японское раздражение оставалось под спудом, поскольку в отношениях с сюзереном присутствовала стратегическая константа: США – ключевой партнёр в сфере безопасности. Однако со временем потрясение основ случилось и здесь. При Обаме японцы пережили мощный шок: в период резкого обострения отношений Токио и Пекина вокруг вопроса о принадлежности островов Сэнкаку Соединённые Штаты впервые выразили не однозначную поддержку японской позиции, как прежде, а прибегли к туманной формулировке о необходимости «изучения истории вопроса». Стало очевидным: идти на конфронтацию с Китаем ради защиты японских интересов американцы не готовы. Затем в Вашингтоне начались разговоры о грядущем смещении зоны ответственности ВМС США от японского побережья к Гуаму и о необходимости японцам самим заботиться о собственной безопасности, не полагаясь целиком на американскую поддержку, которая «не может быть безграничной». При Трампе и вовсе прозвучал тезис о «японском иждивенчестве», с которым пора расстаться. А виньеткой стали ошеломительные результаты архивных изысканий, которые выявили поразительный факт: американские «ядерные гарантии» по защите Японии нигде документально не закреплены…
После всех этих «вводных» вопрос о перспективах вассальной унии зазвучал в японских кулуарах набатом. Но выход из зоны комфорта непрост: для подготовки к самостоятельному дрейфу необходимы политическая воля (а в японских условиях это консенсусное решение «большой тройки»), структурная перестройка (с упором на форсирование развития оборонного комплекса) и уверенность в гарантиях внешнего невмешательства на переходный период. Кто такие гарантии в состоянии дать и чьей поддержкой заручиться, чтобы двигаться дальше?
Выбор возможных вариантов не велик: переформатирование альянса с Америкой, наведение мостов с Китаем, новый курс на базе полной нормализации отношений с Россией. Первая опция затруднительна, поскольку (и это японцам хорошо известно) равноправие в контактах не входит в число американских добродетелей – США будут стремиться удержать контроль и не позволят Японии дорасти до уровня игрока, с которым надо считаться. Китайская альтернатива болезненна и труднодостижима: помехой станут и давние исторические счёты, и комплекс взаимных предубеждений, исключающий доверие и гармонию в отношениях.
Российский же трек, напротив, потенциально продуктивен и чист – кроме территориальной «занозы», иных препятствий полнокровному развитию контактов нет, Москва в состоянии обеспечить Токио любой формат безопасности и предоставить ресурсную базу для развития.
Более того, Россия заинтересована в том, чтобы превратить геополитический треугольник (США—Китай—Россия) в квадрат для достижения большей устойчивости и стабильности. И нет сомнений: если бы Япония избрала российский вектор, территориальный сюжет из непреодолимого препятствия превратился бы в периферийный эпизод, значимость которого несопоставима с объёмом стоящих перед партнёрами задач. Поиск взаимоприемлемого решения пойдёт другим темпом, да и насущные интересы сторон будут иными.
Удивительно занятной на этом фоне выглядит деталь: в японской политической истории запрос на восстановление субъектности неизменно был связан с советской, а после развала СССР – с российской темой. На этом направлении тестировались не только японские амбиции самостоятельно расписать партию и сыграть свою игру, но и американские возможности вернуть подопечного к «вменяемости» и покорности. Прежде японские начинания на этом направлении успеха не приносили. Но ведь и ситуация была другой…

Свет восходящей звезды?
Новый миропорядок глазами Турции
АНДРЕЙ БАКЛАНОВ
Заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов, профессор, руководитель секции исследований стран Ближнего Востока и Северной Африки Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Бакланов А.Г. Свет восходящей звезды? // Россия в глобальной политике. Т. 20. № 6. С. 166-173.
Статья подготовлена в рамках гранта факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»: «Влияние политики Ирана и Турции на трансформацию Ближнего Востока и постсоветского пространства».
Международная обстановка всё более взрывоопасна. Ряд международных организаций, призванных гармонизировать развитие человечества, беречь его от повторения ужасов мировых войн, не могут адаптироваться к новым условиям и теряют эффективность. Предпринимаются попытки создать альтернативные структуры, функции и возможности которых ещё только формируются, либо кардинально трансформировать имеющиеся. Некоторые государства особенно напористо воздействуют на этот процесс, стремясь повысить своё значение в международной системе.
К последним, без сомнения, относится Турция. Анкара примеряет на себя роль успешного, авторитетного, умелого посредника в решении наиболее сложных и резонансных конфликтов. Реджеп Тайип Эрдоган постоянно говорит, что его страна вышла на первые позиции в мире в вопросах оказания масштабной гуманитарной помощи.
Путь наверх
Анкара давно намерена расширить региональное и международное влияние, практически это началось сразу после Второй мировой. Исходные позиции были неблагоприятны. Турции долго припоминали небезупречное поведение в предыдущие годы. Так, она объявила войну Германии лишь в феврале 1945-го. Естественно, Турция не принимала сколько-нибудь весомого участия в создании ООН и в мировых делах в целом. Поэтому и сегодня в Турции, в частности, президентом Эрдоганом, понятие «послевоенное устройство» воспринимается более чем прохладно. Сейчас Анкара позиционирует себя как наиболее активного сторонника реформы Организации Объединённых Наций. Сегодняшний момент – паралич СБ ООН, возникший вследствие раскола между его постоянными членами, подрыв доверия к деятельности ряда многосторонних организаций и структур, включая МАГАТЭ, ОЗХО и других – Турция считает благоприятным для форсированного продвижения своих предложений.
Анкара обстоятельно готовилась обсуждать идеи реформирования ООН на нынешней, 77-й сессии Генеральной Ассамблеи. Посольства Турции провели панельные дискуссии по специальному позиционному документу на эту тему в двенадцати странах мира (Великобритания, Франция, Италия, Аргентина, Норвегия, Швеция, Россия и др.)[1]. Страна готова инициировать движение к «новой Организации Объединённых Наций», которая будет «не на словах, а на деле» соответствовать чаяниям народов мира. К сегодняшнему дню предложения Турции приобрели целостный характер, хотя они и не в полной мере учитывают мнения других стран, выявившиеся в процессе обсуждений.
Основная цель предложений – «создание более инклюзивной, прозрачной и подотчётной многосторонней системы для построения более справедливого мира». Эту абстракцию Анкара дополняет готовностью «присутствовать и на поле, и за столом переговоров», в первую очередь в «непосредственном географическом пространстве». В качестве такового турецкие специалисты, как правило, называют Ближний и Средний Восток, Северную Африку, Средиземноморье, Чёрное море, Каспийский регион, Кавказ, Западную Азию. Активность в проблемных точках этого обширного района (Ливии, Сирии), поиск решений в сфере транспортировки энергоносителей, недавние акции в Нагорном Карабахе – всё это свидетельствует о твёрдом настрое Анкары играть особую, даже эксклюзивную роль в региональных и международных делах.
Турция предлагает начать с «восстановления роли ООН в мировых делах». Для этого отказаться от «устаревших» форматов функционирования Организации и заменить их новыми. Основной объект критики – Совет Безопасности: его полномочия и порядок деятельности определялись в условиях, полностью отличных от сегодняшних. Турецкие представители напоминают, как изменился состав ООН, число её членов возросло с 51 в 1945 г. до 193 сейчас. По мнению новых членов, их голос практически не учитывается в деятельности СБ, на который Устав ООН возложил основные полномочия в сфере безопасности.
«Закостенелым», недостаточно гибким, утверждают представители Турции, является состав постоянных членов Совбеза с правом вето. Именно вследствие этого, считает Анкара, СБ ООН не удаётся предотвращать и преодолевать конфликты и принимать решения относительно крупных гуманитарных катастроф, в частности, в Руанде, Боснии, Косово, Сирии. Постоянные члены СБ ООН используют исключительный статус «в своих целях», а не для «общего блага мира». Это ведёт, по мнению турецкой стороны, к тому, что «Совет Безопасности доминирует в ООН» в качестве «тоталитарного механизма», а не обслуживает интересы членов Организации.
Что предлагается?
Представительство вместо представления
Прежде всего расширить состав Совбеза и избирать двадцать постоянных членов вместо нынешних пяти. Одним из главных критериев подбора в престижную группу является «справедливое географическое представительство» государств — членов ООН. Речь о странах Азии, Латинской Америки и Африки. Наиболее нетерпимым считается то, что ни одна из стран Африканского союза, имеющего суммарную территорию 30 млн км и население 1,5 млрд человек, не представлена в СБ ООН. Судя по имеющейся информации, турецкая сторона имеет также и «резервную позицию» – возможность включения в Совбез по критерию «особых заслуг» в деле укрепления международного мира и безопасности. Это выигрышно для самой Турции, так как представительство в СБ по линии географических групп для неё весьма проблематично – есть серьёзные конкуренты. По-видимому, заметная активность Анкары в вопросах миротворчества и «добрых услуг» наряду с другими причинами обусловлена заинтересованностью в использовании этого фактора для укрепления позиций в качестве приоритетного кандидата на вхождение в Совет Безопасности.
Важную роль в продвижении турецкого видения изменений системы ООН играет лично президент Эрдоган. Его книгу «Мир больше пяти» можно рассматривать в качестве программного манифеста. Проводя параллель с началом ХХ века, Эрдоган пишет: «Лига Наций… не справилась с возложенными на неё функциями, превратилась в стороннего наблюдателя процессов, которые привели ко Второй мировой войне. Мы можем получить сегодня такой же результат – новые страдания людей и огромные разрушения, если сохраним без изменений нынешний состав Совета Безопасности»[2]. По мнению Реджепа Эрдогана, Совбез не сможет выполнять свои функции, если не изменит состав. СБ ООН, подчёркивает президент Турции, – в существующей структуре отнюдь не служит интересам международного мира и справедливости, он является отражением политики пяти постоянных членов. Никакое решение не может быть принято, если за него не проголосует пятёрка постоянных членов СБ. Но члены Совета Безопасности представляют только азиатские, европейские страны и страны американского континента.
С религиозной точки зрения СБ отражает взгляды в основном приверженцев христианства. Другие мировые религии (ислам и буддизм) на постоянной основе в Совете не присутствуют. Организация Исламского сотрудничества, в которую входит 56 государств, не имеет веса при принятии решений в СБ. Важные этнические группы – арабы, турки, индийцы, индонезийцы, африканцы – вообще не представлены среди постоянных членов. Что касается непостоянных членов Совета, то они избираются на два года и не имеют влияния на принятие решений в СБ[3]. Как отмечает Реджеп Эрдоган, в Совет могли бы входить двадцать членов, меняющиеся по процедурам ротации.
Турецкие политические деятели и дипломаты осознают: работа по отбору «наиболее достойных» новых членов СБ ООН может быть заблокирована противоречиями между крупными странами, давно претендующими на повышение их статуса в международной жизни. Так, позиционный документ Турции к 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прямо указывает на наличие разногласий: «Италия против Германии, Аргентина против Бразилии, Пакистан против Индии, Южная Корея против Японии»[4].
Вторым направлением совершенствования деятельности ООН, по мнению Турции, является принципиальное изменение распределения полномочий между Советом Безопасности и Генеральной Ассамблеей, прежде всего в вопросах мира и войны, укрепления стабильности и международной безопасности. Анкара предлагает расширить полномочия Генассамблеи, сократив полномочия Совета Безопасности. То есть Генеральная Ассамблея станет «законодательным органом», а Совет Безопасности – исполнительным.
Предложение перераспределить полномочия главных органов ООН возникало и раньше. Как правило, это было связано с очередным провалом Совета Безопасности в урегулировании острых международных ситуаций. Однако паралич Совбеза вряд ли стоит связывать только с конструктивными изъянами в структуре Организации. Проблема в расколе среди ведущих стран мира – между коллективным Западом во главе с Соединёнными Штатами, с одной стороны, и Россией, КНР, рядом других государств – с другой.
Предлагаемая рокировка делегированными полномочиями не сделает ООН более действенным механизмом укрепления режимов безопасности и мира.
Не ООН единой
Активная линия Турции по вопросам реформирования ООН сочетается со стремлением Анкары «не отстать» от процессов формирования новых региональных и международных объединений, призванных компенсировать несовершенства ранее созданных структур, включая ООН. Особое место отводится Шанхайской организации сотрудничества. Это наглядно проявилось во время недавнего участия Эрдогана в саммите ШОС в Узбекистане. Президент Турции трактовал тяготение Анкары к деятельности ШОС как отражение твёрдого курса его страны на «возвращение в Азию, исконную родину турецкого народа» Он дал следующую характеристику ШОС: «Шанхайская организация сотрудничества рассматривается нами как современный представитель климата толерантности и древней культуры Азии, поэтому мы придаём большое значение улучшению наших отношений с этой организацией. Благодаря нашему статусу партнёра по диалогу в течение последних десяти лет это место – одно из наших окон в Азию»[5]. В Самарканде Эрдоган официально объявил о намерении Турции изменить формат взаимодействия с ШОС – с «партнёра по диалогу» до полноправного члена этой организации. Он надеется сделать этот шаг на следующей встрече ШОС в верхах в Индии в 2023 году.
Присоединение Турции к ШОС может иметь особое значение с точки зрения формирования нового миропорядка, ведь Турция – член НАТО.
Ранее президент России подчёркивал, что ШОС не является блоком, она строится на общем понимании государствами-членами преимуществ интеграции на основе справедливого учёта интересов друг друга и противостояния политике диктата и давления. По-видимому, намерение добиваться полноценного членства возникло у Эрдогана на фоне развития ситуации в мире, во взаимоотношениях Турции с государствами Запада, особенно с Европой. Турцию там не ждут, континент увязает в тяжёлых экономических проблемах и внутренних спорах.
Не радуют турецкое руководство и разрабатываемые сейчас на Западе новые интеграционные схемы. Влиятельный американский журнал Foreign Affairs недавно опубликовал статью бывшего представителя США в НАТО Иво Даалдера и вице-президента Совета по международным отношениям Джеймса Линдсея с характерным названием «Последний шанс сформировать лучший международный порядок». «Российское вторжение на Украину подтвердило истину, которая заключается в том, что мировой порядок, установившийся после Второй мировой войны, может рухнуть», – констатируют авторы[6]. Они предлагают ряд мер для выправления создавшейся ситуации. Особое значение при этом придаётся созданию «группы 12» в составе «Большой семёрки» (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, а также представитель ЕС). В дискуссиях, имеющих отношение к вопросам безопасности, должен принимать участие также представитель НАТО[7].
Реализация такого предложения будет означать определённое отстранение Турции, не упоминаемой в списке полноправных членов будущей группы, от возможности на равных участвовать в миростроительстве. В этих условиях членство в ШОС и с политической, и с институциональной точки зрения может иметь бесспорное преимущество.
Вместе с тем не нужно переоценивать значение критического отношения Эрдогана к США и Западу в целом. Нынешнее политическое руководство Турции не намерено покидать западный лагерь, НАТО. На западном направлении Турция добивается, чтобы союзники и партнёры в большей мере учитывали её интересы. Для реализации такого курса по инициативе Анкары создан новый механизм «стратегического диалога» с Соединёнными Штатами. Принципиальная договорённость достигнута 31 октября 2021 г. на встрече президентов Байдена и Эрдогана в Риме. Стороны условились сконцентрировать внимание прежде всего на преодолении разногласий, чтобы создаваемый механизм стратегического партнёрства способствовал обоюдному доверию. Диалог будет происходить на уровне руководства внешнеполитических ведомств. 4 апреля 2022 г. в ходе визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Анкару состоялось первое заседание такого «стратегического механизма». 18 мая 2022 г. в Нью-Йорке произошла встреча уже на уровне первых лиц дипломатии – госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. 14 сентября 2022 г. в Вашингтоне прошло очередное заседание на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств Седата Юнала и Венди Шерман. В совместном заявлении подтверждено стремление сторон крепить связи. Особо отмечена необходимость консультироваться по проблемам поставок энергоносителей[8].
Своё отношение к роли, которую призвана сыграть Турция, Эрдоган образно выразил, выступая на Мировом экономическом форуме в Cтамбуле 28 сентября 2014 г.: «Турция – восходящая звезда региона и всего мира»[9]. Многие тогда посчитали это художественным преувеличением, но такая амбициозная цель – что называется, «руководство к действию», практический ориентир, отражающий планы Анкары выйти на авансцену международной жизни в качестве одного из самых влиятельных государств, заявить претензию на то, чтобы к её голосу прислушивались и принимали во внимание серьёзным образом.
То, с каким энтузиазмом Анкара подхватила идею Владимира Путина превратить Турцию в главный хаб для российского газа, – ещё одно свидетельство максимально активного настроя.
* * *
Ряд положений турецкой программы не соответствует российскому видению реформирования ООН, Совета Безопасности. Мы – за сохранение принципа «вето», так как в противном случае может иметь место использование «механического большинства» при решении проблем, затрагивающих национальные интересы России. Также нашему подходу не соответствует предложение Анкары «поменять местами» полномочия Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. «Досье» Совета Безопасности – вопросы войны и мира, использование санкционных и силовых методов. Такие вопросы оперативно можно рассматривать только при ограниченном числе стран. Тех, которые в силу военного потенциала способны оказывать реальное воздействие на обсуждение, принятие решений и мониторинг выполнения принимаемых решений. Тем не менее следует продолжать плотное политическое взаимодействие с Турцией, в том числе и по вопросам реформы ООН.
Выправить ситуацию в ООН, Совете Безопасности можно только на пути возвращения «к истокам» – выполнения всеми членами СБ и ООН обязательств, сформулированных в Уставе Организации. Эту цель сегодня разделяют страны – участницы ШОС, БРИКС, африканские, азиатские и латиноамериканские государства. Важно, чтобы и такая авторитетная, с большим потенциалом страна, как Турция, действовала совместно с нами для снижения уровня напряжённости, перехода к всё более масштабному сотрудничеству в области экономики, торговли, образования.
СНОСКИ
[1] «О серии дискуссий по реформе системы Организации Объединённых Наций». Посольство Турецкой Республики в Москве, сентябрь 2022 года.
[2] Erdoğan R.T. “The World Is Bigger Than 5”. The Vision of New Turkey. Cumhurbaşkanlığı Yayınları, 2017. Р. 16.
[3] Ibid. Р. 12.
[4] «О серии дискуссий по реформе системы Организации Объединённых Наций». Позиционный документ Посольства Турецкой Республики в Москве, сентябрь 2022 года. С. 3.
[5] Churriyet, 16.09 2022.
[6] Daalder I.H., Lindsay J.M. Last Best Hope // Foreign Affairs. 2022. Vol. 101. No. 4. Р. 120.
[7] Ibid. Р. 124.
[8] Daily Sabah, Istabbul, September, 16, 2022.
[9] Erdoğan R.T. Op. cit. P. 28.

Кибербезопасность критически важной инфраструктуры: новые вызовы
Поддержание технологического суверенитета становится императивом международных отношений
ПАВЕЛ КАРАСЁВ
Старший научный сотрудник Центра международной безопасности, Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН).
ДМИТРИЙ СТЕФАНОВИЧ
Научный сотрудник Центра международной безопасности, Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН).
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Карасе?в П.А., Стефанович Д.В. Кибербезопасность критически важной инфраструктуры: новые вызовы // Россия в глобальной политике. Т. 20. № 6. С. 147-164.
Статья опубликована в рамках проекта «Посткризисное мироустройство: вызовы и технологии, конкуренция и сотрудничество» по гранту Министерства науки и высшего образования РФ на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития (Соглашение № 075-15-2020-783).
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) лежат в основе обработки больших данных, квантовых вычислений, дополненной и виртуальной реальности, блокчейна, интернета вещей и иных направлений цифрового развития, составляющих фундамент научно-технического прогресса.
Уже в 2017 г. глобальное производство товаров и услуг ИКТ составило примерно 6,5% валового внутреннего продукта, и около 100 млн человек были заняты в секторе цифровых услуг[1]. Возрастающая зависимость современного мира от ИКТ предопределяет необходимость обеспечения их безопасной и устойчивой работы. В особенности это относится к критически важной инфраструктуре (КВИ), её защита от кибервоздействий стала одной из важнейших задач национальной безопасности, и развитые страны заняты активной работой по созданию соответствующих доктринальных, нормативно-правовых, организационных и технических основ. Отрасли, подлежащие защите, – это, среди прочего, системы энерго- и водоснабжения, объекты повышенной опасности[2], а также информационной инфраструктуры. Значительная часть киберугроз в этой сфере не связана напрямую с военной деятельностью государств.
Обеспечение кибербезопасности критически важной инфраструктуры
Международное сообщество пока не выработало общепринятого определения «критически важной инфраструктуры», но таковые есть на национальном уровне – зачастую, не единые. Например, глоссарий американского Национального института стандартов и технологий (NIST) насчитывает пять определений КВИ.
США решают проблему защиты КВИ от кибератак уже более 25 лет. Так, в 1997 г. в докладе президентской комиссии по защите КВИ отмечено, что «инфраструктура гражданского и военного секторов в возрастающей степени зависима от телекоммуникаций и компьютеров… Киберугрозы реальны»[3]. Текущая политика США в области защиты КВИ определяется президентской директивой № 21 (PPD-21): Безопасность и устойчивость критической инфраструктуры, принятой в 2013 году[4]. Федеральное правительство совместно с владельцами и операторами КВИ и органами местного самоуправления принимает упреждающие меры по управлению рисками и укреплению безопасности и устойчивости критической инфраструктуры, с учётом всех опасностей. Под опасностями в документе понимаются «стихийные бедствия, киберинциденты, промышленные аварии, пандемии, террористические акты, саботаж и разрушительная преступная деятельность, направленная против критически важной инфраструктуры»[5]. Актуальное на данный момент определение КВИ приведено в USA Patriot Act[6], принятом после терактов 11 сентября 2001 г., – «системы и активы, физические или виртуальные, настолько жизненно важные для Соединённых Штатов, что их выход из строя или разрушение окажет пагубное воздействие на национальную безопасность, экономическую безопасность, общественное здравоохранение или общественную безопасность». Согласно упомянутой Директиве № 21, в число объектов КВИ входят предприятия 16 категорий: химическая промышленность, торговые предприятия, системы связи, важнейшие производственные предприятия, плотины, военно-промышленная база, службы спасения, энергетика, финансовые услуги, производство продовольствия и сельское хозяйство, государственные учреждения, институты здравоохранения, предприятия, связанные с информационными технологиями, ядерные реакторы, материалы и отходы, транспортные системы, системы водоснабжения и водоотведения.
Система кибербезопасности КВИ в США непрерывно развивается. Так, президентский указ[7], подписанный после атаки хакеров на трубопровод Colonial Pipeline[8] в мае 2021 г., предусматривает устранение барьеров для обмена информацией об угрозах между правительством и частным сектором; внедрение более строгих стандартов кибербезопасности в федеральном правительстве; повышение безопасности цепочки поставок программного обеспечения; создание специализированной структуры для изучения крупных инцидентов и стандартного руководства по реагированию на киберинциденты.
ЕС начал развивать соответствующую систему в 2004 г., когда Комиссия европейских сообществ приняла коммюнике о защите объектов критической инфраструктуры в борьбе с терроризмом[9]. К объектам КВИ относятся «те физические и информационные технологические объекты, сети, услуги и активы, которые в случае нарушения или уничтожения могут оказать серьёзное влияние на здоровье, безопасность, защищённость или экономическое благополучие граждан или на эффективное функционирование правительств государств-членов»[10]. В их числе: энергетические установки и сети; коммуникационные и информационные технологии; финансовые институты; здравоохранение; производство продуктов питания; водоснабжение; транспорт; производство, хранение и транспортировка опасных грузов; правительственные структуры. Эти инфраструктуры принадлежат или эксплуатируются как государственным, так и частным сектором, однако в коммюнике 574/2001 от 10 октября 2001 г. Комиссия заявила: «Укрепление некоторых мер безопасности… после нападений, направленных против общества в целом, а не против участников отрасли, должно осуществляться государством». Если в документе 2004 г. основной угрозой КВИ назван терроризм, то, согласно Стратегии кибербезопасности ЕС 2020 г., ландшафт угроз безопасности осложняется геополитической напряжённостью в отношении глобального и открытого интернета и контроля над технологиями по всей цепочке поставок. Соответственно, особое значение придаётся мерам достижения технологического суверенитета[11]. Стремление отдельных государств возвести «цифровые границы» упоминается как угроза глобальному и открытому киберпространству и «ключевым ценностям ЕС».
Но концентрация основных функций интернета, услуг связи и хостинга в руках нескольких частных компаний приводит к уязвимости европейской экономики и общества перед возможными разрушительными геополитическими или техническими событиями, затрагивающими ядро интернета или такие компании.
Фактически намечено постепенное движение к суверенизации европейского сегмента глобальной сети и установлению пресловутых цифровых границ. Так, в рамках подготовки к экстремальным сценариям, влияющим на целостность и доступность глобальной корневой системы DNS, предполагается создание европейской службы по обработке DNS-запросов – DNS4EU.
В России принят ряд нормативно-правовых документов и документов стратегического планирования, регламентирующих защиту объектов КВИ, в частности: Доктрина информационной безопасности Российской Федерации[12], Основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами критически важных объектов инфраструктуры Российской Федерации (2012 г.)[13], Федеральный закон от 26 июня 2017 г. № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»[14], Указ Президента РФ от 22 декабря 2017 г. № 620 «О совершенствовании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации»[15]. Под объектами КВИ понимаются те, нарушение (или прекращение) функционирования которых «приводит к потере управления, разрушению инфраструктуры, необратимому негативному изменению (или разрушению) экономики страны, субъекта Российской Федерации либо административно-территориальной единицы или существенному ухудшению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на длительный срок»[16]. В соответствии с Федеральным законом № 187-ФЗ, к объектам критической информационной инфраструктуры отнесены: «информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере здравоохранения, науки, транспорта, связи, энергетики, банковской сфере и иных сферах финансового рынка, топливно-энергетического комплекса, в области атомной энергии, оборонной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности».
Для противодействия атакам на КВИ создана Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА). Система является всеобъемлющей, так как, в соответствии с концепцией её функционирования[17], помимо обнаружения, предупреждения и ликвидации, она должна проводить научные исследования в сфере разработки и применения средств и методов обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, заниматься подготовкой необходимых кадров. В 2018 г. в рамках системы создан Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), который обеспечивает координацию «деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры РФ по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты»[18]. Фактически это GovCERT – государственная группа реагирования на компьютерные инциденты – с соответствующими полномочиями[19].
Различные центры координации кибербезопасности созданы и в США – Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (CISA – действует с 2018 г.), и в ЕС – Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности (ENISA), функционирующее с 2005 года. CISA обеспечивает защиту федеральных гражданских правительственных сетей, а также является национальным координатором по безопасности и отказоустойчивости КВИ, в том числе в сфере усилий по национальной киберзащите, и обеспечивает своевременный обмен информацией между государственным и частным сектором[20]. ENISA является экспертным центром в области кибербезопасности и оказывает помощь в разработке и реализации политик кибербезопасности, а также способствует наращиванию потенциала[21]. Агентство работает над созданием и поддержанием европейской системы сертификации кибербезопасности, повышением уровня осведомлённости, кибергигиены и киберграмотности среди граждан, организаций и предприятий.
Среди особенностей китайского подхода к обеспечению безопасности и устойчивости КВИ, например, – меньшее вовлечение частного сектора в подготовку соответствующих норм, а также отсутствие «привязки» к международным стандартам[22]. Между принятием закона о кибербезопасности и нормативов в части критической инфраструктуры прошло без малого пять лет[23]. Статья 2 документа, вступившего в силу в сентябре 2021 г., относит к КВИ следующие отрасли и секторы: государственные телекоммуникации и информационные услуги; энергетика; транспорт; водоснабжение; финансы; государственные услуги; электронное правительство; наука, технологии и промышленность в сфере национальной обороны; прочие элементы, «разрушение, потеря функциональности или утечка данных в части которых может нанести серьёзный ущерб национальной безопасности, национальной экономике и жизнеобеспечению людей или общественным интересам»[24].
Главное отличие китайского подхода от практики США и ЕС (в какой-то мере сближающее его с российским) – значительно более проактивный характер обеспечения кибербезопасности: специальным образом подготовленные сотрудники служб безопасности должны на постоянной основе участвовать в принятии решений в сфере кибербезопасности объектов КВИ.
Глобальные вызовы кибербезопасности КВИ
Глобализация способствовала разделению труда между странами и регионами. В отношении разработки и производства микроэлектроники это привело к появлению, с одной стороны, контрактных фабрик (создающих на своём оборудовании микросхемы для заказчиков со всего мира), а с другой – «бесфабричных» (fabless) компаний, которые занимаются именно разработкой и проектированием микросхем. Объём мирового рынка полупроводников составил в 2021 г. 555 млрд долларов[25], около 20% от всех полупроводников изготовлены на Тайване, а в целом на страны Восточной Азии приходится 70% их производства[26]. Уязвимые стороны коммерческих программных и аппаратных продуктов хорошо изучены хакерами, а перенос производства за рубеж создаёт угрозу внедрения закладок. Ввиду же роста международной напряжённости цепочки поставок под постоянной угрозой. Значительные перебои вызывают даже ограниченные по времени стихийные бедствия и техногенные катастрофы[27]. Предугадать последствия продолжительных нарушений цепи поставок (например, при военно-политической эскалации) для глобального рынка микроэлектроники сложно.
Геополитические риски стали одним из ключевых факторов торговой войны между Соединёнными Штатами и Китаем, развернувшейся в 2018 году. В августе 2022 г. США приняли CHIPS and Science ACT[28], призванный обеспечить лидерство в промышленности «завтрашнего дня», включая нанотехнологии, чистую энергию, квантовые вычисления и искусственный интеллект, путём развития национального производства и цепочек поставок. В отрасль полупроводников предполагается инвестировать сотни миллиардов долларов. На выделяемые средства наложены ограничения, которые гарантируют, что их получатели не будут строить определённые объекты в Китае и других странах, вызывающих обеспокоенность.
В КНР создаётся независимая ИКТ-инфраструктура из четырёх основных элементов: базовое оборудование, базовое программное обеспечение, прикладное программное обеспечение и информационная безопасность. Во всех этих категориях уже есть ключевые предприятия, важно взаимодействие ИТ-компаний, исследовательских центров и университетов[29]. Кроме того, для достижения независимости китайской высокотехнологичной промышленности важную роль играет т.н. «гражданско-военный синтез» (civil-military fusion), возможность взаимообмена ресурсов и разработок[30].
Несмотря на жёсткое давление США, микроэлектронная промышленность КНР сохраняет устойчивость, пусть и отстаёт от передового уровня. В 2014 г. Госсовет КНР издал «Руководство по продвижению национального производства интегральных схем», вслед за чем создан соответствующий инвестиционный фонд. С 2015 г. запущена программа «Сделано в Китае 2025». Уже в 2020 г. Госсовет КНР издал новый документ, предусматривающий меры «содействия высококачественному развитию индустрии интегральных микросхем и индустрии программного обеспечения в Новую Эру», под которой косвенно понимается интенсификация противоборства с Соединёнными Штатами[31]. Параллельно создаётся собственная экосистема программного обеспечения с открытым исходным кодом для повышения статуса КНР в данной области[32].
Локализация производств направлена на создание технологических кластеров, также она может обусловить технологическую зависимость менее развитых государств от передовых стран, что также является для первых невоенным вызовом кибербезопасности критически важной инфраструктуры. Сегодня это наиболее явно происходит в сфере технологий искусственного интеллекта (ИИ). В докладе специальной рабочей группы Минобороны Франции (2019 г.) сказано: «Две сверхдержавы, США и Китай, находятся вне досягаемости других государств[33]. Обе страны контролируют огромный объём данных, обладают экосистемой, основанной на мощных глобальных интеграторах… и могут использовать свои научные и финансовые ресурсы для дальнейшего усиления своего господства». В «Докладе о цифровой экономике 2021» Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД)[34] отмечено, что на США и Китай приходится «половина мировых гипермасштабируемых центров обработки данных, самые высокие темпы внедрения 5G в мире, 94% всего финансирования стартапов в области ИИ за последние пять лет, 70% ведущих учёных в сфере ИИ в мире и почти 90% рыночной капитализации крупнейших мировых цифровых платформ: “Эпл”, “Майкрософт”, “Амазон”, “Алфабет” (“Гугл”), “Фейсбук”, “Тенсент” и “Алибаба”».
В 2020 г. комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил: «Перед лицом “технологической войны” между США и Китаем Европа должна заложить основы своего суверенитета на следующие 20 лет», а некоторые из направлений будут развиваться с привлечением ресурсов Европейского оборонного фонда[35]. В феврале 2020 г. принята Белая книга Европейской комиссии по искусственному интеллекту, где отмечено стремление Евросоюза стать «мировым лидером в области инноваций в экономике данных и её приложениях»[36]. В апреле 2021 г. принята программа «Цифровая Европа» для повышения инновационной мощи ЕС и устранения зависимости от систем и решений, разработанных в других регионах мира[37]. В рамках этой программы в 2021—2027 гг. планируется потратить более 7,5 млрд евро бюджетных средств. 8 февраля 2022 г. Европейская комиссия приняла Европейский закон о чипах[38]: инвестиции в размере 43 млрд евро до 2030 г. должны удвоить долю ЕС на мировом рынке полупроводников – до 20%. Финансирование высокотехнологичных отраслей, в том числе электроники, также будет осуществляться в рамках ранее объявленных программ «Европейские горизонты» (бюджет до 2027 г. около 100 млрд евро)[39]и «Программа цифровой Европы»[40].
Россия обладает рядом преимуществ в сфере «национальных» ИКТ: существуют российские поисковые, навигационные и почтовые решения, социальные сети, платёжные системы, торговые и сервисные площадки, соответствующие наиболее передовым мировым образцам.
В рамках реализации соответствующих указов президента (от 07.05.2018 № 204 и от 21.07.2020 № 474) сформирована национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», в которую входят в том числе такие федеральные проекты, как «Нормативное регулирование цифровой среды» и «Информационная безопасность», а также «Цифровые технологии»[41]. Документы стратегического планирования в сфере развития микроэлектронной промышленности также появились сравнительно давно (например, в 2007 г. утверждены соответствующие Стратегия[42] и Федеральная целевая программа[43]), однако эффективность их реализации оставляет желать лучшего. Так, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в мае 2022 г. прямо заявил: «Программа импортозамещения провалена полностью»[44]. Одна из ключевых проблем отечественной высокотехнологичной микроэлектроники – приоритетность военного заказчика. При этом развитие соответствующих технологий по состоянию на 2019 г. практически по всем направлениям составляло от 20 до 60% мирового уровня[45]. Санкционное давление привело к сворачиванию присутствия как крупных фабрик и поставщиков компонентов, необходимых для производства на территории России, так и к опасениям более мелких предприятий, например, из Китая, большая часть продукции которых остаётся ориентированной на западные рынки[46]. Впрочем, проблема осознаётся. Так, в 2020 г. принята Стратегия развития электронной промышленности до 2030 г.[47], а председатель правительства Михаил Мишустин заявил, что предусмотрены «инфраструктурные инвестиции в размере 142 млрд рублей. Общие инвестиции до 2024 г. в связанные с микроэлектроникой отрасли составят примерно 266 млрд рублей»[48].
Локализация и/или импортозамещение могут преследовать различные цели, зачастую одновременно, например: снижение уязвимости ИКТ в гражданской сфере; создание потенциала для высокотехнологичного производства в военной сфере; борьба с другими производителями за доли рынка; создание условий для формирования новой национальной экономики; обеспечение занятости граждан, а также привлечение талантливых иммигрантов путём запуска перспективных проектов и создания высокооплачиваемых рабочих мест.
Вопросы устойчивости КВИ неразрывно связаны с непрерывным и стабильным функционированием глобальных информационных сетей и проблематикой управления интернетом. Корпорация ICANN, которая большую часть своего существования была подотчётна правительству США, сегодня формально является независимой, но применяемый в ней подход мультистейкхолдеризма (т.е. участия всех заинтересованных сторон) не позволил обеспечить значимое представительство России и Китая, в том числе на уровне компаний. Так, на середину 2022 г. их нет в совете директоров[49]. ICANN занимается координацией системы присвоения имён интернета, и тем самым управляет его развитием[50]. Одной из важнейших функций является разработка интернет-протоколов и соответствующих политик, поскольку это предопределяет качества ИКТ-среды – в том числе её безопасность. Адресация протокола IPv6, например, теоретически может ликвидировать анонимность в сети – если у каждого устройства есть свой индивидуальный IP-адрес, и они работают друг с другом напрямую.
В апреле 2022 г. в Соединённых Штатах представлена «Декларация о будущем интернета»[51], которая подтверждает приверженность стран-партнёров (помимо США это ещё почти 60 государств) единому глобальному интернету – открытому и поощряющему конкуренцию, конфиденциальность и уважение прав человека. Сущность Декларации заключается в консолидации сторонников американского взгляда на развитие глобальной сети и идеологического отделения тех стран, которые не согласны с монополизацией управления глобальной информационной инфраструктурой.
И в Китае, и в России уже сделаны существенные шаги, чтобы сократить риск нарушения устойчивости глобальной информационной инфраструктуры.
Так, в России принят закон «О персональных данных» от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ и ряд дополнений к нему[52], в соответствии с которым базы данных, использующиеся для хранения персональной информации, должны находиться на территории Российской Федерации. В 2019 г. одобрен т.н. «закон о суверенном Рунете» – Федеральный закон от № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О связи” и Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”»[53], он позволил, среди прочего, создать независимую от внешних факторов национальную систему маршрутизации интернет-трафика.
Ещё в 2012 г. начали обсуждать проблему «перекрёстка» в развитии глобальной сети – сохранение её единства или «балканизация», т.е. создание отдельных независимых «интернетов»[54]. В 2015 г. призывы к недопущению такой эволюции сочетались с рассуждениями о «предательских» действиях Эдварда Сноудена. Обнародованные им материалы Агентства национальной безопасности заставили многих усомниться в справедливости существующего положения дел[55]. В 2018 г. отдельно подчеркивались негативные последствия для международной экономики нескоординированного регулирования интернета национальными правительствами[56]. В 2020 г. стали обсуждать фактор идеологических подходов, а также более крупных, многосферных конфликтов, которые ведут к «балканизации» интернета[57]. В 2021 г. тезис о «смерти интернета, каким мы его знаем» уже носил фаталистический характер, пусть и сопровождался призывом отбросить разногласия и вести совместную работу[58]. К 2022 г. сочетание букв VPN стало аббревиатурой, понятной практически каждому в связи с различными взаимными ограничениями на доступ к информационным площадкам и социальным сетям. Так, из России «по умолчанию» недоступно большинство американских «околовоенных» сайтов в домене .mil, а также ряд сайтов предприятий ОПК, в то время как с территории Соединённых Штатов недоступен, например, сайт Роскосмоса.
Вероятный вектор развития глобальной сети описан в докладе американского Совета по международным отношениям «Противостояние реальности в киберпространстве»: «Политика США, продвигающая открытый глобальный интернет, потерпела неудачу, и Вашингтон не сможет остановить или повернуть вспять тенденцию к фрагментации»[59]. Рекомендуется «консолидировать союзников и друзей вокруг такого видения интернета, которое в максимально возможной степени сохранит эту надёжную и защищённую международную платформу коммуникации»[60].
* * *
Обеспечение кибербезопасности КВИ за последние 20 лет стало одной из важнейших задач развитых стран. В условиях чрезвычайной международной напряжённости всё чаще возникают вопросы об устойчивости цепи поставок в сфере микроэлектроники, а также о формировании собственных технологических кластеров. Принимая во внимание политическую составляющую этих взаимосвязанных и взаимозависимых вопросов, можно констатировать, что достижение и поддержание технологического суверенитета становится императивом международных отношений. Менее развитые страны находятся в уязвимом положении и рискуют стать жертвами технологического неоколониализма. Им придётся использовать и оплачивать технологические наработки и услуги «метрополии» при полной неспособности развивать национальные компетенции. Решая задачу кибербезопасности своей КВИ, ряд развитых государств бросает вызов в сфере кибербезопасности всем остальным. Подобный сценарий обретает всё более явственные черты на фоне усилий по локализации производства высокотехнологичной микроэлектроники. Развитые страны вне технологических кластеров столкнутся с дилеммой – примкнуть к одному из них или пытаться использовать имеющиеся ресурсы – как минимум для создания национальных аналогов наиболее критически важных технологий, как максимум – собственной конкурентоспособной технологической платформы. Альтернативой могло бы стать международное сотрудничество в рамках ООН, которая приложила немалые (хотя и недостаточные[61]) усилия к преодолению цифрового разрыва.
Группа правительственных экспертов ООН по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности выработала нормы, правила и принципы ответственного поведения государств. Например, они должны «принимать надлежащие меры для защиты своей КВИ от угроз в сфере ИКТ, принимая во внимание резолюцию 58/199 Генеральной Ассамблеи о создании глобальной культуры кибербезопасности и защите важнейших информационных инфраструктур и другие соответствующие резолюции». Текущая политическая обстановка не способствует эффективности многосторонних форматов, и государства зачастую заняты не урегулированием, а стимулированием разногласий, что иллюстрирует и происходящее в Рабочей группе открытого состава ООН по вопросам ИКТ[62].
Подчеркнём ключевые глобальные тенденции, ряд которых взаимосвязан:
растущий интерес правительств, международных организаций, деловых кругов и общественности к проблематике кибербезопасности;
локализация производства программного обеспечения и оборудования и переформатирование цепочек производства микроэлектроники;
создание конкурирующих национальных и региональных технологических экосистем;
укрепление национальных и региональных технических возможностей по управлению информационно-телекоммуникационными сетями, что можно характеризовать как предтечу фрагментации глобальной сети.
С высокой долей вероятности можно прогнозировать наращивание противоборства в сфере ИКТ, сопровождающееся попытками обезопасить собственную КВИ как через её «автономизацию», так и через международные договорённости.
СНОСКИ
[1] Доклад об информационной экономике за 2017 год // ЮНКТАД. Нью-Йорк и Женева: ООН, 2017. 10 с. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/ier2017_overview_ru.pdf (дата обращения: 01.09.2022).
[2] Статья 56 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года // Гарант. URL: http://base.garant.ru/2540377/#ixzz5RAhTQHgB (дата обращения: 01.09.2022). Например, согласно этой статье, к установкам и сооружениям «содержащим опасные силы» относятся плотины, дамбы и атомные электростанции.
[3] President’s commission on critical infrastructure protection overview briefing. Washington DC: U.S. Government Printing Office, 1997. 29 p. URL: https://permanent.fdlp.gov/lps19904/brief697.pdf (дата обращения: 01.09.2022).
[4] Presidential Policy Directive/Ppd-21 «Critical Infrastructure Security and Resilience» // The White House. 12.02.2013. URL: https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/PPD-21-Critical-Infrastructure-and-Resilience-508.pdf (дата обращения: 01.09.2022).
[5] Ibid.
[6] Patriot ACT // Electronic Privacy Information Center. 24.10.2001. URL: http://epic.org/privacy/terrorism/hr3162.html (дата обращения: 01.09.2022).
[7] Executive Order on Improving the Nation’s Cybersecurity // The White House. 12.05.2021. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/05/12/executive-order-on-improving-the-nations-cybersecurity/ (дата обращения: 01.09.2022).
[8] Тёмные хроники: к чему привела атака на Colonial Pipeline // Kaspersky ICS CERT. 21.05.2021. URL: https://ics-cert.kaspersky.ru/publications/news/2021/05/21/darkchronicles-the-consequences-of-the-colonial-pipeline-attack/ (дата обращения: 01.09.2022).
[9] Communication From the Commission to the Council and the European Parliament “Critical Infrastructure Protection in the fight against terrorism” // Commission of the European Communities. 20.10.2004. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/ALL/?uri=celex:52004DC0702 (дата обращения: 01.09.2022).
[10] Интересно отметить, что в Директиве Европейского совета 2008/114/EC критическая инфраструктура это такие «активы, системы или их части, расположенные на территории ЕС… нарушение работы или уничтожение которой окажет значительное влияние как минимум на два государства-члена».
[11] The Cybersecurity Strategy // European Commission. 7.06.2022. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/cybersecurity-strategy (дата обращения: 01.09.2022).
[12] Доктрина информационной безопасности Российской Федерации // Совет Безопасности Российской Федерации. URL: http://scrf.gov.ru/security/information/document5/ (дата обращения: 01.09.2022).
[13] Основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами критически важных объектов инфраструктуры Российской Федерации // Совет Безопасности Российской Федерации. URL: http://scrf.gov.ru/security/information/document113/ (дата обращения: 01.09.2022).
[14] Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26 июля 2017 г. № 187-ФЗ // КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220885/ (дата обращения: 01.09.2022).
[15] Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 2017 г. № 620 «О совершенствовании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» // Гарант. URL: https://base.garant.ru/71840924/ (дата обращения: 01.09.2022); Указ Президента Российской Федерации от 15 января 2013 г. № 31с «О создании государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации» // Президент России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/36691 (дата обращения: 01.09.2022).
[16] Основные направления государственной политики в области обеспечения безопасности автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами критически важных объектов инфраструктуры Российской Федерации. URL: http://www.scrf.gov.ru/security/information/document113/ (дата обращения: 01.09.2022).
[17] Выписка из Концепции государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации // Совет Безопасности Российской Федерации. URL: http://www.fsb.ru/files/PDF/Vipiska_iz_koncepcii.pdf (дата обращения: 01.09.2022).
[18] ФСБ России создан Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам // КонсультантПлюс. 10.09.2018. URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/54965.html/ (дата обращения: 01.09.2022).
[19] Для сравнения, другой российский центр реагирования — RU-CERT прямо указывает, что «не уполномочен заниматься решением вопросов, находящихся в ведении правоохранительных органов». См.: RU-CERT. URL: https://www.cert.ru/ru/about.shtml (дата обращения: 01.09.2022).
[20] The Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. URL: https://www.cisa.gov/about-cisa (дата обращения: 01.09.2022).
[21] Regulation (EU) 2019/881 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on ENISA (the European Union Agency for Cybersecurity) and on information and communications technology cybersecurity certification and repealing Regulation (EU) No 526/2013 (Cybersecurity Act) // Official Journal of the European Union. Vol. 62. L 151. 7.06.2019. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0881&from=EN (дата обращения: 01.09.2022).
[22] Jong-Chen J. de, O’Brien B. A Comparative Study: The Approach to Critical Infrastructure Protection in the U.S., E.U., and China // Digital Futures Project. November, 2017. URL: https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/publication/approach_to_critical_infrastructure_protection.pdf (дата обращения: 01.09.2022).
[23] Triolo Р., Sacks S., Webster G., Creemers R. After 5 Years, China’s Cybersecurity Rules for Critical Infrastructure Come Into Focus // Digichina. 18.06.2021. URL: https://digichina.stanford.edu/work/after-5-years-chinas-cybersecurity-rules-for-critical-infrastructure-come-into-focus/ (дата обращения: 01.09.2022).
[24] Translation: Critical Information Infrastructure Security Protection Regulations (Effective Sept. 1, 2021) // Digichina. 18.06.2021. URL: https://digichina.stanford.edu/work/translation-critical-information-infrastructure-security-protection-regulations-effective-sept-1-2021/ (дата обращения: 01.09.2022).
[25] Global Semiconductor Sales, Units Shipped Reach All-Time Highs in 2021 as Industry Ramps Up Production Amid Shortage // Semiconductor Industry Association. 14.02.2022. URL: https://www.semiconductors.org/global-semiconductor-sales-units-shipped-reach-all-time-highs-in-2021-as-industry-ramps-up-production-amid-shortage/ (дата обращения: 01.09.2022).
[26] Semiconductor Wafer Capacity by Geographic Region (2020) // AnySilicon. URL: https://anysilicon.com/semiconductor-wafer-capacity-by-geographic-region-2020/ (дата обращения: 01.09.2022).
[27] См., например: «Таиландский hi-tech сектор под водой: крокодилы вместо чипов» // Reuters. 24.11.2011. URL: https://www.reuters.com/article/orubs-thai-flood-tech-idRUMSE7AN0QN20111124 (дата обращения: 01.09.2022); The aftermath of the Japanese earthquake what are implications for the global electronics industry? // Microelectronics International. Vol. 28. No. 3. URL: https://doi.org/10.1108/mi.2011.21828caa.001 (дата обращения: 01.09.2022).
[28] Fact Sheet: Chips and Science Act Will Lower Costs, Create Jobs, Strengthen Supply Chains, and Counter China // The White House. 9.08.2022. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/08/09/fact-sheet-chips-and-science-act-will-lower-costs-create-jobs-strengthen-supply-chains-and-counter-china/ (дата обращения: 01.09.2022).
[29] China Tech Decoupled // China Money Network. FutureLogic, November, 2021. 28 p. URL: https://assets.chinamoneynetwork.com/wp-content/uploads/20211124221018/futurelogic-china-tech-decoupled-xinchuang-report-november2021.pdf (дата обращения: 01.09.2022).
[30] Bradford W. How Military-Civil Fusion Steps Up China’s Semiconductor Industry// Digichina. 1.04.2022. URL: https://digichina.stanford.edu/work/how-military-civil-fusion-helps-chinas-semiconductor-industry-step-up/ (дата обращения: 01.09.2022).
[31] Li Y. The Semiconductor Industry: A Strategic Look at China’s Supply Chain. In: F. Spigarelli, J.R. McIntyre (Eds.), The New Chinese Dream. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. P. 121-136.
[32] Chong K.P. Huawei to build a global open-source software ecosystem without US tech // The Straits Times. 20.09.2019. URL: https://www.straitstimes.com/business/huawei-to-build-a-global-open-source-source-ecosystem-without-us-tech (дата обращения: 01.09.2022).
[33] Artificial Intelligence in Support of Defence. Report of the AI Task Force // Ministere des Armees. September, 2019. 30 p. URL: https://www.defense.gouv.fr/sites/default/files/aid/Report%20of%20the%20AI%20Task%20Force%20September%202019.pdf (дата обращения: 01.09.2022).
[34] Доклад ЮНКТАД о цифровой экономике за 2021 год. ООН, 2021. URL: https://unctad.org/system/files/official-document/der2021_overview_ru.pdf (дата обращения: 01.09.2022).
[35] Europe: The Keys to Sovereignty // European Commission. 11.09.2020. URL: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/breton/announcements/europe-keys-sovereignty_en (дата обращения: 01.09.2022).
[36] White Paper “On Artificial Intelligence — A European approach to excellence and trust” // European Commission. 19.02.2020. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission-white-paper-artificial-intelligence-feb2020_en.pdf (дата обращения: 01.09.2022).
[37] Regulation (EU) 2021/694 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2021 establishing the Digital Europe Programme and repealing Decision (EU) 2015/2240 // Official Journal of the European Union. Vol. 64. L 166. 11.05.2021. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0694&from=EN (дата обращения: 01.09.2022).
[38] European Chips Act // European Commission. 7.06.2022. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/european-chips-act (дата обращения: 01.09.2022).
[39] Horizon Europe // European Commission. URL: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en (дата обращения: 01.09.2022).
[40] The Digital Europe Programme // European Commission. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme (дата обращения: 01.09.2022).
[41] «Цифровая экономика РФ» // Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 9.08.2022. URL: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ (дата обращения: 01.09.2022).
[42] Стратегия развития электронной промышленности России на период до 2025 года // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/902063681 (дата обращения: 01.09.2022).
[43] ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008—2015 годы» // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/902076511 (дата обращения: 01.09.2022).
[44] Телеграм-канал А. Клишаса, 19.05.2022. URL: https://t.me/andreyklishas/329 (дата обращения: 01.09.2022).
[45] Афанасьев А.С. Реалии современного пути развития военной радиоэлектроники // Вооружение и экономика. 2021. Т. 57. № 3. С. 35-44.
[46] Шунков В. Как развивается мировой рынок микросхем и чего теперь ждать в России // РБК Тренды. 4.05.2022. URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/626bd1459a7947f2a2d25227 (дата обращения: 01.09.2022).
[47] Стратегия развития электронной промышленности Российской Федерации на период до 2030 года // Правительство России. URL: http://static.government.ru/media/files/1QkfNDghANiBUNBbXaFBM69Jxd48ePeY.pdf (дата обращения: 01.09.2022).
[48] Мишустин заявил, что России нужно догонять зарубежные страны в области микроэлектроники // ТАСС. 22.07.2020. URL: https://tass.ru/ekonomika/9025357 (дата обращения: 01.09.2022).
[49] Board of Directors // ICANN. URL: https://www.icann.org/resources/pages/board-of-directors (дата обращения: 01.09.2022).
[50] Чем занимается компания ICANN? // ICANN. URL: https://www.icann.org/resources/pages/what-2012-02-25-ru (дата обращения: 01.09.2022).
[51] A Declaration for the Future of the Internet // US Department of State. URL: https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/04/Declaration-for-the-Future-for-the-Internet.pdf (дата обращения: 01.09.2022).
[52] В частности, в 2014 г.
[53] Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О связи” и Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации”» // Официальный интернет-портал правовой информации. 1.05.2019. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201905010025?index=0&rangeSize=1 (дата обращения: 01.09.2022).
[54] Hill J.F. A Balkanized Internet? The Uncertain Future of Global Internet Standards // Georgetown Journal of International Affairs. 2012. P. 49–58. URL: http://www.jstor.org/stable/43134338 (дата обращения: 01.09.2022).
[55] Cooper R. Say No to the Balkanization of the Internet // U.S. Chamber of Commerce Foundation. 30.03.2015. URL: https://www.uschamberfoundation.org/blog/post/say-no-balkanization-internet/42923 (дата обращения: 01.09.2022).
[56] Spence M., Hu F. Preventing the Balkanization of the Internet // Project Syndicate. 28.03.2018. URL: https://www.project-syndicate.org/commentary/internet-regulation-must-preserve-economic-openness-by-michael-spence-and-fred-hu-2018-03 (дата обращения: 01.09.2022).
[57] Lewis J.A. Sovereignty and the Evolution of Internet Ideology // CSIS. 30.10.2020. URL: https://www.csis.org/analysis/sovereignty-and-evolution-internet-ideology (дата обращения: 01.09.2022).
[58] Levy I. Get ready for the death of the global internet. It won’t be pretty // Wired. 29.01.2021. URL: https://www.wired.co.uk/article/internet-balkanisation-ian-levy (дата обращения: 01.09.2022).
[59] Fick N., Miscik J., Segal A., Goldstein G.M. Confronting Reality in Cyberspace. N.Y.: Council for Foreign Relations, 2022. P. 3. URL: https://www.cfr.org/report/confronting-reality-in-cyberspace/download/pdf/2022-07/CFR_TFR80_Cyberspace_Full_SinglePages_06212022_Final.pdf (дата обращения: 01.09.2022).
[60] Ibid. Р. 4.
[61] Более подробно см.: Карасёв П.А. Цифровой колониализм vs. цифровое неприсоединение // Российский совет по международным делам. 08.11.2011. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/tsifrovoy-kolonializm-vs-tsifrovoe-neprisoedinenie/ (дата обращения: 01.09.2022).
[62] Интервью заместителя министра иностранных дел Российской Федерации О.В. Сыромолотова о третьей сессии Рабочей группы открытого состава (РГОС) ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и самих ИКТ 2021—2025 для МИА «Россия сегодня» // МИД России. 3.08.2022. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1824845/ (дата обращения: 01.09.2022).

Память как casus belli
Дилемма мнемонической безопасности
ДМИТРИЙ ЕФРЕМЕНКО
Доктор политических наук, заместитель директора Института научной информации по общественным наукам РАН.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Ефременко Д.В. Память как casus belli // Россия в глобальной политике. Т. 20. № 6. С. 119-141.
Острота конфликтов последних лет вокруг исторической памяти обусловлена в значительной мере тем, что разные акторы пытаются использовать трактовки прошлого как наступательное и оборонительное оружие в вопросах легитимности политического режима, оснований суверенного контроля над той или иной территорией, достижения преимуществ одной из политических сил во внутриполитическом противостоянии, одной страны или группы государств – в рамках геополитической конкуренции.
Память о прошлом всё чаще рассматривается в контексте безопасности – начиная с субъективного ощущения безопасности жизненного мира индивида или группы и заканчивая различными измерениями международной безопасности. В рамках настоящей статьи будет предложена гипотеза, распространяющая представления о дилемме безопасности на сферу исторической памяти и конкурирующих нарративов о прошлом.
Историческая память и международная безопасность
Концепция секьюритизации, разработанная лидерами Копенгагенской школы исследований международных отношений Барри Бузаном и Оле Вейвером, формирует теоретические рамки, позволяющие рассматривать в ракурсе безопасности значительно более широкий спектр явлений, которые прежде находились вне поля зрения специалистов в этой области[1]. Общая модель секьюритизации служит основой для эмпирического анализа конкретных процессов, который должен выявить наличие исходных предпосылок секьюритизации (актор, референтный объект, аудитория) и последовательности действий актора, позволяющих убедить аудиторию в том, что угроза референтному объекту существует и заслуживает реагирования. Подход Копенгагенской школы вызвал широкую дискуссию, которую рано считать завершённой. В частности, в числе спорных остаётся секьюритизация тех или иных аспектов идентичности[2]. Не ставя перед собой задачу глубокого погружения в данную дискуссию, автор, вслед за Mарией Мэлксоо из Копенгагенского университета, рассматривает секьюритизацию нарративов и символических практик как процесс признания их значимыми для поддержания идентичности сообщества[3]. При этом безопасность (и, соответственно, секьюритизация) понимается не процессуально – как обеспечение выживания индивида или сообщества в культурно сконструированном социальном контексте, а онтологически – как критически важная предпосылка для сохранения или развития коллективной идентичности. Тем самым некоторые важные компоненты идеационной сферы становятся объектом действий государственных институтов в целях их «защиты» от возможных посягательств. С участием государственных институтов происходит «обозначение экзистенциальной угрозы, требующей чрезвычайных действий или специальных мер, и принятие этого обозначения значительной аудиторией»[4].
Секьюритизация в данном случае представляет собой селекцию нарративов и практик, часть которых не признаётся полезной для поддержания идентичности в качестве основы дееспособности политического актора. Ключевые акторы политики памяти стремятся при помощи нормативных обоснований и инструментария защиты физической и социальной безопасности закрепить в общественном сознании определённую трактовку прошлого.
Процессы секьюритизации исторической памяти имеют и международное измерение. В частности, появляются новые возможности для объяснения факторов, обуславливающих возникновение дилемм безопасности и влияющих на динамику международных конфликтов[5]. В общем случае дилемма безопасности проявляется, когда укрепление безопасности одного государства воспринимается другим государством или группой государств как угроза их собственной безопасности[6]. Следует учитывать, что основой для такого восприятия служат не только и даже не столько объективные факторы, но также интуитивные ощущения и негативные ожидания в отношении намерений соперника. Субъективные и психологические составляющие таких оценок играют особенно значимую роль в условиях общей стратегической неопределённости, дефицита доверия и коммуникации между лидерами и политическими элитами соперничающих стран.
Конкурентные отношения государств по вопросам исторической памяти, очевидно, могут воспроизводить одну из особенностей дилеммы безопасности: «взаимный страх перед тем, чего изначально, возможно, никогда не существовало, впоследствии может привести именно к тому, чего боятся больше всего»[7]. Дилемма мнемонической безопасности возникает в том случае, когда, например, исторический нарратив, служащий «мифом основания» для государства А или играющий большую роль в сплочении стоящего за этим государством макрополитического сообщества, на систематической основе оспаривается влиятельными акторами, выступающими от лица макрополитического сообщества, стоящего за государством B. Если институты государства B обеспечивают устойчивую поддержку этим усилиям, то политические элиты государства А оказываются перед выбором: игнорировать такого рода действия или разработать комплекс мер, направленных на противодействие подрыву «своего» нарратива и дискредитацию исторических нарративов, значимых для сплочения сообщества в государстве B. Такая динамика может особенно ярко проявляться в тех случаях, когда мнемонические акторы современных государств, между которыми сложились остро конкурентные отношения, пытаются «приватизировать» какую-то часть некогда общего «наследия памяти»[8]. При этом мнемонические акторы государства B, стремясь разрушить «миф основания» государства А, пытаются из его обломков сконструировать свой собственный «миф основания» и, таким образом, усугубляют конфликт, переводя его на уровень антагонизма идентичностей.
Разумеется, дилемма мнемонической безопасности, как правило, выступает производным от классической дилеммы безопасности. Иначе говоря, под уже существующие противоречия, связанные с военно-стратегической и экономической безопасностью, ориентацией на те или иные союзы и межгосударственные объединения, подводится исторический и символический базис, и конфликт с государством А начинает мыслиться политическими элитами и частью массовых групп государства B как важный и даже конституирующий элемент собственной национально-государственной идентичности.
Но именно конфронтация в сфере исторической памяти в ряде случаев оказывается решающим аргументом, переводящим в состояние острой конфликтности различия экономических интересов и отношения по вопросам военно-стратегической безопасности.
В условиях дилеммы мнемонической безопасности свобода манёвра государственных деятелей, представляющих соответствующее макрополитическое сообщество, существенно сокращается, и процесс принятия политических решений может сильно отклоняться от логики рационального выбора. Деятельность политических лидеров при этом в значительной мере переходит в регистр «соответствия чаяниям» своего сообщества. Как подмечал ещё классик исследований в сфере международной безопасности Роберт Джервис, в отношении оппонирующего государства эти лидеры почти утрачивают способность понять, что «их собственные действия могут быть расценены как угрожающие», тогда как действия соперника ими, конечно, интерпретируются как агрессивные[9].
Для понимания природы любого конфликта необходимо обращение к его историческим корням. Но в ряде случаев трактовки истории, популярные мифы и нарративы о прошлом становятся вполне автономным и весьма важным фактором конфликтной динамики, способным изменить её интенсивность и качественные характеристики. В этом ракурсе имеет смысл рассмотреть две коллизии, динамика которых существенно менялась в связи с тем, что можно назвать возникновением дилеммы мнемонической безопасности. Речь идёт о конфликтах, включающих несовместимость трактовок исторического прошлого, между Сербией и Хорватией, с одной стороны, и Россией и Украиной, с другой. Оба эти конфликта не завершены, хотя и находятся на разных стадиях развития. В обоих случаях наблюдается немало черт сходства, начиная от языковой близости, опыта совместного пребывания в составе многонациональных государств и участия в экспериментах, связанных с радикальными социальными преобразованиями на основе коммунистической идеологии. В то же время существенно различаются обстоятельств возникновения дилеммы мнемонической безопасности и её влияния на конфликтную динамику в целом.
Столетие сербо-хорватского противоборства
Соперничество между сербами и хорватами, дважды переходившее в кровопролитное противостояние, нельзя назвать уходящим вглубь веков. Подобно многим другим этносам Центральной и Восточной Европы основной этап формирования национального самосознания сербов и хорватов приходится на XIX век, причём этот процесс происходил внутри двух разных империй. Борьба за национальное самоопределение велась не между сербами и хорватами, но каждого из этих народов – с соответствующими имперскими центрами. В XIX веке были сформулированы программы этнической консолидации сербов и хорватов, а также других южных славян на основе языковой и этнической близости; почти одновременно появились и программы доминирования какого-то одного из этих этносов в Западнобалканском регионе. Так формировалось обоснование будущего соперничества, однако вплоть до окончания Первой мировой войны сербы не были «значимым другим» для хорватов, а хорваты – для сербов.
Создание в 1918 г. единого государства – Королевства сербов, хорватов и словенцев (KSCS, с 1929 г. – Королевство Югославия) – диспозицию радикально изменило. Практически с первых дней существования нового государства развернулась острая борьба между сербскими и хорватскими политическими элитами. Хорваты оказывали наиболее решительное противодействие политико-правовой унификации и закреплению сербского доминирования. Противостояние на уровне элит быстро усугублялось, охватывало более широкие слои населения, причём массовое хорватское самосознание формировалось на почве отторжения государственности, в которой сербы играли ведущую роль. Ожесточение нарастало с каждым годом и доходило до политических убийств, повлиявших на судьбу первой Югославии (убийства лидера хорватской Крестьянской партии Степана Радича в 1928 г. и короля Александра I в 1934 г.).
Далеко идущий компромисс – Соглашение Цветковича – Мачека 26 августа 1939 г. о предоставлении автономного статуса Хорватии и части территории современной Боснии и Герцоговины с преобладанием хорватского населения – имел потенциал для стабилизации политической ситуации в королевстве. Однако это соглашение не устраивало ни усташей, настаивавших на полной независимости Хорватии, ни сербских радикальных националистов и монархистов, стремившихся вернуться к унитарной модели югославской государственности с сербским доминированием. Эти силы на начальном этапе оккупации Югославии странами Оси были главными участниками жесточайшей борьбы, унёсшей жизни более 1 млн человек. Но именно усташи, создавшие под эгидой Третьего Рейха Независимое государство Хорватия (НГХ) во главе с Анте Павеличем, в полной мере использовали против сербов (а также евреев и цыган) нацистский инструментарий концентрационных лагерей, депортаций и массового уничтожения мирного населения по признаку расовой, этнической и религиозной принадлежности.
Выход на арену вооружённого противостояния третьей силы – партизан-антифашистов во главе с Иосипом Броз Тито – резко изменил не только ход боевых действий, но и перспективы возрождения Югославии на основе идеологии, позволяющей преодолеть межэтническую вражду. Интернационалистский лозунг партизан «Братство и единство» означал признание особенностей различных этнических групп, но одновременно акцентировал их сплочение в борьбе с фашизмом, а затем – в деле строительства социализма и укрепления югославской федерации.
Победа Тито и его сподвижников, казалось бы, должна была положить конец сербо-хорватскому противостоянию. Для этого действительно было многое сделано, особенно в первые два десятилетия после установления коммунистического режима, стремившегося к формированию наднациональной социалистической идентичности. По оценке британского социолога Майкла Манна, жёсткое сдерживание разрушительных сил этнического национализма было, «вероятно, величайшим достижением коммунизма, не сравнимое с более поздними успехами тех же стран в их демократическом обличье»[10].
Однако межэтническое равновесие оставалось чрезвычайно хрупким. К концу жизни Тито Югославия превратилась в своеобразный кондоминиум республиканских партийных элит. Но сразу же после его смерти неудовлетворённость политическим режимом и моделью федеративных отношений усилилась во всех республиках, трансформировавшись в запрос на демократизацию, немедленно обретший этнонациональное измерение. Последнее стало определяющим, обеспечив политический триумф лидеров, которые, как казалось, были готовы решительно отстаивать интересы соответствующих этносов.
Сама возможность сохранения второй Югославии решающим образом зависела от того, как сложатся взаимоотношения Сербии и Хорватии, хотя единство федерации расшатывали и нарастающие разногласия из-за волнений албанцев в Косово, и углубление экономических диспропорций между республиками. К концу 1980-х гг. градус сербо-хорватских противоречий уже был очень высоким; средства массовой информации и лидеры общественного мнения в обеих республиках вносили каждодневный вклад в поляризацию по оси «мы-они», непрерывно усиливая взаимное отчуждение.
Деконструкция политико-исторического метанарратива и символического наследия социалистической Югославии проходила по-разному в различных югославских республиках. В Сербии и Хорватии их заменили нарративы, в которых соперничество сербов и хорватов выступало стержнем национальных интерпретаций событий совместной истории. Политические лидеры Сербии и Хорватии активно использовали травматический опыт сербо-хорватских отношений, чтобы максимально усилить у представителей своего этноса комплекс жертвы, трансформировать образ другого в образ исторического врага.
Любое действие одной стороны, усиливающее противостояние, рассматривалось другой стороной как оправдание собственных конфронтационных действий.
Хорватская политика памяти после отстранения от власти бывших коммунистов в результате многопартийных выборов характеризовалась «резкой перекройкой истории, выворачиванием наизнанку основных сюжетов и переосмыслением хорошего и плохого»[11]. Уровень радикализма этого разворота определялся тем, что режим Франьо Туджмана, следуя логике национализирующегося государства, решительно использовал находящиеся в его распоряжении институциональные ресурсы для этнической мобилизации хорватов и обеспечения языковой, культурной, демографической и политической гегемонии титульной нации[12].
В Хорватии демонтировано или осквернено несколько тысяч памятников, связанных с социалистической Югославией. Важнейшее значение имела ревизия государственной символики периода социализма и возвращение флага с шаховницей (šahovnica) в качестве государственного. Хотя шаховница глубоко укоренена в истории хорватской геральдики, в первую очередь она воспринималась как флаг государства усташей – Независимого государства Хорватия. Несмотря на определённые отличия (на флаге НГХ присутствовала буква “U”), сербское население рассматривало этот шаг в символической политике нового режима как явный предвестник возврата к идеологии и практике усташей, как показатель деградации статуса сербов в идущей к независимости Хорватии.
Движение за фактическую реабилитацию НГХ, отрицание либо (в большинстве случаев) преуменьшение масштабов преступлений усташей стали доминантой хорватской исторической политики, вызывая диаметрально противоположную реакцию в Сербии. Показательны оценки числа сербов, уничтоженных усташами в концентрационном лагере Ясеновац. В 1980-е гг. преобладающей оценкой в Хорватии стала цифра 60 тысяч сербов, погибших в этом концлагере. В Сербии, напротив, число жертв Ясеноваца доходило до 700 тысяч[13].
Амплитуда расхождений между крайними оценками событий Второй мировой войны в Сербии и Хорватии достигла максимума в конце 1980-х – начале 1990-х гг., когда нарратив о зверствах усташей стал мощной подпиткой настроений неопределённости и страха сербского этнического меньшинства в Хорватии. В числе ожиданий в среде сербов, связанных с приходом к власти в Загребе Хорватского демократического содружества, было и развязывание новым режимом этнических чисток, и даже возвращение практик лагерей смерти Ясеновац. В свою очередь, в хорватских масс-медиа не делалось почти ничего, чтобы развеять эти опасения и избежать прямых исторических аналогий. Напротив, доминирующий нарратив о Второй мировой войне, в том числе изменение отношения к НГХ, становился всё более антисербским, поскольку в нём особое место отводилось направленному против хорватов террору сербских отрядов четников, а также насилию со стороны многонациональных по своему составу коммунистических партизанских формирований[14]. Сигнал был понятен: в мнемоническом ландшафте борющейся за независимость Хорватии не оставалось места сербским историческим нарративам, а развенчание культа партизан Тито означало, что даже сосуществованию разных этносов под лозунгом «братства и единства» скоро будет положен конец.
В официальной политике памяти Загреба преобладала установка сместить акценты с преступлений НГХ на преступления в отношении хорватов, прежде всего – на Блайбургскую бойню, обсуждение которой при коммунистическом режиме было табуировано. Партизаны Тито, осуществившие 15 мая 1945 г. массовое уничтожение капитулировавших под Блайбургом усташей и словенских коллаборационистов (а также часть бежавших вместе с ними гражданских лиц), тем самым ставились в один ряд с карателями режима Анте Павелича..
В Сербии с середины 1980-х гг. память о Второй мировой войне достаточно быстро начала отклоняться от канона, заданного Тито. В значительной степени эти изменения были связаны с быстрым нарастанием противоречий в отношениях с Хорватией и Словенией. После отделения этих республик от Югославии и начала военных действий прямое отождествление усташей как инициаторов и исполнителей геноцида сербов во время Второй мировой войны и режима Туджмана как наследника и продолжателя преступлений НГХ стало лейтмотивом высказываний и сербских СМИ, и официальных властей, значительной части партийно-политического спектра, а также представителей Сербской православной церкви[15]. Сильнейшее эмоциональное впечатление производили эксгумации и перезахоронения останков жертв террора усташей, транслировавшиеся в прямом эфире белградского телевидения. По сути, массовая аудитория получала с каждым таким репортажем очередное подтверждение тезиса о сербской виктимности. Тем самым формировались рамки восприятия современного конфликта, который преподносился как война за предотвращение второго геноцида сербов.
Как в Сербии, так и в Хорватии широкое распространение получили аналогии между кровопролитными событиями Второй мировой войны и военными действиями 1991–1995 годов. В Хорватии термин «геноцид» чаще всего использовался для оценки действий четников и, соответственно, частей Югославской народной армии и вооружённых формирований сербских сепаратистов в 1991–1995 годы. Применительно к действиям усташей этот термин использовался очень выборочно и приглушённо, причём даже в описаниях преступлений в Ясеноваце говорилось о геноциде в отношении евреев и цыган, но не сербов; к действиям хорватской стороны во время войны 1991–1995 гг. данный термин вообще не применялся.
Таким образом, Сербия и Хорватия (как и часть других западнобалканских стран) внесли свой вклад в тенденцию поиска «потерянных геноцидов», означающую политически мотивированное формирование нарратива жертвы геноцида[16]. Этот нарратив выступает ресурсом укрепления политического влияния сил, продвигающих его внутри соответствующей политии, а также важным инструментом представления политии на международной арене. Нет сомнений, что немалая часть трагических событий в истории бывшей Югославии и на постюгославском пространстве действительно имеют достаточно оснований для рассмотрения на предмет соответствия международно-правовым определениям геноцида.
В Хорватии, в том числе во многих учебниках истории, доминировал нарратив об исключительно оборонительном характере войн, которые пришлось вести хорватам. В Сербии настаивали на собственной виктимности, но при этом продвигался тезис, что именно трагический опыт побуждал сербов в ряде случаев вести военные действия также и в превентивном порядке[17].
В сербской памяти о военных действиях первой половины 1990-х гг. именно ликвидация непризнанной международным сообществом Республики Сербская Краина и вынужденное бегство с её территории десятков тысяч сербов занимают центральное положение, причём эти события нередко рассматриваются как завершение современным хорватским государством антисербской программы режима усташей.
В Хорватии по мере того, как военные события 1991–1995 гг. из сферы актуальной политики переходили в область исторической памяти, мнемоническая связь между этими событиями и трагедиями периода Второй мировой войны претерпевала определённую трансформацию. Для радикальных хорватских националистов успешное окончание «отечественной войны» виделось как завершение исторической миссии усташей. Для правящих кругов Хорватского демократического содружества предпочтительной была иная расстановка акцентов: восстановление контроля над всей территорией Хорватии трактовалось как успешное воплощение многовековой мечты о независимой государственности; в отношении НГХ, скорее, акцентировалось противопоставление: государство усташей потерпело крах, используя недопустимые методы и покровительство неприемлемых внешних партнёров. Напротив, Туджман и его режим добились успеха, выбрав правильные методы и заручившись поддержкой сообщества западных демократий. Злоупотребления и военные преступления, совершённые хорватами в Сербской Краине и в ходе боснийской войны, если и признавались, то рассматривались как ограниченные эксцессы; при этом подчёркивалась готовность Загреба сотрудничать с Международным трибуналом по бывшей Югославии.
Коммеморация событий 1991–1995 гг. вплоть до настоящего времени занимает важное место в символических практиках как официальных властей, так и политических и общественных групп Хорватии. Мотивы прославления героев и торжества исторической победы длительное время абсолютно доминировали, тогда как историческое примирение с побеждёнными (прежде всего, с сербами, решившими остаться в Хорватии после ликвидации Сербской Краины) оказывалось маргинальным мотивом. Акцент на хорватской виктимности и осуждении жестокости врага отчётливо проявляется в ежегодных мероприятиях, связанных с памятью об осаде и падении Вуковара (18 ноября 1991 г.). Напротив, 5 августа – годовщина взятия г. Книн и успешного завершения «отечественной войны» в 1995 г. – это манифестация военного и политического триумфа хорватской нации. В качестве места памяти Книн почти идеально для хорватского националистического нарратива сочетает память об уходящей вглубь веков государственной традиции, современной попытке враждебной силы (сербов) бросить вызов территориальной целостности Хорватии, а также о решительном подавлении сепаратизма[18]. Дизайн празднования 5 августа в качестве Дня победы изначально был ориентирован на этническую мобилизацию хорватов и антагонизацию сербского меньшинства.
Реакция в Сербии на коммеморативные мероприятия в Вуковаре и Книне показывает, насколько сложно преодолеть дилемму мнемонической безопасности даже после того, как политические предпосылки её воспроизводства в основном устранены. Сербские лидеры, участвующие в ежегодных поминальных мероприятиях по жертвам операции «Буря», характеризуют действия хорватской стороны как организованное преступление и спланированное убийство.
Именно историческая память, актуальные версии политики памяти и символической политики в Сербии и Хорватии являются основной преградой для полной нормализации отношений двух стран.
Сохраняющиеся противоречия, связанные с принадлежностью двух дунайских островов, скорее, лишь резонируют с напряжённостью, которую регулярно провоцирует воинственная риторика по поводу коммемораций. Проблема не только в сохраняющемся доминировании этнонационализма в политическом ландшафте, но и в наличии особых групп и мнемонических акторов, имеющих электоральный вес. К их числу относятся беженцы и их потомки (особенно в Сербии), ветераны войн 1990-х гг., жители охваченных войной регионов, понёсшие значительный материальный ущерб. Вопросы исторической памяти и ответственности тесно переплетены с взаимными претензиями по возмещению материального и морального ущерба. Представители политических элит, даже предпринимая усилия по деконфликтизации, вынуждены демонстрировать лояльность соответствующим нарративам, в частности, во время коммеморативных церемоний. С течением времени пространство политического манёвра расширяется, но в целом дилемма мнемонической безопасности, раз возникнув, способна сохраняться и воспроизводиться длительное время даже при наличии политики примирения.
Украина как поле мнемонических баталий
Рассмотрение сербо-хорватской мнемонической конфронтации, представленное в предыдущем разделе, позволяет более контрастно выделить несколько узловых элементов негативной динамики украинско-российских отношений, связанных с нарративами о прошлом и политикой памяти. Попытки провести аналогию между отношениями сербов и хорватов и русских и украинцев можно считать плодотворными по крайней мере до тех пор, пока стремление выявить сходство не превращается в самоцель. Фактическое доминирование Сербии в составе социалистической Югославии и РСФСР в составе Советского Союза – первое явное основание для такого упражнения. Однако масштабы несопоставимы. Хорватия в составе СФРЮ (особенно в тандеме со Словенией) вполне успешно оспаривала сербский перевес над остальными республиками, который по основным параметрам экономики и демографии не был многократным, как в случае РСФСР в составе СССР.
Ещё более существенно, что сербы и хорваты формировались как нации отдельно друг от друга, а их позднее включение в состав одного государства в 1918 г. почти сразу привело к противостоянию. У русских и большей части украинцев формирование национального самосознания проходило в одном государстве, мысль о том, что это два разных процесса, а не часть одного, большой популярностью долго не пользовалась. Сама эта идея, сформулированная в документах тайного Кирилло-Мефодиевского братства (1847–1848), воспринималась имперскими властями как дестабилизирующая. В массовом обиходе даже после выпуска нескольких изданий «Кобзаря» Тараса Шевченко и публикации исторических трудов Николая Костомарова была подхвачена сравнительно немногочисленным слоем энтузиастов украинской идеи из представителей различных сословий, но при полной апатии самой массовой социальной группы – крестьянства. Ситуация начала меняться в конце XIX века во многом благодаря внешнему влиянию, когда власти Австро-Венгрии, исходя из логики противостояния альянсов великих европейских держав, начали явным образом поддерживать на территории Галиции формирование украинского (и одновременно антирусского) националистического нарратива. Экспорт этого нарратива в пределы Российской империи способствовал тому, что во время революционного кризиса 1905–1907 гг. украинский национализм превратился из маргинального течения в достаточно влиятельную политическую силу, а его представители в составе Первой и Второй Государственных дум образовали внефракционное объединение – Украинскую громаду. В то же время мощной силой на подконтрольных Российской империи территориях Украины оставался русский национализм, одну из наиболее активных когорт которого составляли малороссы[19].
События Первой мировой войны и революционные потрясения 1917 г. привели к временной утрате контроля центральной российской власти над Украиной и серии экспериментов с несколькими версиями украинской государственности, проводимых в основном под внешним патронатом. В итоге, однако, выяснилось, что для эффективного контроля украинских территорий фактор этничности не является решающим. Тем не менее большевики, добившиеся контроля над большей частью Украины к концу 1920 г., предпочли не ограничиваться апелляцией к ценностям пролетарского интернационализма. Действуя методом проб и ошибок, они выработали работоспособную модель управления территориями, позволяющую нейтрализовать угрозы, связанные с мобилизацией по этнонациональному признаку. Модель основывалась на компромиссе, включавшем формирование государственности и форсированное нациестроительство под руководством коммунистической партии в пределах одной из национально-территориальных единиц, объединённых 30 декабря 1922 г. в Союз Советских Социалистических Республик. Политика «коренизации» предполагала широкомасштабное рекрутирование в состав правящей корпорации представителей «титульных» этнических групп. Она базировалась на различении двух типов национализма – национализма угнетающих наций (в эту категорию попадал и «великорусский шовинизм») и национализма угнетённых народов. Коренизация предполагала реализацию принципа позитивной дискриминации применительно к этническим меньшинствам. Коммунистический режим, создавая «империю положительной деятельности»[20], обеспечил под эгидой СССР институционализацию множества форм новых национальных идентичностей[21]. Однако у формировавшихся внутри Советского Союза наций не было другого выбора, как смириться со сверхцентрализованным характером государственного устройства, стержнем которого выступала партийно-советская номенклатура.
Тем не менее положение Украины и местной номенклатуры было благоприятным, поскольку в негласной статусной иерархии советских народов украинцы занимали бесспорное второе место, а Украинская ССР входила в число четырёх республик – соосновательниц Советского Союза. Этот статус подрывал исходившую преимущественно из эмигрантской среды риторику об угнетении украинцев в СССР по этническому признаку. Даже внутриукраинский раскол, связанный с действиями националистов во главе со Степаном Бандерой во время Второй мировой войны и первые годы после её окончания, в основном охватывал западные регионы, инкорпорированные в состав СССР в сентябре 1939 года.
При этом украинцы с полным основанием разделяли с другими народами Советского Союза славу победителей германского нацизма, на фоне чего бандеровское движение было стигматизировано как коллаборационистское и предательское.
В послевоенное время украинская номенклатура использовала преимущества того, что выходцы из её среды занимали высшие партийно-государственные посты на протяжении более трети всего периода существования СССР. Во время горбачёвской перестройки она демонстрировала виртуозную изворотливость, используя подъём националистических настроений (относительно умеренный по сравнению с балтийскими республиками и Закавказьем) в торге с союзным центром за больший объём собственных полномочий. В известном смысле траектория движения Украины (и большинства других советских республик) к независимости была парадоксальной: если партийно-советская номенклатура потерпела на союзном уровне катастрофическое поражение, то республиканские элиты – самостоятельно или в связке с национально-демократическими движениями – своего шанса не упустили, сделав сначала ставку на расширение республиканской самостоятельности в рамках попыток реформирования Союза ССР, а затем, после провала переворота 19–21 августа 1991 г., на достижение государственной независимости. Такая оппортунистическая тактика республиканских лидеров означала, что в условиях распада Советского Союза они пытаются, помимо собственного выживания, минимизировать ущерб для республики и извлечь из геополитической катастрофы максимальные блага, первое место среди которых занимает государственная независимость и её международное признание.
Ирония внезапно обретённой независимости Украины состояла в том, что она не была достигнута ценой упорной и бескомпромиссной борьбы с Москвой, но оказалась побочным следствием внутримосковской схватки за власть, когда одна из соперничающих сторон во главе с Борисом Ельциным предпочла для достижения своих целей использовать украинский референдум о независимости 1 декабря 1991 г. в качестве возможности упразднить своих оппонентов в структурах власти Союза ССР.
Россия, безусловно, становилась в новых исторических условиях значимым «другим» для независимой Украины, в отношении которого, однако, не выстраивался нарратив извечной конфронтации. При этом едва ли не в большей мере на роль исторического антагониста Украины могла претендовать и Польша.
Что касается этнического измерения, то получалось, что русские и украинцы вовсе не распределяли между собой роли палача и жертвы, но выступали соучастниками в деле строительства, а в дальнейшем – демонтажа как Российской империи, так и СССР. Признание этого обстоятельства и его использование для выстраивания взаимовыгодных и неконфронтационных отношений с Россией было исключительно ценным шансом для украинских элит. Это явно осознавал второй президент Украины Леонид Кучма, в конце своего президентства опубликовавший в Москве на русском языке книгу «Украина – не Россия»[22].
Данный шаг Кучмы представлял собой попытку цивилизованного выяснения отношений с российской аудиторией, у которой быстро накапливалось негативное восприятие опыта отношений с постсоветской Украиной. Крайне болезненное урегулирование статуса российского Черноморского флота, споры о суверенитете Крыма в составе Украины, нерешённые территориальные проблемы (в год выхода книги Кучмы дело едва не дошло до вооружённого противостояния в районе косы Тузла в Керченском проливе), а также риторика ряда депутатов Государственной думы РФ и некоторых руководителей российских регионов способствовали формированию образа Украины как государства, ориентированного на создание России максимального количества проблем даже вопреки собственным интересам. Книга Кучмы могла рассматриваться и как акт нациестроительства, адресованный русскоязычному населению Украины. По сути, это была апология независимости перед теми, кто спустя более чем десять лет после её обретения не считал само собой разумеющимся разделение между Россией и Украиной.
Дальновидный ход Кучмы оказался перечёркнут «оранжевой революцией», отдавшей власть в Киеве той части политической элиты, неотъемлемым аспектом программы которой было конструирование украинской идентичности на основе антироссийского нарратива. Не рассматривая в деталях политику памяти периода президентства Виктора Ющенко[23], отметим главные её «достижения» – виктимизацию этнических украинцев через придание государственного статуса трактовке голодомора как направленного именно против них геноцида, небезуспешные попытки добиться признания этой трактовки на международном уровне (прежде всего, парламентами ряда стран Запада; на уровне международных организаций эти усилия блокировались Россией), настойчивые действия по героизации Бандеры и его соратников, создание государственной инфраструктуры политики памяти, целенаправленно формирующей представления о многовековом российско-украинском противостоянии. В отличие от весьма напряжённой дискуссии по вопросам исторического прошлого в публичной сфере Украины и России в 1990-е – начале 2000-х гг., эти усилия были вписаны в контекст изменений во внешней политике Киева, официально провозгласившего курс на вступление в Европейский союз и НАТО, подчёркнутого геостратегического и социокультурного дистанцирования от России. Триггером дилеммы мнемонической безопасности стало то, что историческая политика Киева начала рассматриваться Кремлём как непосредственное обоснование неприемлемого ущерба для российских геополитических и экономических интересов, а также подрыва авторитета России как наследницы Советского Союза. Прямая увязка определённой трактовки истории российско-украинских отношений и геополитической конкуренции на постсоветском пространстве между Россией и Западом была представлена в выступлении Владимира Путина на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 г.: «Украина, вообще, сложное очень государство. Украина в том виде, в котором она сегодня существует, она была создана в советское время; она получила территории от Польши – после Второй мировой войны, от Чехословакии, от Румынии – и сейчас ещё не все решены приграничные проблемы на Чёрном море с Румынией. Значит, от России огромные территории получила на востоке и на юге страны. Это сложное государственное образование. И если ещё внести туда натовскую проблематику, другие проблемы, это вообще может поставить на грань существование самой государственности»[24].
Очевидно также, что общий разворот российского руководства к исторической проблематике был обусловлен и осознанием опасности экспорта идеологии и практики цветных революций для внутренней стабильности и устойчивости режима.
Смена власти на Украине после президентских выборов 2010 г. лишь отчасти разрядила напряжение в российско-украинском мнемоническом противостоянии. При Викторе Януковиче упор был сделан на советское историко-символическое наследие, прежде всего на общую с Россией память о Победе в Великой отечественной войне. Янукович отказался от трактовки голодомора как геноцида украинцев; при нём в судебном порядке были отменены решения о присвоении звания героев Украины Степану Бандере и Роману Шухевичу. Вместе с тем оппозиционные силы осуществляли эскалацию антироссийской риторики по вопросам исторической памяти, заодно обвиняя Януковича и «Партию регионов» в предательстве национальных интересов. Пространство для компромисса между Россией и прозападной оппозицией сокращалось как шагреневая кожа.
Уже в начале второго «майдана» Россия предстала в глазах протестующих как главная опора режима Януковича и непримиримый исторический противник «европейского выбора» Украины. Уровень отчуждения был настолько высоким, что, в отличие от начального периода правления Виктора Ющенко, не предпринималось сколь-нибудь серьёзной попытки наладить каналы коммуникации между лидерами «революции достоинства» и Москвой. Действия российского руководства в отношении Крыма, а затем Донбасса свидетельствовали о его полном неверии в возможность конструктивного взаимодействия с этой частью украинского «политикума». В то же время выступления президента России в 2014–2022 гг. отчётливо демонстрировали, что угрозы безопасности России, связанные с победой второго «майдана», воспринимаются не только как неприемлемое изменение стратегического баланса сил в регионе, но и как решающая попытка разрушить картину мира, основанную на представлениях о единстве исторического пути русских и украинцев.
Революционная власть в Киеве, в свою очередь, приложила максимум усилий для возврата в режим российско-украинской войны памяти. Вслед за «ленинопадом» — мощной волной физического уничтожения монументально-символического наследия советской эпохи, а также массовым изменением советских топонимов, была принята серия законов о языке и исторической памяти, резко сузивших пространство использования русского языка и минимизировавших возможности продвижения альтернативных («пророссийских») трактовок прошлого. Под сильнейшим информационно-психологическим, а затем и административным прессингом оказались русские и русскоязычные жители Востока и Юга Украины, идентичность большинства которых оставалась наиболее близкой доминирующей идентичности русских и других восточных славян в самой России.
Пожалуй, именно форсированные усилия киевских властей по перекодировке идентичности этой группы населения Украины в интервале между 2014 г. и 2022 г. можно считать одним из наиболее важных факторов, побудивших Москву начать специальную военную операцию.
Русские и русскоязычные граждане Украины в повседневном режиме сталкиваются с тем, что русский язык и культура объявляются «орудиями агрессии», нацеленными на подрыв украинского национального проекта. В то же время на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса за эти годы утвердилась особая макрополитическая идентичность, возрождающая основные установки интернационализма и антагонистичная в отношении украинского мастер-нарратива[25]. Как прозорливо заметил в 2019 г. украинский историк Георгий Касьянов, «российско-украинские споры об истории, переведённые в политическую плоскость, ещё раз демонстрируют конфликтогенный потенциал исторической политики: война по поводу прошлого может стать идеологическим обеспечением реальной войны»[26].
Заключение
Анализ двух рассмотренных примеров позволяет сделать выводы относительно рисков секьюритизации исторической памяти и – в особенности – дилемм мнемонической безопасности.
Во-первых, стремление к секьюритизации определённого набора исторических нарративов в условиях, когда эти нарративы ещё не прошли необходимой селекции в условиях широкой и продолжительной публичной дискуссии (а во многих посткоммунистических государствах дела обстоят именно таким образом) ведёт к тому, что отбор осуществляется теми мнемоническими акторами, которые имеют очевидное преимущество в ресурсах. Используя это преимущество, они добиваются признания определённых трактовок прошлого принципиально важных для поддержания биографического нарратива государства и нуждающихся в защите от любых попыток их оспорить. Мнение и интересы других мнемонических акторов могут при этом быть проигнорированы, что уже закладывает основу для обострения в будущем конфликтов исторической памяти.
Во-вторых, высока вероятность того, что «неприкосновенность» секьюритизированных нарративов будет обеспечиваться в том числе и мерами государственного принуждения, законодательными актами, предусматривающими репрессии в отношении критиков соответствующих нарративов, цензурными ограничениями.
В-третьих, устойчиво закрепившись в домене государственных интересов (raison d’État), набор секьюритизированных исторических нарративов может стать предметом межгосударственных противоречий и поводом для ведения разного рода гибридных информационных войн.
Эскалация мнемонических конфликтов на межгосударственном уровне редко ограничивается одним лишь ужесточением полемики и снижающейся способностью воспринимать аргументы оппонирующей стороны. Секьюритизация памяти зачастую переходит в разработку серии ограничительных и запретительных мер, касающихся, в частности, использования «нежелательной» символики, фактического и даже юридического цензурирования печатных и электронных изданий, предоставляющих доступ к «враждебному» нарративу. В этом же контексте можно рассматривать и создание в Польше и на Украине институтов национальной памяти, выступающих в роли «мнемонических воинов»[27], имеющих статус государственных органов и способных благодаря этому привлекать существенные ресурсы. В России аналогичную роль играют формально негосударственные Российское историческое общество и Российское военно-историческое общество.
Сама дилемма мнемонической безопасности может быть представлена следующим образом: если в рамках межгосударственных взаимодействий проблематика исторической памяти используется одной стороной как инструмент или даже политическое оружие, то высока вероятность, что и другая сторона постарается заполучить в свой арсенал такой же инструмент или оружие. Эта особенность в полной мере проявилась в рамках рассмотренных кейсов, поскольку нарастающая конфликтность двусторонних отношений побуждала каждую из сторон не просто идти по пути секьюритизации определённых исторических нарративов, но делать это таким образом, что контрагент начинал ощущать угрозу тем нарративам, которые представлялись ему принципиально важными для существования собственного Я. На новом витке противостояния сербов и хорватов в начале 1990-х гг. такая угроза вступила в резонанс с угрозами их физической безопасности; в случае России и Украины дилемма мнемонической безопасности ускорила принятие решений, создавших угрозу физической безопасности сотен тысяч русских и украинцев.
Наибольшая опасность «войн памяти» видится в том, что их легко развязать, но очень сложно завершить.
При этом антагонистический характер дискуссий о прошлом зачастую становится самоподдерживающимся. Конфликты, уже остывшие на полях былых сражений, сохраняются в памяти и идентичности нескольких поколений. В конечном сче?те преодолеваются и они, но намного позже и более высокой ценой. Вполне позитивным примером выхода из конфликта с использованием согласованной сторонами стратегии преодоления дилеммы мнемонической безопасности может служить франко-германское историческое примирение. К сожалению, в двух рассмотренных нами случаях для достижения подобного результата предстоит пройти еще? очень долгий путь.
СНОСКИ
[1] Buzan B., Waever O., de Wilde J. Security: A New Framework for Analysis. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1998. 239 p.
[2] McSweeney B. Identity and Security: Buzan and the Copenhagen School // Review of International Studies. 1996. Vol. 22. No. 1. P. 81–94.
[3] Mälksoo M. “Memory Must Be Defended”: Beyond the Politics of Mnemonical Security // Security Dialogue. 2015. Vol. 46. No. 3. P. 221–237.
[4] Buzan B., Waever O., de Wilde J. Op. cit. P. 27.
[5] Browning C.S., Joenniemi P. Ontological Security, Self-Articulation and the Securitization of Identity // Cooperation and Conflict. 2016. Vol. 52. No. 1. P. 31–47.
[6] Jervis R. Cooperation Under the Security Dilemma // World Politics. 1978. Vol. 30. No. 2. P. 167–214.
[7] Herz J. International Politics in the Atomic Age. New York: Columbia University Press, 1961. P. 241.
[8] Renan E. What is a Nation? and Other Political Writings. New York: Columbia University Press, 2018. 377 p.
[9] Jervis R. Perception and Misperception in International Politics. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1976. P. 75.
[10] Mann M. The Dark Side of Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. P. 354.
[11] Sindbæk T. Usable History? Representations of Yugoslavia’s Difficult Past – from 1945 to 2002. Aarhus: Aarhus University Press, 2012. P. 192.
[12] Brubaker R. Nationalizing States in the Old ‘New Europe’ – and the New // Ethnic and Racial Studies. 1996. Vol. 19. No. 2. P. 411-437.
[13] Oberschall A. The Manipulation of Ethnicity: From Ethnic Cooperation to Violence and War in Yugoslavia // Ethnic and Racial Studies. 2000. Vol. 23. No. 6. P. 982-1001.
[14] Ramet S.P. Croatia and Serbia since 1991: An Assessment of Their Similarities and Differences // Journal of Communist Studies and Transition Politics. 2011. Vol. 27. No. 2. P. 263-290.
[15] Perica V. Balkan Idols: Religion and Nationalism in Yugoslav States. Oxford: Oxford University Press, 2002. 332 p.
[16] Finkel E. In Search of Lost Genocide: Historical Policy and International Politics in Post-1989 Eastern Europe // Global Society. 2010. Vol. 24. No. 1. P. 51-70.
[17] Subotic J. Remembrance, Public Narratives, and Obstacles to Justice in the Western Balkans // Studies in Social Justice. 2013. Vol. 7. No. 2. P. 265-283.
[18] Pavlaković V. From Conflict to Commemoration: Serb-Croat Relations and the Anniversaries of Operation Storm. In: D. Gavrilović (Ed.), Serbo-Croat Relations: Political Cooperation and National Minorities. Sremska Kamenica: CHDR, 2009. P. 73-82.
[19] Миллер А. Неуловимый малоросс: историческая справка // Россия в глобальной политике. 10.04.2018. URL: https://globalaffairs.ru/articles/neulovimyj-maloross-istoricheskaya-spravka/ (дата обращения: 31.07.2022).
[20] Martin T. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923-1939. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 2001. 528 p.
[21] Slezkine Y. The USSR as a Communal Apartment, or How a Socialist State Promoted Ethnic Particularism // Slavic Review. 1994. Vol. 53. No. 2. P. 414-452.
[22] Кучма Л. Украина – не Россия. М.: Время, 2003. 560 с.
[23] См.: Voronovich A., Yefremenko D. Politics of Memory, Kiev Style // Russia in Global Affairs. 27.12.2017. URL: https://eng.globalaffairs.ru/articles/politics-of-memory-kiev-style/ (дата обращения: 31.07.2022).
[24] Text of Putin’s Speech at NATO Summit // UNIAN. 18.04.2008. URL: https://www.unian.info/world/111033-text-of-putin-s-speech-at-nato-summit-bucharest-april-2-2008.html (дата обращения: 21.08.2022).
[25] Voronovici A. Internationalist Separatism and the Political Use of “Historical Statehood” in the Unrecognized Republics of Transnistria and Donbass // Problems of Post-Communism. 2020. Vol. 67. No. 3. P. 288–302.
[26] Касьянов Г. Украина и соседи: историческая политика. 1987-2018. М.: Новое литературное обозрение, 2019. С. 244.
[27] Kubik J., Bernhard M. (Eds.) Twenty Years After Communism: The Politics of Memory and Commemoration. Oxford: Oxford University Press, 2014. 384 p.

Инверсия стратегии в США. Заметки на полях
Неточное распределение ответственности между политикой и стратегией представляет серьёзную опасность
АЛЕКСЕЙ КРИВОПАЛОВ
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Кривопалов А.А. Инверсия стратегии в США. Заметки на полях // Россия в глобальной политике. Т. 20. № 6. С. 98-111.
Публикация в 2020 г. американского сборника «О стратегии» (“On Strategy”)[1] кажется автору достойным поводом обратиться к теме политики и стратегии. Два этих базовых уровня неизменно присутствуют в динамике любого вооружённого конфликта.
Цели данной статьи выходят за рамки стандартной рецензии. На первый взгляд проблема эффективного сопряжения внешней политики и стратегии может показаться беспочвенной, надуманной и совершенно оторванной от жизненных реалий. Однако, по мнению автора, такое впечатление обманчиво. Даже для американской сверхдержавы неточное распределение ответственности между политикой и стратегией, постоянная подмена их функций в перспективе представляет серьёзную опасность. Взгляд со стороны позволяет лучше рассмотреть те предпосылки, из которых в США складывается проблема взаимного отчуждения политического и стратегического горизонта военных усилий.
* * *
В 2020 г., когда до трагедии кабульской эвакуации оставалось ещё около года, в США увидел свет научный сборник “On Strategy”. Книга сопровождалась подзаголовком “Primer”, то есть «Учебник». Главным редактором этого коллективного труда выступил Натан Финни – представитель современной плеяды американских штабных офицеров, совместивших профессиональную военную подготовку с фундаментальным университетским образованием[2]. Автором предисловия стал крупный британский военный историк, профессор Колин Грэй (1943–2020), в жизни которого данный издательский проект, к сожалению, оказался последним.
Книга актуализирует застарелый американский спор о методе оптимального сопряжения стратегии и политики, вновь разгоревшийся в преддверии бесславного завершения интервенций в Ираке и Афганистане. В прошлом следы подобной дискуссии можно было встретить на страницах аналитической продукции, ориентированной в первую очередь на практическое применение, например, в отчётных материалах корпорации РЭНД, которая в американской системе стратегического консалтинга обслуживает в первую очередь интересы военно-воздушных сил[3]. Характерной же особенностью сборника “On Strategy” является то, что он выполнен в форме учебного пособия, а потому претендует на более высокий концептуальный уровень. Авторами движет не просто поиск ответов на злободневные вопросы, но стремление облечь их в форму систематизированных и кодифицированных выводов.
Привлекательность лейбла «стратегии» порождает соблазн наклеивать его на всё подряд, а потому её предмет нередко оказывается в плену идеологической и политической конъюнктуры. Вместе с тем всякий раз, когда некая идея подвергается некорректному заимствованию и находит себе применение в области, далёкой от первоначальной, она, естественно, рискует утратить значительную часть исходного смысла. Поэтому во введении Грэй саркастически отметил, что на страницах данной книги авторы не станут рассказывать о стратегии выращивания картофеля.
Хотя неприятности, пережитые США при уходе из Кабула, очевидно, не станут для них государственной катастрофой, громкий провал навязчивой идеи переустройства исламского мира невольно обостряет в американских экспертных кругах то, что выдающийся голландский мыслитель Франклин Анкерсмит однажды назвал «проницательностью побеждённых»[4].
Уроки 2001–2014 годов. Работа над ошибками
Как было отмечено выше, отдельные неувязки на стыке американской политики и стратегии, а также дефицит их межведомственной координации, отмечались уже в 2014 г. на страницах отчётного доклада, подготовленного сотрудниками корпорации РЭНД. В середине 2010-х гг. стремительный ход событий в Ираке и Афганистане порождал круговорот сиюминутных проблем, требовавших незамедлительного решения. Давление обстоятельств военного времени препятствовало углублённой рефлексии. Однако и в опыте военных конфликтов начала XXI столетия специалисты РЭНД смогли обнаружить весьма тревожные тенденции. К числу наиболее острых болевых точек они отнесли:
Недооценку значения стратегического уровня конфликтной динамики;
Ошибки на этапе формулирования стратегических задач;
Рассинхронизацию политики и стратегии;
Переоценку возможностей военных технологий;
Неспособность США перейти от военной победы на поле боя к последующей стабилизации Ирака и Афганистана;
Недостаточный акцент на невоенных подходах к урегулированию;
Неадекватные механизмы межведомственного взаимодействия и слабую координацию усилий союзников.
Как следует из шестого пункта, доклад 2014 г. не был свободен от обязательных в таких случаях ритуальных формул. Ставить американскому военно-политическому руководству в укор недостаточно активное сотрудничество с гражданскими структурами[5] – всё равно что писать о невоенных путях решения преимущественно военных проблем. И то, и другое возможно исключительно под давлением соответствующей идеологии и культурно-этической моды. Даже самые совершенные социальные технологии работы с населением в зоне конфликта низкой интенсивности не смогут компенсировать нехватку полевых войск, если они там остро необходимы.
По сравнению с докладом корпорации РЭНД авторы сборника 2020 г. пошли значительно дальше. Наряду с претензией на дидактическую и концептуальную цельность они старались намекнуть на некий скрытый и зашифрованный в ней подтекст. Например, выполненный Дэйлом Кордесом рисунок обложки содержит весьма замысловатую аллегорию: на вершине утёса, повернувшись спинами к читателю, плечом к плечу стоят три человека в военной форме. Перед их взором, отражаясь в закатном небе, лежит оперативная схема высадки в Нормандии по состоянию примерно на 12 июня 1944 года. Конечно, развитие воображения и художественного вкуса вряд ли повредит будущему офицеру генерального штаба. В то же время напускной туман здесь вреден, поскольку предмет стратегии требует ясного и чёткого изложения основных идей. До тех пор, пока сегодняшние слушатели командно-штабного колледжа форта Ливенворт не сменят своих учителей на вершинах иерархии американской армии, мы не узнаем, насколько «учебник» пошёл им впрок.
США и стратегический ярус военной динамики
Неудачи 2001–2020 гг. вновь поставили перед американской армией вопросы, созвучные дискуссиям эпохи Вьетнамской войны. Почему военно-техническое и тактическое превосходство не всегда перетекает в устойчивое стратегическое преимущество и, следовательно, не достигает внешнеполитической цели. Почему колоссальная экономическая, военная и научно-техническая мощь Америки не даёт решения и не всегда приводит к победному исходу. Кто в первую очередь виноват в этом: инертная армия, по традиции готовая к прошлой войне, или некомпетентная политика, ставящая перед вооружёнными силами цели, заведомо недостижимые боевыми средствами.
В создании сборника “On Strategy” приняли участие более двадцати авторов, в основном англо-американцы. Книга открывается главами об истории и теории стратегии, затем следует раздел борьбы за господство в воздухе и на море. Далее идут главы о «трудностях перевода» стратегических императивов на язык практической военной доктрины, анализируются требования, предъявляемые современному офицеру генерального штаба, и обсуждается сущность геополитики. Сборник завершается размышлениями о вероятных формах будущих конфликтов и рассмотрением таких феноменов, как «малые войны», ядерное сдерживание, действия в составе коалиции и военно-гражданские отношения.
Любая теория, как известно, служит для того, чтобы не начинать всякий раз анализ конкретного эмпирического опыта с чистого листа.
В центре внимания стратегии лежит не столько сама война, сколько последствия военной угрозы.
Грэй сравнил определение стратегии с расшифровкой сложных абстрактных понятий (любовь или счастье). Авторы “On Strategy” испытывали сильное влияние британского профессора, известного циклом теоретических работ на данную тему. Историю стратегии Грэй описал как хронику применения силы. Стратегия в его представлении – это мост, связывающий военную мощь с политической целью[6]. Соответственно, на страницах “On Strategy” нам предлагается близкое по духу определение: «угроза силой или её применение в политических целях»[7].
«Стратегическое» не синоним «военного»! Простая совокупность тактических действий сама по себе не является стратегией, как не является стратегией, допустим, набор планов тех или иных боевых операций. Например, техническая способность авиации точно поражать цели – это не более чем цена подъёма на стратегический ярус конфликтной динамики. При этом даже успешные тактические действия могут иметь негативные стратегические последствия.
Применение силы в конечном счёте направлено на достижение политического результата.
Стратегия фактически переводит обозначенную политическую цель на язык боевых операций.
В идеале, взаимодействуя с политикой, она призвана гармонизировать четыре базовых элемента: цели, способы, средства и риски.
В США отношения гражданского и военного руководства, по мнению американского политолога Элиота Коэна, характеризуются формулой «неравного диалога», и в этом смысле далеки от пения в унисон. Хотя ключевые политические институты в стране продолжают успешно функционировать, политика не всегда способна обеспечить стратегию ясным целеполаганием.
Политика и стратегия не эквивалентны! Близорукая политика, подкреплённая сколь угодно точным определением целей, путей и средств, всё равно будет ущербна. Хотя стратегия детерминируется политикой, хорошая стратегия, согласующаяся с политическими целями, обязана предложить гражданским лидерам исчерпывающую информацию о цене их возможных ошибок.
Часто перед стратегией встаёт необходимость твёрдо руководить нижестоящими уровнями конфликтной динамики, то есть оперативным и тактическим ярусом, при отсутствии конкретных политических вводных. В этом случае стратегии приходится полагаться на собственную интерпретацию исходных политических условий, хотя эта интерпретация нередко может быть предвзятой.
Кроме того, рассуждая о стратегии, необходимо учесть два её базовых метода, а именно измор и сокрушение. Война складывается из непрерывного взаимодействия между различными ярусами принятия решений. Соотношение тактики, оперативного искусства, стратегии и политики проще всего себе представить в виде концентрических кругов. Связь между внешней политикой и стратегией сохраняет иерархическую природу подобно тому, как на войне тактика подчиняется соображениям оперативного порядка. Измор и сокрушение воплощают базовые алгоритмы работы связующих линий стратегии и политики. Внимательно изучая их, можно диагностировать признаки сбоя в прохождении нервных импульсов между важнейшими ярусами военных усилий. Впервые они были сформулированы и критически сопоставлены выдающимся германским учёным Гансом Дельбрюком в начале XX века на страницах его многотомного труда «История военного искусства в рамках политической истории». Данная классификация была частным случаем той, что предложил Карл фон Клаузевиц, выделявший войны с решительными и с ограниченными целями. Однако в рамках американских представлений классическая дихотомия измора и сокрушения распадаются на три компонента: уничтожение, истощение и усталость (annihilation, attrition и exhaustion).
Хотя стратегия и тактика на первый взгляд обманчиво близки, их основополагающая внутренняя логика принципиально различается. Конечные цели стратегии и тактики лежат на расходящихся направлениях.
Вместо стремления тактики к кульминации, то есть к победе в бою, стратегия стремится к благоприятному продолжению событий.
В её горизонте любые достижения на самом деле не являются окончательными. Скорее они оказываются точками перехода к следующей фазе желаемого продолжения событий, в результате которого страна рассчитывает занять более выгодное положение по отношению к соперникам.
Сопряжение взаимоисключающих императивов тактики и стратегии требует своего рода прослойки в виде оперативного искусства, которое задаёт абстракциям стратегии конкретное тактическое направление. В военном искусстве XIX века чётко выделялись два полюса в виде тактики и стратегии. Длившееся неделями и месяцами перемещение войск походным порядком в границах театра боевых действий относилось к области стратегии, генеральное же сражение в качестве кульминации такого марш-манёвра разыгрывалось как одноактный чисто тактический эпизод, продолжавшийся всего лишь от нескольких часов до нескольких дней. Промежуточные формы, по существу, отсутствовали. Для Наполеона и Гельмута фон Мольтке-старшего успешное завершение борьбы на театре военных действий зачастую было лишь производной от успеха первоначального стратегического развёртывания и победы в генеральном сражении.
Впоследствии, по мере материально-технического прогресса и роста численности вовлечённых в борьбу армий, эта стройная бинарная система начала распадаться. На смену походу и венчавшему его одноактному генеральному сражению приходила эпоха боевых операций, в которых множественные и протяжённые во времени боевые усилия охватывали всё пространство театра военных действий. Отныне последовательность боевых эпизодов становилась практически непрерывной, сами же они разворачивались сразу в двух измерениях, распределяясь по фронту и в глубину. Таким образом, на смену бинарной системе, включавшей тактику и стратегию, приходила система триангулярная, где тактика обеспечивала победу в бою, стратегия отвечала за ведение войны, а оперативное искусство направляло к единой цели всю совокупность боевых усилий на театре военных действий.
Однако уже военная мысль XIX века интуитивно нащупывала связующее звено между тактикой, отвечающей за эффективное применение войск на поле боя, и стратегией как искусства использовать армию для победы в войне. Следы этого поиска были заметны в попытках расширительного толкования задач тактики и стратегии на примере истории Наполеоновских войн. К примеру, в зависимости от контекста выдающийся швейцарский теоретик Антуан-Анри Жомини относил к области стратегии либо общую координацию военных, дипломатических, политических и экономических усилий в масштабе конфликта, либо искусство применения войск на театре боевых действий. В первом случае стратегией именовалось то, что сегодня было бы правильно отнести к политике. Во втором случае стратегия, по существу, сливалась с оператикой.
В конечном итоге демаркация тактики, оперативного искусства и стратегии зависели от того, насколько широко трактовались задачи каждого из горизонтов войны. Поборники чётких нормативных определений не всегда учитывали пластичную природу этих границ.
Складывается впечатление, что проблему фрагментации предметного поля стратегии американские эксперты склонны воспринимать в качестве неизбежного зла. Значительная часть американских военных в качестве идеальной модели рассматривает ситуацию, при которой сначала принимаются политические решения, а затем армия выполняет определённые действия для достижения поставленных целей.
Правительство США официально формулирует политико-стратегические задачи сразу в нескольких документах. Совет национальной безопасности утверждает Стратегию национальной безопасности (National Security Strategy, NSS)[8]. Субординационная по отношению к ней Национальная оборонная стратегия (National Defense Strategy, NDS) рождается в недрах министерства обороны. Объединённый комитет начальников штабов, отталкиваясь в свою очередь от установок обеих вышеупомянутых стратегий, разрабатывает положения Национальной военной стратегии (National Military Strategy, NMS).
Обилие документов под грифом «стратегия» мало способствует установлению долгосрочных целей. Как можно предположить, в строгом смысле стратегическому уровню конфликтной динамики в американских реалиях соответствует лишь Национальная военная стратегия, тогда как NSS и NDS лежат в иной плоскости. Поскольку они формулируют ответ на вопрос о национальных целях в интерпретации коллективного разума американской партийно-политической машины, их правильнее отнести к разделу документов внешней и военной политики.
По справедливому замечанию, приведённому на страницах сборника, стратегия зажата в пространстве между умозрительным и происходящим. Чтобы выразить её идеи на бумаге, часто приходится жертвовать концептуальной чистотой и комфортом абстракции. При этом любая военная система легче усваивает оперативно-тактические, нежели политико-стратегические уроки сил[9]. Стратегический документ, чтобы понравиться взыскательной общественности, в идеале должен иметь футуристическую тональность и по возможности редуцировать рассматриваемые проблемы до максимально простых и понятных категорий.
Американская доктрина не предусматривает принципиальных различий между кампанией и крупной операцией. В американской системе председатель Объединённого комитета начальников штабов не имеет командных прав в отношении видов вооружённых сил и группировок на региональных театрах. По этой причине NMS и другие документы Объединённого комитета начальников штабов носят рекомендательный характер. Ещё ниже, на уровне региональных театров боевых действий, командующие предлагают вышестоящим инстанциям свои отдельные частные «стратегии».
Формально Стратегия национальной безопасности служит американцам для преобразования целей национальной политики в национальную стратегию. В то же время США склонны дифференцировать стратегию национальную и стратегию театра военных действий, которая вклинивается в эту иерархию на правах младшего брата. Отчасти это происходит ещё и потому, что в геополитическом смысле омываемая двумя океанами Америка расположена фактически на «острове». Географическая удалённость потенциальных театров боевых действий осложняет любые операции, связанные с проекцией силы. Их трудно уместить в границах оперативного горизонта, поскольку подготовка комбинированных заморских операций требует не оперативного, но стратегического решения.
В континентальных государствах Европы на рубеже XIX–XX веков оперативный горизонт был вызван к жизни комплексом проблем мобилизации, сосредоточения и боевого развёртывания массовых многомиллионных армий. Однако изолированное положение американской сверхдержавы снижает значимость оперативного яруса. Островному «граду на холме» сподручнее разделить стратегию на старший и младший извод, нежели нащупать почву для классической триангулярной системы.
Учебник “On Strategy” не предлагает конкретных рецептов гармонизации политических целей и военных средств. Важным качеством любой армии американцы справедливо считают её способность максимально быстро адаптироваться к стремительно меняющимся условиям конфликтной среды, однако работа над ошибками в основном замыкается в стенах учебных аудиторий и редко выходит за пределы узкоспециальных научных конференций и семинаров. В целом американскому подходу свойственны недостаточно контрастные границы между четырьмя ярусами военной динамики: политикой, стратегией, оперативным искусством и тактикой. При этом важно отличать живое и творческое начало, воплощённое современной американской военной наукой, от пустого многословия официальных ведомственных деклараций. Как можно предположить, принципиальная научная рефлексия и официальное бюрократическое нормотворчество развиваются в США в форме непересекающихся прямых.
Импульс интеллектуального поиска гасится непроницаемой оболочкой американской партийно-политической машины, которая, сохраняя большую инерцию, скользит по спирали электоральных циклов.
Американская стратегия подчинилась институциональному диктату, искусственно расслоилась на несколько уровней и продолжает следовать тем генеральным курсом, который, собственно, и привёл её к системному разладу и нарастающему отчуждению с политикой.
Распад предметного поля стратегии
В современном мире тема институционального сопровождения внешней и военной политики, в сущности, не имеет иного языка описания, кроме западного. В России, к примеру, всевозможные стратегии нередко принимаются в порядке слепого подражания англосаксонским практикам[10]. На Западе доктринальные документы служат в первую очередь для привлечения общественного внимания. Поскольку отечественные «стратегии» создаются с оглядкой на аналогичные западные документы, они вбирают в себя их главный недостаток, а именно – постоянную подмену понятий «политики» и «стратегии». Также они отличаются стремлением к фрагментации проблемного поля стратегии.
В предыдущем разделе отмечалось, что американским документам свойственна нечёткая демаркация стратегического и политического. Там принято рассуждать как бы о множестве «стратегий» сразу. Буквально через запятую могут упоминаться стратегия военная и национальной безопасности, стратегия ядерная и космическая… Вместе с тем стратегия, во-первых, не может быть синонимом политики, ибо связь между ними имеет иерархическую природу, и, во-вторых, один её сегмент не может вобрать в себя, подчинить и поглотить другой. Предмет национальной безопасности, естественно, шире предмета военного строительства, но провозглашать на этом основании узкую или наоборот широкую версию стратегии – значит множить сущности без необходимости. Стратегия, если верховная государственная власть способна внятно формулировать её императивы, всегда будет едина.
Если расшифровать громоздкое американское определение стратегии, его можно свести к достаточно простому тезису. Стратегия понимается как искусство выбора оптимальной точки приложения государственной мощи[11]. Отталкиваясь от тезиса о гомогенности проблемного поля стратегии, приходится признать, что рассуждения о «космических», «наземных», «подводных», «стратосферных» и всяких иных «стратегиях» во множественном числе в реальности лишены оснований. Это не более чем бюрократические фантомы, которые оживают исключительно на страницах официальной ведомственной документации. Эдвард Люттвак, один из ведущих американских историков и военных теоретиков, в своё время сделал на этот счёт важное наблюдение: «Если бы действительно существовало такое явление, как военно-морская, военно-воздушная или ядерная стратегия, в каком-либо смысле отличная от комбинации технического, тактического и оперативного уровней в рамках одной и той же универсальной стратегии, тогда каждая из них обладала бы своей особой логикой или же существовала как отдельный феномен наряду со стратегий театра военных действий, которая в таком случае сводилась бы к сухопутной войне. Первое невозможно, а во втором нет необходимости»[12].
Когда в качестве отдельного понятия американцы выделяют, к примеру, «стратегию театра военных действий» и наравне с ним используют понятие «оперативного уровня войны» – это, пусть и не безоговорочно, можно списать на объективные «трудности перевода». Дело в том, что категории «оператики», «оперативного искусства» и «оперативного уровня войны» распространились в американской армии лишь во второй половине XX столетия. Учение об оперативном уровне войны впервые было внедрено в американскую военную доктрину уставом FM 100-5 от 1982 года[13]. В контексте американских представлений «стратегия театра военных действий» и «оперативный уровень войны», в чём-то повторяя логику Жомини, сохраняют весьма близкую по смыслу трактовку. Однако систематическую подмену понятий политического и стратегического на какие-либо объективные обстоятельства списать невозможно. Стратегия выходит на авансцену тогда, когда иные, мирные и дипломатические средства уже исчерпаны. Переполнять стратегический документ невоенной проблематикой –значит обесценить его в основном, первоочередном и решающем аспекте.
Таким образом, формальные названия большинства подобных бумаг не должны вводить в заблуждение. Концентрированным выражением стратегических императивов они не являются. Стратегия и политика не могут быть синонимами, хотя авторы программных документов не всегда отдают себе в этом отчёт. Путаница в этих простых и одновременно сложных понятиях крайне нежелательна, потому что правильно называть здесь означает – правильно понимать.
* * *
В научных работах американцы старательно подчёркивают важность единства стратегии, но в практической деятельности они расслаивают её до состояния кондитерского «Наполеона». Каким же образом возникает этот на первый взгляд странный парадокс? С моей точки зрения, американская экспертная среда подчиняется здесь неписаным правилам конкуренции суперведомств. Согласно её логике, если документ под модным заголовком «стратегия» имеется у министерства обороны, его просто не может не быть у совета безопасности, объединённого комитета начальников штабов и других аппаратных тяжеловесов. Сборник “On Strategy” проливает свет на то, как именно интеллектуальная элита американской армии приспосабливается к этому внешнему институциональному давлению.
Очевидно, в американской модели имеется серье?зный и потенциально опасный изъян, который сводится к фундаментальной рассинхронизации политики и стратегии. Хотя уче?ные, что легко читается между строк, считают создавшееся положение вещей девиацией, они усматривают в этом неизбежное зло. Сама жизнь учит тому, что стратегия, не готовая предложить привлекательный суррогат практического решения, не будет востребована. И, к сожалению, не только в Америке.
СНОСКИ
[1] Finney N.K. (Ed.) On Strategy: a Primer. Fort Leavenworth: Combat Studies Institute Press, 2020. 276 p.
[2] По программе “US Army’s Advanced Strategic Planning and Policy Program”, действующей в командно-штабном колледже форта Ливенворт, Финни обучался в Duke University, где получил PhD по истории.
[3] Robinson L., Miller P.D., Gordon IV J., Decker J., Schwille M., Cohen R.S. Improving Strategic Competence. Lessons from 13 Years of War. Santa Monica: RAND Corporation, 2014. 170 p.
[4] Анкерсмит Ф. Возвышенный исторический опыт / Пер. с англ. Олейникова А. А., Борисовой И. В., Неклюдовой М. С., Ляминой Е. Э., Сосны Н. Н. М.: Европа, 2007. С. 487.
[5] Robinson L., Miller P.D., Gordon IV J., Decker J., Schwille M., Cohen R.S. Op. cit. P. 25.
[6] Gray C.S. War, Peace and International Relations. An Introduction to Strategic History. London: Routledge, 2007. P. 6, 13, 40, 70.
[7] «The threat or use of force for political purposes…».
[8] На уровне Совета безопасности, помимо Стратегии национальной безопасности, готовится также Директива о национальной безопасности (National Security Presidential Memorandum).
[9] Robinson L., Miller P.D., Gordon IV J., Decker J., Schwille M., Cohen R.S. Op. cit. P. 30.
[10] Меликян Г.Г. Сравнительный анализ военно-стратегических концепций НАТО и ОДКБ: общее и особенное // Общество, политика, экономика, право. Т. 90. 2021. № 1. С. 42-46.
[11] В последней редакции ведомственного словаря предлагается такое определение: “A prudent idea or set of ideas for employing the instruments of national power in a synchronized and integrated fashion to achieve theater, national, and/or multinational objectives”. См.: Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. Washington, DC: The Joint Staff, 2021. P. 203. Это определение полностью заимствовано из соответствующего документа 2006 года. См.: Joint Publication 3-0. Joint Operations. Washington, DC: The Joint Staff, 2006. 250 p. По сути, оно мало отличается от столь же громоздкого определения 2001 г.: “The art and science of developing and employing instruments of national power in a synchronized and integrated fashion to achieve theater, national, and/or multinational objectives”. См.: Joint Publications 1-02. Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms. Washington, DC: The Joint Staff, 2001. P. 417.
[12] Люттвак Э. Стратегия. Логика войны и мира. М.: Издательство Университета Дмитрия Пожарского, 2012. С. 215.
[13] McGrew M.A. Politics and the Operational Level of War. Fort Leavenworth: Combat Studies Institute Press, 2011. P. 1, 5, 13, 15.

«Судьба человечества вновь тесно переплелась с судьбой России»
Как будет выглядеть мировая ситуация на выходе из нынешнего кризиса
ЯХЬЯ ЗУБИР, Cтарший научный сотрудник Ближневосточного совета по глобальным делам (Доха, Катар).
ХАМИД ДАБАШИ, Профессор иранистики и сравнительного литературоведения Колумбийского университета (Нью-Йорк).
АРВИНД ГУПТА, Глава и соучредитель фонда Digital India Foundation.
КИШОР МАХБУБАНИ, Заслуженный научный сотрудник Азиатского исследовательского института при Национальном университете Сингапура.
РАСИГАН МАХАРАДЖ, Генеральный директор Института экономических исследований в области инноваций при Техническом университете Цване (ЮАР).
СЯН ЛАНЬСИНЬ, Приглашённый научный сотрудник Белферского центра Гарвардского университета, заслуженный научный сотрудник Стимсоновского центра (США).
ДАЯН ДЖАЯТИЛЛЕКА, Доктор наук, дипломат (Шри-Ланка).
БРАМА ЧЕЛЛАНИ, Почётный профессор стратегических исследований в Центре политических исследований (Нью-Дели).
МЕХДИ САНАИ, Доцент международных отношений Университета Тегерана.
КАРЛОС ЭНРИКЕ КАРДИМ, Посол по особым поручениям, социолог, профессор Института политологии Университета Бразилиа.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Зубир Я., Дабаши Х., Гупта А., Махбубани К., Махарадж Р., Сян Л., Джаятиллека Д., Челлани Б., Санаи М., Кардим К.Э. «Судьба человечества вновь тесно переплелась с судьбой России» // Россия в глобальной политике. Т. 20. № 6. С. 82-96.
Бурные события на мировой арене ведут к неизбежным изменениям, но каким именно? И можем ли мы понять, как будет выглядеть мировая ситуация на выходе из нынешнего кризиса? Мы спросили об этом у ведущих интеллектуалов из стран, находящихся за пределами западного сообщества.
Яхья Зубир, старший научный сотрудник Ближневосточного совета по глобальным делам (Доха, Катар).
В марте 2022 г. президент США Джозеф Байден заявил: «Сейчас настало время, когда всё меняется. Создаётся новый мировой порядок, и мы должны его возглавить. Мы должны объединить этим весь свободный мир». Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнил Евросоюз с садом, в то время как «остальной мир отнюдь является не садом, а скорее джунглями, и джунгли могут захватить сад». Два заявления предполагают, что однополярному миру, в котором доминируют Соединённые Штаты и Европейский союз, бросили вызов поднимающиеся державы – Китай и Россия, а также глобальный Юг, отвергающий гегемонию Запада. Кроме того, можно предположить, что западные элиты хотели бы объединиться против остального мира.
Пока США и ЕС теряют доминирование, переходная бесполярная система сталкивается с вызовами со стороны развивающихся держав. В этих условиях формируется новый мир, где оспаривается либеральный порядок. Начнётся ли новая холодная война или (при оптимистичном сценарии) возникнет многополярная система, предсказать трудно.
Предпосылкой пессимистического сценария – практически Армагеддона, к которому приведет невообразимая Третья мировая война, – является то, что Запад будет препятствовать любому дипломатическому, мирному разрешению российско-украинского конфликта. Он продолжит тотальную войну с Москвой посредством масштабных поставок вооружений Украине в надежде добиться смены режима в России или распада страны. США и НАТО будут и дальше осуществлять такую политику, избегая прямой конфронтации. Исход конфликта в значительной степени определит тип нового миропорядка.
Однако независимо от результата международная система останется разделённой, а вызовы, брошенные западной гегемонии, не исчезнут. Потому что сохранятся схемы поведения, сформировавшиеся за последние десять лет. Китай останется ведущей экономической и технологической державой, Россия по-прежнему будет стремиться к признанию своих интересов и статуса великой державы.
Развитие российско-украинского конфликта идёт на пользу Китаю из-за энергетического кризиса, ослабляющего ЕС и Японию. Пекин усилит свои позиции, укрепится многомерный альянс КНР и РФ. Поэтому Соединённые Штаты, считающие Китай «самым мощным геополитическим вызовом» своему доминированию, будут следовать стратегии сдерживания Пекина на глобальном уровне. Прежде всего речь идёт об Индо-Тихоокеанском регионе.
Существенные изменения происходят и на глобальном Юге. На фоне российско-украинского конфликта вновь возникла тенденция неприсоединения – многие государства глобального Юга отказываются подчиняться своим патронам. Запад утратил моральный авторитет, правительства и население стран региона отлично помнят, что интервенции под эгидой американцев привели к хаосу во многих уголках мира. Именно поэтому большая часть глобального Юга не встала на ту или иную сторону в конфликте России и Запада, несмотря на давление, оказываемое на многие развивающиеся державы. Давление не даст результатов и в будущем, глобальный Юг будет стремиться в альтернативные объединения – Шанхайскую организацию сотрудничества или БРИКС. Государства глобального Юга продолжат поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Китаем. Буллинг со стороны Запада фактически ускорит присоединение к альтернативным объединениям и дистанцирование от США и их союзников.
Новый миропорядок обеспечит консолидацию незападных ценностей и норм, которые сформировались в России, Китае и на глобальном Юге.
Именно эти ценности способствовали упадку либерального порядка. Двойные стандарты Запада, преобладавшие в последние годы, должны исчезнуть. Незападные государства, безусловно, станут стремиться к более равноправному миру, где будет меньше несправедливости и патернализма. Они продолжат бороться за независимую внешнюю политику и невмешательство в свои внутренние дела. Они заинтересованы объединяться со странами, которые нацелены на развитие, а не на эксплуатацию природных ресурсов. Африканские державы уже демонстрируют, что не собираются больше терпеть проявления неоколониализма. Тенденция сохранится и в новом многополярном мире.
Чтобы сформировался стабильный, менее хаотичный миропорядок, западные страны должны признать: либеральная модель – не единственный возможный путь и её ни в коем случае нельзя навязывать. Какими бы привлекательными ни были западные ценности, нельзя заставить следовать им тех, кто их не разделяет. У каждого государства собственные ценности. Признание нового мироустройства, состоящего из разнообразных компонентов, позволит снизить глобальную напряжённость и укрепить сотрудничество в борьбе с такими глобальными вызовами, как изменение климата, загрязнение окружающей среды, продовольственная безопасность, терроризм и бедность. Рост цен на продовольствие и энергоресурсы, падение уровня жизни и другие проблемы будут провоцировать нестабильность не только на глобальном Юге, но и в развитых странах.
Осознание того, что попытки сохранить однополярное доминирование ведут мир к Судному дню, должно побудить к строительству другого миропорядка, в котором будут с уважением относиться к тревогам всех участников по поводу безопасности. Миропорядка, где будет пространство для беспристрастной дипломатии. Возврат к вестфальским принципам и коллективной безопасности – возможно, лучший сценарий.
Хамид Дабаши, профессор иранистики и сравнительного литературоведения Колумбийского университета (Нью-Йорк).
Для моего поколения иранцев две выдающиеся своим многообразием литературные традиции объединились, став источником нашего национального литературного наследия: русская и американская. У нас едва ли развились вкус или привязанность к европейской словесности (даже к французским, английским или итальянским шедеврам), если только кто-то не лез из кожи вон ради исследования произведений Золя, Оруэлла или Пиранделло. Однако от Александра Пушкина до Ивана Тургенева в русской литературе и от Марка Твена до Уильяма Фолкнера в американской – эти литературные традиции стали наиболее распространенными и неотъемлемыми источниками формирования нашего вкуса, когда мы исследовали произведения своих писателей, таких как Мохаммед Али Джамалзаде, Садег Хедаят, Эбрахим Голестан или Садек Чубак.
Это было справедливо в той части, в которой сформировались наши представления о гуманитарных науках. В области общественных наук мы имеем похожий опыт. На моё раннее образование в колледже в Иране в начале 1970-х гг. глубокое влияние оказали исследования российских ученых по иранской и исламской проблематике. Такие имена, как Василий Владимирович Бартольд или Илья Павлович Петрушевский (среди бесчисленного множества других) стали основой нашего понимания особенностей национальной истории. Я помню появление переводов их работ на фарси: так как написаны они были с твердых марксистских позиций, издатели тревожились, что это может оскорбить чувства некоторых мусульман. Поэтому приглашали учёных-шиитов, чтобы те составляли межстрочные примечания или комментарии к персидским переводам. В итоге мы только выиграли. Выпущенные таким образом тома научили нас контрапунктному или «полифоническому» мышлению.
Подобный синкретический склад ума позволяет лучше понимать важнейшие аспекты наших нынешних и будущих затруднений: экологические бедствия и необходимость такого способа познания, который выходит за рамки близорукого своекорыстия. Пример: всякий раз, когда я читаю о российских и иранских экономических интересах в Каспийском море, то невольно представляю себя посреди этого великолепного озера и смотрю на многие вещи глазами его морских обитателей, размышляя о значении кораллового рифа в подводной экосистеме. Между прочим, это пример того, как критическое синкретическое суждение может и должно преодолевать глубоко укоренившийся «племенной» триумфализм.
Мы можем мыслить аналогичными категориями, задаваясь вопросом, какие геополитические тенденции станут преобладать в будущем и что они могут означать для международных отношений – точнее, для устойчивого взаимодействия людей за пределами их укоренившихся границ? Оценивая сегодня перспективы нашей хрупкой планеты, растущее истощение материальных ресурсов, вплоть до пригодного для дыхания воздуха и питьевой воды, усугубляемое экологическими бедствиями, я хорошо понимаю, что это приведет к разгулу трайбализма наций, конкурирующих за всё более скудные источники средств к существованию. Это поистине мрачная перспектива. Но на что я надеюсь и чего ожидаю от такого состояния, так это возможностей для перекрестного опыления культур и возникновение питательной среды для такого культурного обмена с целью преодоления точно таких же недружественных границ. Когда Россия начала кампанию против Украины, чтобы защитить свои стратегические интересы, в большинстве американских и европейских СМИ внезапно возродилась классическая русофобия. В статье, написанной мной весной, я обратился к Николаю Гоголю и отметил его украинские и русские корни, чтобы отдать дань литературному гению, победившему и объединившему обе свои родины.
В будущем нашу планету, несомненно, ожидает рост международной напряжённости, порождающей всевозможные формы насильственной ксенофобии.
Ключевая задача, стоящая перед нами, – двигаться в направлении, прямо противоположном страху перед чужестранцами, перебрасывать мосты и переходить границы, меняющие карту мира.
Это не полет фантазии. Речь идёт о реальной географии человеческих контактов, закамуфлированных надуманными противопоставлениями: Восток против Запада, мужчина против женщины, чёрные против белых, Европа против остального мира.
Я читал Анну Ахматову, Владимира Маяковского, Назыма Хикмета, Фаиза Ахмада Фаиза, Махмуда Дервиша и Пабло Неруду на персидском языке. Что бы ни было потеряно при переводе с их родных языков, они вдвойне выиграли, приобщившись к языку Фирдоуси, Хафиза Ширази, Форуг Фаррохзад и Ахмада Шамлу.
Арвинд Гупта, глава и соучредитель фонда Digital India.
Джо Либерман однажды заметил: «Наша национальная безопасность заключается не только в защите границ, но и в преодолении разногласий». Сегодня многосторонняя система, сформировавшаяся в 1990-е гг., переживает системную встряску: территориальные споры, соперничество в технологической сфере и изменения климата приводят к образованию многочисленных трещин. Проблемы безопасности, с которыми сталкиваются национальные государства, вытекают из их озабоченности по поводу территориального, технологического и экономического суверенитета. С появлением многополярного мира национальным государствам приходится решать эти проблемы, прокладывая себе путь через творческое сотрудничество, чтобы избежать ненужных конфликтов, преодолеть разногласия и отстоять свои национальные интересы. Путь вперёд во всех этих областях достаточно неопределённый, однако конечный итог – мир, экономический рост и устойчивое развитие – являются общими целями для всех национальных государств.
Первый вызов – восприятие размежевания географических территорий, находящихся под контролем национальных государств, и защита установленных физических границ. Этот вызов является продолжением старого мирового порядка, и возникающие в связи с ним споры ставят вопрос о военной готовности, географическом соседстве, балансе сил и политической стабильности в регионе. Путь к решению таких вопросов требует продуманной оборонной стратегии, сотрудничества между союзниками, торговых связей и т.д. Послужной список многосторонних организаций и партнёров в разрешении сложных пограничных споров едва ли можно считать образцовым. Тем не менее путь вперёд связан с появлением групп единомышленников среди национальных государств с целью недопущения того, чтобы односторонние действия приводили к изменению статус-кво территориальных споров на сухопутных границах и в открытом море.
Вторая проблема – обеспечение технологического суверенитета. Во время пандемии государственные чиновники и руководители многонациональных корпораций извлекли ценные уроки, когда цепочки поставок сырья для полупроводников и критических технологий серьёзно пострадали из-за зависимости от нескольких производственных центров в мире. В дополнение к этой зависимости отмечены значимые провалы в сфере безопасности данных из-за трансграничных потоков данных и отсутствия подотчетности для установления ответственности за нарушение доверия. Чтобы решить проблемы с цепочкой поставок, национальные государства начали производить критически важное оборудование – полупроводники и электронику – на своих территориях, дабы противостоять потрясениям. Доступ к трансграничным потокам данных становится затруднительным из-за нежелательных случаев подавления геоэкономики, лежащей в основе подобных контактов, и обмена соображениями геополитической целесообразности.
Наконец, если и можно указать на проблематику, которая одинаково волнует все страны, то это изменение климата. Как и при решении любых спорных вопросов, все признают угрозу, но стратегия ответа на вызов столь же различна, как и люди, от которых зависит принятие ключевых решений. Предметом спора является, например, финансирование внедрения устойчивых к климату технологий и постепенного отказа от загрязняющих производств. Страны с развивающейся экономикой поставили амбициозные цели по достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа, однако вопрос финансирования обнажил трещины в нынешнем мировом порядке. Правда, на этом фронте наблюдается значительный прогресс.
Любое государство хочет защитить свой территориальный суверенитет, использовать технологии для расширения прав и полномочий своих граждан, а также создавать возможности для устойчивой жизнедеятельности. Эти интересы можно обеспечить лишь посредством сотрудничества национальных государств, преодоления разногласий с государствами-единомышленниками и одновременного отстаивания национальных интересов.
Международный порядок должен учитывать эти устремления развивающихся стран, чтобы отражать мир таким, каков он есть.
Кишор Махбубани, заслуженный научный сотрудник Азиатского исследовательского института при Национальном университете Сингапура.
Изучая наше время, историки будущего с изумлением обнаружат, что Европа когда-то доминировала в мире, особенно в XIX и первой половине XX века. Они будут удивлены, потому что в XXI веке Европа – и в первую очередь Евросоюз – явно сбилась со своего пути.
Причина проста. Европейский союз утратил ориентиры, потому что там забыли, что геополитика состоит из двух слов: география и политика. География ЕС, без сомнения, отличается от американской. Тем не менее большинство европейских стратегов уверены в полном совпадении интересов Евросоюза и США. На самом деле существуют различия по трём аспектам.
Во-первых, озабоченность США возвращением Китая на лидирующие позиции понятна. Американцы теряют способность доминировать в Тихоокеанском регионе. У ЕС там нет фундаментальных геополитических интересов. В долгосрочной перспективе основная геополитическая угроза для Европы обусловлена демографическим взрывом в Африке. В 1950 г. население Африки составляло половину европейского, а к 2100-му население Чёрного континента будет превышать число жителей Европы в десять раз. Поэтому в интересах Европейского союза способствовать экономическому развитию Африки, чтобы не допустить массовой миграции в Европу. Лучший партнёр в продвижении долгосрочного экономического развития Африки – Китай. Поэтому, когда некоторые страны Европы подписывают заявление НАТО, в котором Китай назван угрозой, они фактически стреляют себе в ногу. Приносят в жертву собственные геополитические интересы.
Во-вторых, будучи постпредом Сингапура при ООН более десяти лет, я видел, что Соединённые Штаты выработали долгосрочную политику ослабления многосторонних организаций – таких как ООН, потому что она сдерживает одностороннее доминирование США. Всё это я зафиксировал в работе «The Great Convergence». Почему Вашингтон это делает – понятно. Непонятно, почему ЕС поддерживает такую американскую линию. К примеру, Евросоюз был согласен с усилиями Соединённых Штатов по снижению доли обязательных взносов в бюджет ВОЗ с 62% в 1970-м до 19% в 2010-м. В бюджете 2022–2023 гг. доля обязательных взносов упала до 15,6%. Из-за сокращения объёма доступных ресурсов ВОЗ оказалась зависима от прихоти своих (преимущественно западных) доноров и не может реализовывать долгосрочные планы. Но как показали последние два года, в интересах ЕС именно укреплять, а не ослаблять многосторонние организации.
В-третьих, Евросоюз действует неразумно, цепляясь за полномочия, которые были получены, когда доля Европы в глобальном ВВП была значительно выше. К примеру, ЕС по-прежнему настаивает на давно устаревшем правиле, согласно которому главой МВФ должен быть европеец – в результате более быстро растущие азиатские экономики лишены возможности участвовать в управлении глобальной экономикой.
Каким может быть решение? Простым! Европейцам нужно научиться быть такими же прагматичными, как азиаты, и попытаться создать более инклюзивные, а не эксклюзивные политические условия.
К примеру, в Восточной Азии большинство стран стремятся поддерживать хорошие отношения и с Китаем, и с Соединёнными Штатами, несмотря на растущие между ними противоречия. Кроме того, в Азии создана такая структура, как всестороннее региональное экономическое партнёрство (RCEP), которое в том числе объединяет Китай и союзников США (Японию, Южную Корею, Австралию). Иными словами, дальнейший путь для Европы очевиден: извлечь уроки из азиатского прагматизма. Вместо того чтобы пытаться доминировать, европейцам нужно научиться идти на компромисс и делиться властью. Толика скромности тоже может оказаться полезной.
Расиган Махарадж, генеральный директор Института экономических исследований в области инноваций при Техническом университете Цване (ЮАР).
В середине ноября 2022 г. Организация Объединённых Наций подтвердит, что численность населения нашей планеты достигла восьми миллиардов человек. Это, конечно, статистическое приближение. Как раз к моменту фиксации данного демографического расширения проект доклада «Краткое изложение для политиков: разные ценности и оценка Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам» (IPBES. 2022. Summary for Policymakers of the Methodological Assessment Report on the Diverse Values and Valuation of Nature, Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn) сообщает следующее: «Беспрецедентное изменение климата и сокращение биоразнообразия влияют на функционирование экосистем и негативно сказываются на качестве жизни людей».
Ни одна из этих характеристик современной конъюнктуры не выражает в полной мере главного противоречия, лежащего в основе беспрецедентных потрясений, охвативших мир во втором десятилетии третьего тысячелетия нашей эры. Человечество разрослось и расширило ареал своего обитания по всей планете до такой степени, что на Земле больше не осталось «диких» или нетронутых природных пространств. Как Homo sapiens мы достигли размеров, масштабов и распространения нашей популяции благодаря накоплению знаний и их распространению в человеческой среде. Наши производственные возможности, способности и компетенции продолжают совершенствоваться и расти, несмотря на сохранение неравноправных и ужасающе несправедливых производственных отношений.
Перспективы достижения общего и умеренного процветания для всех в пределах планетарных границ и нашего биологического вида, выходят на первый план.
К сожалению, вместо того, чтобы сосредоточиться на решении этой задачи, нынешнее поколение остаётся заложником анахроничных и неэффективных институтов, возникших в процессе жестокой борьбы, противоречий и компромиссов ХХ века. Несмотря на кардинально изменившиеся обстоятельства, стремление достичь хотя бы временной гегемонии определяет современный баланс сил. Накапливаются убедительные доказательства того, что мы всё больше подвергаемся опасности из-за стремления к бесконечному росту в рамках конечной экологической системы. Но власть имущие склонны выбирать прибыль, а не жизнь людей. Наш биологический вид столкнулся с зоонозной вирусной атакой (COVID-19). В противовес тому, что, несомненно, должно было бы считаться нашим просвещённым своекорыстным интересом – действовать коллективно, сообща и сострадательно, институты глобального управления, такие как Всемирная торговая организация (ВТО) и другие, стремились скорее сохранить экономические выгоды для одних членов, не считаясь с угрозами для жизни многих других. Так, реального прогресса в расширении производства вакцин за пределы транснациональных фармацевтических олигополий не видно даже через два года после того, как Индия и ЮАР предложили ВТО отменить ограничения на интеллектуальную собственность в отношении медицинских технологий, связанных с профилактикой коронавируса. Искусственное поддержание дефицита и обеспечение прибыли способствуют самореализации прозорливого предвидения Фредрика Джемисона о том, что «сегодня легче вообразить конец света, чем конец капитализма».
Именно на этой материальной основе становится всё более реально прагматичное переосмысление мира, которого мы хотим, в котором нуждаемся и которого должны требовать. Покойный интеллектуал-революционер Стивен Банту Бико почти полвека назад утверждал, что «(самое) мощное оружие в руках угнетателя – разум угнетённого». Это утверждение актуально и уместно сегодня, когда мы сталкиваемся с реалиями нынешней эпохи всеобщей дебилизации, критически её оценивая и одновременно пытаясь обеспечить своё выживание.
Следует дальше развивать научно-технический потенциал, возможности и компетенции путём углубления сотрудничества и взаимодействия. Необходимо противостоять стремлению к дальнейшей коммерциализации, ограждению и эгоистичному присвоению знаний в эпоху, когда общедоступные блага и услуги всё более необходимы. Изобилие и умеренное процветание для всех в пределах планетарных границ достижимо, но мы должны прислушаться и к словам Никколо Макиавелли, который почти пять веков назад признал: «Нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми. Кто бы ни выступал с подобным начинанием, его ожидает враждебность тех, кому выгодны старые порядки, и холодность тех, кому выгодны новые. Холодность же эта объясняется отчасти страхом перед противником, на чьей стороне – законы; отчасти недоверчивостью людей, которые на самом деле не верят в новое, пока оно не закреплено продолжительным опытом. Когда приверженцы старого видят возможность действовать, они нападают с ожесточением, тогда как сторонники нового обороняются вяло, почему, опираясь на них, подвергаешь себя опасности».
Сян Ланьсинь, профессор международной истории и политики, научный сотрудник Белферовского центра Гарвардской школы Кеннеди, директор Института политики безопасности Китайского национального института международного обмена и юридического сотрудничества ШОС.
Сегодня Запад, похоже, всё больше стремится соорудить глобальный «экуменический мир» поверх демократий. Вся эта кампания созвучна любимому на Западе риторическому инструменту противопоставления «добра и зла», который придумали неоконсерваторы в годы администрации Джорджа Буша-младшего. В ход идёт сравнение событий на Украине с тайваньской политикой Китая. Российская интервенция на Украину теперь рассматривается как прелюдия к чему-то гораздо более зловещему и опасному, будто операция России на Украине – просто плохая погода, тогда как смертоносное изменение климата будет вызвано Пекином, который захочет захватить Тайвань. Используя историческую аналогию, Путин – не более чем шутовской «Муссолини», вторгшийся в Эфиопию в 1930-е гг., в то время как «Гитлер» в Пекине готовит свой роковой шаг.
Но Россия всё же является частью христианской цивилизации, а вот Китай назначен соперником номер один для Соединённых Штатов, по мнению теологов демократического «экуменического мира», главным «неверным» во всех измерениях – религиозном, культурном, политическом, историческом и даже расовом. Здесь риск выше всего. Трансатлантическая солидарность и двухпартийный консенсус в Вашингтоне по поводу того, какую политику проводить в отношении КНР, могут неизбежно повлечь за собой не только курс на смену режима, но и переход от «политики одного Китая» к подходу «один Китай, один Тайвань». Это чревато тяжёлыми просчётам всех трёх сторон – Пекина, Вашингтона и Тайбэя. Вероятность войны в Тайваньском проливе станет как никогда высокой.
Даян Джаятиллека, доктор наук, дипломат (Шри-Ланка).
Происходит столкновение проектов мирового порядка в переломный для человечества момент.
С Глобального Юга мне представляется, что мир должен быть многополярным и стремиться к всеобщему равновесию (эту идею сформулировал Симон Боливар, а позже поддержал Хосе Марти). Многополярность означает демократический, плюралистичный мировой порядок, позволяющий автономно достигать синтеза и слияния различных, иногда даже противоборствующих источников. Глобальное равновесие не даст одной державе возможности доминировать над нами.
Сегодня эта точка зрения парадоксальным образом уместна и неуместна одновременно. Уместна потому, что мы должны знать, куда плывём в бурных водах. А неуместна не только потому, что нынешний глобальный порядок кардинально отличается от этих двух устремлений, турбулентен и находится в переходной стадии. Главное, что реализуется мощный проект, являющийся антиподом многополярности и равновесия, нацеленный на то, чтобы обратить вспять продвижение к этим целям и доказать их системную недостижимость.
Воспринимая агрессивность России и подъём Китая как угрозу своей давней цели – глобальному лидерству и мировому порядку при постоянной западной гегемонии, коллективный Запад запустил проект восстановления и расширения этой гегемонии, пока не закрылось окно возможностей для сдвигов глобальных стратегических и экономических сил. Начав с окружения ключевых государств Евразии – России и Китая, Запад теперь перешёл к наступательной стратегии, которая выражается в прокси-войне на западном для РФ фронте – на Украине.
Именно поэтому были проигнорированы давние предупреждения крупных фигур от Джорджа Кеннана до Генри Киссинджера, звучавшие после холодной войны, о рисках стратегической экспансии Запада, в том числе на Украину. Точно так же игнорировались недавние призывы Киссинджера к деэскалации конфликта путём признания сфер влияния на Украине по аналогии с Ялтинскими соглашениями. Вместо этого Запад приступил к открытой эскалации с точки зрения планирования, поставок оружия, активной вовлечённости, а также стратегических политических и военных целей.
Украина – «центр шторма» глобальных противоречий, место, где происходит конденсация конфликта конкурирующих проектов, которые касаются мирового порядка и судьбы человечества.
С одной стороны, однополярная гегемония Запада, с другой – многополярное, более аутентичное демократическое и плюралистичное мироустройство. Заявленные Западом цели и политика нанесения поражения России направлены на дальнейшее окружение Китая, чтобы уничтожить его достижения и не допустить укрепления его роли в мировом порядке.
Как и во Второй мировой войне, судьба человечества вновь тесно переплелась с судьбой России и будет определяться на российском фронте. Запад ведёт против России уже не гибридную войну и не ограниченную обычную войну. Ведётся тотальная война, которая достигла абсолютной формы, хотя и в рамках обычной. Российский потенциал сдерживания, основанный на превосходстве обычных вооружённых сил, предполагается разрушить, оставив лишь немыслимо опасный фактор ядерного сдерживания. (Возможно, именно такие ночные кошмары видел маршал Сергей Ахромеев перед своей смертью в 1991 г.)
Судьба России, Китая и всего человечества зависит от трех факторов: 1) учитывая экзистенциальный характер угрозы, сможет ли Россия вести тотальную, абсолютную войну, но императивно в пределах неядерной и избегая массовой мобилизации; 2) перед лицом общей угрозы смогут ли Россия и Китай совершить качественный рывок до уровня стратегической интеграции, которой очевидно добился Запад; 3) впитала ли российская армия наследие Красной армии и вдохновляется ли её примером.
Брама Челлани, почётный профессор стратегических исследований в Центре политических исследований (Нью-Дели).
Сегодня мир находится на перепутье, и риски эскалации затянувшейся кампании на Украине растут. Поэтому некоторым может показаться, что будущий глобальный конфликт будет отличаться от того, что мир видел до сих пор. В конце концов нынешний международный кризис представляет собой самый опасный период со времён окончания холодной войны.
Однако если исключить риск случайного обмена ядерными ударами между великими державами, то закономерности глобального конфликта вряд ли кардинально изменятся. Конкуренция и столкновение всегда были характерны для международных отношений.
Прежде всего нельзя предполагать, что в будущем лидеры стран будут действовать более рационально, чем лидеры нынешних или прошлых лет. Один только этот год дал нам множество примеров нерациональных решений политических лидеров, породивших острые геополитические и геоэкономические проблемы, включая глобальный энергетический кризис.
В будущем иррациональные политические решения, скорее всего, останутся ключевым фактором глобальной конфронтации.
Что касается иностранного вторжения в суверенные государства, то если страна, подвергшаяся атаке, начинает сопротивляться, державы-соперники, скорее всего, будут оказывать ей военную помощь, чтобы обескровить оппонента и ослабить его мощь в долгосрочной перспективе. Именно это США делали в Афганистане в 1980-е гг. против советских войск, и именно это они делают сегодня на Украине. На этом фоне можно с уверенностью заключить, что международные конфликты вряд ли когда-нибудь закончатся. Это не означает их одобрения – мы лишь констатируем очевидное: международные отношения – не о морали, а о получении относительных преимуществ.
Мехди Санаи, доцент международных отношений Университета Тегерана.
Действует ли ещё дипломатия в современном мире? Если да, то какая? Отвечая на вопрос, в чём разница между сегодняшней дипломатией и классической, можно выделить три вызова, с которыми сталкивается классическая дипломатия. Прежде всего она утратила монополию, которой когда-то обладала, и сегодня в международном взаимодействии используются различные методы. Кроме того, заметную роль играют публичная дипломатия, медиадипломатия, народная дипломатия и другие формы. Иными словами, дипломатическая арена сейчас открыта для новых акторов, которые иногда демонстрируют большее влияние, чем дипломаты.
Более того, в отличие от периода холодной войны, которая была звёздным часом аналитиков и дипломатов, в нынешних условиях постоянно меняющейся международной системы и непредсказуемости событий именно их участь наиболее незавидна. Возможно, нынешняя ситуация, войны и огромные человеческие жертвы за последние два десятилетия отчасти обусловлены неспособностью дипломатии выполнять свои функции. Дипломатия просто не успевает за темпами изменений и трансформации, и поэтому её эффективность в разрешении противоречий снизилась. Главная задача дипломатии – предотвращать войны, и очень хочется надеяться, что классическая дипломатия полностью не утратит эту способность.
Наконец, дипломатия обычно работала в вакууме и непубличном пространстве, сегодня, когда влиятельные медиа внимательно следят за всем, что происходит во внешней политике, а на принятие решений воздействует общественное мнение, классическая дипломатия не ощущает прежнего комфорта.
Публичное пространство сопровождает внешнюю политику до и после принятия решений.
Последний аспект привёл к тому, что классическая дипломатия столкнулась с фундаментальным вызовом: сохранить идентичность и одновременно следовать новым правилам и требованиям. Базовая часть классической дипломатии – это неэффективные ритуалы и протоколы, которые стали скучными и уже не способны влиять на ход событий.
Ну и необходимо отметить разницу между дипломатическими практиками в странах Востока и Запада. Дипломатия – способность к диалогу и способ ведения переговоров, который позволяет сохранять взаимопонимание и добиваться максимальной реализации интересов за счёт наименьших уступок. Эта концепция не различается на Востоке и на Западе. Но нельзя не обращать внимания на то, что дипломатическую деятельность осуществляют дипломаты, за которыми стоят общества, ими представляемые. И тут важны специфические качества и приоритеты, которые определяются политическими культурами. А они на Западе и на Востоке очень разные.
Карлос Энрике Кардим, посол по особым поручениям, социолог, профессор Института политологии Университета Бразилиа.
Россия сейчас в центре внимания по понятными причинам. Пришло время для всеобъемлющего изучения России, не ограничиваясь шлейфом советологии, который по-прежнему тянется. Ральф Дарендорф говорил мне, что после распада СССР многие «специализированные институты» должны быть закрыты. Специалисты по России остро требуются сейчас везде – в Вашингтоне, Бразилии, Лондоне, Париже, Берлине, Риме, Пекине и так далее. Они нужны и в самой Москве.
Россия являет миру много удивительного. В своё время я был потрясён рассказом Евгения Примакова о роли Анастаса Микояна в Карибском кризисе 1962 г.: узнав о смерти жены во время ключевой встречи с Фиделем Кастро, он был глубоко подавлен, но принял решение продолжить переговоры, чтобы не допустить ядерного конфликта между США и Советским Союзом. Он продемонстрировал высочайший уровень ответственности дипломата.
Когда я писал книгу о выдающемся бразильском дипломате и государственном деятеле Руе Барбозе (A raiz das Coisas. Rui Barbosa: o Brasil no Mundo), в основном речь шла о его работе на второй мирной конференции в Гааге в 1907 году. Благодаря этому я узнал, что первую Гаагскую конференцию созвали по инициативе российского императора Николая II. Бразильская дипломатия допустила тогда ошибку – отказалась участвовать в конференции 1899 г. из-за внутренних проблем. Бразилия и Мексика были единственными приглашёнными латиноамериканскими государствами, потому что у них были диппредставители в Санкт-Петербурге. Мексика приняла приглашение. На мирных конференциях в Гааге 1899 и 1907 гг. не были достигнуты соглашения по разоружению и механизмам арбитража, однако они закрепили позиции Николая II как влиятельной фигуры международной политики по продвижению мира. Участникам удалось заложить основы Постоянной палаты третейского суда, который до сих пор работает в Гааге. Кроме того, конференции считаются предшественниками Лиги Наций и ООН. Во Дворце мира в Гааге висит портрет Николая II. Макс Вебер, величайший социолог XX века, автор работ о протестантизме и капитализме, вернулся из США в 1905 г., несмотря на очень сложную ситуацию в Европе. Как писал социолог Роберт Михельс, «больше всего его привлекало именно то, что делала России. В этом отношении интуиция Вебера по поводу пути, которым следует идти, гораздо важнее академического качества его работ о России».

Победителю достаётся всё
Следование правилу «победитель получает всё» приводит к установлению монополистического порядка
ВЛАД ИВАНЕНКО
Экономист (г. Конкорд, США).
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Иваненко В. Победителю достае?тся все? // Россия в глобальной политике. Т. 20. № 6. С. 49-60.
В 1911 г. Джек Лондон написал рассказ «Мексиканец» – историю о мексиканском революционере, который вызвал на поединок знаменитого американского боксёра с уговором, что победитель получит весь денежный приз. Сюжет не может не вызывать эмоционального отклика у читателя – в то время как американец хочет «поколотить маленького грязного латиноамериканца», тот самоотверженно ищет способ заработать деньги, чтобы купить оружие для поддержки революции на родине.
Отбрасывая эмоции в сторону, стоит отметить, что концепция «общества, в котором победителям достаётся всё», хорошо известна учёным. Книга с таким названием была опубликована в 1995 г. экономистами Робертом Франком и Филипом Куком. Исследователи рассмотрели теоретическую модель подобного социума и пришли к выводу, что в «обществе, в котором победителям достаётся всё», неправильно рассредоточены экономические ресурсы, наблюдается неравенство в распределении доходов и, как следствие, начинается ползучая монополизация политической власти.
В области международных отношений следование правилу «победитель получает всё» приводит к установлению монополистического, однополярного мирового порядка, в центре которого государство, имеющее беспрецедентное экономическое, социальное, культурное и военное влияние.
В таком мире нет места переговорам.
Исключением не может считаться даже ситуация, когда удовлетворение условий другой стороны влечёт за собой выгоды для гегемона, поскольку доминирующая держава не имеет возможности продемонстрировать действительную силу, а может лишь применять все возможные инструменты для пресечения в зародыше малейшей угрозы извне. Таким образом, начинается противостояние, исход которого будет неудачным и для одной, и для другой стороны, как это всегда бывает в играх с отрицательной суммой. При этом совершенно неважно, кто одержит верх – гегемон или его соперник.
«Ревизия» глобалистов и националистов
Первыми глобалистами можно считать купцов, занимавшихся трансграничной торговлей в средневековой Европе, и испанских конкистадоров, осваивающих новые земли в Латинской Америке. Деятельность этих двух социальных групп способствовала созданию торговых цепочек, которыми охотно пользовались «цивилизованные страны», контролировавшие торговые пути, для обмена своих товаров на «колониальные». В политическом пространстве то же развитие событий привело к образованию колониальных империй, использовавших военную силу для установления собственного «закона и порядка» на зависимых территориях.
Колониализм с его открытой эксплуатацией колоний метрополиями практически исчез в XX веке (в основном из-за военного упадка «старых» европейских империй), но в мире сохранилось неравенство, причём даже после того, как бывшие колонии формально получили независимость. Это противоречит доминирующей экономической теории, которая предсказывает сближение благосостояния бывших колоний и метрополий и предполагает, что глобальной торговлей управляют новые движущие силы, хотя и скрытно. Поскольку поиск причин, благодаря которым современные глобалисты имеют определённую власть и влияние, выходит за пределы данной статьи, ограничимся тем, что поместим глобалистов и националистов в рамки разработанной американским социологом Иммануилом Валлерстайном в 1970-е гг. методики анализа мировых систем для выявления основного конфликта между двумя группами.
Валлерстайн определяет мир как «социальную систему, имеющую границы, структуру, группы участников, правила легитимации и связанность». Она состоит из национальных государств, но представляет собой нечто большее, чем простую сумму её составных частей. Валлерстайн утверждает, что «жизнь мировой системы характеризуется конфликтом противоборствующих групп, которые удерживают её от распада, но вместе с тем разрывают на части, поскольку каждая группа всегда стремится изменить систему для своей выгоды»[1]. С этой точки зрения глобальное неравенство становится необходимым условием для создания импульса, поддерживающего непрекращающийся поток товаров между «богатыми» и «бедными» странами. Неравенство усугубляется существованием «центральных стран», которые нацелены на капиталоёмкое производство, требующее высокой квалификации, и «периферийных стран», вынужденных специализироваться на низкоквалифицированном, трудоёмком производстве и добыче сырья. Граница между центром и периферией размыта, поэтому центральные страны, занимающие пограничное положение, могут меняться местами со странами периферии и наоборот. Но чтобы такой переход произошёл мирно, необходимо получить одобрение наиболее влиятельных стран центра, которые должны быть готовы принять новичка в свой клуб.
Анализ мировых систем соответствующим образом конструирует современный мир и объясняет, почему некоторые страны добиваются успеха (и их приглашают, например, в ОЭСР), но в нём нет ничего о том, что происходит, когда пограничная, полупериферийная страна (например, Россия) решает бросить вызов статус-кво, отказываясь терпеливо ждать очереди на вступление в клуб великих держав. Чтобы дать ответ на этот вопрос, требуется другой ход мысли. Поскольку данная статья посвящена конкретному противостоянию (Россия против западноцентричного мирового порядка), уместно обратиться к концепции, разработанной в России. С её основными положениями можно ознакомиться в статье бывшего помощника Путина Владислава Суркова «Куда делся хаос? Распаковка стабильности»[2].
Ссылаясь на второй закон термодинамики, который гласит, что энтропия в изолированных системах возрастает, Сурков утверждает, что ни одна суверенная нация не может поддерживать внутренний порядок, не экспортируя некоторую форму хаоса (энтропии) во внешний мир (системную среду). Исходя из этого предположения, если страна стремится присоединиться к центру, но не получает от него приглашения, она должна бросить вызов существующей глобальной системе и взаимодействовать с ней как со своей «средой», в которую она «экспортирует хаос». Этот аргумент (экспорт хаоса) был истолкован на Западе преимущественно как теоретическое обоснование российского экспансионизма, однако его идейная составляющая является гораздо более тонкой и может дополнить мысль Валлерстайна о мировых системах, обогатив её новой движущей силой глобальных революций, лозунгом, известным веками – Divide et Impera («разделяй и властвуй»): нации, которые могут быть разделены, становятся слабыми и подвергаются эксплуатации.
Тем не менее, если дерзость России можно объяснить внутренними импульсами – требованием величия российской нации, стремлением достичь статуса сильной державы путём отрицания статус-кво, без ответа остаётся вопрос, почему коллективный Запад отреагировал на сложившуюся ситуацию столь иррационально.
Теория игр утверждает, что «горячие» войны происходят из-за информационной асимметрии: один или оба противника ошибаются и переоценивают свои чистые выгоды.
Россия, похоже, не ожидает выгоды от войны – Владимир Путин неоднократно заявлял, что «в этом конфликте не будет победителей» и он «избежал бы его, если бы это было возможно». Возглавляемый США альянс, напротив, может верить в достижение чистой выгоды от войны между Россией и Украиной, ожидая, что Россия потерпит неудачу. Президент США Джозеф Байден официально заявил, что «Путин не может оставаться у власти». Точку зрения Байдена поддержал министр обороны США Ллойд Остин, выразив надежду «увидеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она больше не могла делать то, что она сделала на Украине». Таким образом, риторика политических деятелей нынешних стран центра даёт основания полагать, что они ожидают «хорошей взбучки» соперника в лице России. Немного позже мы продолжим разговор о мотивах экономических и финансовых субъектов центральных стран, разделяющих подобные упования.
Это экономика, глупец: кто отдаёт распоряжения
Политикам нравится верить, что они управляют нациями, а впоследствии будут управлять всем миром. Но вникнув глубже в механику процесса разработки и реализации политического курса, можно прийти к умозаключениям, которые не позволяют столь однозначно сделать вышеупомянутые обобщения. Так, спрос на новые политические меры в обществе растёт незаметно, пока его не подхватят несколько активистов или СМИ, которые почувствуют их политическую привлекательность. Поскольку получение прибыли является главной движущей силой в рыночной экономике, возникла индустрия связей с общественностью, работники которой занимаются поиском зарождающихся идей и проясняют неоднозначные моменты с помощью опросов общественного мнения. Когда обнаруживается, что рассматриваемые темы соответствуют времени и месту и являются актуальными, они подхватываются и культивируются СМИ, в том числе социальными сетями, чтобы направить общественное мнение в позитивное или негативное русло. Когда общественные настроения набирают вес и привлекают внимание политических советников, политики включают в свою повестку волнующие общество вопросы и впоследствии обсуждают их в парламенте. После завершения дебатов и выработки новых политических решений они переходят ко второй фазе – их реализации. Данный этап также полон подводных камней, поскольку принятые меры могут либо целиком и полностью одобряться, либо скрыто саботироваться теми, кто следит за их выполнением или обязан им следовать.
Индустрия связей с общественностью включает в себя частные учреждения, которые не связаны правилами (за исключением иностранных лоббистов в США, которые должны соблюдать Закон о регистрации иностранных агентов) и могут работать на любого состоятельного клиента. Таким образом, принятое Западом политическое решение не удовлетворять российские требования безопасности, выдвинутые в декабре 2021 г., очевидно, обсуждалось и было одобрено по крайней мере некоторыми представителями западной неполитической элиты. Кто из них выиграет от нарушения глобальных процессов, в которые была вовлечена Россия, и как?
Государства, принадлежащие центру и периферии, обладают разным весом на международной арене, поэтому весьма логичным является вывод о том, что их экономические и финансовые субъекты также обладают разным влиянием в глобальных цепочках и в зависимости от этого поддерживают глобалистские или националистические повестки дня. Также возможна ситуация, при которой экономические и финансовые субъекты центральной страны поддерживают националистическую политику, если их положение в глобальной цепочке оказывается подчинённым, в то время как субъекты периферийной страны следуют глобалистской логике, если стремятся к доминирующим позициям.
Предполагая, что показатели статистики международной торговли имеют положительную корреляцию с положением национальных субъектов в международных производственно-сбытовых цепочках, можно сделать выводы о глобалистских или националистических предпочтениях, используя в качестве косвенного показателя соотношение экспорта и импорта – чем выше численное значение, тем более вероятной является поддержка субъектами глобалистской политики и наоборот. В качестве примера рассмотрим мировой автомобильный рынок (см. таблицу 1).
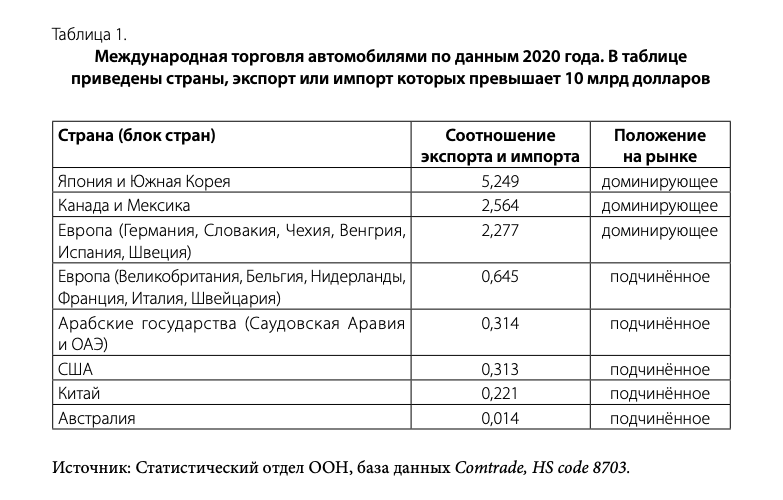
Данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что производители легковых автомобилей в Японии, Корее, Канаде, Мексике и группе европейских стран с Германией в центре, занимают доминирующее положение на мировом автомобильном рынке. По этой причине они поддерживают глобалистскую политику и несут убытки, когда глобальные производственно-сбытовые цепочки разрываются. Напротив, для производителей автомобилей в США, Китае и той части Европы, которая включает Великобританию, Францию и Италию, разрыв глобальных цепочек будет означать новые возможности на рынке, следовательно, субъекты этих стран с большей вероятностью поддержат националистическую политику. Поскольку Россия не фигурирует в данном списке, производственно-сбытовые цепочки между приведёнными странами не будут затронуты, а военные действия на Украине вызовут молчаливую реакцию автопроизводителей (есть лишь эпизодичные сообщения о неудобствах, испытываемых немецкими производителями автомобилей). Однако данные позволяют сделать вывод о потенциальном расколе внутри ЕС и НАФТА ввиду разных интересов, который может перерасти в реальную проблему, если популярность националистических настроений продолжит усиливаться.
Теперь рассмотрим крупнейших финансовых игроков, которые, вероятно, были бы готовы поддержать конфронтацию между Западом и Россией (см. таблицу 2).
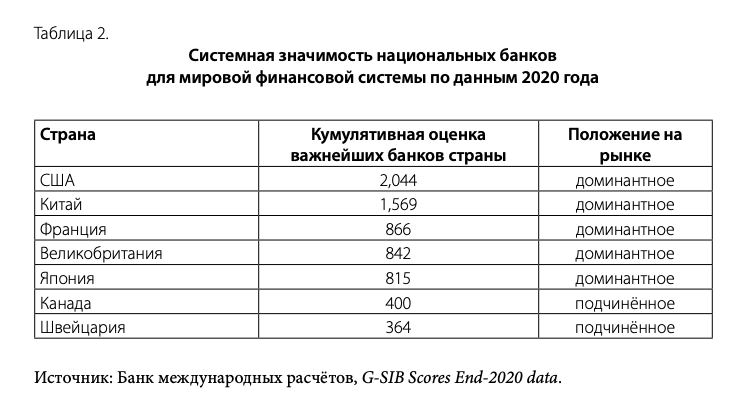
Ситуация с крупными финансовыми игроками представляется менее ясной. Однако на основе дополнительных наблюдений можно сделать вывод, что отношения американских и китайских финансовых групп не складываются. Во-первых, группы не заключали крупных сделок слияний и поглощений, что указывает на отсутствие взаимного доверия. Во-вторых, похоже, что Великобритания, которая пыталась сформировать финансовый альянс с Китаем (в 2015 г. она стала одним из основателей Азиатского банка инфраструктурных инвестиций со штаб-квартирой в Пекине), изменила своё решение и начала выступать против Китая, следуя американским требованиям. Если американские финансовые круги столь настойчиво пытались помешать своему ближайшему союзнику сотрудничать с китайскими банкирами, они, вероятно, чувствовали в подобной дружбе угрозу. В противном случае, почему они были так обеспокоены?
Как бы то ни было, финансовые субъекты США поддержали санкции против России, в том числе и исключение российских банков из системы SWIFT, несмотря на то что такой шаг привёл к убыткам, зафиксированным в финансовых отчётах крупных американских и европейских банков. С другой стороны, замораживание активов Центрального банка России и других субъектов, попавших под санкции, дало западной банковской системе доступ к «свободным» средствам на сумму не менее 300 млрд долларов, что с лихвой компенсировало их потери. Но в долгосрочной перспективе западные финансовые субъекты будут в проигрыше из-за снижения доверия к их способности сохранять стоимость, и, следовательно, поддержка ими антироссийских санкций обусловлена дополнительными причинами.
Скромное обаяние либеральной демократии
В 1972 г. испанский режиссёр Луис Бунюэль представил общественности сюрреалистический фильм «Скромное обаяние буржуазии» (“Le Charme discret de la bourgeoisie”). Фильм повествует о пяти встречах группы буржуазных друзей, каждый раз неудачно пытающихся насладиться изысканным ужином. Но они продолжают собираться вместе, находясь в полной уверенности, что получать внимание и обходительное обращение от окружающих – их естественное право.
Люди, живущие в либеральных демократиях, чувствуют то же самое. Они хотят, как гласит латинская поговорка, хлеба и зрелищ (panem et circenses), и, само собой разумеется, такой стиль жизни стоит очень дорого. Власти либеральных демократий, к которым относятся страны центра, например, группа G7, должны обеспечивать непрерывный приток ресурсов из периферийных стран для поддержания высокого уровня жизни и удовлетворения потребностей своих граждан. Когда власти чувствуют, что финансовая ситуация выходит из-под контроля, они прибегают к уже ставшей обычной практике государственных займов. При этом возникающие долги требуется – по крайней мере, с 1980-х гг., когда подобная мера получила широкое распространение, – не только обслуживать, но и погашать. Как следствие, государственный долг в странах центра со временем существенно увеличился, чего нельзя сказать о размере долга стран периферии. Давайте рассмотрим объёмы государственного долга стран-лидеров двух блоков – G7 и БРИКС (см. таблицу 3).
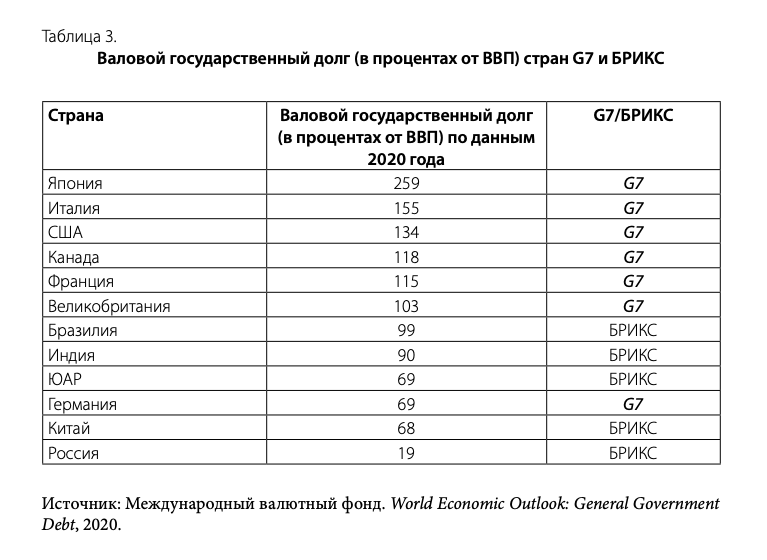
Очевидно, что у стран G7 – за исключением Германии – беспрецедентные объёмы государственного долга в отличие от стран БРИКС, особенно России. Теперь давайте посмотрим, как со временем рос объём государственного долга США (см. график 1).
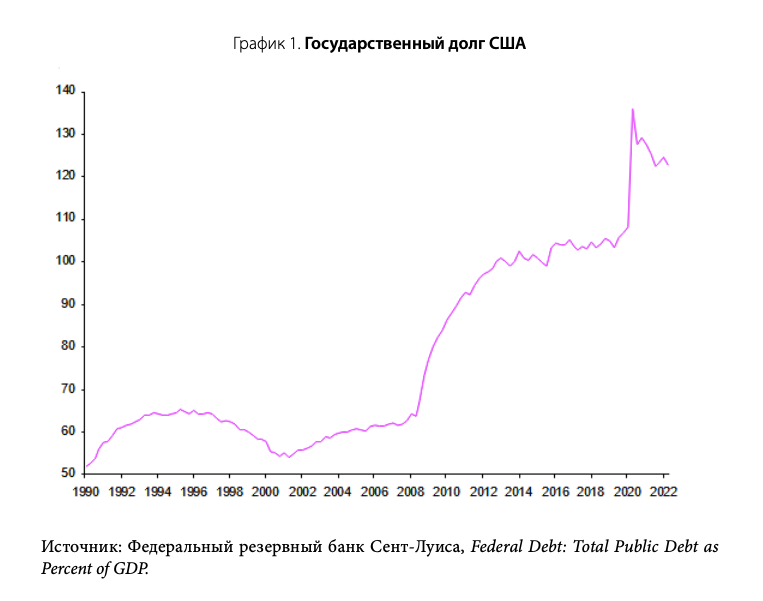
На графике 1, демонстрирующем динамику объёма государственного долга США с 1990 по 2022 гг., можно наблюдать два резких скачка. Первый связан с Великой рецессией 2007–2009 гг., во время которой долг вырос с 63 процентов ВВП (по данным апреля 2008 г.) до 100 процентов (по данным апреля 2013 г.). В этот период события разворачивались следующим образом: сначала Федеральная резервная система США (далее – ФРС) позволила крупнейшей инвестиционной компании “Lehman Brothers” обанкротиться, а затем изменила политику на количественное смягчение, которое подразумевало ввод большого объёма средств в проблемный финансовый сектор. Второй скачок произошёл в марте 2020 г., и снова ФРС стала виновницей увеличения государственного долга со 108 процентов (по данным января 2020 г.) до 135 процентов (по данным апреля 2020 г.).
ФРС сама по себе представляет интересную структуру и заслуживает более подробного рассмотрения. Она не может считаться обычным центральным банком, поскольку в неё входят двенадцать федеральных резервных банков, которые являются частными учреждениями, несущими ответственность перед своими акционерами (к числу последних относятся местные банки). ФРС управляется Советом управляющих, он назначается президентом и утверждается Сенатом. По сути, ФРС – это государственно-частное партнёрство, призванное поддерживать баланс между максимальной занятостью и стабильным уровнем цен с помощью проведения операций на открытом рынке и установления базовых процентных ставок. Но время от времени ФРС принимает меры, выходящие за рамки её заявленных компетенций.
Например, проводя политику количественного смягчения в 2008–2014 гг., ФРС вышла на рынок для покупки ипотечных ценных бумаг и государственного долга США (трежерис), то есть с целью непосредственного ввода капитала на рынок и стимулирования ликвидности. Таким образом, впервые в своей истории ФРС объединила роли регулятора, надзорного органа и участника экономических отношений. Это создало конфликт интересов, поскольку ФРС обладала техническими средствами для получения дополнительной прибыли за счёт совершения операций, напоминающих инсайдерскую торговлю.
В 2020 г. ФРС снова пришла на помощь финансовым рынкам. На этот раз вмешательство ФРС носило ещё более необычный характер. Помимо покупки ипотечных ценных бумаг и государственного долга США как в 2008–2014 гг. – на этот раз в неограниченном количестве, – ФРС решила направить помощь далеко за пределы финансового сектора. Когда я работал над статьёй «Невидимая глобальная революция»[3] два года назад, я упомянул в тексте, что «недавние скачки фондовых индексов… были спровоцированы вмешательством крупных институциональных игроков», но личности этих игроков в то время ещё не были известны. Тот факт, что ФРС покупала корпоративные облигации, свидетельствует о том, что она предоставляла деньги напрямую нефинансовому сектору, играя роль обычного банка. Но насколько успешной была нетрадиционная политика ФРС?
Америка чихнула – мир слёг с простудой
Потенциальный ответ на этот вопрос можно найти в истории Британской империи. В 1945 г. в меморандуме, получившем распространение среди членов британского военного кабинета и описывающем ошеломляющий долг, накопленный правительством Великобритании за годы Второй мировой войны, известный экономист Джон Мейнард Кейнс писал: «Хитростью и добротой мы убедили внешний мир одолжить нам более 3 млрд фунтов стерлингов. Размер этого долга сам по себе является защитой. Старая поговорка верна. Задолжал своему банкиру 1 тысячу фунтов стерлингов – и ты в его власти, а когда ты должен ему 1 миллион фунтов стерлингов – ситуация меняется на противоположную». Итак, если правительству Великобритании было достаточно 3 млрд фунтов стерлингов, чтобы держать своих кредиторов в страхе, насколько более эффективными были бы 30 трлн долларов, заимствованные американским правительством с той же целью?
Эта история не закончилась благоприятно для британцев, которым пришлось после войны распустить свою империю, несмотря на предпринимавшиеся попытки сохранить её. Было бы по-другому в случае США?
Вызов, брошенный Россией старому порядку, стал первым в череде будущих потрясений – сегодня можно ожидать и враждебных действий со стороны Китая. Мир вступает на неизведанную территорию, и неожиданное может произойти в любой момент, поэтому строить прогнозы бессмысленно.
Оригинальная версия статьи была опубликована на сайте Russia in Global Affairs 14 сентября 2022 года. См.: https://eng.globalaffairs.ru/articles/the-winner-takes-it-all/
СНОСКИ
[1] Wallerstein I. The Modern World-System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. University of California Press. 2011
[2] Сурков В. Куда делся хаос? Распаковка стабильности // Актуальные комментарии. 20.11.2021. URL: https://actualcomment.ru/kuda-delsya-khaos-raspakovka-stabilnosti-2111201336.html (дата обращения: 17.10.2022).
[3] Ivanenko V. An Invisible Global Revolution // Russia in Global Affairs. 2020. Vol. 18. No. 2. P. 48-53. URL: https://eng.globalaffairs.ru/articles/an-invisible-global-revolution/ (дата обращения: 17.10.2022).

Российский допинг для американской гегемонии
Восприятие России как угрозы не усиливает материальную базу американской гегемонии
АЛЕКСАНДР НЕСМАШНЫЙ
Младший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований ИМИ МГИМО(У) МИД России.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Несмашный А.Д. Российский допинг для американской гегемонии // Россия в глобальной политике. Т. 20. № 6. С. 35-48.
Статья отражает результаты исследования, выполненного за счёт гранта Российского научного фонда № 22-18-00664, https://rscf.ru/project/22-18-00664/.
В среде экспертов и исследователей-международников в последние десять лет стало модно говорить об упадке американской гегемонии. Утверждение, которое раньше активно продвигали лишь некоторые марксисты[1], постепенно становится общепринятым: пик доминирования Соединённых Штатов в мировой политике прошёл[2].
О закате гегемонии всерьёз заговорили не впервые. Похожие настроения царили и в 1980-е годы. Тогда оптимисты утверждали, что на смену периоду единоличного верховенства Вашингтона в западном мире придёт эпоха трёхсторонней гегемонии (США, Япония, ФРГ)[3] или сформируется некий гармоничный мир «после гегемонии»[4]. У подобных настроений были причины: в 1968–1980 гг. доля Соединённых Штатов в мировом ВВП сократилась с 39 до 26 процентов, а экономики Японии и ФРГ по совокупному объёму почти догнали США. Японские автомобили и другие промышленные товары вытесняли американские примерно так же, как китайская микроэлектроника захватила американский рынок сегодня.
Однако слухи об упадке оказались сильно преувеличены: вместо обещанного заката наступил период супергегемонии. Американцам удалось устранить конкуренцию со стороны Японии соглашением Плаза 1985 г.: ревальвация иены вскрыла уязвимые места японской финансовой системы и тем самым обеспечила азиатскому тигру «потерянные десятилетия» экономического спада. Но главное – окончание холодной войны и распад Советского Союза вдохнули новую жизнь в американский проект. Вашингтон наслаждался идейной монополией периода «конца истории», когда любые его внешнеполитические инициативы не встречали значимого сопротивления. Соединённые Штаты не только смогли снизить военные расходы, но и существенно расширили сферу своего влияния. Американские советники вводили страны социалистического блока в мировую экономику. Пусть и не сразу, но расширилась НАТО. На этом фоне в 1994 г. удалось реформировать ГАТТ, учредив ВТО и укрепив таким образом режим свободной торговли на мировом уровне. Основы созданного американцами мирового порядка упрочились.
Нынешняя трансформация во многом похожа на динамику 1970-х гг.: мировой финансовый кризис в основном ударил по развитым странам, как и нефтяной кризис 1973-го; Соединённые Штаты опять выводят свои войска из азиатской страны, покидая союзников; доля США в мировом ВВП снова просела от пиковых значений. Однако исход процессов сорокалетней давности подсказывает, что и в сегодняшней обстановке ставить крест на американской гегемонии рано.
На чём стоит гегемония
Под гегемонией понимается легитимное лидерство, которое, в отличие от формальной империи[5], осуществляется в условиях де-юре равенства государств. Гегемония зиждется на двух столпах. Во-первых, она основана на предоставлении клубных и общественных благ, что регулируется международными режимами. Например, в поддержании единства советского блока далеко не последнюю роль играл СЭВ. Те же режимы иногда обеспечивают вклад союзников в достижение общих целей, чтобы избежать проблемы «безбилетника». Во-вторых, гегемон должен обладать механизмами принуждения, основная цель которых – обеспечить выполнение правил, когда они устраивают гегемона, или заставить других переписать правила, если гегемон сочтёт это необходимым. Эти два элемента создают систему позитивных и негативных стимулов для других её участников, которые принимают решение, примыкать ли к гегемону и к какому. Примкнувшие постепенно вплетаются в сеть формальных и неформальных институтов, межэлитных социальных отношений, призванных обеспечить лояльность союзников гегемона и их готовность нести издержки ради целей, определяемых гегемоническим проектом.
США предоставляли своим союзникам доступ к двум основным благам, которые являются скорее клубными (то есть касаются лишь тех, кто входит в гегемонический блок), чем общественными: к безопасности и экономическому процветанию. Безопасность обеспечивается через сеть двусторонних (система оси и спиц в Азии, соглашения о свободной ассоциации) и многосторонних альянсов (НАТО, Пакт Рио, АНЗЮС, AUKUS и «Пять глаз»). Исторически Соединённые Штаты внесли вклад в экономическое развитие своих союзников через План Маршалла, а также различные двусторонние программы. Основную же роль в сохранении и накоплении богатства играют институты Вашингтонского консенсуса и ГАТТ-ВТО. Впрочем, экономика и безопасность – это лишь фундамент: США в разные исторические периоды содействовали глобальному управлению в различных функциональных областях (например, деколонизация, глобальное управление интернетом, стратегическая стабильность, ядерное нераспространение, борьба с изменением климата и другие), зачастую вступая в ситуативные коалиции с другими участниками международной системы. На протяжении отдельных периодов либералы пытались добавить ещё один элемент в данное уравнение – демократизацию. Хотя отдельные моменты этой стратегии воплотились в жизнь (деятельность USAID, различных фондов, операции по смене режима), демократия так и не стала общественным благом, поддержание которого США могли бы поставить себе в заслугу. Слишком ненадёжными и разрушительными по своим последствиям оказались рецепты по её распространению.
Вопреки устоявшемуся мнению, современная теория однозначно утверждает, что гегемония и миропорядок аналитически разделимы[6]. Гегемон способен как создавать порядок, так и разрушать его в случаях, когда отдельные нормы или режимы противоречат его целям. Это означает, что ослабление порядка не обязательно подразумевает ослабление гегемона, и наоборот. Что касается собственно гегемонии, в исходной древнегреческой трактовке под ней понималось лидерство в рамках военного союза[7]. Гегемон выступает своего рода брокером собственных интересов и интересов своих союзников, являясь основным центром координации коллективных действий.
Гегемонов в международной системе, как, например, в биполярный период, может быть несколько, причём каждый со своим блоком.
Гегемон предлагает некий проект (того, что нужно делать сейчас, и будущего порядка) и требует от союзников усилий по его продвижению. Союзники готовы нести соответствующие издержки, если поддерживают проект и/или боятся принуждения. Но гегемония сильнее, когда нужнее: тогда можно обеспечить больше усилий для достижения целей своего проекта и затратить меньше усилий для принуждения союзников. Полезность клубных благ для разных членов гегемонистского блока неодинакова. Например, развивающиеся страны, которые специализируются на экспорте продукции с низкой добавленной стоимостью и/или негативным эффектом масштаба, получают меньше выгод от свободной торговли, чем развитые. С другой стороны, многочисленные программы международного содействия развитию, кредитные инструменты МВФ в большей степени интересуют развивающиеся страны. И ещё пример: то, что некоторые правительства могут воспринимать как благо (например, борьба с коммунистической идеологией), другие воспримут как зло.
Относительно сферы безопасности американский политолог Стивен Уолт утверждал, что важно не то, насколько слабой является страна, а то, насколько защищённой она себя чувствует[8]. Угроза со стороны далеко расположенного государства, как правило, воспринимается более спокойно, чем угроза соседа. Чем более экспансионистскими и агрессивными кажутся соседи, тем острее страна чувствует потребность в защите. И тогда присоединение к гегемонистическому проекту наиболее востребовано, страна готова пойти на значительные издержки, чтобы получить внешнюю протекцию, особенно когда она неспособна защитить себя самостоятельно.
Американская гегемония и демонтаж мирового порядка
Нельзя сказать, что Соединённые Штаты раньше не проводили демонтаж отдельных элементов мирового порядка. После окончания биполярного противостояния США практически перестали нуждаться в поддержке стран «третьего мира», и в 1996 г. вышли из ЮНИДО, организации, которая фокусируется на промышленном развитии, а не на «благотворительном колониализме». Республиканцы не поддержали Римский статут и Международный уголовный суд, фактически заблокировав деятельность наднациональных институтов в сфере уголовного правосудия. Уже эти примеры отражают один из основных элементов американской стратегии последних тридцати лет: создавать клубные блага для себя и своих союзников, а не общественные блага для всего мира.
Однако не так важно, что происходит с формирующимися режимами, как то, как меняется структура глобального управления вокруг ключевых функций: обеспечения безопасности и условий для экономического развития[9].
В сфере глобальной торговли Соединённые Штаты перестали быть спонсором свободного трансграничного передвижения товаров и стали одним из самых активных его оппонентов. Сначала (после 2001 г., так называемого «Дохийского тупика») США не смогли согласовать с другими странами проект реформы ВТО. Затем, в 2016 г., Соединённые Штаты воспользовались технической процедурой ветирования, чтобы заблокировать назначение новых членов (судей) Апелляционной палаты Органа по разрешению споров ВТО[10]. В результате к 2019 г., когда подошёл к концу срок полномочий старых арбитров, высший судебный орган ВТО прекратил функционировать, а значит – любые торговые споры в рамках ВТО могут вечно ожидать рассмотрения, что позволяет безнаказанно вести торговые войны. США подорвали один из двух основных режимов мирового порядка, который сами и создали. Что ещё более показательно, в Вашингтоне по этому вопросу возник двухпартийный консенсус. В отличие от скорейших шагов по возврату в Парижское соглашение, Джо Байден не спешит изменять политику предшественника по вопросу функционирования Апелляционного органа ВТО. Объём благ, предоставляемых в рамках американского гегемонистского проекта, уменьшился – особенно этот процесс затронул развитые и крупные развивающиеся страны.
Торговые войны и политически мотивированные санкции стимулируют поиск альтернатив американскому экономическому проекту, способствуя распаду единой системы на техноэкономические блоки[11]. Впрочем, деградация глобального экономического управления пока не достигла терминальной стадии, и многие мировые финансово-экономические режимы продолжают функционировать, в том числе при определяющей роли Вашингтона.
В новых реалиях соперничества великих держав решающую роль для определения состояния гегемонии играет режим безопасности, выстроенный вокруг военных союзов США. После окончания биполярного противостояния НАТО потеряла былое предназначение и столкнулась с кризисом идентичности: зачем нужна организация без угрозы со стороны Советского Союза? Однако почти сразу замаячила возможность переориентировать институты на другие задачи[12]. Войны в Югославии потребовали от альянса разработки форматов ограниченного вмешательства в локальные конфликты. Для оправдания этих действий удобными оказались концепции «права на защиту», «человеческой безопасности» и «гуманитарной интервенции». Если на первом этапе (1993–1995) американцы ограничились установлением бесполётной зоны с мандата ООН, то операция «Обдуманная сила» (1995), также санкционированная СБ ООН, и несанкционированные бомбардировки Сербии (1999) являли собой качественно новый уровень вмешательства. В дальнейшем силы НАТО оказались задействованы в Афганистане и Ливии.
Однако союзники Соединённых Штатов по НАТО менее остро воспринимали угрозу локальных конфликтов, нежели некогда угрозу со стороны СССР. В Европе сформировалось сообщество безопасности и постсовременное общество, в которых дилемма безопасности была по большей части решена. Как результат – в НАТО возникла проблема поддержания целевого уровня военных расходов в 2 процента ВВП. Например, Германия в 2000–2010-е гг. тратила лишь 1,1–1,3 процента ВВП на оборону, а Франция, проводящая большое количество самостоятельных военных операций в Африке, не каждый год достигала двухпроцентного показателя.
Военные расходы внутри альянса – вклад государства в поддержание общей обороноспособности. А в рамках контрактов с американскими союзниками существенную выгоду получает американский ВПК – таков один из механизмов компенсации расходов США на гегемонию. Угрозы, с которыми сталкивались страны Европы и которые воспринимались как более важные (изменение климата, беженцы), решались не с помощью американских военных баз в Европе, деятельности НАТО и увеличения оборонных расходов. США в последние двадцать лет тратят около 4 процентов своего ВВП на военные расходы. Лишь малую часть можно объяснить защитой от Северной Кореи и тем более от Ирана. После фактического сворачивания войны с терроризмом расходы на поддержание военного присутствия за рубежом больше не приносят немедленных выгод. Однако позволяют поддерживать инфраструктуру гегемонии в «мирное» время в рамках обмена относительной лояльности участников гегемонистского блока на защиту от потенциальных угроз[13].
В Европе возрастало число недовольных таким обменом, особенно по мере того, как Соединённые Штаты отказывались от активной роли в поддержании отдельных выгодных странам Европы режимов мирового порядка, всё больше прибегали к инструментам принуждения в отношении стран ЕС. Понятно, что это произошло не на пустом месте. США столкнулись с реальной угрозой гегемонии – Китаем, который наращивает международное сотрудничество и совместно с другими великими и средними державами выстраивает альтернативные институты, прежде всего в финансово-экономической сфере. С КНР, в отличие от Японии, гораздо сложнее договориться – Китай мощнее экономически, он никогда не входил в американскую сферу влияния, он не зависит от Соединённых Штатов в военной сфере, имеет отличные от западных ценности, а его элита не так сильно интегрирована в глобальную. В новых условиях Вашингтон переориентировал свой проект на противостояние Китаю, демонтировал торгово-экономический режим, который способствовал китайскому подъёму, а также воспользовался инструментом принуждения своих союзников с целью сдерживания КНР.
Европа не поддержала американские претензии к ВТО и торговую войну против Китая. По геополитическим причинам у Китая и Евросоюза меньше разногласий. Дополнительный импульс процессу обретения Европой суверенного стратегического мышления придал выход из ЕС Великобритании, традиционно поддерживающей более тесные отношения с США. В последние годы дискуссии по поводу этого процесса сосредоточились вокруг понятия стратегической автономии[14]. Сторонники такого курса недовольны тем, что страны Европы уязвимы перед внешним давлением и фактически неспособны без содействия внешних сил добиваться внешнеполитических целей.
Европейские политики и эксперты постоянно подчёркивают, что стремление к стратегической автономии не подрывает НАТО и европейско-американское сотрудничество. В реальности страны Евросоюза выстраивали, пусть и весьма неспешно, военно-политическую основу для проведения суверенной политики – под брюзжание стран Восточной Европы о том, что Европа принимает недостаточно мер для сдерживания России.
В России на европейские усилия в области безопасности принято смотреть свысока. Вместе с тем после учреждения в 1999 г. общей внешней политики и политики безопасности силы ЕС провели шесть наземных военных операций в Македонии, ДРК, Боснии, Чаде и ЦАР, три военно-морских операции, ряд полицейских и тренировочных миссий за рубежом. Это примерно сопоставимо по количеству (пусть и не по масштабу) с количеством российских военных операций за рубежом за тот же период. Ну и среди российских операций действительно многосторонней была лишь недавняя миротворческая миссия в Казахстане. В Европейском союзе же есть институты коллективных военных действий, которые допускают, но не требуют участия США.
Показательно, что анонсированный, но так и не реализованный Трампом вывод около 10 тысяч американских военнослужащих из Германии вызвал неоднозначную реакцию в стране – согласно опросу, 47 процентов немцев поддержали сокращение числа американских солдат на их территории и только 28 процентов выразили мнение, что эта цифра должна остаться прежней[15]. А цель была «наказать» не повышающую свои военные расходы Германию.
Результат курса на автономию проявился и в текущем кризисе – ЕС организует собственную, не под эгидой НАТО, тренировочную миссию для Украины.
Все? это означает, что европейские союзники США меньше нуждаются в американской гегемонии, и стремятся к большей независимости.
Впрочем, суверенизацию Европы не следует переоценивать. Идейная общность Европы и Америки, сплочённость их элит, а также близкий уровень развития экономик способствует тому, что их преференции в отношении друг друга часто совпадают. Зато за пределами ЕС американское пренебрежение преференциями в отношении союзников в последние десятилетия вытолкнуло многих (включая Филиппины, Таиланд, Турцию и целый ряд стран Латинской Америки) из общей «обоймы» гегемонистского блока, фактически повернув вспять процесс его расширения.
Украинский конфликт и допинг для гегемона
Кризис на Украине 2014 г. привёл к тому, что НАТО вернулась к первоначальной задаче – сдерживанию России. А Соединённым Штатам наконец удалось заставить своих союзников наращивать расходы на оборону. На саммите в Уэльсе в сентябре 2014 г. закреплены обязательства «остановить любое снижение расходов на оборону» и «стремиться к тому, чтобы приблизиться к рекомендуемому показателю в 2 процента ВВП в течение десятилетия»[16]. Можно сказать, что в 2014 г. европейские союзники США подтвердили сплочённость гегемонистского блока, продемонстрировав готовность идти на существенные издержки, связанные с санкциями и контрсанкциями. Однако тогда процесс всё же не был всеобъемлющим и необратимым[17]. Европейские члены НАТО, кроме Польши и стран Балтии, не восприняли действия России как угрозу национальной безопасности. Например, Германия держала в 2014–2018 гг. оборонные расходы на минимальном уровне за всю современную историю.
Разница в восприятии действий России странами Европы определяется в том числе географией. В 2014 г. угрозу со стороны России в основном почувствовали страны Балтии и Польша, чей политикум, правда, не переставал говорить об «угрозе с Востока» с момента распада Варшавского блока. После миграционного кризиса, начавшегося в 2015 г., ряда терактов в странах Европы и на фоне секьюритизации изменения климата российская угроза отошла на второй план[18]. Согласно опросам общественного мнения, Россия была лишь шестой в списке наиболее важных угроз, а в отдельных странах ЕС могущество США и Китая считали более насущной опасностью[19]. В Соединённых Штатах, наоборот, восприимчивость к российской угрозе выросла на фоне подозрений о вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
Однако к тому времени европейцы были уже не так воодушевлены американскими попытками сделать сдерживание России частью гегемонистского проекта: несмотря на отсутствие полноформатного взаимодействия, в 2016–2020 гг. началась реализация «Северного потока – 2», были установлены контакты между ЕС и ЕАЭС, чего ранее не делалось по политическим соображениям. Иллюстрацией дистанции между берегами Атлантики могут послужить санкции после отравления Скрипалей в 2018 г.: США ввели серьёзные финансовые ограничения против российского госдолга, а Евросоюз ограничился расширением «чёрных списков» и высылкой небольшого числа дипломатов.
Несмотря на очевидные аналогии с кризисом 2014 г., новый виток эскалации в 2022 г. привёл к последствиям принципиально иного уровня. Подавляющее большинство жителей ЕС считает события на Украине угрозой национальной безопасности своих стран[20]. Восприятие России как угрозы привело к резкому росту заинтересованности в сотрудничестве с США и НАТО. В Швеции и Финляндии число сторонников членства в НАТО превысило половину, в итоге две скандинавские страны полностью отказались от политики нейтралитета.
Серьёзность европейских опасений подтверждается ростом оборонных расходов. Германия сформировала специальный фонд на 100 млрд евро для модернизации вооружённых сил. По оценкам немецких экспертов, Европа имеет весь спектр производственных мощностей, необходимых для создания современных систем вооружений, однако именно партикуляризм стран Евросоюза препятствует решению проблем обороноспособности и оперативной совместимости[21]. И хотя эксперты говорят о больших сложностях в реальной ремилитаризации Европы, сегодняшние обстоятельства наилучшим образом способствуют принятию соответствующих решений.
На санкционном фронте ранее невиданное единодушие: удаётся согласовывать ограничительные меры на полях таких диалоговых форумов, как «Большая семёрка», в рамках антироссийских ограничений страны Запада открыто отказались от соблюдения принципа наибольшего благоприятствования, одной из двух основополагающих норм международного торгового режима ВТО. За пределами Европы показательно присоединение к санкционному давлению Японии, Сингапура, Южной Кореи и Тайваня, которые старались не ухудшать отношения с Россией в 2014 году. Впрочем, они смотрят на мир через другую призму: именно угроза со стороны Китая является основным источником их повышенной лояльности американскому проекту.
Конечно, остаётся проводящая независимый курс Турция, но в целом гегемония заметно усиливается: США практически не сталкиваются с сопротивлением союзников при реализации своих инициатив. Кризис укрепляет союзнические связи, позволяет отработать инструментарий экономической войны, даёт повод отказаться от тех элементов старого порядка, которые уже не устраивают Соединённые Штаты. Глава европейской внешней политики Жозеп Боррель прямо призывает «прекратить теологические дискуссии по поводу стратегической автономии»[22]. В результате в период формирования нового мирового порядка Вашингтон входит с крайне лояльными союзниками, готовыми не просто поддерживать его на словах, но и нести сопутствующие издержки. Мы наблюдаем закат мирового порядка, у истоков которого стояли Соединённые Штаты, однако никто не может гарантировать, что следующий мировой порядок не будет снова американским. Никто из других претендентов на то, чтобы сказать веское слово по поводу будущих правил мирового устройства, таким союзническим ресурсом не обладает.
Но как допинг не заменит полноценные тренировки, так и восприятие России как угрозы не усиливает материальную базу американской гегемонии и не помогает сформулировать более привлекательный проект.
В долгосрочной перспективе конфликт на Украине отвлекает США от Китая, основного претендента на гегемонию.
Сегодня увеличение европейской военной мощи, безусловно, выгодно Соединённым Штатам – они давно этого добивались. Однако, если кризис будет урегулирован или хотя бы эффективно заморожен (что сейчас кажется невероятным, но в конечном итоге неизбежно) и Европа перестанет бояться Россию, успев к тому времени запустить свою оборонную промышленность, разогретый европейский ОПК превратится в чеховское ружьё, которому понадобится найти новое применение. Это сделает военную поддержку США ненужной, а учитывая её высокий «ценник», даже вредной. В такой перспективе оба пряника американского проекта – экономическое развитие и обеспечение безопасности – перестанут работать в Европе. Ведь известно, что одного принуждения для поддержания гегемонии недостаточно.
Вместо заключения
В разрушении мирового порядка многие видят упадок Америки, но это не обязательно так. В осыпающемся мире правит сильный, а объём военных и экономических ресурсов США и их союзников остаётся непревзойдённым. Деградация международных институтов открывает возможности для переписывания правил. На протяжении последних лет Соединённые Штаты последовательно действовали против свободной торговли с преференциями для развивающихся стран, поскольку такой режим обеспечил превращение Китая в новую сверхдержаву.
Российская спецоперация на Украине даёт возможность сделать основные принципы мировой торговли избирательным инструментом, а не всеобщим благом. Если раньше американские усилия по подрыву режима ВТО наталкивались на оппозицию Европы, то теперь, по крайней мере в отношении России, никаких затруднений не возникнет.
Конечно, Соедине?нным Штатам не выгодно размывание ялтинского слоя международного порядка. Раньше запрет на применение силы для разрешения международных споров игнорировался лишь Соедине?нными Штатами. После иранских ракетных ударов, азербайджанского наступления в Карабахе, турецких интервенций и российской спецоперации на Украине США фактически лишились монополии на нарушение международного права. Впрочем, нельзя сказать, чтобы этой монополией они распоряжались достаточно мудро.
СНОСКИ
[1] Du Boff R.B. US hegemony: continuing decline, enduring danger // Monthly Review. 2003. Vol. 55. No. 7. P. 1-15. DOI:10.14452/MR-055-07-2003-11_1; Wallerstein I. The decline of American power: The US in a chaotic world. New York and London: New Press, 2003. 324 p.
[2] Tamaki N. Japan’s quest for a rules-based international order: the Japan-US alliance and the decline of US liberal hegemony // Contemporary Politics. 2020. Vol. 26. No. 4. P. 384-401. DOI: 10.1080/13569775.2020.1777041; Лахман Р. Пассажиры первого класса на тонущем корабле: Политика элиты и упадок великих держав. М.: Издание книжного магазина «Циолковский», 2022. С. 524–534; Cooley A., Nexon D. Exit from hegemony: the unraveling of the American global order. Oxford University Press, 2020. 280 p.; Сафранчук И., Лукьянов Ф. «Американское стремление сохранить свою гегемонию похоже на сизифов труд» // Россия в глобальной политике. 1.03.2022. URL: https://globalaffairs.ru/articles/amerikanskiy-sizifov-trud/ (дата обращения: 12.10.2022).
[3] Gill S. Hegemony, consensus and Trilateralism // Review of International Studies. 1986. Vol. 12. No. 3. P. 205–222. DOI:10.1017/s0260210500113932.
[4] Keohane R. After hegemony. Princeton: Princeton University Press. 1984. 290 p.
[5] Schroeder P. Is the U.S. an Empire? // History News Network. URL: https://historynewsnetwork.org/article/1237 (дата обращения: 12.10.2022).
[6] Ikenberry G.J., Nexon D.H. Hegemony studies 3.0: The dynamics of hegemonic orders // Security Studies. 2019. Vol. 28. No. 3. P. 395-421.
[7] Андерсон П. Перипетии гегемонии. 2018. Издательство Института Гайдара. С.10. 296 с.
[8] Walt S.M. Alliance formation and the balance of world power // International security. 1985. Vol. 9. No. 4. P. 3-43.
[9] Nesmashnyi A.D., Zhornist V.M., Safranchuk I.A. International Hierarchy and Functional Differentiation of States: Results of an Expert Survey // Mgimo Review of International Relations. 2022 Vol. 15. No. 3. P. 7-38. DOI: 10.24833/2071-8160-2022-olf2.
[10] Калачигин Г. Апелляция «в никуда» // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. № 5. С. 193-206. DOI: 10.31278/1810-6439-2022-20-5-193-206.
[11] Likhacheva A.B. Unilateral Sanctions in a Multipolar World // Russia in Global Affairs. 2019. Vol. 17. No. 3. P. 109-131. DOI: 10.31278/1810-6374-2019-17-3-109-131.
[12] Wallander C.A. Institutional assets and adaptability: NATO after the Cold War // International organization. 2000. Vol. 54. No. 4. P. 705-735.
[13] Истомин И., Байков А. Альянсы на службе гегемонии: деконструкция инструментария военно- политического доминирования // Полис. Политические исследования. 2020. № 6. С. 8-25. DOI: https://doi.org/10.17976/jpps/2020.06.02.
[14] Howorth J. Strategic autonomy and EU-NATO cooperation: threat or opportunity for transatlantic defence relations? // Journal of European integration. 2018. Vol. 40. No. 5. P. 523-537; Fiott D. Strategic autonomy: towards ‘European sovereignty’in defence // European Union Institute for Security Studies (EUISS). 2018. No. 12. P. 1-8; Tocci N. European strategic autonomy: what it is, why we need it, how to achieve it. Rome: Istituto Affari Internazionali, 2021. 39 p.; Щербак И. Стратегическая автономия Евросоюза на перепутье // Научно-аналитический вестник Института Европы РАН. 2021. № 2. С. 34–40.
[15] Kirchick J. You wouldn’t know it from the coverage, but most Germans are fine with Trump’s withdrawal of US troops // Brookings. 11.08.2020. URL: https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/08/11/you-wouldnt-know-it-from-the-coverage-but-most-germans-are-fine-with-trumps-withdrawal-of-us-troops/ (дата обращения: 24.03.2022).
[16] Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Уэльсе // НАТО. 5.09.2014. URL: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm?selectedLocale=ru (дата обращения: 24.03.2022).
[17] Истомин И., Болгова И., Сушенцов А., Ребро О. Логика эволюции НАТО: достижения и перспективы // Мировая экономика и международные отношения. 2020. Т. 64. № 1. С. 26-34. DOI: https://doi.org/10.20542/0131-2227-2020-64-1-26-34.
[18] Pezard S., Radin A., Szayna T.S., Larrabee F.S. European Relations with Russia: Threat Perceptions, Responses, and Strategies in the Wake of the Ukrainian Crisis // Santa Monica: Rand Corporation, 2017. 99 p. URL: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1579.html (дата обращения: 24.03.2022).
[19] Stokes B., Wike R., Poushter J. Europeans Face The World Divided // Pew Research Center. 13.06.2016. URL: https://www.pewresearch.org/global/2016/06/13/europeans-see-isis-climate-change-as-most-serious-threats/ (дата обращения: 24.03.2022).
[20] Public opinion in the European Union. Standard Eurobarometer 97. Summer 2022 // European Union. September, 2022. URL: https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2693 (дата обращения: 01.10.2022).
[21] Röhl K.H., Bardt H., Engels B. Zeitenwende für die Verteidigungswirtschaft? // Institut der deutschen Wirtschaft. 15.08.2021. URL: https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/policy_papers/PDF/2022/IW-Policy-Paper_2022-Verteidigungswirtschaft.pdf (дата обращения: 01.10.2022).
[22] Borrel J. The future of Europe is being defined now // EEAS. 3.03.2022. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/112157/future-europe-being-defined-now_en (дата обращения: 24.03.2022).

Грандиозный раскол
Краткий путеводитель по формированию нового мирового порядка
ПЁТР ДУТКЕВИЧ
Профессор политологии и директор Центра управления и государственной политики Карлтонского университета в Оттаве, Канада.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Дуткевич П. Грандиозный раскол // Россия в глобальной политике. Т. 20. № 6. С. 22-34.
Новый мировой порядок маячит на горизонте три последних десятилетия[1]. Сегодня мы уже видим его контуры, основные векторы развития, главных действующих лиц и их коллективные интересы. Негативные черты нынешнего мирового порядка проявляются в полной мере и весьма драматично: они включают войны, деградацию окружающей среды, бедность и ослабление демократии. Позитивные альтернативы, за которые радеют критики нынешнего мирового устройства, пока находятся в процессе формирования.
Моя цель – обрисовать сложный процесс того, что я называю «Грандиозным расколом». Некоторые из так называемых «остальных» (страны за пределами западного сообщества) подвергли сомнению правление Запада[2], перейдя от конкуренции к конфронтации, а от конфронтации к конфликту. По сути, это означает разрушение международного порядка, основанного на правилах.
Становление нового мирового порядка, если описывать этот процесс крупными мазками, можно разделить на три этапа.
Первый этап: Междуцарствие
Наша история начинается на закате XX века, когда зрелая глобализация стала проявлять многочисленные неприглядные стороны. Среди них, например, укоренение финансового капитала, дисбаланс между экономикой и экологией, растущая бедность в мире, создание и внедрение новых форм глобальных/региональных гегемоний[3]. Этот отрезок мировой истории макросоциолог Зигмунт Бауман назвал «Междуцарствием»[4]. В конце XX века, писал он, мы оказались в ситуации, «когда существующие правовые рамки общественного порядка утрачивали эффективность и не могли дальше сохраняться, в то время как новые рамки, создаваемые по меркам формирующихся новых реалий, делающих старые рамки бесполезными, всё ещё находились на стадии планирования». Короче говоря, старое умирало, а новое только народилось, было недостаточно мощным и структурно развитым, чтобы произвести какие-либо значимые изменения в мировом хозяйстве и переформатировать глобальные механизмы власти.
Предреволюционное время характеризовалось рядом взаимосвязанных процессов.
Во-первых, произошёл разрыв между властью и политикой. Это привело к несоответствию между задачами, стоящими перед государствами, и инструментами, доступными им для решения многочисленных проблем – таких, как разрушение системы социального обеспечения, ухудшение экологии, рост миграционных потоков, и других[5]. Иными словами, политические ответы на кризисы были далеко не адекватными.
Во-вторых, как точно подметил венесуэльский журналист и писатель Мойзес Наим, начался процесс рассеивания власти от государства к негосударственным силам (экономическим, социальным и религиозным), в результате чего власть получила определённую свободу от политического контроля, но политика начала страдать от дефицита власти, о чём идёт речь выше[6].
Происходящее стало прелюдией к неизбежной конфронтации между глобальным гегемоном (коллективным Западом во главе с США) и ревизионистскими державами (во главе с Китаем, Индией, Ираном и Россией, стремящимися занять более значимое место за столом мировой власти и силы). Последние увидели возможность ограничить власть гегемона.
Все эти разломы не подтолкнули ни тех, ни других ключевых игроков[7] к решению принципиальных структурных, глобальных и внутренних, конфликтов, которые были и остаются основными причинами нестабильности в мире: например, богатство против бедности, однополярность против многополярности, антропоцентризм против биосферной экологии. По мере обострения конфронтации между западным ядром и раскольниками/ревизионистами, миропорядок становился всё более неустойчивым.
Традиционные центры силы обнаружили слабость и усталость от обязанностей по поддержанию упорядоченного подчинения ключевых политических игроков, обществ и экономических процессов.
В-третьих, обострилось противостояние между двумя противоположными тенденциями развития мировой политической и экономической системы. Одна проявлялась в универсализации планеты, что означало углубление стандартизации международных, технических и культурных норм и правил. Другая тенденция, поддерживаемая в основном ревизионистскими/диссидентскими странами, опиралась на идею цивилизационной поляризации и геополитической регионализации. Столкновение двух лагерей обострялось[8]. Но, поскольку не появилось никакой жизнеспособной альтернативной модели развития (за исключением Китая)[9], неолиберальный вариант глобализации оставался преобладающей версией мироустройства[10].
Отличительной чертой этого этапа Междуцарствия были также интенсивные интеллектуальные дебаты[11] о постгегемонистских, многополярных геополитических договорённостях. Но в то время они не способствовали внедрению каких-либо существенных изменений в политику отколовшихся стран и, за немногими исключениями, не привели к созданию новых институтов[12].
Второй этап: недовольство гегемоном
Этот этап был отмечен финансовым кризисом 2008–2012 годов[13]. Он запустил несколько крупномасштабных социально-экономических процессов и проявил пагубные последствия того, что одни называли иррациональным изобилием[14], а другие – глубоким кризисом развития[15].
Во-первых, так называемая финансиализация (массовый вывод капитала из торговли и производства в финансовые спекуляции) ослабила экономику и ухудшила общий уровень жизни людей во всём мире, непропорционально сильно ударив по развивающимся странам.
Во-вторых, как указывал американский экономист Джозеф Стиглиц, регуляторы перестали ограничивать представителей финансового капитала. Они потеряли способность удерживать их от «дурного поведения», поскольку утратили влияние на этот сектор капитала, попав под его власть[16].
Парадоксальный исход кризиса для ревизионистской группы заключался в том, что государства, которые «вели себя более или менее в соответствии с правилами рынка», например Китай или Россия, не меньше пострадали от «дурного поведения» других игроков, преимущественно американских банкиров, чем те, которые правила не соблюдали (конечно, «послушные» страны эмоционально называли это «несправедливостью»).
Отсутствие среди ключевых промышленно развитых стран единой реакции на кризис и солидарности в борьбе с его последствиями привело к тому, что группа ревизионистских государств начала целенаправленно добиваться ускорения процессов регионализации мирового порядка[17]. Это также укрепило их представление о необходимости институционализации несогласия (можно привести в пример развитие БРИКС, появление азиатских финансовых институтов, в частности Азиатского банка инфраструктурных инвестиций) и способствовало открытому выражению сомнений в целесообразности мирового порядка, основанного на правилах, поскольку он не содействовал их благополучию. Произошёл переход от обсуждения концепций нового мироустройства (многополярный мировой порядок) к их начальной реализации (объявление об инициативе «Пояс и путь» в 2013 г., создание ЕАЭС в 2014 г.). В этот период интеллектуальные дебаты в ревизионистском лагере сосредоточились на том, как совместить технологическую и политическую современность с социальным консерватизмом[18] и найти новые ценностные/нормативные рамки своего коллективного присутствия в мировой политике[19].
Слабость гегемона позволила несогласным изменить конфигурацию мироустройства и, пусть поначалу осторожно, бросить вызов Западу. Это был путь от противостояния гегемону и его союзникам к повышению ставок и прямому конфликту. Важную роль сыграло растущее недоверие между лидерами двух лагерей – например, понятие двойных стандартов, реальных или мнимых[20], стало весьма популярным в спорах[21]. Таким образом, жизненно важный компонент международных отношений под названием доверие стал большой редкостью, особенно в годы кризиса[22].
В-третьих, наступило время, когда (почти незаметно для «остальных», которые, похоже, не придали этому большого значения) западные страны претерпели сложную и глубокую внутреннюю эволюцию социально-экономического уклада на элитарном уровне. После десятилетий становления финансовый капитал открыто порвал с промышленным, столкнувшись с ним в стремлении к власти (примером тому служит борьба финансового и промышленного капиталов при администрации Дональда Трампа)[23]. Главным следствием для международных отношений стало то, что высшие представители доминирующего финансового капитала стали искать союзников в лагере «ревизионистов» – в надежде создать альянс с собратьями, политической и экономической элитой отколовшихся стран. Но они не смогли их там найти, поскольку высшие чины в этих государствах оставались преимущественно представителями промышленного капитала. Это серьёзно ослабило плотность связей и желание понять друг друга, поскольку элиты преследовали разные цели и руководствовались разными нормами.
В последние несколько десятилетий финансовая группа состояла из фракций «неолиберальных» элит, контролирующих движение финансового капитала, портфельные инвестиции и информационные технологии. Другая группа была представлена консервативной когортой политиков, поддерживаемых промышленным капиталом, ответственным за тяжёлую промышленность, военное дело, сельское хозяйство и добычу полезных ископаемых. Обе группы имели представителей в правительствах стран всего мира и глобальных политических элитах. Однако в какой-то момент – задолго до кризиса 2008 г. – финансовый капитал устал играть роль младшего брата промышленников и осмелился отправиться в самостоятельное путешествие. Финансовый капитал стремился снять с себя обязательства по поддержанию социальной стабильности внутри вассальных государств. К концу 1990-х гг. финансовый капитал начал участвовать в глобальных процессах как самостоятельная единица, независимая от промышленного капитала и стремящаяся к увеличению богатства.
Финансовый капитал отказался от принципов либеральной экономики и сосредоточил в своих руках капитал и власть.
Между тем представители промышленного капитала принадлежали к противоположной элитной группе, руководствующейся другими интересами. Они продвигали идею поддержания индустриального развития в рамках национальных государств и утверждали, что именно такая экономическая структура может обеспечивать занятость, экономический рост и благосостояние граждан. Промышленная группа по-прежнему защищала традиционалистский метанарратив, обеспечивавший легитимацию её целей и интересов, и настаивала на равенстве всех перед законом, социальной сплочённости, поддержании порядка, стабильности и консервативном образе жизни. Помимо этого, промышленные круги поддерживали традиционалистское понимание роли государства в различных сферах общественно-политической жизни[24].
Политическая элита ревизионистских стран адресовала претензии к правящей финансовой фракции западной элиты, которая не была заинтересована или способна её выслушать, не говоря уже об анализе её потребностей[25]. Для лидеров финансового капитала это были люди из прошлого, из другой реальности, которые должны учиться и подражать им, а не выдвигать свои требования.
Таким образом, геополитические последствия кризиса 2008 г. были более глубокими, чем может показаться на первый взгляд. Медленно, но неуклонно Запад и «остальные» меняли режим межгосударственных отношений, двигаясь от сотрудничества к конфронтации, а затем и к полномасштабному конфликту[26].
Третий этап: ускорение
Два события ускорили историю человечества[27] и формирование нового этапа в международных отношениях. Одно из них – глобальная пандемия COVID-19 (2020 г. – по сей день), другое – военная кампания на Украине (февраль 2022 г. – по сей день).
В данной статье не предполагается проводить подробный анализ социально-экономических последствий пандемии, поскольку материалов на эту тему достаточно[28]. Но стоит подчеркнуть, что кризис, вызванный коронавирусом, ускорил конкуренцию за менее доступные природные и другие экономические ресурсы, а также усилил государственный контроль над национальными экономиками. Это, в свою очередь, способствовало обострению международной напряжённости[29] вокруг доступа к ресурсам и разворачиванию борьбы за сферы влияния в мире, что послужило толчком к дальнейшему пересмотру существующего мирового порядка[30].
Военный конфликт на Украине определил отношения России и коллективного Запада на годы вперёд. К сожалению, он всё ещё продолжается, и траектория эскалации на данный момент неясна. Существует множество статей экспертов с глубоким анализом ситуации[31]. Поэтому сосредоточусь исключительно на основных тенденциях и последствиях происходящего для международных отношений.
Во-первых, произошёл сознательный выход России из «порядка, основанного на правилах», возглавляемого Западом. Российский международник Тимофей Бордачёв однажды проницательно отметил: «Как у страны, не связывающей свои жизненно важные интересы с международным порядком, у России нет стимула следовать коллективным правилам. Её действия будут определяться внешним сдерживанием, а не необходимостью учитывать интересы партнёров ради собственной безопасности»[32]. Россия – далеко не единственная страна, которая ведёт себя подобным образом. Ту же линию проводят экономические гиганты, Китай и Индия, и около десятка других стран с быстроразвивающейся экономикой. Отныне международные нормы не применяются повсеместно, а находятся в процессе пересмотра[33].
Во-вторых, идёт переоценка международных реалий на основе конструирования воображаемой «правды» и поиска «справедливости», с логикой которых соотносятся все действия.
В-третьих, специальная военная операция (СВО) России на Украине вынудила международных лидеров занять позицию либо осуждения, либо поддержки (или, по крайней мере, нейтралитета) в отношении конфликта.
«Грандиозный раскол» назревал на протяжении нескольких десятилетий. Теперь он происходит прямо у нас на глазах. Большинство стран Запада выступили против СВО[34]. Многие незападные страны, в частности Китай, Индия, Иран, Ирак и Пакистан[35], воздержались от осуждения России и стали нейтральными наблюдателями, негласно поддерживающими Россию и уклоняющимися от реализации объявленных Западом жёстких санкций[36].
Украинская кампания ускорила процессы формирования альянсов, основанных на сомнении в легитимности и функциональности существующего мирового порядка.
Выводы
Первое. Процесс противостояния западной гегемонии во главе с США и альтернативного мирового порядка, зревший десятилетиями, находится в полном разгаре. Вначале разрозненная группа государств с развивающейся экономикой, ведомая Китаем, Россией, Индией и Ираном, отрицала универсализацию западных норм, институтов, принципов и ценностей. Их вызов до недавнего времени был в основном облечён в цивилизационные/культурные термины.
Цивилизационная парадигма группы ревизионистов предусматривает поддержку регионального диалога, основанного на бесспорном принятии культурных норм всех его участников[37]. Такой подход вступает в прямое противоречие с западным порядком, основанным на правилах. Универсальный порядок, опирающийся на некие нормы поведения, по утверждению ревизионистских стран, культурно им чужд, поскольку не отвечает их интересам, духовным потребностям и властным устремлениям. Он, по их мнению, содержит в себе потенциал для открытых конфликтов и даже войн, поскольку культура может быть использована для продвижения реальных и воображаемых интересов, претензий и амбиций местных элит[38].
Второе. «Грандиозный раскол» становится причиной переоценки национальных интересов. Происходит как минимум два взаимосвязанных процесса.
Один – «секьюритизация всего», которая является реакцией на многочисленные угрозы и нестабильность. Вода, сырьё, энергия, долги, медицина и технологии – все аспекты социальных и рыночных отношений могут стать предметом национальной безопасности и, соответственно, должны быть защищены от открытого доступа со стороны других (в основном с помощью многочисленных торговых барьеров)[39].
Другой процесс выражается в том, что страны, которые обычно использовали понятие национальных интересов для защиты государственных активов, сегодня чаще берут на вооружение качественно более сильное понятие экзистенциальной угрозы. Посягательство на те активы, которые входят в критически важный список, может легко ускорять политические или экономические региональные/глобальные конфликты и войны.
Третье. Глубокая трансформация идеи и практики суверенитета – важное следствие «Грандиозного раскола». Понятие суверенитета является основополагающим для современной политики. Как отметил немецкий профессор Кристиан Фольк, оно создало базовую концептуальную классификацию «безопасности, мира, иерархического качества государств, запрета на вмешательство в их внутренние дела и так далее, позволив сформулировать постулаты о сущности права…, базовой конфигурации государственной власти и соотнести эти представления друг с другом»[40]. Поведение государств исторически определялось их относительной силой, но в последнее десятилетие мы наблюдаем трансформацию «суверенитета как права»[41] (защита своей территории, людей и активов) в «суверенитет как способность». Попросту говоря, чем вы сильнее, тем больше суверенитета сможете истребовать для своего государства; тем более «независимым будет данное государство в отношениях с другими государствами». Из этого следует, что лишь несколько стран в настоящее время обладают «способностью быть суверенными». Суверенитет предполагает сочетание военных, экономических, общественных, культурных и духовных сил. Страны, обладающие этой способностью, естественно, становятся лидерами мира. Для других это означает, что они либо будут соглашаться с доминированием и подчиняться диктату более сильных игроков, либо выберут рискованный, но не безнадёжный путь вступления с ними в конфликт[42].
Суверенитет, понимаемый как способность, также означает для ведущих государств разную степень свободы от многих международных норм и обычаев. Прежде всего, от понятия равенства всех стран перед законом.
Четвёртое. Хаотичность мировой политики усугубляется слабостью современных государств. Прошу прощения за странное сравнение, но мне кажется, что многие страны напоминают страусиное яйцо с твёрдой скорлупой и мягким содержимым. Видимость сильного руководства, способного сделать страну безопасной экономически и политически, идёт рука об руку с институциональной и экономической слабостью и неэффективным управлением. Признание лидерами плачевного состояния своих стран приводит их к страху потерять власть внутри страны и независимость на международной арене. Этот страх становится сутью политики, мощным фактором принятия политических решений. Таким образом, слабость, а не сила является источником многих конфликтов[43].
Наконец, как управлять тем хаосом, в который мы так глубоко погрузились? К сожалению, на нынешнем этапе развития международных отношений ответ один – нужно заново открыть для себя понятие региональных гегемоний. Старая гегемонистская система находится в упадке, а новая уже выложена на стол[44].
Уродливая эпоха военных конфликтов может стать новой нормой. Но, независимо от происходящего сегодня, думаю, мы должны верить в утопию мира во все?м мире и следовать рекомендации Римского папы Франциска – «предложить знамение надежды миру, страдающему от конфликта на Украине и глубоко раненому жестокостью продолжающихся многочисленных войн».
СНОСКИ
[1] Scholte J.A. Globalization: A Critical Introduction. London: Palgrave Macmillan, 2005. 400 p.
[2] Sewpaul V. The West and the Rest Divide: Human Rights, Culture and Social Work // Journal of Human Rights and Social Work. 2016. Vol. 1. P. 30–39.
[3] Dutkiewicz P., Casier T., Scholte J.A. (Eds.) Hegemony and World Order: Reimagining Power in Global Politics. London, N.Y.: Routledge, 2020. 296 p.
[4] Bauman Z. Times of Interregnum // Ethics & Global Politics. 2012. Vol. 5. No. 1. P. 49–56.
[5] Georgieva K. Facing Crisis Upon Crisis: How the World Can Respond // International Monetary Fund. 14.04.2022. URL: https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/04/14/sp041422-curtain-raiser-sm2022 (дата обращения: 15.09.2022).
[6] Власть здесь определяется как многогранное и сложное понятие, охватывающее весь спектр государственных ресурсов, используемых для оказания влияния на другие страны с целью достижения лояльности с их стороны.
[7] Обычно в этот список включают Китай, Россию, Индию, Иран, Пакистан, Малайзию и некоторые другие страны с быстроразвивающейся экономикой. См.: Mead W.R., The Return of Geopolitics: The Revenge of the Revisionist Powers // Foreign Affairs. 2014. Vol. 93. No. 3. P. 69–79.
[8] Chebankova E., Dutkiewicz P. (Eds.) Civilizations and World Order. London, N.Y.: Routledge, 2022. 276 p.
[9] Lin J.Y. Lessons from China and East Asia’s Catch Up: The New Structural Economics Perspective. In: Popov V., Dutkiewicz P. (Eds.) Mapping a New World Order: The Rest Beyond the West. Edward Edgar Publishing, 2017. P. 53–70.
[10] Popov V., Dutkiewicz P. (Eds.) Mapping a New World Order: The Rest Beyond the West. Edward Edgar Publishing, 2017. P. 53–70.
[11] В частности, можно вспомнить ирано-российский диалог на цивилизационных форумах и китайский форум «Диалог азиатских цивилизаций».
[12] Если не считать образования ШОС в 2001 г. и речи Владимира Путина о геополитике в Мюнхене в 2007 году.
[13] Calhoun С., Derluguian G. Deepening Crisis: Governance Challenges After Neoliberalism. New York: NYU Press, 2013. 302 p.
[14] Greenspan: Perfectly Fair to Say There’s ‘Irrational Exuberance’in Bond Market // CNBC. 04.08.2017. URL: https://www.cnbc.com/video/2017/08/04/greenspan-perfectly-fair-to-say-theres-irrational-exuberance-in-bond-market.html (дата обращения: 15.09.2022).
[15] Stiglitz J.E. Lessons from the Global Financial Crisis of 2008 // Seoul Journal of Economics. 2010. Vol. 23. No. 3. P. 321–339.
[16] Bichler S., Nitzan J. Capitalism as a Mode of Power. In: Dutkiewicz P., Sakwa R. 22 Ideas to Fix the World: Conversations with the World’s Foremost Thinkers. New York: NYU Press, 2013. 492 p.
[17] Katzenstein P., Hamilton-Hart N., Kato K., Yue M. Asian Regionalism. Ithaca: Cornell University Press, 2010. 314 p.
[18] Watenpaugh K.D. Being Modern in the Middle East: Revolution, Nationalism, Colonialism, and the Arab Middle Class. Princeton: Princeton University Press, 2012. 352 p.
[19] Chebankova E. Russian Fundamental Conservatism: in Search of Modernity // Post-Soviet Affairs. 2013. Vol. 29. No. 4. P. 287-313.
[20] Huntington S. The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster, 1996. P. 186.
[21] См., например: Europe’s Double Standards: How the EU Should Reform Its Trade Policies with the Developing World // Oxfam. 01.04.2002. URL: https://policy-practice.oxfam.org/resources/europes-double-standards-how-the-eu-should-reform-its-trade-policies-with-the-d-114484/ (дата обращения: 15.09.2022).
[22] Lieberthal K., Jisi W. Addressing U.S.-China Strategic Distrust. Washington, DC: Brookings, 2012. 65 p.
[23] Bivens J., Costa D., McNicholas C., Shierholz H., von Wilpert M. Ten Actions that Hurt Workers during Trump’s First Year: How Trump and Congress Further Rigged the Economy in Favor of the Wealthy // Economic Policy Institute. 12.01.2018. URL: https://www.epi.org/publication/ten-actions-that-hurt-workers-during-trumps-first-year/ (дата обращения: 15.09.2022).
[24] См.: Chebankova E.A., Dutkiewicz P. Covid-19 Pandemic and the World Order // Polis. Political Studies. 2021. No. 2. P. 8-24.
[25] Germany’s Merkel: Vladimir Putin is Living ‘in Another World’ // The Week. 08.01.2015. URL: https://theweek.com/speedreads/457115/germanys-merkel-vladimir-putin-living-another-world (дата обращения: 15.09.2022).
[26] Sakwa R. ‘New Cold War’ or Twenty Years’ Crisis? Russia and International Politics // International Affairs. 2008. Vol. 84. No. 2. P. 241-267.
[27] Lozada C. The Great Acceleration. The Virus Isn’t Transforming Us. It’s Speeding Up the Changes Already Underway // The Washington Post. 18.12.2020. URL: https://www.washingtonpost.com/outlook/2020/12/18/coronavirus-great-acceleration-changes-society/ (дата обращения: 15.09.2022).
[28] Среди всех материалов выделяется статья Фрэнсиса Фукуямы «Пандемия и политический порядок». См.: Fukuyama F. The Pandemic and Political Order // Foreign Affairs. 2020. Vol. 99. No. 4. P. 26-42.
[29] Борьба между существующими точками зрения, вероятно, резко усилится. С одной стороны, мы имеем поборников архитектуры однополярного мира с единым центром во главе с неолибералами и демократами в Вашингтоне. Их оппонентами являются консерваторы и традиционалисты внутри российской, индийской, китайской, пакистанской и иранской элит, настаивающие на многополярном мире, в основе которого лежит диалог между крупными регионами-цивилизациями.
[30] См., например: How COVID-19 is Changing the World Order // CIIS. URL: https://www.ciis.org.cn/english/PUBLICATIONS/202009/W020200914505488550839.pdf (дата обращения: 15.09.2022).
[31] См., например: Russia-Ukraine War: Insights and Analysis // Harvard Kennedy School. 2022. URL: https://www.hks.harvard.edu/russia-ukraine-war-insights-analysis (дата обращения: 15.09.2022).
[32] Bordachev T. Europe, Russia and The Liberal World Order: International Relations after the Cold War. London, N.Y.: Routledge, 2021. 209 p.
[33] Очевидно, что порядок, основанный на правилах, многократно нарушался в недалёком прошлом как в экономике, так и в международных отношениях. Войны в Югославии, Ираке, Ливии – лишь некоторые примеры.
[34] Granitz P., Hernandez J. The U.N. Approves a Resolution Demanding that Russia End the Invasion of Ukraine // NPR. 02.03.2022. URL: https://www.npr.org/2022/03/02/1083872077/u-n-set-to-hold-vote-that-would-demand-russia-end-war-in-ukraine (дата обращения: 15.09.2022).
[35] На чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 2 марта 2022 г. 141 из 193 стран проголосовала за резолюцию, 35 воздержались, а 5 проголосовали против Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН ES-11/1. Резолюция требовала от России «незамедлительного, полного и безусловного вывода всех своих вооружённых сил с территории Украины в рамках границ, признанных мировым сообществом». См.: General Assembly Resolution Demands End to Russian Offensive in Ukraine // The United Nations. 02.03.2022. URL: https://news.un.org/en/story/2022/03/1113152 (дата обращения: 15.09.2022).
[36] Это было особенно хорошо заметно во время VII Восточного экономического форума, проводившегося 5–8 сентября 2022 г. во Владивостоке. Наиболее многочисленными делегациями стали китайская и индийская. См.: RECAP of the 7th Eastern Economic Forum // Roscongress. 09.09.2022. URL: https://roscongress.org/en/news/itogi-vii-vostochnogo-ekonomicheskogo-foruma/ (дата обращения: 15.09.2022).
[37] Например, Мухаммед бен Салман, кронпринц Саудовской Аравии, утверждал в июле 2022 г. на встрече с Джозефом Байденом, что у народов мира могут быть разные взгляды и культуры, и попытки США навязывать силой свои ценности остальному человечеству контрпродуктивны. См.: Crown Prince to Biden: Every Country Has Its Own Different Values that Must Be Respected // Saudi Gazette. 17.07.2022. URL: https://saudigazette.com.sa/article/623026 (дата обращения: 15.09.2022).
[38] Acharya A., How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism // Cambridge University Press. 19.05.2004. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/international-organization/article/how-ideas-spread-whose-norms-matter-norm-localization-and-institutional-change-in-asian-regionalism/7C6449C7612BC9AEE0C574C4CD9E7B63 (дата обращения: 15.09.2022).
[39] 2021 US National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers // The Office of the United States Trade Representative (USTR). Washington, DC, 2021. 574 p. URL: http://www.sice.oas.org/ctyindex/usa/USTR_Reports/2021/2021_NTE_Report_e.pdf (дата обращения: 15.09.2022).
[40] Volk K. The Problem of Sovereignty in Globalized Times // Law, Culture and the Humanities. 2019. Vol. 18. No. 3. P. 1-23.
[41] Lee D. Defining the Rights of Sovereignty // Cambridge University Press. 13.09.2021. URL: https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/defining-the-rights-of-sovereignty/6D1994588436B763C65C9A63D2E61AD6 (дата обращения: 15.09.2022).
[42] Во многих случаях, как это видно на примере Афганистана, более слабый противник может не допустить порабощения доминирующей державой.
[43] Dutkiewicz P., Kazarinova D.B. Fear as Politics // Polis. Political Studies. 2018. No. 4. P. 8-19.
[44] Dutkiewicz P., Casier T., Scholte J.A. (Eds.) Hegemony and World Order: Reimagining Power in Global Politics. London, N.Y.: Routledge, 2020. 296 p.

Глобальный конфликт позднего модерна: логика и пределы эскалации
Диалог равных цивилизационных систем мог бы стать основой теоретического поиска российских международников
АНДРЕЙ ЦЫГАНКОВ
Профессор международных отношений и политических наук Университета штата Калифорния в Сан-Франциско.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Цыганков А.П. Глобальный конфликт позднего модерна: логика и пределы эскалации // Россия в глобальной политике. Т. 20. № 6. С.10-21.
Углубление конфликта России и Запада в связи с проведением «специальной военной операции» (СВО) на Украине со всей остротой поставило вопрос о будущем мирового порядка и выживании человечества. Политики и эксперты признают, что вероятность развития конфликта до уровня военного столкновения с НАТО высока как никогда. Даже если руководители западных стран не желают напрямую вовлекаться в противостояние Москвы и Киева, на каком-то этапе такой сценарий возможен.
Помимо военно-политического измерения у отмеченной проблемы есть важные социальные корни, поддающиеся теоретическому осмыслению. Противостояние России и Запада развивается, следуя логике исторического времени, именуемого в социологии поздним модерном. Структурно-исторические характеристики последнего способствуют эскалации противостояния, но и вводят его в определённые рамки. К сожалению, они не гарантируют сохранения хрупкого мира в отношениях великих держав, ведь существует и человеческий фактор. Но неконтролируемая эскалация крайне опасна, поэтому понимание и обсуждение её структурных пределов может помочь обнаружить пути снижения накала напряжённости и урегулирования конфликта.
Социология позднего модерна
Конфликт России и Запада грозит перерасти в большую войну. Он разворачивается в мире, существенно отличном от того, что был в период зрелого модерна (значительная часть XX века). Для последнего характерны чётко выраженные национальные границы, непримиримые идеологические противоречия, что привело к двум разрушительным мировым войнам. Сегодняшний мир значительно более глобальный и взаимозависимый. Отчасти это – результат технологических изменений, отчасти – политических. Ядерная революция в военном деле, сошествие с мировой сцены противостояния коммунизма и капитализма, а также технологии глобальных коммуникаций радикально изменили мир. Возвращение в прошлое теперь невозможно иначе как через мировую катастрофу.
Вместе с тем конца истории, провозглашённого как либералами, так и постмодернистами, не наступило. Творцы нового американского миропорядка хотели окончательно решить историко-политические проблемы и конфликты. Не видя устремлений к глобальному доминированию, порождённых модерном, многие поверили в пришествие качественно нового мира и возникновение ценностей постмодерного общества. Само окончание холодной войны ассоциировалось с «превращением войны в анахронизм», доминирующим стало убеждение, что мир и его идеи изменились принципиально[1]. Теоретики новых социальных движений заговорили о размывании границ и смыслов, созданных модерном, и появлении для меньшинств новых возможностей участвовать в политике и оспаривать позиции мейнстрима. Новые левые критиковали господствующую либеральную повестку, пытаясь противопоставить ей идею глобального гражданского общества и сетевые методы организации[2].
Утопия нового мира споткнулась о реалии, многократно описанные социологами. На технологическом и политическом фундаменте позднего модерна не сформировалось новых типов отношений и способов разрешать споры. Описанную Максом Вебером «железную клетку модерна» не взломали, а лишь поставили в изменившиеся глобальные условия. Эпоха американского доминирования уходит, но оказывает сопротивление по прежним, хорошо знакомым проектно-нарративным канонам. Как внутри западных обществ, так и за их пределами оппозиция «либеральному» миропорядку объявляется автократической, фашиствующей и подлежащей низвержению во имя лучшего будущего. И это будущее видится как закрепление глобального доминирования западных элит. Постмодерность и её ценности на поверку лишь изнанка однополярной гегемонии США в мире[3].
За примерами далеко ходить не приходится. В 2016 г. кандидат в президенты Соединённых Штатов Хиллари Клинтон назвала готовых голосовать за её оппонента Дональда Трампа – половину страны – «скопищем убожеств» (basket of deplorables). Её однопартиец Джо Байден, пришедший к власти в 2020 г., провозгласил глобальное противостояние демократий и автократий, а сторонников Трампа объявил экстремистами. При поддержке европейских элит США надеются продлить на неопределённое время момент однополярного доминирования в значительной части мира.
Вот только возможности закрепиться на позициях мирового доминирования уже не те, что прежде. В мире растёт сопротивление незападных держав, нередко мыслящих в рамках модерности, но руководствующихся и своими культурно-цивилизационными ценностями. Поздний модерн – время размягчения прежних границ и идеологических «-измов».
Это период глобальности, но всё меньше – глобализма и глобализмов.
На смену проектности и историцизму модерна постепенно приходит знакомое историкам традиционных обществ сосуществование различных цивилизационных систем и мировоззрений. Теперь перед ними и их гражданами открываются новые, невиданные ранее технополитические возможности оставаться собой, не вступая в тотальное военное противостояние и не укрываясь за стенами политико-экономической автаркии. Ни одна держава или сверхдержава более не способна навязать миру своё доминирование.
Растворения отношений власти и политических противоречий в дискурсах и глобальном гражданском обществе, которое предсказывали пророки постмодерности, не происходит. Перед нами знакомый мир государств, наций, политико-экономических элит, этнических, религиозных и иных групп с характерными для них предубеждениями и склонностями навязывать свои позиции или договариваться в зависимости от наличных условий, традиций и ресурсов. Новые технологии нередко способствуют обострению противоречий, имеющихся у данных групп. Доминируют же по-прежнему государства, а точнее, великие державы, обладающие особыми властными ресурсами.
Такое состояние мира порождает не только риски злоупотреблений новыми технологическими возможностями, но и распространение чувств социально-политического дискомфорта. Аномия, описанная Эмилем Дюркгеймом и сопровождающая переход к модерну, сегодня трансформировалась в состояние онтологической опасности и тревоги, выявленное работами Энтони Гидденса и его последователей[4]. Последнее – примета эпохи позднего модерна с характерными для него сложностями формирования безопасных человеческих отношений и комфорта.
Поздний модерн находится в кризисно-переходном состоянии. Теоретически оно может вести к концу этого мира, продлению описанной ситуации или выстраиванию нового типа общественных отношений в очерченных структурных рамках[5].
Границы войны и национализма
Мир позднего модерна не уничтожает войны и не искореняет политико-идеологическую и экономическую природу национализма как корневого устоя модерности. Последняя, по определению Гидденса, связана со стандартизацией времени и пространства[6], но отнюдь не с поиском ответа на потребности значительной части людей жить в мире. Нации, находящиеся в центре западного модерна, как и ранее, стремятся к увеличению или подтверждению своего могущества всеми доступными средствами[7]. Отчасти отсюда – заключённая в отношениях великих держав предрасположенность к эскалации противостояния, возрастающая в случае угрозы их интересам. Несмотря на пресловутую рациональность поведения государств, эта предрасположенность не раз толкала их к рискованной и саморазрушительной политике[8].
Однако поздний модерн ставит борьбу наций-государств в структурные рамки. Ядерная революция ограничивает возможности военной эскалации. В этом смысле утверждение позднего модерна следует связывать с окончанием Карибского кризиса 1962 г., когда СССР и США удалось отойти от порога ядерного столкновения и положить начало координации политики крупных держав. Постепенно изменилось и представление о войне, которая всё чаще мыслится как асимметричная и требующая особой активизации невоенных и некинетических средств противодействия[9].
Появились и ограничения экономической эскалации. В глобальном, не контролируемом из единого центра мире крайне сложно доминировать экономически. С этим обстоятельством связан провал западных санкций, призванных остановить СВО России на Украине. Санкции нанесли российской экономике ощутимый и долгосрочный урон, но не достигли желаемого краткосрочного эффекта. У России немало возможностей диверсифицировать международные связи, используя конкурентные преимущества в энергетической, продовольственной и военно-промышленной сферах. С другой стороны, и российские контрсанкции, и мобилизация энергетического «оружия» едва ли принудят Запад отказаться от уже введённых санкций и ограничений. Например, получатели российского газа и нефти вроде Турции, Венгрии и Китая смогут воспользоваться выгодной для себя ценовой конъюнктурой, перепродавая энергию европейским потребителям.
В период позднего модерна теряют смысл и ранее устоявшиеся «-измы». Сегодня апеллирование к терминам «фашизм» и «либеральная демократия» для мобилизации масс едва ли обладает большими возможностями, чем отсылки к сошедшей с мировой сцены коммунистической идее. Ушёл не только коммунизм, но и породившая его эпоха индустриального модерна. Попытки набрать значительные политические очки на шельмовании новых «фашистов» или «полуфашистов» со стороны властей предержащих на Западе не слишком успешны, как не особенно действенны российские обвинения западных элит в либеральном империализме, расизме и предательстве традиционной семьи. Определённое понимание и сочувствие такого рода попытки вызывают, но они не способны послужить делу массовой мобилизации и созданию нового идеологического «-изма». Эти попытки во многом остаются и останутся уделом элит, не адаптировавшихся к новой реальности.
Национализм стал другим, сегодня он в значительной степени связан с политикой символов и дискурсами (препарированной) памяти.
В условиях возросшей военно-политической нестабильности, но сохраняющейся относительной экономической и информационной открытости, многие предпочитают комфорт и не желают приносить себя в жертву элитам и государству. Время больших войн и жертв в прошлом, но в активном обороте сохранились такие понятия, как «национальная идентичность», «национальная память» и «национальная гордость». Осознавшим это государствам-великим державам приходится иначе выстраивать свои отношения с обществом.
Многие современные политики уже руководствуются этими реалиями. Не только в США, но и в России всеобъемлющая военная мобилизация едва ли возможна, однако происходит мобилизация национальной памяти, ценностей и правды. На фоне глобальных медиа выстраиваются, едва соприкасаясь друг с другом, зеркально противоположные версии реальности и правды. Информационные «пузыри» формируются не только в международных отношениях, но и внутри отдельных стран.
Возрождение самобытности
Национализм в условиях позднего модерна меняет лицо. При этом он не только возможен, но и поднимается с новой силой – прежде всего как ответ на перекосы завершающегося периода американского глобализма. Во многом национализм возрождается как антиамериканизм. В современных западных обществах по-прежнему актуально стремление рассматривать глобальное и универсальное как продолжение интересов и ценностей Запада[10]. Такая ориентация на национальную исключительность не может не встречать сопротивления и желания подорвать западный глобализм любыми средствами, всё выше поднимая ставки противостояния.
Однако национализм возрождается и как возвращение к собственным корням и интеллектуальным традициям. Предстоит выяснить, что такого рода самобытность сулит описанному новому состоянию модерности.
Пока мир пребывает в ситуации конфликта, и в России, и в западных обществах продолжатся попытки мобилизовать национализм на противостояние, доминирование и утверждение своего «Я» за счёт значимого другого.
Это – закономерный результат длительного развития модерности и короткого, но впечатляющего по своим последствиям периода глобальной однополярности. Просуществовав в относительно стройном виде всего 15-20 лет – с конца 1980-х до второй половины 2000-х гг. – мир американского доминирования успел поработать на себя, породил немало оппонентов и продолжает довоевывать региональные и глобальные битвы. Пока это так, места для национализма и претензий на глобальность достаточно.
Между тем самобытность, или поиск особого национального пути развития, гораздо шире узконационалистических и гегемонистских интерпретаций, предлагаемых модерном. Ведь она коренится в цивилизационных традициях, сформировавшихся много раньше. Поэтому самобытность плодотворнее определять через широкий спектр возможностей познавать своё «Я» в его онтологических и ценностных измерениях. Речь должна идти об осмыслении всего богатства интеллектуальных традиций страны и всего комплекса особых условий, в которых она находится.
Далеко не все в мире стремятся воспользоваться общим ослаблением Запада, чтобы заполнить принадлежавшую ему нишу интеллектуального доминирования. В китайском, индийском и мусульманском сообществах немало попыток использовать свои традиции, чтобы адаптироваться к условиям глобального мира, а не подчинить его. В этих сообществах осмысление идёт на основе понятий и «когнитивных фреймов», цивилизационно близких им и нередко далёких от западных[11]. Чаще всего они являются коллективистскими, холистичными и контекстуальными в отличие от того, что привычно в западной, особенно американской, науке: упор на методологический индивидуализм и этически-нейтральное отделение исследователя от объекта его исследования.
Возможно, в перспективе нескольких десятилетий, по мере развития позднего модерна, шансы прежнего национализма будут снижаться, уступая место диалогу национальных и цивилизационных систем. От имени цивилизаций чаще будут выступать великие державы, готовые через диалог формировать новые нормы и правила взаимного поведения во имя сохранения основ мира, экономической и информационной открытости.
Соблазнов возродить глобализм, или проектность модерности, в новых реалиях будет по-прежнему немало, ведь утверждение полицентризма и многополярности сопровождается борьбой за рынки, власть и влияние. Но важно не исключать и по возможности приближать строительство новых форм международного взаимодействия на основе постоянного диалога и учёта позиций друг друга. По мере избавления от соблазна возродить глобализм, или проектность модерности, станет возрастать спрос на прорастание глобальности снизу, способность предложить миру варианты диалога на началах паритета и (само)уважения к национально-культурной самобытности. Будет расти и спрос на национальные толкования теории международных отношений[12].
Глобальный Восток, Россия и теория международных отношений
Противостояние России и Запада в связи с СВО на Украине и нерешённостью важных вопросов безопасности и развития вышло на новый международный уровень. Глобальный Восток, включающий в себя и страны так называемого Глобального Юга, принимает активное невоенное участие в конфликте, хотя и не поддерживает ни одну из сторон. Это связано с развитием экономических и политических отношений как с Россией, так и c западными странами. Крупнейшие государства мира – Китай, Индия, Турция, Бразилия, Южная Африка и другие – не поддержали западные санкции или СВО. Их роль в конфликте – непрямая, и пока она не способствовала его разрешению.
Вовлечённость Глобального Востока в российско-западное противостояние не поддаётся осмыслению в терминах узкого национализма и борьбы за мировое доминирование. Политика этих стран отражает поиск новых для себя возможностей на путях взаимности и диалога, а не противостояния и конфликта. Нельзя сказать, что у каких-то стран Глобального Востока имеется желание продлить или тем более углубить российско-западный конфликт. Наоборот, с их стороны предпринимаются усилия, чтобы его остановить.
Россия же пока не нашла возможностей выйти из логики противостояния и эскалации. Возникнув как ответ на стремление Запада закрепить доминирование в Европе и Евразии, российское решение об СВО стало результатом неудачных попыток предложить альтернативу западному глобализму. Намерение победить быстро и с наименьшими затратами, по возможности повторив опыт 2014 г. в Крыму, не реализовалось. Затем произошла перегруппировка и смена стратегии в сторону более характерных для модерна способов ведения боевых действий. Но и в этом случае российское руководство продолжало исходить из реалий позднего модерна и описанных границ эскалации. СВО осуществляется пока без объявления войны противнику, без намерений уничтожить его центр принятия решений и при сохранении – хотя во всё более сокращающихся объёмах – поставок энергетических ресурсов как Западу, так и Украине. Не объявлялась и всеобщая мобилизация 25 млн боеспособных граждан[13]. Если бы не реалии слабо мобилизованного общества и экономической взаимозависимости, Россия смогла бы вступить в настоящую войну с Украиной, в которой соотношение сил оказалось бы не в пользу последней.
Киев, напротив, ведёт войну мобилизованного национализмом модерного общества, провоцируя к новой эскалации и Запад, и Россию. То, что невозможно для великих держав, оказывается вполне допустимо для киевской правящей элиты и отвечает её интересам. Ведь шанс отвоевать все территории, утраченные после 2014 г., появляется у Киева только в случае большой войны России и Запада.
Сползание к эскалации продолжается. Москва объявила частичную мобилизацию, всё активнее задействует энергетический рычаг и наносит удары по украинской инфраструктуре, а западные страны приближаются к опасной черте, принимая новые санкции и ограничения на российский экспорт, обеспечивая Киев всё более опасным оружием, развединформацией, подготовкой и планированием военных действий. Запад полагает, что контролирует ситуацию, отказываясь от явной эскалации. Несмотря на лоббистские усилия Киева, Запад пока не предоставил ему наиболее тяжёлые вооружения, не ввёл бесполётную зону и не объявил Россию спонсором терроризма, не говоря уже о высылке посла или формальном объявлении войны. Обе стороны действуют на ощупь, интуитивно осознавая пороги эскалации, но точно не зная их местонахождение. Между тем расчёты сторон уже не раз давали сбой в прошлом.
Поиск альтернативы для ухода от противостояния и эскалации должен основываться не на экспромтах, а на теории. В определённом смысле СВО стала результатом провала не только политико-дипломатических усилий, но и теоретической мысли[14]. Приоритетом теории международных отношений должна была бы стать опора на равный цивилизационный диалог с другими.
В новой теории международных отношений важно исследовать не только вышеозначенные пределы эскалации военно-политического конфликта, но и условия предотвращения его самого. Важно долгосрочное позиционирование России – не только как «крепости», выживающей в противостоянии[15] (на ближайший период), но самобытной страны в глобальном мире на более отдалённую перспективу. Вероятно, этому предстоит учиться не столько у Запада, сколько у Востока.
У России есть и свои традиции осознания себя в мире, связанные с глобальным вкладом, который вносит страна, и опирающиеся на диалог с окружающими государствами и народами. Россия никогда не была полноценной частью западного модерна.
Русская концепция диалога предполагает не отказ от своих ценностей, а их укрепление и уточнение через сотворчество с другими.
Многие русские мыслители исходили из идеала развития личности в целостном, взаимосвязанном и взаимоответственном мире. В мире, свободном от идеологических и иных крайностей, духовная свобода, экономическое развитие, социальные и геополитические ценности утверждаются не посредством эксплуатации других народов, а на основе равного диалога. Последний базируется на осознании правоты продемонстрированных историей национальных ценностей. В диалоге, не без оснований добавят теоретики силовой политики, важен и паритет возможностей, который исключал бы возможность оказания давления. Чтобы не получилось, как с идеями Михаила Горбачёва. Творец «нового мышления» интеллектуально был во многом впереди своего времени, но не сумел выстроить отношения с Западом как разговор равных[16].
Диалог равных цивилизационных систем уже практикуется на просторах «Большой Евразии» и мог бы стать основой нового теоретического поиска российских международников. Русская мысль традиционно находилась в диалоге с европейской и западной, утверждая альтернативное западному понимание личности, традиции и модерности. Но если Россия, по словам Николая Бердяева, есть «великий Евро-Восток», то важно внимательнее присмотреться и к интеллектуальным поискам Глобального Востока. Впрочем, тема русского и восточного диалога цивилизаций – предмет уже иной статьи.
СНОСКИ
[1] Coker C. Post-Modernity and the End of the Cold War: Has War Been Disinvented? // Review of International Studies. 1992. Vol. 18. No. 3. Р. 198.
[2] Kaldor M. The idea of global civil society // International Affairs. 2003. Vol. 79. No. 3. P. 583-593; Kaldor M. Global Civil Society: An answer to war. London: Polity, 2008. 200 p.
[3] Цыганков А. Двойной стандарт постмодерности: конфликт ценностей и международное соперничество // Россия в глобальной политике. 24.01.2022. URL: https://globalaffairs.ru/articles/standart-postmodernosti/ (дата обращения: 10.10.2022).
[4] Kinnvall C. Globalization and Religious Nationalism: Self, Identity, and the Search for Ontological Security // Political Psychology. 2004. Vol. 25. No. 5. P. 741-767; Zarakol A. After Defeat: How the East Learned to Live with the West. Cambridge University Press, 2011. 312 p.; Berenskoetter F. Parameters of a National Biography // European Journal of International Relations. 2014. Vol. 20. No. 1. P. 262–288.
[5] Juza M. After Late Modernity // Studia humanistyczne agh. 2019. Vol. 18. No. 3. P. 7-22.
[6] O’Brien M., Penna S., Hay C. Theorising Modernity. Routledge, 1999. 236 p.
[7] Taylor P.J. The Way the Modern World Works. N.Y.: Chichester, 1996. 290 p.
[8] Mearsheimer J. The Tragedy of Great Power Politics. New York: W. W. Norton & Company, 2001. 592 p.
[9] Российское военное мышление суммировано в: Fridman O. Russian Hybrid Warfare. Oxford University Press, 2018. 237 p.
[10] Цыганков А., Цыганков П. Глобальность и самобытность в теории международных отношений // Вестник РУДН. 2022. Т. 22. № 1. С. 7-16.
[11] Cheng C. and Brettle A. How Cognitive Frameworks Shape the American Approach to International Relations and Security Studies // Journal of Global Security Studies. 2019. Vol. 4. No. 3. P. 321-344.
[12] Часть высказанных в разделе идей обсуждается подробнее в Tsygankov A. The «Russian Idea» in International Relations. London, forthcoming in 2023.
[13] Такая цифра боеспособных была озвучена С. Шойгу (см. Выступление министра обороны Шойгу // РИА Новости. 21.09.2022. URL: https://ria.ru/20220921/shoygu-1818321328.html (дата обращения: 10.10.2022).
[14] Цыганков А., Цыганков П. Снова русский урок? // Россия в глобальной политике. 2022. Т. 20. № 1. С. 51-58.
[15] Караганов С. «Крепость Россия» // Россия в глобальной политике.16.06.2022. URL: https://globalaffairs.ru/articles/krepost-rossiya-i-zapad/ (дата обращения: 10.10.2022).
[16] Запад не преминул воспользоваться слабостями руководителя СССР: см. Marcetic B. Ignoring Gorbachev’s Warnings // Current Affairs. 7.09.2022. URL: https://www.currentaffairs.org/2022/09/ignoring-gorbachevs-warnings (дата обращения: 10.10.2022).

Старик лейтенанта Нейтли. Вместо вступления
Если погибнет мир, то и Америка не вечна
ДЖОЗЕФ ХЕЛЛЕР
(1923 – 1999)
Один из наиболее значительных американских писателей XX века. Самая известная его книга – антивоенный роман-памфлет «Уловка-22» – опубликована в 1961 году. Она положила начало традиции, в которой писали Курт Воннегут и Томас Пинчон.
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
Хеллер Д. Старик лейтенанта Нейтли. Вместо вступления // Россия в глобальной политике. Т. 20. № 6. С. 5-8.
<…> Старик восседал в своём потёртом голубом кресле, краденое одеяло с маркой «Армия США» укутывало его худые, как палки, ноги. Он был под хмельком. Нейтли почувствовал явную неприязнь к этому старому греховоднику, порочному, нечестивому, лишенному всякого патриотизма человеку. Старик отпускал обидные шуточки в адрес Америки.
– Америка, – сказал он, – проиграет войну, а Италия её выиграет.
– Америка – самая сильная и самая преуспевающая нация в мире, – объявил Нейтли с горячностью. – А что касается американских солдат, то по мужеству они не знают себе равных в мире.
– Совершенно верно, – любезно согласился старикашка, и в голосе его послышались насмешливые интонации. – А вот Италия – одна из наименее преуспевающих наций на земле. Что же касается итальянских солдат, то они не знают себе равных в мире по трусости. Вот поэтому-то дела нашей страны в этой войне идут так хорошо, а вашей так скверно.
Нейтли удивленно загоготал, затем, шокированный собственной невежливостью, виновато покраснел.
– Простите, что я над вами смеялся, – сказал он вполне искренне и продолжал почтительно-снисходительным тоном: – Но ведь Италия была оккупирована немцами, а теперь – нами. И после этого вы утверждаете, что дела у вас идут хорошо?
– Конечно, утверждаю! – весело воскликнул старик. – Немцев гонят отсюда в шею, а мы, как были здесь, так и остались. Через несколько лет вы тоже уйдёте, а мы по-прежнему останемся. Как видите, Италия и вправду очень бедная и слабая страна, но именно это и делает нас такими сильными. Итальянские солдаты больше не умирают на поле боя, а немецкие и американские продолжают умирать. Я сказал бы, что дела у нас идут как нельзя лучше. Да, я совершенно уверен, что Италия выживет в этой войне и будет существовать даже после того, как ваша страна погибнет.
Нейтли не верил ушам своим. Ему сроду не приходилось слышать столь чудовищных речей, и он невольно удивлялся, почему до сих пор не упрятали этого предателя-старикашку за решетку.
– Америка не погибнет никогда! – крикнул он запальчиво.
– Так уж и никогда? – поддел его старикашка. – Рим пал, Греция пала, Персия пала, Испания пала. Все мелкие державы рано или поздно погибали. Почему же вы думаете, что ваша страна представляет собой исключение? Как вы думаете, сколько лет будет существовать ваша страна? Вечно? Не забудьте, что сама земля обречена на гибель. Через двадцать пять миллионов лет или что-то в этом духе померкнет солнце.
Нейтли беспокойно заерзал.
– Ну знаете, это довольно длительный срок. Целая вечность.
– Что вы называете вечностью? – посмеиваясь, допытывался настырный старикашка. – Миллион лет? Полмиллиона? Лягушачье племя, например, существует около пятисот миллионов лет. Можете ли вы сказать наверняка, что Америка со всей ее силой и преуспеянием, с ее солдатами, с ее самым высоким уровнем жизни на земле будет существовать так же долго, как лягушачье племя?.. <…>
– Ну… честно говоря, я не знаю, сколько просуществует Америка, – отважно продолжал [Нейтли]. – Я так полагаю, если рано или поздно погибнет мир, то и Америка не вечна. Но зато я знаю точно: сейчас мы выживем, и наш триумф будет продолжаться долго, очень долго.
– Но все же, как долго? – подначивал старикашка в порыве злорадного воодушевления. – Надеюсь, не дольше, чем проживет лягушачье племя?
– Во всяком случае, гораздо дольше, чем проживём мы с вами, – неудачно выпалил Нейтли.
– Только и всего-то! Это не так уж много, если учесть, что вы слишком храбры и легковерны, а я слишком стар.
– Сколько же вам лет? – полюбопытствовал Нейтли.
– Сто семь. – Заметив досаду Нейтли, старикашка добродушно захихикал: – Я вижу, вы не верите?
– Я не верю ни единому вашему слову, – ответил Нейтли. Застенчивая улыбка тронула его губы. – Я твердо верю только в одно: эту войну Америка выиграет.
– Что вы всё твердите выиграет да выиграет, – усмехнулся шальной, замызганный старикашка. – Надо знать, какие войны можно проигрывать, и уметь это делать – в этом вся штука. Италия столетиями проигрывала войны, а тем не менее посмотрите, как отлично у нас идут дела. Франция выигрывает войны и никогда не вылезает из кризиса. Германия проигрывает и процветает. Возьмем, к примеру, недавнее прошлое нашей страны, Италия победила Эфиопию и тут же влипла в неприятнейшую историю. В результате победы мы стали страдать такой безумной манией величия, что помогли развязать мировую войну, выиграть которую у нас не было ни малейшего шанса. Зато теперь мы снова проигрываем войну, и всё оборачивается к лучшему. И мы наверняка снова пойдем в гору, если ухитримся, чтобы нас хорошенько расколошматили.
Нейтли смотрел на него с нескрываемым недоумением.
– Теперь я в самом деле не понимаю, о чём вы толкуете. Вы рассуждаете, как ненормальный.
– Наоборот. Я самый нормальный. Я был фашистом при Муссолини, а теперь его свергли и я – антифашист. Я был до фанатизма настроен пронемецки, когда немцы пришли сюда, чтобы защитить нас от американцев. Теперь, когда сюда пришли американцы, чтобы защитить нас от немцев, я – фанатичный проамериканец. Позвольте заверить вас, мой юный разгневанный друг, что у вас в вашей стране не найдется более преданного сторонника в Италии, чем я. Разумеется, пока вы здесь остаетесь.
– Так вы хамелеон! – воскликнул Нейтли, не веря своим ушам. – Вы – флюгер! Бесстыжий, неразборчивый приспособленец!
– Мне сто семь лет, – учтиво напомнил старикашка. <…>.
Цит. по изданию «Трамвай». Киев, 1995 год. Перевод М. Виленского и В. Титова.

Интервью Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса», Москва, 30 октября 2022 года
Вопрос: Если говорить о Карибском кризисе, почему США пытались разместить ракеты в непосредственной близости от наших границ? Чем Советскому Союзу грозило размещение ракет средней дальности в Турции в 1960-е гг.?
С.В.Лавров: США не просто пытались, они на самом деле разместили ракеты средней дальности «Юпитер» в Турции и Италии. Италию упоминаю, потому что дальность действия этих ракет, запущенных из этой страны, покрывала значительную часть европейской территории. Из Турции до Москвы десять с небольшим минут лета, как тогда считали. Именно это послужило началом Карибского кризиса, а не то, как это пытается представить западная историография, видящая корень проблемы в размещении наших ракет на Кубе. Там мы лишь отвечали на то, что США уже сделали вблизи Советского Союза.
Если абстрагироваться от проблемы угрозы агрессии США против Кубы – она была вполне реальной, предпринимались соответствующие попытки, – то главным с военно-стратегической точки зрения был факт «размещения» (ядерного оружия) Соединенных Штатов в непосредственной близости от границ СССР. В то время США, помимо «Юпитеров», обладали ядерными боезарядами в количестве четырех с половиной тысяч, что в несколько раз превосходило общее число ядерных вооружений Советского Союза. Немаловажный фактор заключался также в том, что «Юпитер» по своим характеристикам расценивался в СССР и на Западе как средство первого удара. С учетом этого решения, которые были тогда приняты, опирались на реально существовавшие угрозы безопасности для нашей страны.
О том насколько в США всерьез относились к ситуации, свидетельствуют воспоминания очевидцев о разговоре Президента Дж.Кеннеди со своими помощниками в Овальном кабинете. Глава Белого дома говорил, что не понимает зачем Н.С.Хрущеву размещать ракеты на Кубе. Ведь советский лидер, мол, должен был осознавать, что для США это то же самое, если бы американцы разместили в Турции свои ракеты. Помощник с удивлением ему ответил, что ровно это и было сделано Соединенными Штатами. Надеюсь, что в сегодняшней ситуации у Президента Дж.Байдена будет больше возможностей понимать, кто и как отдает приказы.
Вопрос: Насколько похожи ситуация в 1960-х гг. и ситуация сейчас в случае эскалации конфликта с Украиной? И там, и там явно прослеживается, что США пытаются быть гегемоном. Насколько опыт «проживания» нами Карибского кризиса может помочь здесь и сейчас?
С.В.Лавров: Сходство есть. Как в 1962 г., так и сейчас речь идет о создании непосредственных угроз безопасности России прямо на наших границах. Сегодня это даже еще ближе, чем «Юпитеры», расположенные в Турции. Идет военная кампания по накачиванию Украины всеми видами вооружений. Всерьез появляются разговоры о том, что нужно укрепить ядерные возможности НАТО в дополнение к пяти странам, уже имеющих на своей территории американское тактическое ядерное оружие. Польша просится в «кандидаты» на то, чтобы и у неё американцы также разместили свои ядерные бомбы. Эта ситуация весьма тревожит.
Отличия в том, что в далеком 1962 г. Н.С.Хрущев и Дж.Кеннеди нашли в себе силы проявить ответственность и мудрость, а сейчас со стороны Вашингтона и его сателлитов мы такой готовности пока не видим. Примеров масса. Можно начать с того, что появившийся шанс на переговоры, который материализовался в конце марта с.г. на встрече в Стамбуле, был разрушен, сейчас мы можем это утверждать, по прямому указанию Вашингтона.
США, НАТО, Евросоюз продолжают твердить о необходимости нанести России поражение «на поле боя». Как Вы справедливо отметили, за всем этим стоит абсолютная неспособность Соединенных Штатов отказаться от желания править всем и вся. Если в свое время пели «Правь, Британия, морями», то сейчас Америка хочет петь, наверняка «Правь, Америка, планетой». Об этом четко, ясно, недвусмысленно говорил Президент России В.В.Путин в своем выступлении в Кремле, когда были подписаны договоры между Россией и четырьмя новыми субъектами Федерации. Вот в этом и состоит главное отличие.
Хватит ли у Европы ответственности? Ведь европейцы уже страдают от экономических санкций в разы больше, чем США. Растёт число экономистов не только у нас, но и на Западе, которые приходят к выводу, что цель Соединенных Штатов - полностью «обескровить» и деиндустриализировать европейскую экономику. Немцы перемещают большое количество своих производств в США со всеми вытекающими последствиями для долгосрочной конкурентоспособности Европейского союза. Ослабить Европу в военном плане также отвечает интересам Вашингтона. Постоянно держать ее в напряжении, заставлять накачивать Украину оружием, взамен заполнять склады вооружений стран ЕС американскими поставками. Мы все это понимаем. Здесь сочетаются экономические, сугубо эгоистические расчеты и идеологические комплексы превосходства.
Вопрос: Существует такая точка зрения, что в 1960-е гг. решения принимались людьми, которые прошли Вторую мировую войну и понимали, что это значит. Сейчас в Америке решения принимаются политиками, которые в принципе пороху не нюхали и это опаснее, потому что понимать последствия войны – это все-таки отрезвляет. Как Вы к этому относитесь?
С.В.Лавров: Это универсальная тема не только для американцев, но и для европейцев. Да и у нас уже нет политиков, которые непосредственно участвовали в войне.
Отличие заключается в том, что значительное количество наших граждан происходят из семей, которые так или иначе участвовали в Великой Отечественной войне, пострадали, потеряли близких. Из-за огромного количества жертв и в силу жертвенности, продемонстрированную советским многонациональным народом, эта память священна. Именно это отличает нас от тех, кто начинает легкомысленно обращаться с темой ядерного оружия.
Сам Дж.Байден родился в период Второй мировой войны. Он помнит, что в послевоенные годы эта тема достаточно серьезно обсуждалась. Тогда она еще оказывала влияние на американский политический класс. Вместе с тем все остальные члены Администрации – это люди, которые, и этой памятью не обладают. По крайней мере, такой вывод можно сделать из их действий по нагнетанию конфронтации с Россией, по утверждению, что «если Украина не победит, то это неприемлемо», и многому другому.
В Европе тоже появились «деятели», пытающиеся достаточно безответственно «играть» с темой ядерного оружия. В феврале с.г. занимавший тогда пост министра иностранных дел Франции Ж.-И.Ле Дриан «напоминал», что России надо не забывать, что у НАТО тоже есть ядерное оружие. Главнокомандующий ВВС Германии И.Герхартц «вдруг» заявил, что натовцы должны готовиться к ядерной войне и применению ядерного оружия. Обращаясь к главе российского государства В.В.Путину, он сказал, чтобы наш Президент не смел тягаться с ними. Из уст немца это весьма показательное заявление.
Мы уже давно, задолго до начала специальной военной операции, начали ощущать в контактах с немецкими коллегами, что они различными методами и в разных выражениях проводят четкую мысль: «Дорогие коллеги, мы – немцы со всеми за все расплатились и больше никому ничего не должны. Поэтому хватит нас упрекать за то, что было во время Второй мировой войны». Это достаточно опасная тенденция. Сейчас многие в Германии, включая министра иностранных дел, пытаются заявлять, что немцы никогда не забудут о тех преступлениях, которые совершил этот народ во время правления Гитлера в период Третьего рейха, но при этом продолжают утверждать, что они со всеми рассчитались.
Не беру в расчет тему репараций, которую сейчас вслед за Польшей греки начали «поднимать на щит». Говорю об ответственности за мирное развитие континента и за «невозрождение» нацизма, который, к сожалению, сейчас возрождается достаточно быстро, прежде всего, на той самой Украине, поддерживаемой немцами. Заявление Президента В.А.Зеленского о том, что было ошибкой отказываться от ядерного оружия (он сделал его в феврале с.г.), не вызвало никакой осуждающей реакции со стороны его западных покровителей.
Вопрос: Что нам делать? Во времена Карибского кризиса, как Вы сказали, Н.С.Хрущев и Дж.Кеннеди договорились. На Ваш взгляд, как можно снизить эскалацию конфликта, чтобы Россия могла сохранить правосубъектность, национальную безопасность и «обособленность»? Что делать, если западные партнеры никак не идут на переговоры?
С.В.Лавров: Президент В.В.Путин неоднократно говорил о том, что мы никогда не отказывались и не отказываемся от переговоров. Предупреждал о том, что те, кто отказывается – это делает Украина по прямому указанию западных спонсоров – должны понимать: чем дольше они тянут с переговорами, тем сложнее им будет с нами договариваться. В своей речи в Кремле 30 сентября с.г. В.В.Путин еще раз призвал киевский режим прекратить военные действия и сесть за стол переговоров. Запад в очередной раз «пропустил это мимо ушей» Западом, а В.А.Зеленский заявил, что с нынешним Президентом России он разговаривать не собирается. Даже подписал указ, который ему это запрещает делать. Он – артист комедийного жанра, но сейчас уже не до комедий. Трагический оборот получают события на Украине из-за происходящего с этим режимом, пользующимся абсолютной безнаказанностью Запада.
Готовность России, включая ее Президента В.В.Путина, к переговорам, остается неизменной. За последние полгода было несколько инициатив со стороны американцев и некоторых других западных коллег, просивших о телефонных разговорах с российским лидером. Некоторые министры иностранных дел обращались ко мне с такой же просьбой. Мы всегда давали согласие, мы всегда будем готовы выслушать возможные предложения по снижению напряженности западных коллег.
Начиная с февраля 2014 г. не видели никакой активности на этом направлении. Когда был организован кровавый госпереворот, первым же инстинктом новой власти было требование ликвидировать статус русского языка на Украине, закрепленный в законах, выгнать русских из Крыма и т.д. На протяжении долгих семи лет уже после заключения Минских договоренностей все наши напоминания, призывы добиться того, чтобы киевский режим их выполнял, наталкивались на стену молчания. Видимо, расчет был тогда в том, что В.А.Зеленский сможет силой восстановить свою территориальную целостность. Он этого и не скрывал, что в Киеве намереваются это сделать. Собственно, украинский президент приступил к выполнению этого «плана Б», когда в феврале с.г. начались многократно более интенсивные обстрелы Донбасса. Это и стало последней каплей, переполнившей чашу терпения. Мы не могли принять иного решения, защищая тех людей.
Мы всегда готовы выслушать наших западных коллег, если они обратятся с очередной просьбой организовать разговор. Надеюсь, что помимо воспроизведения в контактах по линии дипломатических ведомств и по другим каналам того, что они публично в пропагандистском задоре говорят, нам смогут предложить какие-то серьезные подходы, которые будут способствовать разрядке напряженности и полностью учитывать интересы Российской Федерации и её безопасности. Ни одно десятилетие мы пытались оформить это международно-правовыми методами. Последний раз такая попытка была предпринята в декабре 2021 г., когда мы предложили американцам и натовцам договор о европейской безопасности, направленный на обеспечение законных интересов в этой сфере всех европейских стран, включая Украину без членства в североатлантическом альянсе и интересы Российской Федерации.
Если к нам будут обращаться с реалистичными предложениями, опирающимися на принципы равноправия и взаимного уважения интересов, направленными на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран в этом регионе за нами, как это всегда было в прошлом, дело не станет.

Держать планету под прицелом
Такова цель новой стратегии национальной безопасности США.
Администрация Джо Байдена наконец-то разразилась «Стратегией национальной безопасности» – своего рода дорожной картой по продвижению интересов Америки по планете, сохранению однополярного мира во главе с США. Содержание и особенности документа наша редакция попросила прокомментировать известного политолога Владимира Козина, члена-корреспондента Академии военных наук России, автора монографии «Ключевые военные стратегии США: их национальные и международные последствия».
– Владимир Петрович, какое место занимает новая стратегия среди американских документов такого уровня? Последуют ли за ней другие концептуальные документы военного характера?
– Как и при предыдущих американских президентах, «Стратегия национальной безопасности» 2022 года является ключевой среди прочих приоритетных американских военно-стратегических установочных документов. Она задаёт генеральную тональность и определяет функциональную направленность других основополагающих стратегий, которые после неё могут появиться позже. Это – стратегия национальной обороны, ядерная, космическая, противоракетная, а также киберстратегия.
Что касается обнародованной 12 октября стратегии, то в ней Соединённые Штаты названы «глобальной державой с глобальными интересами», которая «будет продолжать руководить с силой и целеустремлённостью». Причём США как сверхдержава будут стремиться к расширению своего присутствия в каждом отдельном регионе планеты. «Если один регион погрузится в хаос или окажется под властью враждебной силы, это пагубно повлияет на наши интересы в других», – подчёркивается в стратегии.
– В этой связи, естественно, возникает вопрос, в каких формулировках в стратегии отражена линия Вашингтона относительно России, Китая и других стран?
– Согласно документу, Вашингтон намерен «сдерживать» Россию, которая, как утверждается в нём, представляет «угрозу для международной системы». Белый дом также закрепил за нашей страной статус «актуальной угрозы безопасности в Европе». Кроме того, по мнению США, действия России в Арктике несут риски «непреднамеренного конфликта».
– Словом, прежние необоснованные упрёки… А что о КНР?
– Собственно говоря, практически в таком же ключе идёт речь и о Китае. В частности, в стратегии записано, что «Китайская Народная Республика вынашивает намерение и проявляет всё большую способность изменить международный порядок». Также отмечается, что конкуренция Пекина с США проявляется не только в Индо-Тихоокеанском регионе, но и постепенно наращивается в глобальном масштабе. Высказываясь в поддержку концепции «одного Китая», новая «Стратегия национальной безопасности» в то же время прямо говорит о поддержке Тайваня, а также американского потенциала по противодействию любой попытке Пекина прибегнуть к силе или принуждению в отношении названной территории.
В новой американской военно-стратегической установке обращено внимание на важность «сдерживания агрессии КНР, России и других государств», словно кто-то из них уже приступил к враждебным действиям против Соединённых Штатов. Разработчиками стратегии была инкорпорирована формулировка о том, что американская сторона «будет уделять первостепенное внимание сохранению прочного конкурентного преимущества над КНР, одновременно сдерживая всё ещё глубоко опасную Россию».
Следует заметить также, что в предыдущей стратегии, утверждённой в 2017 году Трампом, столь резкие выражения отсутствовали. Появление их в документе Байдена говорит о более агрессивной политике Вашингтона, которая может вылиться в развязывание Соединёнными Штатами под управлением «демократов» одновременно двух войн – и против КНР, и против Российской Федерации.
– Надо полагать, что вести её США намерены не одни, а с активным втягиванием в военное противостояние союзников по НАТО и другим военным альянсам?
– Совершенно верно. В попытке усилить способность США реагировать на общие вызовы стратегия Белого дома призывает к углублению и модернизации альянсов в области обороны и разведки. Таких как НАТО, АУКУС (с Австралией и Великобританией, куда входят и США), Five Eyes (с Австралией, Канадой, Новой Зеландией и Великобританией) и Quad (с Австралией, Индией и Японией).
В частности, согласно принятому доктринальному документу, НАТО – этот военный союз коллективного Запада – будет укреплять свои глобальные военные потенциалы и вмешиваться во внутренние дела других суверенных государств. Он также будет продолжать линию на расширение своего состава. Вступлением в его ряды Швеции и Финляндии укрупнение альянса «трансатлантической солидарности» за счёт приёма новых членов не закончится.
Для Индо-Тихоокеанского региона стратегия предусматривает наращивание коллективного потенциала партнёров США в регионе и укрепление связей между странами-единомышленниками. Альянс AUKUS, основанный на обмене технологиями ядерных подводных лодок США и Великобритании и другими ноу-хау, связанными с обороной, с Австралией, будет «иметь решающее значение для решения региональных проблем».
– Учитывая, что США принуждают киевский режим продолжать военные действия до последнего украинца, нетрудно догадаться, что в стратегии идёт речь и об Украине…
– Действительно, украинский сюжет занимает значительное место в этом документе. Так, в нём отмечается, что «США продолжат поддерживать борьбу Украины за свою свободу. Мы поможем Украине восстановиться экономически. И мы будем поощрять региональную интеграцию с Европейским союзом».
США намерены и впредь оказывать Украине военно-техническую помощь, без какого-то указания на возможные сроки или какие-то условия её прекращения. С конца февраля этого года она уже превысила 17,5 млрд долларов. Для обоснования такого подхода авторы новой стратегии не поленились изложить целый список «негативных действий» нашего государства на украинской территории, которые Россия никогда не совершала.
«Война на Украине подчёркивает важность динамичной оборонно-промышленной базы для Соединённых Штатов и их союзников и партнёров», – говорится в документе. При этом речь идёт не только о том, чтобы эта база была «способна быстро производить проверенные средства, необходимые для защиты от агрессии противника, но и имела возможность внедрять инновации и творчески разрабатывать решения по мере изменения условий боя».
Обращает на себя внимание, что США предпочли в стратегии не отражать вопрос о вступлении Украины в НАТО. Нет ни даже приблизительных перспектив об украинском членстве в альянсе, ни обещаний принять Украину в состав этого блока. Тем самым Вашингтон ещё раз подтверждает, что Украина для США является всего лишь пешкой на геополитическом поле, которой можно легко пожертвовать для достижения своих корыстных целей.
– Вы сказали, что США намерены действовать на мировой арене с опорой на силу, то есть на свой военный потенциал. В этой связи возникает вопрос, а что говорится в новой стратегии относительно ядерного оружия?
– Прежде всего следует отметить, что сегодня Вашингтон усиленно насаждает в мировом сообществе мнение о готовности России применить ядерное оружие вообще и против Украины в частности. При этом никаких доказательств тому не приводится. Замечу, что российское военно-политическое руководство ни до специальной военной операции, ни в её ходе никогда не заявляло о возможности применения этого вида оружия массового поражения в отношении Украины или вообще об угрозе его использования в этой части Европы. Это противоречило бы действующей ядерной доктрине России и не отвечало бы генеральному замыслу специальной военной операции, которая осуществляется с применением только неядерных средств.
Тем не менее в американской стратегии отмечается, что Соединённые Штаты не позволят России или другой державе достичь своих целей с помощью применения или угрозы применения ядерных вооружений. При этом администрация Джо Байдена намерена активизировать усилия по модернизации стратегической ядерной триады. В документе подчеркнуто, что ядерное сдерживание США «остаётся главным приоритетом» страны и является фундаментальным компонентом «интегрированного сдерживания», которое охватывает основные компоненты американских вооружённых сил – сухопутные войска, ВМС, ВВС, ПРО, космические силы и кибервойска.
США также намерены совершенствовать свои тактические ядерные силы, которые в нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия уже несколько десятилетий размещены на территории европейских союзников по НАТО. Более того Пентагон регулярно привлекает их для отработки совместных действий по применению ядерного оружия. Кстати, в октябре над территорией Северо-Западной Европы проходило именно с этой целью учение «Стойкий полдень». В нём принимают участие ВВС 14 стран альянса и порядка 60 самолётов, в том числе американские стратегические бомбардировщики В-52.
– В нынешних условиях очевидно, принимая позицию Вашингтона, что нет смысла вести даже речь о контроле над вооружениями. И тем не менее говорится что-либо в новой стратегии на эту тему?
– Ещё как. Однако отражённые в документе положения по широкой проблематике контроля над вооружениями не позволяют рассчитывать на изменение американского курса в этой области. Подходы Вашингтона к решению многих проблем этой сферы, которые демонстрирует администрация Байдена и на словах, и на деле, свидетельствуют о том, что США загнали этот процесс в ещё более глухой тупик.
Содержащееся же в новой стратегии упоминание о готовности Вашингтона разработать договор СНВ-4 и перестроить механизмы европейской безопасности вступает в противоречие с негативными ответами США на прошлогодние декабрьские предложения Москвы о взаимных гарантиях безопасности. А высокопарные слова о важности укрепления режима нераспространения ядерного, биологического и химического оружия натыкаются на нарушения Вашингтоном всех трёх обозначенных ограничительных направлений.
– И какой главный вывод можно сделать из американской обновлённой стратегии?
– Пока нынешняя американская администрация будет находиться у власти, перспектива выправления российско-американских и китайско-американских отношений по всем направлениям, кроме узконаправленного и ограниченного сотрудничества в использовании орбитальных космических станций России и США, скорее всего, останется на нулевой отметке.
Остальные пять американских стратегий, которые упоминались, будут, увы, также иметь вызывающе агрессивный и милитаристский характер применительно к Российской Федерации и КНР. Военно-политическая ситуация в мире останется напряжённой и временами будет приобретать даже весьма опасный характер.
Владимир Кузарь, «Красная звезда»

Олег Сыромолотов: попытки США ослабить информационный суверенитет РФ тщетны
Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Кристине Луна Родригес о том, можно ли квалифицировать действия Украины сегодня как "терроризм", какую опасность для Центральной Азии представляют боевики в Афганистане, а также о том, кто совершает кибератаки на Россию и смогут ли США подорвать ее информационный суверенитет.
– Российское руководство заявило, что Киев давно использует террористические методы, поставив себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. Не планирует ли Москва ставить в ООН и других международных структурах вопрос о признании Украины террористическим государством или страной-спонсором терроризма?
– В первую очередь хотел бы обратить внимание на одну базовую вещь: факт использования государством террористических методов при ведении боевых действий отнюдь не предполагает его квалификации в качестве "террористического государства" или "государства – спонсора терроризма". Вы, должно быть, в курсе, что само понятие "государство – спонсор терроризма" впервые выдумали американцы с целью клеймения неугодных стран, на которые Вашингтоном по своему разумению сначала навешивается этот позорный ярлык, а затем вводятся односторонние ограничительные меры. В российском же законодательстве таких псевдоправовых институтов вообще не предусмотрено. И вводить их, слепо копируя западные наработки, мы, разумеется, не планируем.
Кроме того, главную ответственность по противодействию терроризму несут именно суверенные государства, а значит, выносить этот вопрос на уровень ООН или какой-либо иной международной организации не только нецелесообразно, но и безответственно. К сожалению, подобную безответственность демонстрирует как раз украинская сторона, всячески вплетающая (надо сказать, крайне неубедительно) свою антироссийскую риторику во все международные антитеррористические форматы, до которых в состоянии "дотянуться", тем самым политизируя международные усилия в сфере контртерроризма. Пусть подобная нечистоплотность останется на их совести. Мы – выше этого.
Вместе с тем термин "террористические методы" действительно используется нами для описания манеры ведения украинской стороной военных действий. Речь идет об использовании "живых щитов", неизбирательного применения огня, пыток в отношении военнопленных, организации покушений на гражданских сотрудников органов управления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации. Все вышеуказанные деяния явно образуют состав военных преступлений и не имеют никакого отношения к терроризму как общеуголовному преступлению.
– Как вы оцениваете ситуацию по борьбе с террористическим подпольем в Афганистане? Способно ли местное руководство справиться с террористической угрозой?
– Мы оцениваем ситуацию с ростом потенциала террористического подполья в Афганистане как очень серьезную. В стране активно действуют более 20 террористических группировок совокупной численностью около 10 тысяч человек. Их финансовая подпитка из-за рубежа и приток иностранных террористов-боевиков продолжаются. Кроме того, в расположение террористов попала часть оружия и боеприпасов, оставшихся от позорно сбежавшего натовского военного контингента. Сложившееся бедственное социально-экономическое положение, традиционные факторы межрелигиозной и межэтнической напряженности также стали благодатной почвой для радикализации и террористической вербовки.
Наблюдается тенденция к координации действий и разграничению сфер влияния между террористическими организациями и военизированной афганской оппозицией. Это фактически определяет необходимость талибским властям вести антитеррористическую и антиэкстремистскую "войну на два фронта".
Наибольшая опасность исходит от активизации террористической активности ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ). Ее афганский филиал, так называемый "Вилаят Хорасан"* (террористическая группировка, запрещенная в РФ), сегодня является наиболее многочисленной (свыше шести тысяч боевиков) и боеспособной террористической группировкой с развитыми международными связями. За полтора года игиловцы* существенно нарастили пропагандистско-вербовочную кампанию, выстроенную на псевдорелигиозных призывах к созданию "всемирного халифата", сфокусировавшись на афганских нацменьшинствах и выходцах с территории соседних государств. Террористы разжигают в регионе антироссийские настроения, в том числе в контексте СВО на Украине. У нас также есть серьезные основания полагать, что именно ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ) были исполнителями теракта у российского посольства в сентябре 2022 году в Кабуле, унесшего жизни двух его сотрудников и нескольких мирных жителей.
На этом фоне очевидна ограниченная эффективность ответных действий находящихся у власти "Движения талибов"** (движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), возможности которого подорваны тем, что в наследство от предыдущего режима им не досталось никакой эффективной антитеррористической системы правоохранительных органов. Видимо, существовала она только в мифологизированных отчетах натовских функционеров и других прозападных международных чиновников, годами рекламировавших мнимые успехи западной коалиции в подготовке Афганских сил национальной безопасности.
Остается лишь констатировать, что все это является прямым результатом бесславного 20-летнего пребывания США и их союзников по НАТО в Афганистане, официальной целью которого когда-то была обозначена "борьба с терроризмом". Никакими лицемерными заявлениями о "выполнении поставленных задач" откровенный провал американской "демократизаторской" стратегии в Афганистане не прикрыть.
Как бы ни пытались в Вашингтоне переложить ответственность за сложившееся в стране бедственное положение на новые афганские власти, в реальности именно в годы американской "опеки" там пустили глубокие корни международные террористические группировки, выросло производство и распространение наркотиков.
Сейчас Соединенные Штаты и их союзники продолжают вести свои геополитические игры, тщательно способствуя дестабилизации положения как в самом Афганистане, так и на приграничных с ним территориях. Демонстрация небезызвестной концепции "контролируемого хаоса" в действии.
В этой связи американцами активно разыгрывается не только "антитеррористическая", но и "гуманитарная" карта. Стремясь использовать ухудшающееся гумположение для усиления ультимативного давления на талибов, США продолжают незаконно удерживать зарубежные активы страны несмотря на призывы гуманитарных агентств ООН, правозащитных организаций и самих афганцев.
Учитывая продолжающиеся попытки Запада активно вмешиваться в судьбу всего региона, Россия не может оставаться в стороне. Мы будем содействовать Кабулу в стабилизации ситуации в стране и обеспечении интересов безопасности, в том числе с учетом того, что афганский фактор остается серьезным потенциальным источником террористической активности в Центральной Азии.
Важно, чтобы Кабул в свою очередь гарантировал выполнение взятых на себя обязательств в области политической инклюзивности, борьбы с терроризмом и наркотиками, обеспечения прав человека. При этом необходимо прекратить необоснованные попытки международного давления на новые власти, срежиссированные Вашингтоном, и, напротив, расширить каналы международной помощи Афганистану.
В этих целях планируем наращивать сотрудничество по линии профильных двусторонних контактов, международных форматов и организаций, прежде всего в формате ШОС и ОДКБ, в том числе по вопросам антитеррора. Также продолжим оказывать братскому народу Афганистана гуманитарную поддержку.
– Какие совместные контртеррористические мероприятия можно ожидать в ближайшее время по линии Москвы и Минска?
– Белоруссия является нашим ближайшим стратегическим союзником, связанным с Россией партнерскими обязательствами в рамках Союзного государства, ОДКБ, ЕАЭС и СНГ. В этой связи сотрудничество с Минском в сфере безопасности выстроено на системной основе. Регулярно в двустороннем и многостороннем форматах проводятся встречи руководства и аппаратов советов безопасности, заседания коллегий силовых министерств и ведомств. Тесное взаимодействие налажено и между оперативными подразделениями правоохранительных органов двух стран, которые ритмично, в плановом режиме организуют совместные спецоперации, направленные на пресечение незаконной миграции, трансграничной преступности, проникновения в наши страны террористических элементов.
Россия и Белоруссия активно сотрудничают в вопросах охраны западных рубежей Союзного государства, в том числе в части модернизации соответствующей пограничной инфраструктуры. Погранслужбы наших стран в режиме реального времени обмениваются информацией по вопросам въезда-выезда, ведут совместные "стоп-листы" в отношении иностранцев, чье нахождение признано нежелательным на территории наших государств. Предпринимаются и другие шаги по укреплению общего миграционного пространства России и Белоруссии в рамках утвержденной в ноябре 2021 года Концепции миграционной политики Союзного государства и недавно принятого Плана мероприятий по ее выполнению.
– Как вы оцениваете антитеррористический диалог между Москвой и Вашингтоном, остались ли какие-то каналы взаимодействия между сторонами после начала СВО?
– Сотрудничество между Россией и США в сфере антитеррора сейчас фактически заморожено. Как вы помните, Вашингтон под надуманным предлогом в одностороннем порядке решил приостановить профильные встречи в рамках диалога высокого уровня под эгидой внешнеполитических ведомств России и США, которые проводились в 2018-2019 годах в Вене и были полезны для обеих сторон.
Недавно в США была обнародована новая стратегия национальной безопасности, где четко прописано, что сотрудничество в борьбе с терроризмом они будут строить избирательно – лишь с теми, с кем посчитают необходимым для себя. Подобный подход ясно свидетельствует о том, что контакты в этой сфере между Москвой и Вашингтоном последним не предполагаются. Но и нам это сотрудничество не может быть нужно больше, чем им. Американцы, к сожалению, так и не смогли прийти к осознанию того, что международное сотрудничество в антитерроре является объективной необходимостью для всех стран, должно быть "всепогодным" и не подверженным сиюминутной геополитической конъюнктуре.
– Насколько с началом проведения специальной военной операции на Украине увеличились кибератаки на Россию? Из каких стран чаще всего происходят кибератаки? И как в Москве воспринимают заявления ряда стран Запада, декларирующих готовность к нанесению "упредительных" киберударов в отношении России? Будем ли отвечать на них?
– С началом СВО на Украине в разы увеличились кибератаки на российские информационные ресурсы и инфраструктурные объекты: госучреждения, финансовый, транспортный и энергетический секторы. Диверсии осуществляются преимущественно из стран Северной Америки и Евросоюза. Рассадником вредоносной деятельности с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является и Украина, ее цифровой потенциал, контролируемый США и их союзниками. Пентагон и Агентство национальной безопасности США кичатся, что ведут наступательные операции и против других независимых государств под предлогами защиты "демократии", прав человека. Поощряют русофобию среди хакерского интернационала. Привлекают к реализации агрессивных замыслов западные монополии. В авангарде – печально известная "Майкрософт", которая подчиняет интересам США цифровую независимость государств и тем самым способствует потенциальному проведению хакерских операций.
Изощренные киберсредства используются для введения в заблуждение наших граждан, дискредитации действий Вооруженных Сил Российской Федерации и органов государственного управления. Основной метод – дезинформация, распространяемая через ИКТ и их программные средства. Недавно эксперты из Гарвардской школы Кеннеди признали: Соединенные Штаты – мировой лидер по пропаганде и распространению лжи.
Российские компетентные ведомства располагают всеми возможностями для обеспечения надежной защиты информпространства нашей страны. Технические и программные средства непрерывно совершенствуются. Улучшаются навыки наших специалистов. Лучшее свидетельство тому – тщетность попыток США подорвать информационный суверенитет России. Что касается надежности отечественного цифрового потенциала, то лучшее свидетельство тому – растущий интерес к нашим разработкам за рубежом, со стороны союзников и единомышленников из развивающихся стран.
– В последнее время участились случаи кибермошенничества в России. Из каких стран чаще всего работают преступники? Как россиянам обезопасить себя от похищения денег и личных данных?
– Мы видим и знаем, что за киберпреступниками зачастую стоят спецслужбы США и их союзников. Есть сведения о создании ими "цифровых плацдармов" в Восточной Европе, ряде бывших советских республик, включая Украину. К слову, с началом специальной военной операции оттуда бежали несколько банд злоумышленников. Результат – их активность против России снизилась вдвое. Оборотная сторона – рост киберпреступности в Европе. Однако это не повод для успокоения: ущерб от хакерских взломов достигает десятки миллиардов рублей.
Рекомендовал бы россиянам и проживающим у нас иностранцам не терять бдительности. Внимательно отслеживать рекомендации компетентных органов государственной власти по киберграмотности и кибергигиене, которые постоянно обновляются специалистами из Минцифры. Задача – пресечь кражу личных данных, их утечку и использование за рубежом. Если это происходит, то нам крайне затруднительно или практически невозможно обеспечить даже право на сохранность частной жизни из-за посягательства на сей счет со стороны недружественных государств, не говоря уже о расследовании киберпреступлений.
Тем не менее для нейтрализации таких угроз МИД России тесно взаимодействует с компетентными ведомствами. Еще с 2000-х годов, несмотря на сопротивление США и их приспешников, мы продвигали идею о заключении международного договора о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. В декабре 2019 года добились запуска переговоров в ООН в рамках ее Специального комитета. Прилагаем усилия для осуществления задачи по согласованию конвенции по борьбе с информпреступностью в 2024 году с опорой на подходы наших сторонников и единомышленников из развивающихся стран, которые выступают за наращивание сотрудничества государств и их компетентных органов в обеспечении цифровой защиты граждан от злоумышленников.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
** Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

Инфляция во всем мире на многолетних максимумах. Какую цену за это придется заплатить?
«Чем выше инфляция, тем быстрее цены могут меняться. На фоне инфляции часто происходили катастрофы и катаклизмы, политические изменения». Чем грозит глобальное замедление экономики.
Грозит ли миру рецессия и возможно ли ее избежать? Почему инфляция сейчас находится на максимальных уровнях за несколько десятилетий и что ждет мир дальше? Рассуждает профессор Российской экономической школы Валерий Черноокий:
— Национальное бюро экономических исследований США (NBER) дает широкое определение рецессии. Под ней они понимают значительное падение экономической активности, которое затрагивает всю экономику и длится более чем несколько месяцев. Если посмотреть на рецессии, которые NBER зафиксировало в прошлом, чаще всего получается, что падение экономики было в течение двух кварталов. Однако так происходит не всегда.
NBER смотрит и на другие критерии: показатели рынка труда, индикаторы экономической активности — например, промышленное производство, показатели, близкие к ВВП, но немного от него отличающиеся, — например, валовый внутренний доход. Эти альтернативные внутренние показатели сейчас дают другую картину по сравнению с ВВП. Если в первые два квартала в США было падение ВВП на 1,6% и 0,6% соответственно, то валовый внутренний доход даже немного вырос. И, соответственно, четкого указания на рецессию пока нет.
Какие факторы сейчас говорят в пользу рецессии в развитых странах? Во-первых, проблемы на стороне предложения. Энергетический кризис сейчас затрагивает многие развитые страны. Довольно резкое ужесточение денежно-кредитной политики в США, Европе и других странах.
Но есть и критерии, которые указывают, что экономические изменения пока не превратились в рецессию. Рынок труда в США остается довольно сильным, занятость растет, безработица увеличилась совсем незначительно. То есть движение в сторону замедления есть, но говорить, что экономика точно упадет в рецессию, пока преждевременно.
Почему инфляция в мире растет ускоренными темпами
Инфляция растет с прошлого года, после того как закончился пик пандемии и экономика начала быстро восстанавливаться.
Инфляции сильно поспособствовала фискальная и монетарная поддержка экономики со стороны развитых стран. Восстановительный рост экономики привел к увеличению спроса, и это сильно давит на цены.
С другой стороны, большую роль сыграли факторы со стороны предложения: проблемы в цепочках поставок, логистики, транспортировки, очереди кораблей в портах, нехватка работников — все это негативно сказывалось на росте цен.
Есть и факторы, связанные с энергетическим кризисом: то, что произошло в этом году, еще сильнее увеличило цены на сырье и инфляция достигла исторически высоких уровней с 70-х годов прошлого века. В США инфляция снизилась до 8,3%, в Еврозоне она в районе 9,1%, высока и в Великобритании. Во многих развитых странах показатели близки к двузначным.
Тенденции разнонаправленные: в США с июля падают цен на бензин, энергоносители, это значительно сокращает темпы роста цен. С другой стороны, базовая инфляция немного выросла. Сейчас за счет ужесточения денежно-кредитной политики она будет снижаться, но для этого потребуется какое-то время, денежная политика не действует мгновенно. Скорее всего, в ближайшие кварталы начнется снижение инфляции. Об этом говорят и оценки финансовых рынков, и инфляционные ожидания.
В Евросоюзе ситуация сложнее в силу того, что энергетический кризис гораздо серьезнее. Цены на газ, бензин, электричество растут, и это еще сильнее подпитывает инфляцию. Тем не менее, ужесточение денежной политики в ближайшее время будет продолжаться и со временем приведет к снижению инфляции.
Что касается прогноза по ставкам, то в США есть такой инструмент — фьючерсы на ставку по федеральным резервным фондам. Он позволяет оценивать вероятность повышения ставки на какой-то период времени. Согласно таким прогнозам, сейчас ставка в США составляет 3,75 процентных пунктов и до конца года она, скорее всего, повысится до 4,5-4,75 п.п. Может, будет небольшое повышение в начале следующего года, а потом рынки прогнозируют замедление.
Стагфляцию можно определять по-разному. Либо высокая инфляция и падение экономики, либо растущая инфляция и падение экономики. В 80-е годы одновременно происходило и падение выпуска, и рост инфляции. Затем за счет действий Пола Уолкера, тогдашнего главы ФРС, инфляция начала снижаться, и это привело к кризису. Сейчас ситуация близка скорее не к 70-м, а к началу 80-х: за счет жесткой денежной политики инфляция постепенно начинает снижаться. Это может вызвать рецессию.
С другой стороны, сейчас ситуация в банковской и финансовой сфере в развитых странах более устойчива, чем в 2008 г. Системных проблем не наблюдается и, скорее всего, если наступит рецессия, она не вызовет таких серьезных трудностей.
Почему инфляция в развитых странах была низкой 20 лет
Замедление инфляции, начиная с 90-х, было во многом связано с удачным стечением обстоятельств: глобализация, технологичность, отсутствие серьезных энергетических шоков, изменение парадигмы денежной политики и переход на информационное таргетирование. Макроэкономические шоки снизились, и это привело к тому, что в течение двух десятилетий инфляция и волатильность темпов роста ВВП оставалась низкой. Все поменялось во время 2008 г., но инфляция оставалась довольно низкой.
Сейчас нам не повезло с шоками со стороны предложения, логистическими проблемами, ростом цен на нефть, газ и продовольствие.
Почему повышение спроса после кризиса пандемии привело к проблемам со стороны предложения? Можно привести пример локомотива, который внезапно остановили, и за это небольшое время шестеренки, которые двигали локомотив, немного заржавели. Потом его начали резко пускать в движение, в топку бросили много денег, но шестеренки теперь уже не такие хорошие, как до кризиса. Локомотив растет, но одновременно его механизмы начинают сильно греться. Понятно, что за счет снижения вброса денег в топку можно по крайней мере замедлить движение локомотива и снизить давление на его механизмы.
Факторы предложения, торговли, технологий влияют на условия, в которых функционирует экономика, в том числе и на инфляцию. Но она растет быстро именно в последние полтора года.
«Развитые страны столкнулись с тем, что политические проблемы выходят на первый план, а экономические следуют за ними»
Мир непредсказуем. Довольно сложно предвидеть все возможные события. Важны правила, которые бы дисциплинировали инфляционные ожидания. Если бы центральные банки сейчас не повышали процентные ставки, это бы отвязало инфляционные ожидания и сильно усугубило ситуацию. Они тоже не могут предвидеть все и вся и действуют в ситуации неопределенности.
Инфляционные ожидания подпитывают инфляцию через множество механизмов. Если вы ожидаете, что инфляция будет расти, вы будете настойчивее требовать повышения зарплаты. Работодатели чаще будут готовы их повышать.
Предприятия будут быстрее повышать цены, если ожидают, что их конкуренты будут иметь возможность делать это в будущем. Все это создает механизм раскручивания инфляционной спирали. Соответственно, если инфляционные ожидания не заякорены, гораздо легче подпитывать инфляцию со стороны издержек. Если вы знаете, что инфляционные ожидания сдерживаются за счет определенного механизма, то вам будет гораздо легче снизить инфляцию до приемлемого для экономики уровня.
Чем выше инфляция, тем быстрее цены могут меняться. Есть понятие жестких цен: когда цены низкие, их жесткость довольно высока. Цены на товары и услуги могут оставаться неизменными длительное время. При повышении уровня инфляции фирмам гораздо легче быстрее менять цены. Это в какой-то мере способствует раскачиванию инфляции, но это лишь один из механизмов того, как высокая инфляция влияет на экономику.
Чем высокая инфляция опасна для правительств
Наверно, можно сказать, что мир стал каким-то другим. Но я бы поостерегся говорить, что мы перешли в какой-то новый режим инфляции. Денежная политика за счет монетарных мер легко может снизить инфляцию до нулевого или отрицательного уровня. Но это происходит за счет повышения процентных ставок — и насколько сильно нужно их повышать? Реальное окружение, в котором принимаются такие решения, в последние годы поменялось. Энергетический кризис, падение производительности, изменение демографии влияют на проведение денежной политики.
Когда Центробанк какой-то страны повышает ставку, он смотрит все-таки на инфляцию в своей собственной стране, а не других странах. Например, если Центральный банк США повышает процентную ставку, это влияет на курс доллара, может подпитывать инфляцию в Евросоюзе и Японии. Многие центральные банки других стран, особенно развивающихся, часто вынуждены повышать ставки, чтобы избежать еще более высокого роста инфляции.
По сути, у них не остается выбора. И в этом случае происходит усиление эффекта на глобальную экономику, торговлю, взаимодействие.
Многие развитые страны координируют свои решения, вопрос — насколько эффективно. Тем не менее, небольшое повышение во многих странах будет лучше, чем сильное повышение в одной стране и неповышение в другой. Важно, чтобы все действовали сообща, чтобы это не вызывало проблемы на валютных рынках и в торговле. Но это не связывающая координация.
На фоне инфляции часто происходили катастрофы и катаклизмы, политические изменения. Примеров множество: чаще это касается гиперинфляции, когда она растет темпами более 50% в месяц и выше. В той же Римской империи в III веке нашей эры снижение доли серебра в динариях привело к тому, что инфляция в течение этого века выросла в тысячу раз. Это было фоном кардинальных изменений в Римской империи, которые в конце концов привели к ее распаду. Тогда солдатские императоры пытались поддерживать свои армии, и порча монеты была одним из источников такой поддержки. Но это негативно влияло на других граждан и саму экономику Римской империи и в какой-то мере способствовало постепенному ее развалу.
Гиперинфляция в Веймарской республике в конечном итоге привела к приходу Гитлера. В Венесуэле нынешняя гиперинфляция продолжается до сих пор.
В США есть «индекс несчастья», который формируется из двух компонентов: безработицы и темпов роста инфляции. Он хорошо отражает ситуацию в экономике. Есть закономерность: если повышение наблюдается в течение четырех лет, то, скорее всего, нынешний президент или его партия проиграют на следующих выборах.
Материал подготовлен на основе эпизода подкаста «Экономика на слух» (проект Российской экономической школы). Ведущий Филипп Стеркин.

Америка страх потеряла
Как возникло антивоенное движение в США 80-х и стоит ли ждать нового?
Нынешняя политика Вашингтона наводит на мысль, что Америка… совсем страх потеряла. Поясню, что имею в виду. В октябре 1938 года радиостанция Си-би-эс пустила в эфир спектакль по роману Герберта Уэллса «Война миров». Сюжет осовременили, а передачу построили в стиле прямого якобы репортажа из штата Нью-Джерси. Приняв постановку за реальные события, пятая часть из 6 миллионов слушателей впала в массовую истерию, дав повод зарубежной печати заметить, что такая паника могла произойти только в Америке.
Впоследствии, работая за океаном, я и сам не раз поражался удивительной, прямо пропорциональной могуществу их государства, склонности американцев к панике. 24 года спустя жители США впервые в их истории действительно могли бы испытать на себе те средства, которыми с самого начала XIX века их правители насаждали «свободу и демократию» в Африке, Новом Свете, Азии и Европе. Тогда, в 1962 году, Карибский кризис в последний момент разрешили мирным путём, но страху американцы натерпелись нешуточного. И это притом что ещё в 1948 году ВВС США готовились сбросить на 70 советских городов 200 атомных бомб, а в следующем десятилетии натовцы намеревались подвергнуть уничтожению уже 100 городов СССР, обрушив на них 300 ядерных зарядов и 250 тысяч тонн обычных бомб.
В 1966 году, стремясь предотвратить эскалацию развязанной Вашингтоном «грязной войны» во Вьетнаме, председатель комиссии Сената США по иностранным делам Уильям Фулбрайт издал книгу-предостережение «Высокомерие силы». Подействовало, но ненадолго. Война продолжалась ещё 9 лет и прекратилась лишь потому, что в США посчитали 58 тысяч погибших, пропавших без вести, умерших от ран соотечественников чрезмерной ценой за победу над далёкой, ничем американцам не угрожавшей страной, которая потеряла в 65 (!) раз больше людей. Книгу же Фулбрайта сдали в архив с пометкой «Не упоминать ни при каких обстоятельствах».
Ещё через 5 лет президентом США стал Рейган, взявший на вооружение девиз «Мир с позиции силы». Он с места в карьер принялся добивать остатки конструкций, из которых при Никсоне Белый дом и Кремль выстроили более или менее прочный остов мирных взаимоотношений. «На своей первой пресс-конференции 29 января 1981 года Рейган выступил с резкой антикоммунистической речью, перечеркнувшей 20 лет прогресса в направлении разрядки напряжённости и попыток покончить с холодной войной», – говорится в книге режиссёра Оливера Стоуна и профессора истории Питера Кузника «Нерассказанная история США».
При этом, читаем там же, «малообразованный, но очень религиозный и консервативный, Рейган уделял мало внимания политике и тем более её деталям. Его вице-президент Джордж Буш-старший признавался советскому послу Добрынину, что поначалу взгляды Рейгана на международные отношения были «просто несусветными». Добрынин писал, что Буш «был ошеломлён тем, насколько Рейган находился под влиянием голливудских клише и идей его богатых, но консервативных и малообразованных друзей-калифорнийцев»… Многих приближённых Рейгана шокировало его невежество. Вернувшись в конце 1982 года из турне по Латинской Америке, Рейган сказал репортёрам: «Я столько всего узнал… Вы удивитесь, но Латинская Америка – это множество отдельных стран...» Спикер палаты представителей Тип О’Нил, проработавший в Конгрессе 35 лет, сказал, что Рейган – «самый необразованный президент из всех, кого я знал».
На службу в Белом доме 40-й президент США призвал целую когорту деятелей, отличавшихся друг от друга лишь мерой ненависти к СССР. Советский отдел в Совете национальной безопасности возглавил Ричард Пайпс, предъявивший нашей стране ультиматум: или добровольная сдача в плен американскому образу жизни, или третья мировая война. Пост обер-дипломата занял профессиональный военный с опытом участия в Корейской и Вьетнамской войнах, бывший главнокомандующий силами НАТО Александр Хейг. Госдепартаментом он командовал лишь полтора года, но успел отличиться заявлением о том, что «есть вещи поважнее, чем мир», и предложением сделать в Европе «предупредительный ядерный выстрел». На его фоне даже патентованный «ястреб» – министр обороны Каспар Уайнбергер – выглядел «голубем».
Хейга в Госдепе сменил Джордж Шульц. Как-то, решив скоротать время в аэропорту, почтенного вида и возраста новый госсекретарь встал за пульт видеоигры «Интервенты» и через несколько минут ликующе оповестил сопровождавших его журналистов: «Сбил пять русских МиГов!»
Одним из советников Госдепартамента стал Колин Грей. Рейгану он приглянулся программной статьёй в журнале «Форин афферс»: «Соединённые Штаты должны разработать план разгрома Советского Союза, причём ценой таких жертв, которые не помешали бы восстановлению нашей страны…»
Войной упивалась и любимица Рейгана Джин Киркпатрик, сочинившая трактат в оправдание союза Штатов с кровавыми диктаторами. «Консервативный демократ и политолог из Джорджтауна, она поддержала Рейгана из-за его дремучего антикоммунизма, – говорится в упомянутой книге Стоуна и Кузника. – В награду Киркпатрик назначили постпредом США в ООН». Киркпатрик призывала «навести порядок» во всей Центральной Америке, действуя в унисон с Уильямом Кейси, который (ещё одна цитата из «Нерассказанной истории...») «пришёл в ЦРУ, чтобы развязать войну против Советского Союза».
Сам Рейган, считавший, что «наши поступки должны дать всем понять, что американцы – это высокоморальные люди… и всё, что они делают, они делают на благо всего мира», всячески такие настроения поощрял. Когда же министр образования Уильям Беннетт выразил озабоченность, что американские школьники тратят чересчур много времени на компьютерные игры, глава Белого дома возразил: «А Уайнбергер утверждает, что такие игры вырабатывают навыки, необходимые лётчикам ВВС».
Обуреваемый высокомерием силы, Рейган раскрутил маховик гонки вооружений и обозвал СССР империей зла. Один из советников Рейгана заявил: «Хотя радиоактивные осадки и увеличат раковые заболевания процентов на 30, это легко компенсировать, отказавшись от восстановления табачной промышленности», а высокопоставленный чиновник ведомства гражданской обороны США У. Чипмен добавил, что ядерная бомба, дескать, отличается от обычной только более громким взрывом…
Немудрено, что такая политика администрации Рейгана до смерти перепугала американцев. Осенью 1981 года, вскоре после начала моей работы в качестве вашингтонского собкора «Известий», я стал очевидцем грандиозной манифестации протеста против курса Белого дома с участием 500 тысяч человек, съехавшихся в столицу со всех концов США. Страну охватило мощное антивоенное движение с участием десятков миллионов американцев, в том числе крупных общественных деятелей, конгрессменов, известных на весь мир учёных (включая одного из создателей водородной бомбы), отставных генералов и адмиралов, видных публицистов, деятелей эстрады и Голливуда, представителей духовенства.
276 городских муниципалитетов, законодательные собрания 11 штатов, 9 национальных профсоюзов, большинство женских и религиозных организаций потребовали прекратить гонку ракетно-ядерных вооружений. Десятки населённых пунктов, в том числе Нью-Йорк и Чикаго, объявили себя безъядерной зоной. Одуматься, пока не поздно, Белый дом призывали даже такие деятели, как автор доктрины «сдерживания коммунизма» Джордж Кеннан и бывший глава ЦРУ Уильям Колби.
На одной из антивоенных манифестаций в Вашингтоне я познакомился со знаменитым детским врачом Бенджамином Споком, и он мне сказал:
– В сравнении с периодом войны во Вьетнаме нынешнее движение сторонников мира стало более массовым и представительным. Тогда протестовала в основном молодёжь с присущими ей колебаниями и переменчивостью в настроениях. Теперь тех, кто выступает за замораживание гонки ядерных вооружений, с толку просто так не собьёшь.
В августе 1985 года, в канун 40-летия атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, в Вашингтон из всех 50 штатов съехались встревоженные подготовкой США к ракетно-ядерной войне с нашей страной. Цепочка манифестантов, растянувшись на 20 с лишним километров, взяла в кольцо здания Конгресса, Белого дома и Пентагона.
– Мне с женой доводилось участвовать в десятках демонстраций сторонников мира, но такой мы ещё не видали, – сказал мне тогда бард антивоенного движения американцев Пит Сигер.
В том же 1985 году наше собственное государство возглавил деятель, чью суть первой разгадала Маргарет Тэтчер («С этим парнем можно иметь дело»), поспешившая поделиться своим открытием с Рейганом. Через несколько лет за океаном провозгласили победу в холодной войне, причём победу окончательную и бесповоротную.
В конце 90-х, когда я работал пиарщиком в крупнейшей американской ИТ-компании, в Москву прилетел один из её топ-менеджеров. По этому случаю устроили ужин, где заокеанский гость стал вдруг рассказывать, как он рад таким переменам в двусторонних отношениях.
– Вы себе и представить не можете, – с подкупающей искренностью говорил он, встав из-за стола и переходя от одного из нас, русских, к другому, – в каком напряжении мы в Америке жили в течение десятилетий, опасаясь ракетно-ядерного конфликта с СССР. В нашей семье этот страх присутствовал постоянно, поскольку мой отец занимал высокий пост в одном из государственных учреждений, связанных с нацбезопасностью. Нам он никогда ничего не рассказывал, но порой по его поведению можно было предположить, что, уйдя на работу, домой он не вернётся, а нас всех неизвестно что ждёт. Вы, повторяю, даже не представляете, что мы тогда пережили и с каким облегчением перевели дух, когда это закончилось…
Можно только порадоваться, что граждане США избавились от страха ядерного апокалипсиса, перестали обзаводиться семейными бомбоубежищами и больше не учатся прятаться под школьными партами под песню «Прячься, укройся, атомной бомбы не бойся!».
Беда только в том, что это полностью развязало руки американскому истеблишменту. Стоило российскому руководству напомнить, что и наша страна обладает национальными интересами, как Запад во главе с США взялся за старое, сменив милость на гнев, а пряник – на кнут. Опять пошли в ход угрозы, шантаж, провокации и всевозможные наказания за строптивость, а возобновившаяся демонизация нашего государства приобрела невиданные масштабы и формы: даже в годы холодной войны наших лидеров не изображали исчадием ада.
Суть политики Вашингтона вновь определяет высокомерие силы, и опять, как во времена правления Рейгана, за океаном всё громче раздаются голоса влиятельных людей, «успокаивающих» сограждан насчёт возможных последствий ракетно-ядерной катастрофы. То бывший зам. министра США по энергетике заявит, что в таком случае погибнет «всего лишь 5 процентов американцев», то специалист по изучению последствий применения ядерного оружия Стивен Шварц скажет, что жителей таких городов, как Нью-Йорк и Лос-Анджелес, общая трагедия человечества обойдёт стороной. Зато давным-давно в США смолкло эхо голосов тех, кто взывал к элементарному чувству самосохранения, и больше не звучит в американском эфире некогда популярный хит Джона Леннона «Дайте миру шанс».
Александр Палладин

Яков Кедми: «Пока всё идёт не по вашингтонскому сценарию»
Россия получила сухопутный коридор в Крым
Саркисов Григорий
До Нового года осталось чуть больше двух месяцев, однако подводить итоги года прошедшего ещё рановато: всё меняется слишком стремительно и что нас ждёт в будущем, предугадать сложно. Конечно, всем хотелось бы, чтобы наступил мир, но эти надежды призрачны. Запад выходить из конфронтации не собирается, поставляет Киеву всё новые и новые виды вооружений и наращивает подготовку украинских боевиков. Одна только Германия к весне намерена обучить ещё пять тысяч бойцов ВСУ. Так что Запад, похоже, действительно готов воевать до последнего украинца. Своими прогнозами на год грядущий и ближайшие месяцы с нашим корреспондентом поделился израильский политолог и общественный деятель Яков Кедми.
– Главной темой всех политических ток-шоу и «кухонных» разговоров остаётся специальная военная операция. Как вы, военный человек, оцениваете нынешнюю ситуацию?
– Российская спецоперация – только первый этап большого противостояния между объединённым Западом в лице США и НАТО и Москвой. В Вашингтоне посчитали, что с Россией можно разделаться на Украине. Либо настолько измотать Россию, чтобы к основному противостоянию с Западом она пришла ослабленной в экономическом, политическом и военном отношении. На Западе до сих пор верят в победу Украины и в то, что это приведёт к ужасным социально-экономическим и политическим потрясениям в России. Но пока всё идёт не по вашингтонскому сценарию.
Украина уже потеряла более 20 процентов территории, и Россия достигла огромного стратегического успеха. И если Крымского моста было недостаточно для обеспечения безопасности и нормального развития полуострова, Россия, взяв под контроль Херсонскую область, получила сухопутный путь в Крым и обезопасила полуостров от вероятного вторжения 100-тысячной украинской группировки. Добавим к этому четыре новые области, которые уже никогда не уйдут из России.
Физически уничтожена как минимум половина самой боеспособной части ВСУ. Украинская армия испытывает критический недостаток и в технике, и в боеприпасах. Почти вся советская техника, как и техника, переданная Западом, уничтожена. Нужной Украине западной техники в достаточном количестве нет ни в Европе, ни в США. Нет танков, недостаточно систем ПВО. Артиллерии ещё можно наскрести на пару-тройку дивизионов, но на производство другого оружия для Украины уйдёт год-полтора. Значительного времени потребует и обучение 10–15 тысяч украинских военных, а это капля в море. Наконец, частичная мобилизация резко усиливает Российскую армию. По оценкам британской разведки, на Украину может быть введено в ноябре до 500 тысяч российских военных. Это не оставляет никаких шансов ВСУ.
– Если Россия пойдёт на переговоры с Киевом, о чём там может идти речь?
– Возможно, о закреплении расположения Российской армии и Российского государства в границах, в которых они находятся сейчас. Для Украины это будет означать смену киевского режима, а для Запада – признание военного и политического поражения, что будет особенно интересно на фоне истерических воплей о «победе» Украины. Даже само согласие на переговоры будет признанием Запада в том, что он уступает России часть украинской территории и прекращает военные действия. А это и есть поражение. Сразу после этого начнётся основной этап противостояния России с США и НАТО. И на этом этапе цели России останутся неизменными – возвращение НАТО к состоянию 1997 года.
– А нужны ли России переговоры об «остановке на линиях»? Ведь если останется хотя бы малая часть Украины, США и НАТО тут же начнут её военное освоение.
– Конечно, такой расклад Москве невыгоден. Её цель – не допустить превращения Украины в базу для атак на Россию. В противном случае мы увидим новое военное противостояние с Западом, но уже в Европе. Если США сейчас и пойдут на переговоры, то только из страха, что продолжение военных действий приведёт Украину к потере ещё больших стратегических территорий и лишит её выхода к Чёрному морю. Это поставит под угрозу существование Украины как государства. Думаю, Россия будет рассчитывать прежде всего на силовой фактор, который заставит Запад пойти на уступки. Но именно по этим соображениям Запад, не желая признавать поражение, может отказаться от переговоров с Россией и потребовать от Киева продолжать военные действия. В этом случае Россия продолжит осуществление своих оперативных планов – например, по овладению Черноморским побережьем, хотя это явно не единственная цель Москвы. В любом случае продолжение боевых действий ещё более ухудшит ситуацию для Киева и Вашингтона.
– В Белоруссии уже находится российская военная группировка. Можно ли ожидать её вторжения на Украину и продвижения к Киеву и Львову?
– С оперативной точки зрения есть несколько вариантов военных действий с севера, начиная от западной границы Украины и заканчивая Сумской и Харьковской областями. Это может отрезать оставшуюся часть Украины от путей снабжения техникой, вооружениями и боеприпасами. Но речь может идти и об одновременном наступлении в районе Николаева с выходом к Приднестровью и овладением Черноморским побережьем. Впрочем, самая близкая дорога к Приднестровью лежит не через Николаев, а через Тернопольскую область. Если российская группировка составит 500 тысяч человек, у Генштаба найдётся несколько вариантов использования этих сил.
– Некоторые израильские политики вдруг заговорили о военной помощи Израиля Киеву, в частности, о возможности поставок системы «Железный купол»…
– Ни за что не отвечающих третьеразрядных говорунов много и в Израиле, и в Европе, и в Америке. Но политику государства эти люди не определяют. Что касается «Железного купола», то он совершенно не подходит к боевым условиям на Украине, поскольку рассчитан на выполнение специфических задач борьбы с террористическими обстрелами территории Израиля, и эту систему не закупила ни одна европейская страна. Да и министр обороны Израиля Бени Ганц официально заявил, что Израиль не будет поставлять Киеву системы ПВО.
– Изменилось в Израиле отношение к режиму Зеленского и российской военной операции за эти месяцы?
– Нет. Работает примитивная западная пропаганда, рассчитанная на маргиналов. Это касается практически всех СМИ на иврите. Конечно, кто-то смотрит Fox News или российские телеканалы, но таких людей мало. А русскоязычные СМИ содержатся беглыми олигархами-русофобами, и там нет ничего, противоречащего американской точке зрения.
– Почему на Западе вдруг заговорили о «готовности Путина использовать ядерное оружие»?
– Такие разговоры – чисто пропагандистский ход, направленный на демонизацию России и нагнетание страха перед «коварными русскими». Американцы пытаются так оправдать продолжение войны на Украине – мол, в противном случае Путин непременно применит ядерное оружие. Россию обвиняют и в готовности применить химическое или биологическое оружие. Доходит до полного бреда вроде обвинения Москвы в снабжении российских солдат «виагрой для изнасилований». В своё время точно такую же ахинею несли о Каддафи.
– Понятно, что примитивная пропаганда рассчитана на маргиналов, но почему мы видим всё больше маргиналов и в западных элитах?
– Степень умственного недоразвития и безграмотности западных элит с каждым годом и с каждым новым поколением прогрессирует. Убогость элит мы видим и в США, и в Европе: каждая новая плеяда политиков оказывается примитивнее своих предшественников. Самый яркий пример – премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, умудрившаяся за месяц внушить ненависть к себе всем британцам. Это отражение общей деградации западной модели общества, порождением которой были в своё время Муссолини, Гитлер и две мировые войны.
Сегодня западная цивилизация показывает полную несостоятельность. И вот вам контраст – ХХ съезд компартии Китая, где Си Цзиньпин поставил США и их многолетней стратегической политике шах и мат. Американцы надеялись, что у них есть время до 2032 года и, расправившись с Россией, они возьмутся за Китай. А товарищ Си поведал, что Китай достигнет максимальной стратегической мощи к 2027 году. Значит, у Америки только четыре неполных года. Она попала в цейтнот, переходящий в цугцванг, когда каждый следующий ход только ухудшает ситуацию. А если уйдёт Байден и президентом США ближайшие два года будет Камала Харрис, Штаты потеряют ещё два года, «красный флажок» упадёт, и тогда американцы позавидуют даже британцам с их Лиз Трасс.
– Какое событие может стать самым заметным в оставшееся до 2023 года время?
– Основным событием может стать широкое ноябрьское наступление Российской армии на Украине. Это приведёт к очень заметным военным и политическим результатам. Не зря же Запад так истерически кричит, что поражение Украины – это его поражение и его катастрофа. Думаю, остаток 2022 года окажется богатым на события, которые будут иметь огромное влияние на жизнь человечества в наступающем году.

Страдай, Америка!
демократы вцепились во власть
Александр Домрин
Наступила осень. Американская статистика подводит итоги эффективности экономики страны за лето и сентябрь 2022 года. Итоги неутешительные.
Государственный долг США впервые достиг беспрецедентных вершин – 31 трлн долларов. Согласно официальной информации управления экономики и статистики (The Economics and Statistics Administration, ESA) – структурного подразделения Министерства торговли США, занимающегося сбором и анализом данных об экономических и социальных изменениях в стране, – инфляция в Соединённых Штатах в августе и сентябре составляла 8,6 и 8,2% соответственно. Много это или мало? Это худший показатель за более чем сорок лет – с 1981 года, когда президентом страны стал Рональд Рейган. Для сравнения, в 2021 году, то есть в первый год президентства Джо Байдена, инфляция составляла 7%. А в 2020 году, в последний год президентства Дональда Трампа, – всего лишь 1,36%.
В лучших традициях «культуры отмены» (cancel culture) официальный представитель Белого дома пресс-секретарь президента Байдена Карин Жан-Пьер, сменившая на этом посту столь же одиозную Джен Псаки, на вопросы журналистов об инфляции в США отказывается признавать общепризнанные экономические показатели инфляции «инфляцией». На брифинге для прессы в середине мая Жан-Пьер сделала следующее заявление: «Мы экономически сильнее сейчас, чем когда-либо были раньше». Фраза привлекла внимание как известных лиц, так и рядовых пользователей социальных сетей. «Каждый американец – ну, кроме тех, кто работает в Белом доме Байдена, – знает, что это неправда», — написал сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз. Специалист по коммуникациям Республиканской партии Мэтт Уитлок напомнил, что высказывания пресс-секретаря отражаются на репутации всего правительства. «Говорить такое, когда 85% населения страны думает, что мы движемся по ошибочному пути, – в этом вся суть администрации Байдена. Они ничему не научились, даже называя инфляцию «переходной» и «проблемой высшего класса», – написал он. «Важный вопрос: это достоверно неверно, но возможно ли, что она верит в то, что говорит? Нет никакого оправдания лжи, но с толку сбивает то, что она продолжает такое говорить», – отметила президент District Media, Inc. Беверли Халлберг.
Попытки Белого дома противостоять негативным тенденциям в экономике не приносят ощутимых результатов. При этом президент Джо Байден продолжает обвинять в сложившейся ситуации Россию и называет рост цен «путинским налогом на еду и бензин».
Ранее обозреватель китайской англоязычной газеты Global Times Вэнь Шен писал, что президент США Джо Байден обманывает американцев, обвиняя Россию в тяжёлой экономической ситуации в своей стране. По его словам, когда в начале 2021 года Байден попросил сенат принять его спорный план финансового стимулирования почти на 2 трлн долларов, американские независимые экономисты, предупреждавшие, что такой шаг лишь подстегнёт инфляцию, подверглись критике и были высмеяны. Однако позже их прогнозы подтвердились. Байден в ответ призвал сограждан не беспокоиться и назвал происходящее «временной проблемой». Вполне в духе известного анекдота: «У нас в стране наметился негативный рост экономики!» – «Вы хотите сказать: снижение, падение производства?» – «Нет, рост! Но… Негативный! При этом… Рост стабильный!»
Если пресс-секретарь Белого дома отказывается признавать инфляцию инфляцией, сам президент США инфляцию признаёт, хотя и называет её «ключевыми причинами»… пандемию коронавируса (опять виноват Трамп!) и «действия Владимира Путина» на Украине.
Географический кретинизм в принципе характерен для граждан США. В ходе референдумов в ДНР и ЛНР 2014 года телеканал CNN пытался найти Украину на карте мира. И нашел! На границе Афганистана и Пакистана! Однажды перед посадкой трансатлантического лайнера в Шереметьево-2 услышал разговор двух американок, смотревших в иллюминатор: «Я знаю это место! Оно называется Украина». Но причём здесь для рядового американского рабочего, фермера, ковбоя, рыболова объяснения снижения их уровня жизни какими-то «действиями Владимира Путина» на какой-то Украине?
Трампа я не случайно вспомнил. За четыре года его президентства (2017–2021 гг.) экономика страны была на подъёме, что, если бы не пандемия, было бы ещё более очевидно и убедительно. Оппоненты Трампа не могли не признать этот медицинский факт! Чем же они объясняли такой рост? Тем, что этот успех якобы был «отложенным во времени» результатом реформ предшественника Трампа демократа Барака Обамы (2009–2017 гг.). Почему-то за восемь лет президентства Обамы такими достижениями в области экономики он похвастаться не мог. С лёгкостью неимоверной теперь демократы объясняют провал экономики при Байдене «отложенным во времени» результатом реформ Обамы! Как удобно!
Чем же объясняются нынешние проблемы американской экономики? Назову три из них. Во-первых, очевиден провал проекта зелёной экономики и отказа от углеводородов в духе истеричных требований радикал-демократов, Греты Тунберг, бывшего вице-президента США Альберта Гора, отхватившего в 2007 году Нобелевскую премию мира за «работу по защите окружающей среды и исследования по проблеме изменения климата». Кстати, Эл Гор восхитительно монетизировал свою «работу по защите окружающей среды». Кроме премии Нобеля, Гор объездил несколько десятков городов мира с выступлениями по защите климата. Согласно публикациям в американских средствах массовой информации, его гонорар за 75-минутную лекцию на тему зелёной энергетики (Environmental Multimedia Lecture) составлял 100 000 долларов, не считая суточных, транспортных расходов и расходов на проживание и охрану.
Напомню, что одним из первых, если не самым первым решением Байдена на посту президента США стала отмена разрешений на строительство четвёртой стадии cети нефтепроводов «Кистоун» (Keystone Pipeline / Keystone XL) и запрет на функционирование уже проложенных трубопроводов. «Кистоун» подавал нефть с нефтеносных песков Атабаски в канадской провинции Альберта на нефтеперерабатывающие заводы в США. Однако 9 июня 2021 года компания-подрядчик проекта TC Energy объявила о закрытии всей сети нефтепроводов «Кистоун». Кроме того, Байден закрыл программу аренды федеральных земель для добычи минеральных ресурсов. Эти меры в значительной степени лишили Америку её энергетической независимости и спровоцировали скачок цен на нефть. Названные меры оказали мощнейшее влияние на американскую рыночную экономику и негативно отразились на качестве жизни рядовых граждан.
Не так давно демократическое правительство штата Калифорния включило таймер обратного отсчёта для двигателей внутреннего сгорания. Губернатор Калифорнии подписал указ, согласно которому начиная с 2035 года в штате будет запрещено продавать новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Никакого инфраструктурного плана, который позволил бы поддержать владельцев электромобилей, нет, и, как бы иронично это ни звучало, спустя несколько дней после новостей о двигателях внутреннего сгорания власти Калифорнии попросили жителей не заряжать их электромобили, чтобы сэкономить электроэнергию.
Вишенкой на торте стало решение министерской встречи стран – участниц соглашения ОПЕК+, прошедшей 5 октября. Организация, включающая Россию (с 14% мировой нефтедобычи), снизит квоту на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 года на 2 млн баррелей в сутки. Половина сокращения придётся на две страны – Россию и Саудовскую Аравию. Значительно сокращены квоты Ирака, ОАЭ и Кувейта. Страны картеля решили существенно снизить квоту на добычу вопреки призыву стран «Большой семёрки» (G7) её нарастить. Он прозвучал 2 сентября, когда министры финансов стран G7 заявили о планах ввести потолок цен на российскую нефть, который будет касаться также её транспортировки и страхования.
Любопытна следующая деталь. В преддверии встречи министров стран ОПЕК+ американские чиновники снова пытались пролоббировать свои интересы на Ближнем Востоке. По информации телеканала CNN, сотрудники Белого дома совершили вояж в Кувейт, Саудовскую Аравию и ОАЭ, чтобы убедить их проголосовать против снижения квот на добычу нефти.
Решение ОПЕК+, несомненно, является выигрышем для российских нефтекомпаний, потому что они получат более высокие цены на нефть, и, столь же очевидно, поражением Белого дома и лично президента Байдена и дурной новостью для американской экономики. По прогнозам, мировые цены на нефть могут вырасти до 110–130 долларов за баррель.
Во-вторых, если республиканца Трампа как яркого представителя промышленного капитала действительно волновало положение американских трудящихся и он возвращал производство американских товаров из азиатских стран или Мексики, тем самым, в частности, достигнув рекордных показателей снижения уровня безработицы, то для демократа Байдена как яркого представителя финансового капитала так вопрос вообще не стоит! В отличие от Трампа и его сторонников, для глобальных финансистов, боевым отрядом которых является даже не Америка как таковая, а руководство Демократической партии США, не существуют такие понятия, как нация, Родина, народ. Для демократов-глобалистов «Родина» зелёного цвета – цвета доллара. Если производство кроссовок или каких-то других товаров ширпотреба обходится дешевле в странах с дешёвой рабочей силой и, соответственно, приносит больше прибыли, благосостояние американского народа Байдена и делегировавшей его в Белый дом глобалистской элиты совершенно не волнует.
Поясню мою мысль. К 2015 году в Америке возник запрос на национального лидера. Именно национального, патриотичного, а не ставленника Либерального интернационала. У значительной части населения страны и национального бизнеса в реальном секторе экономики произошло осознание того, что Америка находится под оккупацией международных финансовых спекулянтов.
Термин «оккупация» не должен никого смущать. Именно он применим к США в настоящий момент. Страна не принадлежит себе. Её «угнали», как угоняют самолёты. Америка принадлежит наднациональным финансовым спекулянтам, мировой закулисе, «коллективному Соросу», у которых, как я уже сказал, нет такого понятия, как Родина, Отечество. Ставленниками этих сил были Барак Обама и его предполагаемая сменщица в 2016 году Хиллари Клинтон. А Дональд Трамп с самого начала своей избирательной кампании напоминал своей стране и всему миру, что Америка раньше была страной людей дела, творящих реальные ценности, а не пустую бумагу, и что он хочет вновь сделать её такой!
Третьей причиной экономического кризиса США является отказ Белого дома и руководства Демократической партии от изоляционизма Трампа в отношении мигрантов (в первую очередь, незаконных мигрантов – illegal aliens) из Мексики и Латинской Америки. Отсутствие наказания за незаконное пересечение американской границы провоцирует всё большее число мигрантов прибывать на территорию страны, как заявил в конце августа этого года глава Пограничной патрульной службы США (United States Border Patrol, USBP) Рауль Ортиз. «Мы видим рост потока мигрантов при отсутствии последствий. Если мигрантам говорят, что они могут быть отпущены на свободу после незаконного пересечения границы, то вы можете наблюдать рост их числа», – сообщил Ортиз, которого цитирует телеканал Fox News. По его оценке, поток незаконных мигрантов в США продолжит увеличиваться. По данным Погранично-таможенной службы США (United States Customs and Border Protection, USCBP) Министерства внутренней безопасности США, в которую входит USBP, приток нелегальных мигрантов, задержанных при пересечении юго-западных границ США, за 10 месяцев 2022 фискального года (с октября 2021-го по июль 2022-го) составил 1 млн 946 тыс. человек.
Почему демократы это делают, прекрасно понимая, что бесконтрольное проникновение нелегалов в США противоречит интересам законопослушных граждан страны, интересам американских трудящихся и ложится тяжёлым бременем на экономику страны? Всё очень просто! Цинизму демократов-прогрессистов в США нет предела: больше нелегальных мигрантов, которых теперь в Америке даже нельзя назвать теми, кто они есть! Больше сидящих на пособиях безработных не только чернокожих, но и латиносов, больше наркоманов, больше однополых браков и т. п. – только чтобы Трамп и его «быдло», «быдловата» (deplorables), как Хиллари Клинтон назвала республиканцев – избирателей Трампа, не смогли победить на выборах сначала 2016 года, потом 2020-го, а теперь и 2024-го!
Парадоксально, но военная и финансовая поддержка режима Зеленского на Украине со стороны «вашингтонского обкома» является фактором, благоприятно влияющим на американскую экономику. Рассмотрим этот тезис на примере самого крупного пакета помощи США Украине, объявленного в мае этого года. Постатейно разберём, на что на самом деле пойдут 40 млрд долларов и почему Зеленский в полном объёме их не увидит. По моей оценке, Зеленский и его подельники увидят не больше 10% от этой суммы. Это, конечно, тоже большие деньги! Но не 40 миллиардов!
Цифры в законе, подписанном президентом США Джо Байденом, крайне лукавые. Майский закон был уже седьмым пакетом помощи, который США выделили Украине. Первый «срочный пакет» был предоставлен уже 25 февраля этого года, то есть буквально на следующий день после начала российской военной специальной операции. Так быстро поддержка такого рода через конгресс не проходит. Совершенно очевидно, что первый пакет готовился заранее. После этого Украине были предоставлены два пакета в марте и четыре в апреле. Но это совсем другая помощь. Не такая, как в мае.
В чём разница? Всё, что выделялось Украине до майских 40 млрд, было рассчитано на ближайшую, срочную, единовременную помощь. Майская «помощь и поддержка» Зеленского рассчитаны на годы. Американцы не прогнозируют, что специальная военная операция продлится годы, – они этот конфликт планируют. В законе однозначно прописано, что американская «помощь» Украине прописана и рассчитана на несколько бюджетных лет. На 2022-й и 2023-й бюджетные годы выделено примерно 5 млрд из этих 40. Еще 9 млрд рассчитаны до 2026-го бюджетного года. Полная сумма – 40 млрд долларов – должны быть истрачены до 2031 бюджетного года. США планируют долгосрочный конфликт. И майский закон о выделении помощи Украине об этом красноречиво говорит.
Вернёмся к лукавым цифрам. Согласно закону, никто не собирается выделять Украине 40 млрд долларов. Эти деньги предназначены «Украине и другим странам, затронутым конфликтом». Итак, 3,9 млрд долларов составляет «поддержка вооружённых сил США в Европе». Эту сумму мы сразу вычитаем из тех самых 40 млрд. Само собой, ни на какую Украину эти деньги не пойдут, в Киеве их не увидят.
Продолжаем. 19 млрд долларов идут по статье «Военная помощь Украине». Из чего они складываются? 6 млрд – тренировка вооружённых сил Украины (подготовка солдат, закупка оборудования и логистическая поддержка). Инструкторы – американские, оружие – американское, которое лежит у них на складах, логистическая поддержка – силами США и НАТО. Эту сумму Вашингтон переведёт напрямую на свои заводы, в части и специалистам. Их Зеленский не увидит.
Следующие 9 млрд долларов – это восполнение запасов вооружений США. В предыдущем пункте Пентагон продал Украине оружие со своих складов. Его теперь надо восполнять. Чем они и собираются заниматься на 9 млрд, «выделенных Украине». То есть эти 9 млрд не покинут пределы Вашингтона.
4 млрд долларов выделяются Украине на самостоятельные закупки. Это первый транш, который достанется украинской власти. На них Зеленский сможет покупать что угодно у кого угодно. При этом он сам и его приспешники могут тут хорошо погреть руки. Как это сделал бывший премьер-министр «незалежной» Яценюк, успешно освоивший 1 млрд долларов американской помощи и ныне небезбедно проживающий в штате Флорида.
Важная статья – «Общая помощь правительству Украины» на сумму 16 млрд. Приведу цитаты из закона в описании этой суммы: «Глобальная гуманитарная помощь» и «Международные программы по минимизации глобальных последствий конфликта на Украине». Видимо, американцы предполагают (или даже планируют!), что будут какие-то глобальные последствия конфликта на Украине, и выделяют эти деньги на международные программы по выходу из них. Что имеется в виду, они не уточняют. Но в них заложены, в частности, 5 млрд на «мировую продовольственную безопасность» и 2 млрд на «долговременную поддержку союзников по НАТО» и на «модернизацию Министерства обороны». То есть американского Пентагона. В эту же «Общую помощь правительству Украины» заложены средства на поддержку беженцев, дипломатическую поддержку, консультации специалистов и прочее. Часть суммы размазана по другим американским министерствам и департаментам. Например, Государственный департамент получает 110 млн долларов на «организацию и усиление безопасности посольств на Украине и в соседних странах». Средства переведут напрямую, естественно, минуя Зеленского в Киеве. Из этой же статьи Министерство финансов США – не Украины! – получает 52 млн долларов на отслеживание и обнаружение имущества российских олигархов. То есть Минфин США будет на территории США искать российских олигархов. Обратите внимание, что тут даже нет слова «Украина».
Продолжаем. 1 млрд долларов выделяется на помощь украинским беженцам в Европе. Посмотрим, как Киев этой суммой распорядится. 364 млн будут выделены на «исследования военной ситуации на Украине». Исследовать, само собой, будут какие-то американские, а не украинские исследовательские центры и институты. Пока названия таких центров и институтов не оглашаются, но одно можно сказать точно: на такие контракты подбирается «нужная» компания. Мы уже видели, в каких коррупционных скандалах была замешана семья Джо Байдена, так что можно не сомневаться, что и сюда они свою руку запустят. Кроме того, надо учитывать тот факт, что 12% от любого контракта с американским правительством идёт на так называемые административные расходы. 12% от 364 млн – это больше 40 млн. И это даже не на сами «исследования», которые будут проводить американцы, а только на административные расходы. Очень щедро!
А это моя любимая статья закона о 40 миллиардах. 400 млн долларов выделены на «собирание и документирование свидетельств о военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершённых правительством Российской Федерации на Украине».
То есть средства уже выделены на новые «Изюмские Бучи». Именно на эти деньги будут придумываться, продюсироваться, устраиваться очередные провокации, которые потом назовут «военными преступлениями» и «преступлениями против человечности», якобы совершёнными нашей страной на Украине. Как это было с «белыми касками», якобы раскрывающими применение химического оружия правительством Сирии против своего народа.
Вот из таких деталей и складываются эти 40 млрд долларов, которые якобы идут на Украину. Они в основном останутся в США.
Но возникают новые вопросы. Вашингтон – не «сладкий папочка» (sugar daddy). Он всегда требует вернуть деньги, выданные взаймы. Однозначно Киев должен будет вернуть с процентами 6 млрд долларов за «тренировку вооружённых сил Украины» и 4 млрд, обещанные Зеленскому на «самостоятельные закупки» вооружений. Про остальное Байден говорит всегда расплывчато. Он любит упоминать так называемый ленд-лиз, но никогда не говорит о его условиях. США никогда не оставит себя в убытке. Давайте не будем забывать, что Россия погасила советский военный долг Америке за ленд-лиз только в… 2006 году!
Тем временем авторитетное международное рейтинговое агентство Moody’s снизило долгосрочный рейтинг Украины до Caa3, что означает «обязательства очень низкого качества, подверженные высокому риску». В агентстве отметили, что пока за счёт международной поддержки Украина ещё держится на плаву, но от этого только растёт государственный долг. Но, повторюсь, американская прокси-война против России на Украине и американская «помощь» Украине – это выгодная, хитрая, расчётливая инвестиция в американскую экономику!
Переходим к главному, о чём меня часто спрашивают студенты, коллеги, интервьюеры: «Возможны ли гражданские волнения в США? Смена власти? Поражение демократов? Другой президент Америки?»
Холодная гражданская война в США идёт уже давно. Её кульминацией стало инспирированное руководством Демократической партии антитрамповское движение, символом которого стали погромщики из Black Lives Matter (BLM). Одновременно с BLM в 2020 году Америку крушили погромщики из движения «Антифа»: поджигались правительственные здания, офисы компаний, автомобили на улицах американских городов. Члены движения «Антифа» атаковали здания федерального правительства в Портленде (штат Орегон) каждую ночь на протяжении почти трёх месяцев.
Согласно отчёту Property Claims Services – компании, услугами которой несколько десятилетий пользуются страховщики, чтобы оценивать заявки на выплату страховых компенсаций в случаях с ущербом, нанесённым в ходе протестных действий, – ущерб от протестов 2020 года составил более 2 млрд долларов. Примерно такие же цифры опубликовал Институт информации в области страхования (Insurance Information Institute).
5 сентября этого года в США произошёл резонансный судебный процесс: комиссар округа Отеро штата Нью-Мексико Кой Гриффин был снят с должности в связи с участием в событиях 6 января 2021 года в Вашингтоне. В нём республиканцы и непредвзятые обозреватели усматривают явные политические мотивы: Гриффин был основателем движения «Ковбои за Трампа».
Для вынесения обвинительного приговора судья первого судебного округа штата Нью-Мексико Фрэнсис Жозеф Мэтью в своем 49-страничном решении применил 14-ю поправку в конституции страны 1868 года. Третий пункт поправки, также известный как «норма о дисквалификации» (Disqualification Clause), в частности, гласит: «Ни одно лицо не может… занимать какую-либо должность, гражданскую или военную, на службе Соединённых Штатов или на службе какого-либо штата, если оно, приняв ранее присягу в качестве… должностного лица какого-либо штата в том, что будет поддерживать Конституцию Соединённых Штатов, потом приняло участие в мятеже или восстании (insurrection or rebellion) против Соединённых Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам».
Конституционная история поправки хорошо известна. 8 февраля 1861 года семь южных штатов США провозгласили себя Конфедеративными Штатами Америки и заявили о выходе из союза. 12 апреля того же года президент страны Авраам Линкольн начал самую кровопролитную войну в истории США, длившуюся четыре года. Многие лидеры мятежного Юга до начала войны занимали важные посты в армии или в государственных органах. Лишая их права занимать высокие должности, конгресс лишал Юг его наиболее опытных и способных лидеров, что произошло через год после принятия 14-й поправки – в 1869 году. Однако спустя всего три года конгресс принял закон об амнистии, который восстановил в гражданских правах почти всех южан, за исключением 500 наиболее активных деятелей Конфедерации. В 1898-м конгресс отменил последние ограничения и в отношении их. Фактически с 1869 года «норма о дисквалификации» оставалась спящей нормой и была применена впервые за… 153 года!
Сам Гриффин убеждён, что решение суда является «позором» и доказывает «тираническую» природу нынешнего режима. Примечательно также, что он уходил бы с должности в любом случае. Срок полномочий, полученных в 2018 году, подходит к концу, а в ноябрьских выборах этого года Гриффин сам не изъявил желания участвовать.
Другое дело, что из-за решения суда штата он теперь не сможет занимать выборных или государственных должностей до конца жизни. Гриффин не был в числе тех, кто непосредственно «вторгся» в здание конгресса, но справедливо считал, что президентские выборы 2020 года были украдены Байденом у Трампа и его сторонников, выступал с речами, в частности перед теми, кто «штурмовал» Капитолий.
Дело Гриффина исключительно любопытное, поскольку впервые с 1869 года выборное лицо, основавшее некоммерческую организацию «Ковбои за Трампа», являющуюся частью гражданского общества, лишилось должности (с дальнейшим запретом занимать выборные должности) назначенным судьёй за пребывание возле Капитолия, который, кстати, отнюдь не является неприступной крепостью и в целом вполне доступен посетителям. В 1991 и 1994–1996 годах я работал в Исследовательской службе конгресса (ИСК) США в Вашингтоне. ИСК административно является структурным подразделением Библиотеки Конгресса и располагается в соседнем здании. Я неоднократно бывал в здании конгресса: для этого не требуется приглашение, пропуск или даже предъявление какого-то удостоверения личности.
Суд использовал против Гриффина факт его должностного положения. Также судья подвёл под определение «восстание / insurrection» – что в судебной практике встречается впервые! – события возле Капитолия и в соответствии с этим определением оценил ситуацию. До этого Гриффин был приговорён к 14 суткам ареста и штрафу в размене 3 тыс. долларов за пересечение баррикад у Капитолия.
Одной из проблем американской юридической системы является «судейский активизм» (judicial activism), когда судьи могут трактовать нормы закона в угоду тем или иным политическим мотивам. Вряд ли авторы поправки при составлении думали о том, что полтора века спустя её применят против тех, кто будет оспаривать итоги президентских выборов в стране.
Упомянутое дело Коя Гриффина – событие резонансное и прецедентное! Его можно рассматривать как попытку запугать оппонентов действующей власти. Для этого все средства хороши, включая использование судебных репрессий. Ведь пункт третий 14-й поправки не только позволяет дисквалифицировать какого-то комиссионера в каком-то далёком штате Нью-Мексико, но и может быть применён против любого неугодного режиму Байдена «сенатора или представителя в конгрессе» либо против любого лица, занимающего какую-либо должность, гражданскую или военную, «на службе Соединённых Штатов или на службе какого-либо штата».
Сторонники Трампа объявляются «внутренними террористами» и, согласно 14-й поправке, «врагами» Соединённых Штатов, которые подлежат «дисквалификации» или, иными словами, люстрации. В ходе своего недавнего выступления перед спонсорами демократов в штате Мэриленд Байден пошел ещё дальше, заявив: «Дело не только в Трампе, это целая философия, которая лежит в основе, – я сейчас это произнесу – это полуфашизм». Таким образом, половина населения страны характеризуется как «полуфашисты», а с «полуфашистами» разговор короткий и до власти их допускать нельзя!
Подведём итоги. Как пишет обозреватель газеты The Washington Times Тим Константин, «глава Белого дома обвиняет Республиканскую партию в фашизме». Но ирония заключается в том, что именно действующая американская администрация «демонстрирует хрестоматийные фашистские тенденции». «Такое навешивание ярлыков никого не должно удивлять, – поясняет он. – Демократы Байдена и их политика положили начало эпохе рекордно высокой инфляции, самых высоких цен на топливо в истории и – если опираться на стандартное экономическое определение – полномасштабной рецессии. Национальные границы не защищаются, рынок жилья рушится, как рушатся рынок рабочей силы и экономическое процветание. Короче говоря, демократы не могут одержать победу на выборах, опираясь на свои заслуги, поэтому они выбрали тактику запугивания».
Прогнозирую, что в ходе выборов в конгресс 8 ноября демократы однозначно потеряют большинство мест в палате представителей и, видимо, потеряют большинство в сенате. Руководство Демократической партии само это понимает, поэтому все силы бросает на президентские выборы 2024 года. Не мытьём, так катаньем, хоть тушкой, хоть чучелком в Белый дом надо будет протащить Байдена – о своих намерениях баллотироваться он уже заявил – или его преемника.
Кроме беспрецедентной кампании запугивания и репрессий в отношении своих оппонентов – а это половина избирателей страны! – демократы могут предпринять несколько стратегических шагов. Во-первых, ещё шире открыть границы для мигрантов, включая нелегальных мигрантов, которые в знак благодарности проголосуют за кандидата от демократов. Во-вторых, демократы, которым не нравятся решения, принимаемые судьями Верховного суда, – номинируемыми на эту должность действующими президентами США, как это предписано конституцией страны, – предлагают провести судебную реформу: а) увеличить число судей (с момента основания США их девять) и б) назначить всех новых судей заново, обладая в настоящее время большинством в законодательной и исполнительной ветвях власти. В-третьих, принять в состав союза два новых субъекта федерации: Пуэрто-Рико и округ Колумбия.
Референдум о присоединении к Соединённым Штатам был проведён в Пуэрто-Рико два года назад – 3 ноября 2020 года. Жителям ассоциированного с США островного государства предлагалось ответить на вопрос: «Следует ли немедленно принять Пуэрто-Рико в состав США в качестве штата?» 52,52% от принявших участие в голосовании поддержали эту инициативу. В случае вхождения в состав США при Байдене в знак благодарности в 2024 году пуэрториканцы проголосуют за демократов.
Что касается округа Колумбия, тут всё ещё проще. Его в основном населяют либеральные чиновники-демократы, чьи политические взгляды хорошо известны. Так, в 1972 году во время перевыборов президента Ричарда Никсона за республиканца Никсона проголосовали 49 (!) из 50 штатов! За демократа Джорджа Макговерна проголосовали только либеральный штат и вотчина клана Кеннеди – Массачусетс и ещё более либеральный округ Колумбия.
Мой окончательный вывод: руководство Демократической партии, являясь боевым отрядом и представителем глобалистов, осуществляющих оккупацию США, не допустит возвращения республиканцев – Трампа, нынешнего харизматичного губернатора штата Флорида Рона Десантиса или прочих трампистов – в Белый дом в 2024 году.
Строить прогнозы – дело неблагодарное. Но занятное: что написано пером, не вырубишь топором! Вернёмся к моему прогнозу через два года – в ноябре 2024-го!

Придушили "комсомольцев"
Си пошёл на третий срок, что в перспективе обеспечит ему рекорд продолжительности нахождения у власти среди всех председателей КНР
Кирилл Зайцев
В прошлом номере «Завтра» был опубликован материал, посвящённый открытию XX съезда Коммунистической партии Китая. Там среди прочего говорилось о мутных особенностях экспертизы западной и российской прессы относительно КНР, которая придаёт съезду черты мистической драмы о звездочётах. Рассказы о мандате Неба, о потере Си Цзиньпином своего Мяньцзы, о факторе Хэ У, апеллирования к конфуцианству и легизму, отсылки к философии дзен-буддизма и народным верованиям... Концовка саммита показала, что всё намного проще, но и одновременно намного сложнее.
Начнём с простого. Всё, о чём предупреждали эксперты (настоящие, а не ищущие в китайских клановых стычках отсылки к Лао-цзы и положение планет), сбылось. Си пошёл на третий срок, что в перспективе обеспечит ему рекорд продолжительности нахождения у власти среди всех председателей КНР. В Постоянном комитете Политбюро увеличилась доля его сторонников и, как следствие, уменьшилось число представителей определённого направления. В прессе это направление принято называть «комсомольцами», но куда правильнее было бы рассматривать источник их подъёма не в молодёжной организации КПК, а в кадровом ресурсе, появившемся вследствие экономического сотрудничества с США. Этих людей принято считать отцами китайского экономического чуда, нацеленными на взаимодействие с Вашингтоном.
Что же мы видим? Из семи членов Постоянного комитета Политбюро четверо не вошли в новый состав ЦК. Во всех случаях это тихое увольнение (ожидается, что после невключения в состав ЦК премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, председатель постоянного комитета Собрания народных представителей Ли Чжаньшу, председатель комитета Народного консультативного совета Ван Ян и первый замглавы правительства страны Хань Чжэн уйдут со своих постов уже весной) при всём желании нельзя связать с возрастом — все они ровесники Си Цзиньпина. То есть причинами этой чистки стало избавление от компромиссных фигур и людей, тяготеющих ко внутрипартийным группам, враждебным Си. Вместо них в состав ЦК вошли новые лица: Ма Синжуй, партийный секретарь Синьцзяна; мэр Пекина Чэнь Цзинин; Чжан Гоцин, партийный секретарь Ляонина и бывший глава промышленного холдинга Norinco; Юань Цзяцзюнь, секретарь парткома Чжэцзяна и глава китайской космонавтики; Лю Гочжун, партийный секретарь провинции Шэньси. Все они — инженеры со специальностями или опытом работы, завязанным на военную либо околовоенную сферы.
Наиболее яркой иллюстрацией вышеназванного тезиса стал эпизод с бывшим председателем КНР Ху Цзиньтао. Многие обозреватели сделали из этого настоящую катастрофу: по их словам, в китайской культуре не принято показывать результаты внутренних разборок. Никакой особенности конкретно китайской культуры в этом нет: никто, будь то китайцы, русские, американцы или любые иные папуасы, не хочет выносить сор из избы и делать результаты внутрипартийной конкуренции достоянием общественности. Но скандал с Ху Цзиньтао, которого вывели под белы рученьки прямо из зала заседаний, очевидно, не относился к простым играм престолов внутри КПК. Очевидно, это был показательный жест, потому что из Китая ничего просто так не просачивается и вариант с непреднамеренной утечкой абсолютно исключён. То есть этим жестом Си Цзиньпин собирался что-то показать миру. Что именно?
Часто можно было встретить мнение о внутреннем перевороте, о смещении акцентов в пользу определённой группы элит — об этом говорилось выше. Но интереснее представляется другая трактовка. Согласно ей, заполучивший на недавнем съезде всю полноту власти Си вторит Мао. Если второй основал китайское государство, то первый преобразовал его в сверхдержаву, причём подтолкнули его к этому именно враждебные действия извне. Время компромиссных фигур, одной из которых был Ли Кэцян, прошло во многом из-за концентрации рычагов глобального управления в американских руках. С этим связано как недавнее решение Байдена задушить китайскую микроэлектронную промышленность, так и многочисленные санкции против закупки оборудования в западных странах наряду с постепенным выдавливанием китайских денег из экономики стран Юго-Восточной Азии. Китай радикализирует свои действия параллельно с риторикой: помимо плавного, но очень заметного вывода средств из облигаций ФРС США (в чём многие видят причину резкого ответа американцев в виде указа о микрочипах) в китайскую конституцию внесли пункт о противодействии обеспечению независимости Тайваня, вместе с чем Си произнёс речь о том, что воссоединение — исторический вопрос (читай: дело принципа), и что оно будет реализовано.
В связи с усилением группы Си, который всегда опирался на армию, а также на фоне ужесточения риторики по тайваньскому вопросу многие на Западе заговорили о перспективах незамедлительного военного вторжения. Так, командующий флотом США адмирал Майк Гилдей на прошлой неделе предупредил, что вторжение может произойти уже в этом или следующем году.
Едва ли стоит всерьёз воспринимать слова морского волка, ревнующего бесконечный денежный мешок Вашингтона к сухопутным крысам и жаждущего получить и свой кусок пирога. Но тревога по поводу радикального решения тайваньского вопроса всё же присутствует, и она не столь безосновательна. Эта тревога — реальный инструмент в руках Пекина, а её градус будет повышаться или понижаться в зависимости от враждебности действий США. Эпопея с микрочипами в очередной раз показала миру стратегическую уязвимость Штатов — уязвимость, которую им точно не удастся устранить до 2026–2027 годов. Именно с желанием нагнать страху, а не с реальной подготовкой вторжения связаны резкие шаги вокруг Тайваня. Но обнадёживаться не стоит: после того, как Штаты заполучат свои фабрики по производству современных микропроцессоров (сегодня это видится вопросом времени), Тайбэй, который окажется более не нужен Америке, сам захочет воссоединения. Забавным историческим кульбитом окажется, если во главе этого желания выступит партия Гоминьдан — та самая партия Чана Кайши, что воевала с Мао, была изгнана на Тайвань, а сегодня парадоксальным образом является главным лоббистом интересов Пекина.

Превратили сложное в простое
Нобелевская премия по экономике (Премия Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля) 2022 года присуждена американцам Филипу Дибвигу, Дугласу Даймонду и бывшему главе Федеральной резервной системы США (ФРС) Бену Бернанке. Событие комментирует кандидат экономических наук Юрий Петрович Воронов из Института экономики и организации промышленного производства СО РАН.
— Мне нравится высказывание о том, что делать из простого сложное — это искусство, а превращать сложное в простое — наука. В этом смысле лауреаты экономического Нобеля 2022 года уверенно могут быть названы истинными учеными. Их работы разных лет, написанные порознь и совместно (Дибвигом и Даймондом) сводятся к выявлению простой истины при изучении сложнейших систем. Суть достижения лауреатов, если совсем коротко, — в определении повышения ликвидности экономики как единственной существенной функции банков. Вся же рутинная банковская деятельность (кредитование, операции с ценными бумагами, валютный обмен, хранение ценностей, обслуживание счетов и т. п.) является инструментом осуществления этой функции.
А каким образом банки стимулируют рост ликвидности экономики? В основном за счет разницы в объемах собранных средств (прежде всего вкладов) и выдаваемых кредитов за единицу времени. Эта разница, обычно кратная, называется денежным мультипликатором. При его значении в 2—3 раза экономика влачит жалкое существование, темпы ее роста предельно низкие (если речь не идет о периоде стагнации или тем более кризиса). С другой стороны, возрастание этого коэффициента до десятков раз создает взрывоопасные ситуации. Оптимального показателя денежного мультипликатора не выявлено (всё зависит от конкретной обстановки), но 6—10 в среднем обеспечивает динамичное развитие без явного риска надувания пузыря.
Лауреатами 2022 года установлена прямая связь этой ключевой функции банков с экономическими кризисами. Ипотечный обвал в США, спровоцировавший цепную реакцию и мировой кризис 2008—2009 годов, был вызван тем, что банки Lehman Brothers и Bear Stearns, имея собственных активов на 23 миллиона долларов, выдали кредитов на 860. То есть мультипликатор был равен 29! Да еще при том, что значительную долю составляли высокорисковые кредиты… Недавно, кстати, с подсказки друзей я посмотрел художественный фильм «Слишком крут для неудачи» (Too big to fail), посвященный этим событиям. Кинолента по дням восстанавливает картину кризиса 2008 года, и одна из ролей в нем отведена как раз Бену Бернанке. Он возглавлял ФРС с февраля 2006-го до февраля 2014 года, в 2009-м за работу на этом посту во время финансового кризиса 2008—2009 годов был признан журналом Time человеком года. Правда, в «Слишком крут для неудачи» он выведен не главным героем, а серым кардиналом, однако это уже вопрос к сценаристам.
Фильм с почти документальной точностью показывает, как экономика вступает в кризис и как государство и банки не могут найти взаимопонимания по борьбе с ним. Перетягивание одеяла на переговорах, шантаж и даже прямые угрозы — это не «невидимая рука рынка», которая будто бы должна уравновешивать всё и вся, а достаточно импульсивные действия конкретных людей (включая одного из нынешних нобелиатов) в попытках выровнять ситуацию. Попутно напомню, что поведение людей было предметом изучения и анализа целого ряда лауреатов экономического Нобеля. Хотя Бен Бернанке — практик из практиков, Нобелевскую премию он получил прежде всего за исследования Великой депрессии 1930-х годов, в которых доказал, что кризис стал таким глубоким и затяжным именно из-за краха банков.
Замечу, что Франклину Рузвельту его советники предлагали пойти даже на национализацию банков с целью жесткого государственного регулирования их деятельности, но до этого не дошло. Американцы изначально избегают любых вмешательств государства в экономику и жизнь. Бернанке, правда, считал, что в 1930-х национализация могла бы принести пользу, но в 2008-м решительно отказался даже обсуждать такое. Причина кроется в абсолютно ином информационном пространстве: сегодня несколько слов, вброшенных в интернет, способны вызвать непредсказуемые последствия. Он избрал другой метод: накачивание банков государственными деньгами (путем скупки привилегированных акций) под обязательства увеличить объемы кредитования с показателем мультипликатора минимум четыре. Отметим, что все 16 банков ФРС являются частными, хотя в некоторых присутствует участие государства. Однако они стали выдавать кредитов вдвое меньше предполагаемого, отчего кризис не был преодолен.
Бен Бернанке — историческая, без преувеличения, личность, обросшая мифами. Например, ему приписывали идею разбрасывания денег с вертолетов, хотя предлагал он совсем другое: накачивать деньгами банки и заставлять их выдавать кредиты. Два других лауреата Нобелевской премии по экономике — фигуры не столь знаменитые. То, что Бернанке исследовал и практиковал, они моделировали, преображая реальные процессы в формулы и расчеты. Филип Дибвиг — профессор Массачусетского университета (не путаем с MIT), по образованию физик и математик. Дуглас Даймонд — выпускник престижного университета Брауна, магистр Йеля, теперь профессор Чикагского университета и, соответственно, представитель чикагской экономической школы (которую, опять же ошибочно, считают ультралиберальной — как тут не вспомнить мем «чикагские мальчики» применительно к российским реформаторам). Некоторое время преподавал в университетах Гонконга и Бонна. Со слов Дибвига, едва ли не за вечерним пивом у них с Даймондом родилась идея: вместо написания очередной статьи в журнал «создать модель, которой воспользовались все банки мира» — хотя эта история напоминает, скорее, пиаровскую легенду. Но как бы то ни было, на свет появилась модель динамики ликвидности (модель Даймонда — Дибвига), которой, на самом деле, уже 40 лет пользуется банковский сектор, хотя изначально она разрабатывалась для экономики в целом. Попутно эта модель объясняет феномен массового изъятия средств из банков.
Концепция Даймонда и Дибвига, в фундаментальном ключе моделирующая работу банков как финансовых посредников, была изложена в совместной знаковой статье 1983 года под названием «Набеги на банки, страхование вкладов и ликвидность». В Нобелевском комитете справедливо рассудили, что их модель гармонирует с исследованиями и практиками Бена Бернанке, что речь идет об общей идеологии — отсюда решение присудить премию 2022 года трем американским экономистам, хотя двое из них никогда и никак не контактировали с третьим. Если резюмировать, то они удостоены высшей награды в своей области знаний за то, что выявили роль банков в экономике. Банки производят деньги из денег, как майнинг — деньги из энергии и информации. И соответственно, уязвимость банков показана нобелиатами как первооснова кризисных явлений в сложных экономических системах.
Подготовил Андрей Соболевский

Статья Посла России в США А.И.Антонова, «Российская газета», 20 октября 2022 года
Сегодня мы наблюдаем всплеск внимания к Карибскому кризису. Это, как представляется, связано с резким, уже в который раз, обострением российско-американских отношений.
Все чаще в СМИ, на политологических площадках и конференциях слышится слово «Армагеддон». Мировая общественность волнуется относительно перспектив дальнейшего развития кризиса между Москвой и Вашингтоном. Многие политики и эксперты задают один вопрос – сумеют ли самые крупные ядерные державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН найти общий знаменатель, который не позволит скатиться к ядерной катастрофе?
Давайте вспомним слова выдающегося советского Посла в США А.Ф.Добрынина: «Карибский кризис убедительно показал опасность прямого военного столкновения двух великих держав, которая была предотвращена – на грани войны – лишь быстрым и мучительным осознанием обеими сторонами катастрофических последствий такого столкновения».
Дж.Кеннеди в беседе с первым заместителем Председателя Совета министров СССР А.И.Микояном 29 ноября 1962 года в Белом доме с досадой констатировал: «Сейчас создалось такое положение, когда, хотя обе наши страны и не имеют каких-либо территориальных претензий друг к другу, мы сталкиваемся с вами почти повсюду. Это в нынешний ракетно-ядерный век связано с большими опасностями для всеобщего мира». Эти слова бывшего американского Президента вполне уместно использовать для характеристики текущего состояния российско-американских отношений. Мир вновь ускоряет свой бег к черте, за которой не будет ничего.
Несомненным преимуществом того времени был постоянно действующий конфиденциальный канал с участием А.Ф.Добрынина и Р.Кеннеди. Он позволял своевременно передавать информацию по линии Кремль – Белый дом. Проводить необходимый анализ и уточнять позиции двух государств. Сегодня инфраструктура коммуникации с американцами у нас обрушена. Попытки российских дипломатов в Вашингтоне наладить такие контакты оказались тщетными. Администрация не хочет разговаривать с нами на равных.
Результатом Карибского кризиса стало восстановление «status quo», который существовал вокруг Кубы до размещения там советских ракет. Урегулирование нынешней ситуации на схожей основе невозможно.
Тогда мировой порядок покачнулся, но устоял. Сейчас мы боремся не с Украиной, а на украинской территории за равноправные отношения, за мировой порядок, основанный на международном праве и Уставе ООН при практической реализации принципа неделимости безопасности для всех.
Подчеркну, что в современных условиях недопустимо возвращение к прежнему положению вещей, когда на западных рубежах России нарастали угрозы нашей национальной безопасности.
Готов ли Вашингтон к серьезному профессиональному разговору с нами по вопросам международного мира и стабильности? Ответ становится очевидным после ознакомления с новой Стратегией национальной безопасности (СНБ) США.
Что бросается в глаза по прочтении этого документа? Налицо стремление «зацементировать» так называемый порядок, основанный на правилах – некую фантазию, придуманную в Вашингтоне и навязываемую всему миру. Если отбросить дипломатическую эквилибристику и простыми словами рассказать о сути СНБ, то становится ясно: международное сообщество должно объединиться в борьбе против Китая и России. Сотрудничать можно лишь с союзниками и теми, кто идет в фарватере политики США. Подается ложная картина о том, что все беды в мире начались после российской специальной военной операции. А до этого якобы все было хорошо.
Американцы планируют продолжить формирование направленных против Китая и России альянсов в критически важных сферах. Под это подводится идеологический базис – противостояние демократий и автократий. Такой тезис дезавуирует заявление Белого дома о нежелании делить мир на блоки и вступать в новую «холодную войну».
Вызывают разочарование положения документа, касающиеся стратегической стабильности. Мы ожидали от команды Дж.Байдена, в которой немало выходцев из разоруженческого сообщества, конкретных и субстантивных идей по контролю над вооружениями. Вместо этого ДСНВ предлагается заменить некой расширенной и транспарентной архитектурой. Хочу обратить ваше внимание, что в Стратегии вообще отсутствует упоминание о российско-американском стратдиалоге.
В доктрине сквозит нежелание договариваться. Вести с нами равноправный диалог. Думать о перспективах нового юридически обязывающего соглашения на замену ДСНВ, которого так ждут в мире.
К этому необходимо добавить ястребиные заявления действующих и отставных официальных лиц США. В адрес России сыплются угрозы. Взять хотя бы обещания генералов в отставке Б.Ходжеса и Д.Петреуса нанести по российским Вооруженным Силам и Черноморскому флоту конвенциальный удар. Или призывы бывшего помощника президента по нацбезопасности Дж.Болтона к смене режима в России. Недавние бредовые заявления о возможности «обезглавливающего» удара по российскому военно-политическому руководству и вовсе не поддаются здравому объяснению. Что происходит в головах военных планировщиков США? Хочу спросить американских коллег, Дж.Болтон здоров?
Вашингтону пора отказаться от непродуманной и безответственной ядерной риторики. Нельзя размахивать ядерной дубинкой и бряцать ядерным оружием. Это крайне деликатная сфера. Нужно каждый день помнить – ядерной войны не должно быть. Победы в ядерном конфликте не будет.
Мир изменился. Сегодня наивно рассчитывать, что США, как и в прошлом веке, по емкому выражению Г.Киссинджера останутся «путеводной звездой» для всего человечества. Вряд ли стратегия, в основе которой лежит навязывание другим государствам своего взгляда на пути развития, на идеалы прав человека, может быть эффективно реализована.
Очевидно, что большую часть международного сообщества, а это Россия, Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Турция, государства Азии, Латинской Америки и Африки, не устраивают эгоистичные американские подходы. Ощущение таково, что в Вашингтоне не могут отказаться от невероятного опьянения всемогуществом, которое там наступило после самопровозглашенной победы в «холодной войне». Отмечу, что в США есть и здравые люди, которые видят всю опасность дальнейшего обострения российско-американских отношений. Хотелось бы, чтобы их призывы к миру звучали чаще и громче.
Ни в коем случае нельзя забывать уроки Карибского кризиса. Верю, что мы не подошли, несмотря на все сложности, к опасному порогу срыва в пропасть ядерного конфликта. Надеюсь, что люди здравого смысла поддержат меня в том, что повторения взрывоопасной ситуации 60-х годов прошлого столетия допускать нельзя.

Анатолий Антонов: В новой стратегии нацбезопасности США сквозит нежелание договариваться и вести равноправный диалог с Россией
Анатолий Антонов (Чрезвычайный и полномочный посол России в США)
Сегодня мы наблюдаем всплеск внимания к Карибскому кризису. Это, как представляется, связано с резким, уже в который раз, обострением российско-американских отношений.
Все чаще в СМИ, на политологических площадках и конференциях слышится слово "Армагеддон". Мировая общественность волнуется относительно перспектив дальнейшего развития кризиса между Москвой и Вашингтоном. Многие политики и эксперты задают один вопрос - сумеют ли самые крупные ядерные державы, постоянные члены Совета Безопасности ООН найти общий знаменатель, который не позволит скатиться к ядерной катастрофе?
Давайте вспомним слова выдающегося советского посла в США А.Ф.Добрынина: "Карибский кризис убедительно показал опасность прямого военного столкновения двух великих держав, которая была предотвращена - на грани войны - лишь быстрым и мучительным осознанием обеими сторонами катастрофических последствий такого столкновения".
Дж.Кеннеди в беседе с первым заместителем Председателя Совета министров СССР А.И.Микояном 29 ноября 1962 года в Белом доме с досадой констатировал: "Сейчас создалось такое положение, когда, хотя обе наши страны и не имеют каких-либо территориальных претензий друг к другу, мы сталкиваемся с вами почти повсюду. Это в нынешний ракетно-ядерный век связано с большими опасностями для всеобщего мира". Эти слова бывшего американского президента вполне уместно использовать для характеристики текущего состояния российско-американских отношений. Мир вновь ускоряет свой бег к черте, за которой не будет ничего.
Несомненным преимуществом того времени был постоянно действующий конфиденциальный канал с участием А.Ф.Добрынина и Р.Кеннеди. Он позволял своевременно передавать информацию по линии Кремль - Белый дом. Проводить необходимый анализ и уточнять позиции двух государств. Сегодня инфраструктура коммуникации с американцами у нас обрушена. Попытки российских дипломатов в Вашингтоне наладить такие контакты оказались тщетными. Администрация не хочет разговаривать с нами на равных.
Результатом Карибского кризиса стало восстановление status quo, который существовал вокруг Кубы до размещения там советских ракет. Урегулирование нынешней ситуации на схожей основе невозможно.
Тогда мировой порядок покачнулся, но устоял. Сейчас мы боремся не с Украиной, а на украинской территории за равноправные отношения, за мировой порядок, основанный на международном праве и Уставе ООН при практической реализации принципа неделимости безопасности для всех.
Подчеркну, что в современных условиях недопустимо возвращение к прежнему положению вещей, когда на западных рубежах России нарастали угрозы нашей национальной безопасности.
Готов ли Вашингтон к серьезному профессиональному разговору с нами по вопросам международного мира и стабильности? Ответ становится очевидным после ознакомления с новой Стратегией национальной безопасности (СНБ) США.
Что бросается в глаза по прочтении этого документа? Налицо стремление "зацементировать" так называемый порядок, основанный на правилах - некую фантазию, придуманную в Вашингтоне и навязываемую всему миру. Если отбросить дипломатическую эквилибристику и простыми словами рассказать о сути СНБ, то становится ясно: международное сообщество должно объединиться в борьбе против Китая и России. Сотрудничать можно лишь с союзниками и теми, кто идет в фарватере политики США. Подается ложная картина о том, что все беды в мире начались после российской специальной военной операции. А до этого якобы все было хорошо.
Американцы планируют продолжить формирование направленных против Китая и России альянсов в критически важных сферах. Под это подводится идеологический базис - противостояние демократий и автократий. Такой тезис дезавуирует заявление Белого дома о нежелании делить мир на блоки и вступать в новую "холодную войну".
Вызывают разочарование положения документа, касающиеся стратегической стабильности. Мы ожидали от команды Дж.Байдена, в которой немало выходцев из разоруженческого сообщества, конкретных и субстантивных идей по контролю над вооружениями. Вместо этого ДСНВ предлагается заменить некой расширенной и транспарентной архитектурой. Хочу обратить ваше внимание, что в Стратегии вообще отсутствует упоминание о российско-американском стратдиалоге.
В доктрине сквозит нежелание договариваться. Вести с нами равноправный диалог. Думать о перспективах нового юридически обязывающего соглашения на замену ДСНВ, которого так ждут в мире.
К этому необходимо добавить ястребиные заявления действующих и отставных официальных лиц США. В адрес России сыплются угрозы. Взять хотя бы обещания генералов в отставке Б.Ходжеса и Д.Петреуса нанести по российским Вооруженным Силам и Черноморскому флоту конвенциальный удар. Или призывы бывшего помощника президента по нацбезопасности Дж.Болтона к смене режима в России. Недавние бредовые заявления о возможности "обезглавливающего" удара по российскому военно-политическому руководству и вовсе не поддаются здравому объяснению. Что происходит в головах военных планировщиков США? Хочу спросить американских коллег, Дж.Болтон здоров?
В Вашингтоне пора отказаться от непродуманной и безответственной ядерной риторики. Нельзя размахивать ядерной дубинкой и бряцать ядерным оружием. Это крайне деликатная сфера. Нужно каждый день помнить - ядерной войны не должно быть. Победы в ядерном конфликте не будет.
Мир изменился. Сегодня наивно рассчитывать, что США, как и в прошлом веке, по емкому выражению Г.Киссинджера останутся "путеводной звездой" для всего человечества. Вряд ли стратегия, в основе которой лежит навязывание другим государствам своего взгляда на пути развития, на идеалы прав человека, может быть эффективно реализована.
Очевидно, что большую часть международного сообщества, а это Россия, Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Турция, государства Азии, Латинской Америки и Африки, не устраивают эгоистичные американские подходы. Ощущение таково, что в Вашингтоне не могут отказаться от невероятного опьянения всемогуществом, которое там наступило после самопровозглашенной победы в "холодной войне". Отмечу, что в США есть и здравые люди, которые видят всю опасность дальнейшего обострения российско-американских отношений. Хотелось бы, чтобы их призывы к миру звучали чаще и громче.
Ни в коем случае нельзя забывать уроки Карибского кризиса. Верю, что мы не подошли, несмотря на все сложности, к опасному порогу срыва в пропасть ядерного конфликта. Надеюсь, что люди здравого смысла поддержат меня в том, что повторения взрывоопасной ситуации 60-х годов прошлого столетия допускать нельзя.
Справка "РГ"
Статья подготовлена по итогам участия посла России в США Анатолия Антонова 19 октября 2022 в Международной конференции "60 лет после Карибского кризиса: уроки для 21 века" по приглашению ПИР-центра, Женевского центра политики и безопасности (GCSP) в лице его директора посла Томаса Гременгера и Центра изучения проблем нераспространения в Монтерее (CNS/MIIS) в лице его директора профессора Уильяма Поттера.

Сколько будет россиян и американцев к концу века: прогноз директора института РАН
Глава ЦЭМИ РАН назвал единственный сценарий, при котором население РФ вырастет к концу века
Валерия Бунина
Какой будет численность населения Земли к 2100 году, почему в конце 40-х количество людей в США и Китае начнет плавно снижаться, в каком случае население России вырастет к концу века, в интервью «Газете.Ru» рассказал директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук (ЦЭМИ РАН) Альберт Бахтизин.
– Вы занимаетесь долгосрочным прогнозированием в демографии. Для чего это нужно?
— Краткосрочные и среднесрочные демографические прогнозы нужны в основном для планирования потребностей в объектах социальной инфраструктуры, производства, реализации крупных проектов и здравоохранения. Они не вызывают больших затруднений в методологическом плане, и обычно полученные результаты не сильно расходятся с фактическими значениями.
Гораздо сложнее прогнозировать коэффициенты рождаемости, смертности и численность населения в долгосрочном периоде, например, на несколько десятилетий. Такие прогнозы применяются при разработке стратегий развития стран, для оценки военных, геополитических и прочих сценариев, уровня национальной безопасности, а также для долгосрочного планирования пенсионного обеспечения возрастного населения.
— Много ли ученых в мире занимается подобными исследованиями?
— В мире есть три цитируемые организации в части демографических прогнозов. Самой цитируемой является Отдел народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (далее ООН). Последний его прогноз был опубликован в июле 2022 года для 237 стран и территорий, охватывающих население всего мира.
Другой известный демографический прогноз принадлежит специалистам группы Международного института прикладного системного анализа (IIASA) и Центра демографии и глобального человеческого капитала имени Витгенштейна (Австрия). Также среди цитируемых прогнозов можно выделить результаты, полученные в ходе масштабного исследования, проведенного Институтом измерения показателей и оценки состояния здоровья (IHME) в США.
— Каковы результаты этих прогнозов?
— Если коротко говорить о результатах, то базовый прогноз ООН предполагает, что к 2050 году население мира достигнет 9,7 млрд человек, а к 2100 году составит 10,3 млрд. Более половины этого прироста ожидается в Нигерии, Демократической Республике Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Индонезии, Пакистане, Танзании. Ожидается, что в период с 2020–2100 годов население Африки увеличится с 1,3 млрд до 4,3 млрд человек.
Практически во всех странах будет наблюдаться старение населения – с 2020 по 2100 год число людей в возрасте 80 лет и старше увеличится со 146 до 881 млн, что повысит демографическую нагрузку на его трудоспособную часть.
В рамках умеренного сценария группы IIASA население планеты будет расти и достигнет 9,8 млрд в 2070-2080 годах, после чего начнет снижаться до 9,5 млрд человек к 2100 году, а расчеты IHME показали, что после достижения пика в 2064 году в 9,7 млрд человек численность населения планеты будет снижаться и к 2100 году достигнет 8,8 млрд человек.
— С чем связаны такие тенденции?
— Основными факторами такой динамики являются тенденции в уровне образования женщин и доступность противозачаточных средств.
— А что будет с Россией согласно этим прогнозам?
— Для России все три центра прогнозируют снижение численности населения к концу века. В рамках умеренных вариантов до 112,1 млн человек (ООН), 133,7 млн человек (IIASA) и 106 млн человек (IHME).
– У вас есть свой длительный прогноз по численности населения планеты?
— Да. Наш международный коллектив, включающий исследователей из России (ЦЭМИ РАН, МГУ и ГАУГН) и КНР, построил демографическую агент-ориентированную модель для всего мира (193 стран – членов ООН), позволяющую получать долгосрочные прогнозы численности населения, а также рассчитывать половозрастную структуру всех рассматриваемых государств.
Для расчетов использовался один из мощнейших суперкомпьютеров в мире – «Млечный путь», расположенной в Гуанчжоу. Построенная нами модель является цифровым двойником планеты и представляет собой искусственное общество.
— Какие вводные данные использовали?
— Для настройки и калибровки модели использовался широкий спектр статистических источников, например, данные ООН и Всемирного банка. Процесс вычисления структуры искусственного общества заключался в подборе корректных функций распределения вероятностей для различных свойств агентов модели (пол, возраст, страна проживания, доход и т.д.) для последующего назначения индивидуумам этих свойств таким образом, чтобы демографические структуры созданного цифрового двойника совпадали со структурами реального социума.
— Какие прогнозы вы получили?
— Наши прогнозы в общих чертах повторяют расчеты ООН, IIASA и IHME. Всего в мире к 2100 году будут жить 11773 млн человек, то есть почти 12 млрд.
В лидерах Индия, ее население к 2100 году составит 1370 млн человек, затем Китай – 1028 млн, на третьем месте Нигерия – 889 млн. В топ-15 также вошли многие страны Африки и Азии. Обращает на себя внимание прогнозная численность населения Китая, превосходящая результаты расчетов ООН, IIASA и IHME, а также некоторое снижение населения США.
Что касается России, то полученное нами значение превышает прогнозы ООН и IHME. В 2022 году ее население составляет 145,88 млн человек, а к 2100 году снизится до 120,46 млн.
В США пик будет достигнут в 2048 году и составит 356,72 млн человек, после чего количество людей будет плавно снижаться до 298,12 млн к 2100 году. В Китае пиковое значение составит 1451,23 млн в 2045 году, после чего также будет уменьшаться до 1028,66 млн.
Как видно, получившиеся значения для России и Китая в рамках базового прогноза являются более оптимистичными, чем у других исследователей, однако падение численности населения все равно заметнее, чем у США.
Но это только один из возможных вариантов динамики населения.
— Есть и другие?
— Да, были рассчитаны и другие. Например, сценарий регионализации, который предусматривает эскалацию многополярности, перераспределение товарных потоков между ключевыми торговыми партнерами, снижение миграционных потоков и другие процессы, связанные с сокращением глобализации.
К примеру, Китай является страной-донором рабочей силы, а США и Россия – странами-реципиентами, причем США на сегодняшний момент являются лидером по этому показателю. Миграция является одним из факторов, который влияет на заметный прирост населения США к 2100 году. Но что произойдет, если миграция начнет сокращаться и население будет проживать в странах своего происхождения?
Для расчетов мы предположили снижение доли мигрантов до уровня 2000 года или постепенное снижение этой доли на 60% начиная с 2023 года. В результате реализации сценария регионализации, то есть снижения миграции, численность населения Китая возрастет, а у США и России заметно снизится, что вполне естественно, учитывая направленность миграционных потоков.
– Во время выступления на конгрессе «Humanities vs Sciences & the Knowledge Accelerating in Modern World: Parallels and Interaction», организатором которого выступил МФТИ, вы говорили о деурбанизации. Она возможна?
— Наши коллеги из КНР предполагают, что возможен процесс деурбанизации за счет активного внедрения цифровых технологий и возможности выполнения множества видов работ дистанционно.
То есть многие жители будут жить в маленьких городах, роль мегаполисов перестанет быть значительной. Один из сценариев предполагает постепенное возвращение уровня городского населения до его значений в 2000 году. В его основе лежит гипотеза, что репродуктивные стратегии также станут меняться в сторону увеличения рождаемости. В результате соответствующих расчетов Китай к концу века практически восстановит численность своего населения (1381,70 млн человек), а Россия даже немного превзойдет текущий уровень (148,90 млн человек).
– Что еще может предсказать ваша модель?
— Одна из ее версий включала в себя экономический блок, рассматривающий более 100 стран мира. В ней присутствуют агенты следующих типов: домашние хозяйства, предприятия и организации, относящиеся к различным отраслям, банки и прочие финансовые организации, правительственные органы всех уровней.
В ходе апробации разработанного инструмента стратегического планирования, проведенной в рамках первого сценария, были рассчитаны последствия различных вариантов торговых конфликтов между Китаем, США и Россией, а также остальным миром.
— Какие, например?
— Для симуляций было предусмотрено повышение импортных пошлин со стороны США и стран ЕС на все товары из Китая и России, а также симметричные ответные меры, осуществляемые в том же временном периоде.
По результатам выяснилось, что в той или иной степени все вовлеченные в торговые конфликты страны терпят убытки. Китай теряет меньше, чем США, поскольку в рамках модели начал экспортировать часть недопоставленных в США товаров в другие страны, а недостающий импорт компенсировать сторонними поставками. Россия пострадала несколько больше, чем США и Китай, но примерно одинаково со странами ЕС.
Другой сценарий предусматривал принятие ограничительных мер в отношении всех российских экспортных товаров. Для расчетов, которые мы проводили еще в 2019 году, было предположено, что под воздействием США основные торговые партнеры России в странах ЕС введут ограничения на покупку экспортных товаров из нашей страны.
Результаты показали, что ограничения на покупку товаров из России приводят к уменьшению доходов предприятий, сокращению поступлений в бюджет, снижению доходов домашних хозяйств, сжатию внутреннего спроса, росту цен и издержек производителей и в итоге за счет мультипликативного эффекта от прямых и косвенных каналов влияния введенных санкций к заметному снижению ВВП страны. Однако в динамике этот показатель выправляется, то есть система адаптируется под новые условия.

«Эти ребята поняли друг друга»
Николай Сванидзе – о схватке Кеннеди и Хрущёва
С 16 по 28 октября 1962 года мир стоял на пороге гибели. Тогда у СССР было около 300 боеголовок, у США – 6000. 1300 бомбардировщиков могли сбросить на СССР 3 тысячи ядерных зарядов; у США было 183 межконтинентальные баллистические ракеты, а 9 атомных субмарин несли на борту 144 ракеты «Поларис». Стратегическая авиация и МБР СССР могли превратить Америку в выжженную пустыню. Катастрофы удалось избежать в последний миг: СССР вывел ядерные ракеты с Кубы, США – из Италии и Турции. Об уроках Карибского кризиса мы беседуем с историком и журналистом Николаем Сванидзе.
– Как вы относитесь к «модным» сегодня разговорам о возможности применения «тактического» ядерного оружия?
– Такое могут говорить только глупцы или провокаторы. Любое применение ядерного оружия вызовет цепную реакцию «ответов», что станет концом цивилизации. Это понимали и Кеннеди, и Хрущёв, сумевшие поступиться геополитическими интересами, чтобы не допустить катастрофы, и на долгие годы сохранить мир. Формальным поводом для размещения советских ракет на Кубе было появление в Турции американских ракет с радиусом действия 2400 километров и 15-минутным «долётом» до Москвы. На деле же Хрущёв загорелся идеей устроить на Кубе, под носом у Штатов, блокпост социализма, для начала разместив там 40 ракет средней дальности, способных через 20 минут уничтожить Вашингтон и половину аэродромов стратегических бомбардировщиков США. Москва «втихую» отправила морем ракеты, ядерные боеголовки, самолёты, вертолёты и войска. К 14 октября на Кубе было 40 ракет и 40 тысяч военных под командованием генерала Плиева.
– Но это же не могло пройти незамеченным для Пентагона?
– Американцы прошляпили и перемещение советской группировки на Кубу, и первый этап размещения ракет. Хотя самолёт-разведчик U-2 дважды в месяц облетал территорию Кубы, в Пентагоне заподозрили неладное, только обнаружив на одном из снимков… футбольное поле. На Кубе был популярен бейсбол, и аналитики предположили, что футбольное поле – для русских. Кеннеди военным не поверил и 4 сентября потребовал предоставить снимки советских ракетных позиций. 14 сентября пилот U-2 майор Ричард Хейзер сфотографировал позиции SS-4, они же ракеты Р-12. Утром 16 сентября снимки показали Кеннеди, и он собрал группу из 14 советников для выработки мер противодействия советской угрозе. Они предложили три варианта: уничтожение ракет точечными ударами; военная операция на Кубе; морская блокада острова. О дипломатии никто не говорил: американцы, рассчитывавшие на своё многократное ядерное преимущество, не знали, что на Кубе есть ещё 12 тактических ядерных ракетных комплексов «Луна» и Плиев имел полномочия нанести удар по американским силам вторжения без согласования с Москвой.
– И всё же – почему Кеннеди не ударил по Кубе?
– Кеннеди держал в уме ситуацию в Европе – конфронтацию с СССР по статусу Западного Берлина. Хрущёв был настроен жёстко. Годом раньше, встречаясь с Кеннеди в Вене по «Берлинскому вопросу», он решил, что Кеннеди слабак и на Кубе можно выиграть. Кеннеди не исключал, что в случае американского удара по Кубе Москва ударит по Западному Берлину, и это станет прологом Третьей мировой. Он решил ограничиться блокадой Кубы, в чём его поддержали министр обороны Макнамара, госсекретарь Раск и посол США в ООН Стивенсон. Кеннеди «простил» Москве даже откровенную ложь. Так, 18 октября глава МИД СССР Громыко уверял его, что «никаких ракет на Кубе нет», – а уже 19 октября U-2 засёк несколько готовых ракетных позиций, дивизион нацеленных на Флориду крылатых ракет и целую эскадрилью Ил-28. 22 октября Кеннеди обратился по телевидению к американцам и советскому правительству, заявив, что «любой ракетный запуск с территории Кубы в сторону любого из американских союзников в западном полушарии будет расценён как акт войны против США». В ответ Хрущёв объявил блокаду Кубы незаконной и предупредил: советские корабли будут нарушать «карантин», а атака на них чревата ответным ударом. В тот же день Кубу окружили 180 кораблей ВМС США. А на остров уже шли 4 советские дизельные подлодки и 30 судов, которые везли 24 ядерные боеголовки и 44 баллистические ракеты. Армии СССР и стран Варшавского договора были приведены в состояние повышенной боеготовности. Тогда Кеннеди писал Хрущёву: «Если ракеты не уберут, мы оставляем за собой право применить силу». Хрущёв собрал высшее руководство и сказал: «Чтобы спасти мир, мы должны отступить». Его поддержали, и он ответил Кеннеди, что СССР демонтирует ракетные установки на Кубе, если США не будут пытаться свергнуть Кастро и выведут ракеты из Турции.
– Как отреагировал Фидель?
– Он написал Хрущёву, что американская интервенция начнётся в течение суток, и потребовал нанести по Штатам превентивный ядерный удар. Хрущёв получил это письмо 27 октября, в разгар переговоров с американцами. После этого счёт пошёл на часы…
В этот день случились инциденты с двумя нашими подлодками, а на подлёте к Гуантанамо советской ракетой без санкции Москвы был сбит U-2.
– А у нас были жертвы на Кубе?
– По открытым данным Минобороны России, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина. При каких обстоятельствах – неизвестно до сих пор.
– В ночь на 28 октября Роберт Кеннеди сообщил Добрынину, что Джон Кеннеди готов снять блокаду с Кубы и вывести ракеты из Турции…
– Это послание Хрущёв получил утром 28 октября, а в полдень помощнику Хрущёва Трояновскому позвонил из Вашингтона Добрынин и сообщил, что военные требуют от Кеннеди «жёсткого ответа Советам». Хрущёв тут же надиктовал стенографистке согласие на условия США и два личных письма Кеннеди. Он запретил сбивать американские самолёты, приказал вернуть на аэродромы самолёты, патрулировавшие Карибское море, и демонтировать стартовые площадки на Кубе. Через три недели СССР вывез все ракеты. 20 ноября Кеннеди снял блокаду с Кубы и убрал ракеты из Турции.
– Чьей победой закончился Карибский кризис?
– Хрущёв считал это своей победой, Кеннеди – своей. Ни тот ни другой не оказался слабаком, но эти ребята, всем нам на радость, поняли друг друга. Карибский кризис напугал человечество, и именно страх перед ядерной войной долгое время удерживал мир от подобных «экспериментов». В 1962 году мировой политикой занимались люди, пережившие недавнюю войну с нацизмом, они знали истинную цену миру и не играли в солдатиков. А сейчас, через 60 лет, появились непуганые идиоты, желающие посмотреть, что там, за ядерным порогом. Но там не будет ничего.
Во время Карибского кризиса советские люди пребывали в счастливом неведении – даже наш постпред в ООН Зорин был не в курсе происходящего. Никто, кроме узкого круга людей при власти, не знал, что идёт азартная игра и всё для всех может закончиться радиоактивным пеплом. А если бы и узнали, то никак не могли бы повлиять на власть, хотя то время и принято называть оттепелью.
Беседу вёл
Григорий Саркисов

Главное – не терять разум
Можно ли назвать нынешнее противостояние России и США Карибским кризисом 2.0?
Обострение отношений между Россией и США на фоне событий вокруг Украины заставляет многих проводить параллели с Карибским кризисом, когда мир оказался в шаге от Третьей мировой войны. Справедлива ли аналогия с политической, военно-технической точки зрения?
Комментирует Павел Золотарёв, генерал-майор в отставке, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН.
Если анализировать причины конфликтов, они разные. Карибский был обусловлен стремлением СССР устранить дисбаланс в возможностях сторон по созданию ядерных угроз. В то время американцы могли нанести Советскому Союзу безнаказанное ядерное поражение. У них были ядерные бомбы и средства доставки – бомбардировщики Б-29 (именно с такого ударили по Хиросиме и Нагасаки). Уже в начале холодной войны Пентагон приступил к разработке планов войны с применением ядерного оружия. Такова уж обязанность Генштаба, независимо от намерений политиков. К тому же после окончания мировой войны США разместили военные базы в ряде стран, граничащих с СССР.
Надо заметить, что наша страна тогда тоже приступила к выпуску бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие. Но это были самолёты-копии Б-29 версии 1945 года. В ходе военных действий против Японии несколько таких американских машин вынужденно приземлились у нас. Экипажи отбыли домой, самолёты остались. По распоряжению Сталина КБ Андрея Туполева наладило сборку полной копии Б-29 под названием Ту-4. Они направлялись в Дальнюю авиацию и стали нашим первым носителем ядерного оружия. Но создать адекватную угрозу территории США не могли, пока не был разработан сначала бомбардировщик Ту-16, а позднее Ту-95. Причём пришлось создавать так называемые аэродромы подскока на льду Северной Атлантики для полноценного применения Ту-16 (их потом и заменили Ту-95, которые, кстати, после модернизации до сих пор в строю). А вот Ту-4 передали Китаю. То есть первый носитель ядерного оружия в США, СССР и КНР – один: по сути, это Б-29, только с другими названиями.
Нельзя не отметить, что к моменту появления в советской авиации новых машин США уже развёртывали ракеты средней дальности в Европе и Турции. Сочетание угрозы авиационных ядерных ударов и ракетных с малым подлётным временем не могло не обеспокоить руководство СССР. Оно приняло решение разместить ракеты средней дальности на Кубе. Это вызвало понятную реакцию США, разразился Карибский кризис.
Причины нынешнего обострения российско-американских отношений иные.
Короткое историческое отступление. В августе 1991 года инициаторы госпереворота сорвали перспективу преобразования СССР в Союз суверенных социалистических республик и запустили процесс распада СССР. Россия после этого выбрала путь демократических реформ, рыночной экономики, в значительной степени руководствовалась европейскими ценностями. Каждый президент России обозначал готовность к такому уровню сближения, который не исключал даже членства в НАТО. РФ начала также интеграционные процессы на постсоветском пространстве в военной (ОДКБ) и экономической сферах (ЕврАзЭС). Предусматривалось их тесное взаимодействие с европейскими структурами. Но Запад (прежде всего США) всё это игнорировал. США после холодной войны повели себя как победители, что не соответствовало реальности. Американцы блокировали возможность положительной реакции европейцев на идею президентов России о вступлении РФ в НАТО, запустив процесс расширения альянса (включили в том числе прибалтийские республики). Даже заявляли о готовности вовлечь Грузию и Украину. После госпереворота на Украине в 2014-м абсолютно реальной стала угроза вытеснения Черноморского флота РФ из Крыма и утраты полноценного доступа в Чёрное море. В США не приняли во внимание предупреждения своих же авторитетных специалистов (Дж. Кеннан, Бил Пэрри и др.) о неизбежном при такой политике конфликте РФ с НАТО и свертывании в России демократических реформ.
Конечно, всегда возможны альтернативные варианты, были они и в 2014–2015 годах, но то, что состоялось, уже состоялось. Именно события того времени в значительной мере предопределили происходящее в 2022-м. Теперь, как и в 1962-м, кому-то не кажется фантастикой угроза глобального ядерного конфликта.
Давайте пристальнее посмотрим на обе ситуации.
В 1962 году ядерный потенциал США превосходил советский в 10 раз. Смелые и стратегически верные решения главы СССР Н. Хрущёва по сокращению численности Вооружённых сил (а она оставалась равна численности военного времени) были очень болезненными. За короткий период сократили более 4 млн военнослужащих, уничтожили массу вооружений, особенно на флоте. При этом высвободившиеся ресурсы исключительно точно направили на создание новых систем вооружения, были созданы Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), а в ВМФ начал создаваться ядерный подводный флот с баллистическими ракетами на борту. В начале 1960-х уже чётко обозначились контуры полноценной триады стратегических ядерных сил.
Хрущёвская оттепель поначалу вызвала огромный энтузиазм и привела к ускоренному развитию СССР. Это позволило Н. Хрущёву не только залихватски заявить о плане догнать и перегнать США в экономической сфере и построить коммунизм к 1980 году («от каждого по способности, каждому по потребности»), но и почувствовать себя главой государства, способным говорить на равных со всеми. Развернув на Кубе почти 4 десятка баллистических ракет средней дальности и примерно 40-тысячную группировку войск, руководство СССР намеревалось вынудить США убрать ракеты из Турции (и в итоге добилось этого).
Но, конечно, руководители США точно оценивали силу СССР. Возможности технической и иных средств разведки давали им информацию о составе ядерных сил СССР, включая пусковые установки на полигонах. Американцы знали, что Н. Хрущёв сильно приукрашивает возможности своего ядерного потенциала. Но президент США Дж. Кеннеди, как отмечают в воспоминаниях сотрудники его аппарата, счёл излишним ставить в неудобное положение советского лидера, хотя и реально оценивал обстановку. В США понимали, что советских ракет на Кубе достаточно для нанесения т.н. обезглавливающего удара. «Советы» могли поразить и Вашингтон, и стратегическое командование на авиабазе Оффут в Омахе. Правда, в США тогда уже действовала система командных пунктов различного базирования и защищённости, которым в критической ситуации передавалось управление ядерными силами. Число стратегических ядерных носителей позволяло нанести в ответ сокрушительный удар по СССР. Поэтому министр обороны США Макнамара считал, что ракеты на Кубе не военная проблема, а политическая, и убеждал в этом президента Кеннеди. Но были и другие влиятельные силы. После того как над Кубой сбили американский разведывательный самолёт, в США подготовили решение о массированном огневом ударе с последующей высадкой на остров более чем 200-тысячной группировки.
В начале 2000-х годов бывший министр обороны США Р. Макнамара встречался с сотрудниками Института США и Канады, среди которых был генерал-полковник в отставке В. Есин. Он в 1962-м в звании старшего лейтенанта находился на Кубе в составе одного из дивизионов ракетной дивизии РВСН. Есин рассказал, что командир их дивизиона в один из горячих моментов уведомил подчинённых, что если американцы начнут бомбить, то независимо от наличия или отсутствия приказа от руководства он распорядится произвести пуск ракет дивизиона по намеченным целям. Макнамара выразил сожаление, что тогда у него не было информации, что помимо ракет РВСН у военных советской группировки было ядерное оружие. Не знал Макнамара и о готовности офицеров на уровне капитана принять роковое решение и спровоцировать ядерную войну. Он также подчеркнул, что давление руководства ЦРУ на президента Кеннеди с целью начать активные боевые действия было очень велико и ему вместе с Кеннеди было крайне тяжело противодействовать этому. Вывод Макнамары весьма важен для глубокого анализа проблемы: чрезмерная секретность в отношении ядерного оружия может идти во вред задаче сдерживания. Этот вывод поныне сохраняет актуальность.
Что ещё отличает кризисы. В период Карибского не имелось технической возможности предотвратить несанкционированное применение ядерного оружия. У прошедших войну руководителей СССР и США не было намерений применять ядерные ракеты, у них нашлось достаточно мудрости предотвратить эскалацию конвенциального военного конфликта. Но не исключалась возможность развития гибельного сценария по инициативе младших офицеров. В ходе боевого дежурства возле Кубы командир советской подлодки Б-59 после сброса американцами глубинных бомб был готов ответить залпом ядерных торпед. Мир находился на грани ядерной войны.
Сегодня ситуация с её угрозой кардинально иная. Стратегические потенциалы сторон на одном уровне. Между РФ и США устойчивая стратегическая стабильность. В соответствии с официально согласованным ещё СССР и США понятием стратегической стабильности она достигается, когда ни у одной из сторон нет мотивации к применению ядерного оружия первыми. Такая мотивация и не может возникнуть ни у РФ, ни у США, поскольку оба государства пребывают в состоянии гарантированного взаимного уничтожения. Каждая из сторон понимает: если она первой нанесёт ядерный удар, в ответ получит возмездие, которое может быть гораздо мощнее. При ответном ударе нет необходимости расходовать ядерные заряды на опустевшие шахты стратегических ракет, и они будут нацелены на самые важные и болезненные для напавшей страны объекты. Системы управления ядерным оружием исключают его несанкционированное применение как мерами организационного, так и технического порядка, но одновременно исключена и возможность обезглавливающего удара. Живучесть системы управления и порядок делегирования полномочий гарантируют своевременное формирование и доведение приказов до каждого стратегического носителя.
Конфликт на Украине может вызывать (как теоретическое допущение) опасение об использовании Россией тактического ядерного оружия. Его у РФ значительно больше, чем стратегического, и больше, чем у США. С учётом географических факторов это преимущество вполне закономерно, и такое положение спокойно воспринимается в Америке. Всё тактическое ядерное оружие хранится на складах, удалённых от средств его доставки. Поступить в войска оно может только по специальному распоряжению высшего руководства страны. Начало доставки ядерных зарядов скрыть невозможно, а их применение против войск противника, размещённых в хорошо подготовленных окопах, неэффективно, бессмысленно, а с учётом политических последствий катастрофично. Звонкая риторика и напоминания о ядерном оружии оправданы (и то относительно) только возможным политическим давлением на противоположную сторону и на тех, кто её поддерживает. Давление такого рода может быть ощутимым лишь для общественности, но не для органов госуправления.
Президенты России и США на встрече в Женеве в 2021 году подтвердили приверженность совместному заявлению Рейгана и Горбачёва о том, что ядерная война недопустима и в ней не может быть победителей.
Разумных сценариев безумных действий не бывает. Главное – не терять разум.

Дело трубы
Взрывы "Северных потоков". Расследование
Борис Марцинкевич
Обратимся снова к так называемой энергетической международной панораме — слишком уж беспрецедентны взрывы всех четырёх ниток обоих «Северных потоков». Согласно отчёту береговой охраны Дании, произошли два взрыва, мощностью, эквивалентной 500 кг тротила каждый. Глубина моря в районе, где произошли взрывы, составляет около 70–80 метров. Двух этих фактов вполне достаточно, чтобы даже не пытаться оспаривать очевидное: без участия какого-либо из государств организовать эти террористические акты было невозможно. Чуть ранее датчан своё сообщение о взрывах сделала шведская служба сейсмического контроля: эквивалент взрыва в 100 кг тротила, что на аппаратуре сейсмических станций отобразилось как землетрясение магнитудой 2,5 балла. Если 500 кг — там наверняка была бы серьёзная волна, а через краткое время после её прохождения начались выбросы метана. Человеческие жертвы были бы просто гарантированы, так что тут либо изрядно повезло, либо время взрывов было выбрано именно таким — чтобы в этот момент никаких морских судов в окрестностях не было.
Впрочем, рано или поздно на дно и трубы смогут взглянуть специальные товарищи, от которых, если повезёт, мы и узнаем все подробности. Почему «если повезёт»? Да потому что никто ведь никакие односторонние дискриминационные меры с России и наших компаний снимать и не думал. И если с компанией Nord Stream AG, которая владеет и управляет первым «Северным потоком», всё относительно в порядке, то с Nord Stream 2 AG совсем невесело. После того, как по политическим причинам, то есть по прямому распоряжению Олафа Шольца, который считает себя канцлером Германии, Федеральное сетевое агентство этой страны прервало процедуру лицензирования газовой магистрали, швейцарская Nord Stream 2 AG находится в предбанкротном состоянии, потому не является членом всевозможных специализированных организаций, к помощи которых можно обращаться для того, чтобы разобраться с объёмом полученных разрешений, и для того, чтобы разработать проект восстановления. Совершенно логичное продолжение этого размышления: пока мы не слышали от Газпрома, единственного владельца Nord Stream 2 AG и владельца контрольного пакета акций Nord Stream AG, ни одного слова о том, будет ли наш концерн заниматься восстановительными работами. О том, что будет сложно, дорого, а срок ремонта назвать вообще нельзя, — заявления были.
Почему дорого? Природный газ в настоящее время из труб больше не вырывается — значит, давление внутри трубы сравнялось с давлением на дне моря. В результате морская вода получила возможность спокойно затекать в трубы, со всеми втекающими в эту внутреннюю ёмкость последствиями. Внутренняя поверхность газопровода — небольшенькое такое произведение инженерного искусства. То, что эта внутренняя поверхность должна гарантированно не вступать ни в какую химическую реакцию с природным газом, давление которого достигает 300 атмосфер, — понятно. При таком давлении большое значение приобретает сила трения, сила трения молекул газа о ту самую внутреннюю поверхность — не только материал и газ могут начать нагреваться, но и часть мощности компрессорной станции на российском берегу Балтики будет уходить на преодоление этого паразитического сопротивления. Инженеры об этом прекрасно осведомлены, потому поверхность трубы не только максимально гладкая, но ещё и покрыта специальным полимерным покрытием. Покрытие, разумеется, рассчитано на то, что вдоль него движется именно природный газ, который на 90 с лишним процентов состоит из метана с его химической формулой CH4. Если вместо метана это покрытие будет вынуждено взаимодействовать с морской водой, то ждать последствий долго не придётся — разрушение полимерного покрытия, окисление металла и прочие прелести. Можно этого избежать? Теоретически да, но не по всей продолжительности труб.
Две трубы СП-2, давление газа в котором обеспечивала компрессорная станция Усть-Луга — первый вариант. Не использовать природный газ, закачать, к примеру, азот под давлением, которое не пропустит в трубу морскую воду — вполне реально. Две трубы СП-2 от места разрыва до берега Германии — никаких вариантов, они однозначно окажутся заполнены водой. Компрессорные станции «Портовая» и «Усть-Луга» тем и уникальны, что в одиночку обеспечивают транспортировку на 1200 км, то есть никакой подстраховки, никаких компрессоров на немецком берегу нет.
Переходим к СП-1. От места разрыва до немецкого берега — ровно те же соображения, то есть тоже дело — труба. А вот от КС «Портовой» до места разрыва всё далеко не однозначно. СП-1 не работал по известной причине — немецкая компания «Сименс», которая по сервисному договору обязана была обеспечивать техническое обслуживание газотурбинного агрегата (ГТА), со своими обязанностями в санкционной кутерьме справиться не смогла. На «Портовой» остался в живых ГТА мощностью 27,5 МВт — вот на него и вся надежда. Хватит его мощи, чтобы не пустить морскую воду в трубы, или не хватит? Будем надеяться, что Газпром обо всём рано или поздно расскажет.
Но если по СП-1 от нашего берега до места разрыва вопрос действительно неоднозначный, то со всеми четырьмя нитками от места разрыва до берега Германии всё уже достаточно ясно: с большой вероятностью можно считать, что их придётся менять. Общая продолжительность, насколько можно судить по имеющимся открытым данным — около 500 км. Согласитесь, что, с учётом необходимости ликвидировать непосредственные последствия взрывов, — это уже само по себе весьма дорогостоящее мероприятие. И очень хлопотное, поскольку наверняка потребуется новая экологическая экспертиза на все эти работы, которые предстоит согласовывать с Данией и со Швецией.
Снова вспоминаем, как выглядят отношения России с Евросоюзом, вспоминаем о том, что Дания входит ещё и в состав НАТО, а Швеция туда стремится всеми фибрами своей антироссийской души.
И, задав сакраментальный вопрос «Сколько стоит?», задумаемся ещё над одним: а какими такими способами Газпром сможет вернуть себе эти дополнительные инвестиции? СП-2 просто не был сертифицирован — кто даст гарантии, что после всех этих приключений на дне морском господа европцы возьмут, да и сертифицируют? Правильно — никто. Не будет поставок, как их, собственно, не было и до взрыва, — не будет и возврата инвестиций. Труд ради радости труда? Это, простите, не к Газпрому.
Итак, что случилось, мы более-менее понимаем, подробности — авось будут, но только в том случае, если заокеанские хозяева позволят своим европейским вассалам заняться расследованием, а не пуститься во все тяжкие с публикацией убойного количества вранья и бурно имитировать деятельность.
С нашей стороны основная версия ответа на вопрос «Кто виноват?» — Штаты. Мария Захарова первой напомнила зимние клятвы бодрого Джо о том, что он 7 февраля этого года на брифинге произнёс теперь уже ставшую знаменитой фразу: «Если Россия вторгнется на Украину, США покончат с СП-2».
Белый дом, само собой, уже придумал, как правильно толковать это изречение, но для меня занимательно, что ни сама Мария Захарова, ни Байден и компания не обращают внимания на то, что про СП-1 мистер президент даже не мяукнул. Я про то, что причины произошедшего куда как глубже, да и появились далеко не в 2021 году. Но об этом чуть позже. Обоснование версии, изложенной госпожой Захаровой, тоже прозвучало неоднократно: не допуская российский трубопроводный газ к европейским потребителям, Штаты освободили себе рынок для своего СПГ и заработают на этом невиданные сверхприбыли.
Поверим алгеброй гармонию — привычка у нас, технарей, такая. По данным МЭА, в 2021-м страны ЕС импортировали 388 млрд кубометров природного газа — совокупно, и по трубопроводам, и в виде СПГ. Из них доля России — около 160 млрд кубометров, из которых 150 млрд кубов пришло по трубам, остальное — в виде СПГ. За тот же год американские производители СПГ в Европу отправили 25,5 млрд кубометров в виде СПГ. Из этого объёма вычёркиваем поставки в Турцию и Англию — эти страны просто не входят в состав ЕС, чистый объём поставок именно в Евросоюз у американских производителей — 18 млрд кубометров. Арифметика подсказывает, что для замещения российского трубопроводного газа Штатам предстоит нарастить объём поставок на те самые 150 млрд кубов, причём сделать это надо в сжатые сроки. Но, если перебрать, пересчитать, учесть все заявленные в США новые СПГ проекты, то к концу 2025 года объём производства вырастет только до 190 млрд кубометров. При этом держим в уме, что такое произойдёт только при стечении немалого количества положительных моментов. Известно, что наращивание объёмов производства СПГ в Штатах в настоящее время идёт с громким скрипом — благодаря зелёной демагогии Демократической партии во главе с Джо Байденом не идёт инвестирование в строительство новых газопроводов — от месторождений в сторону СПГ-заводов. Статистика неумолима: даже при сверхпремиальности европейского газового рынка СПГ-заводы в США работают не на проектных мощностях, а только на 70% от них. Нет трубы — нет СПГ, нехитрый такой алгоритм. Но предположим, что с этой проблемой Штаты возьмут, да и справятся — изменится текущее законодательство, тамошние банки прекратят воротить нос от углеводородных проектов и так далее. Почему? Да потому что нам ведь нужно найти наиболее оптимистичное развитие событий для Штатов и наиболее пессимистичный для России. Однако вообразить, что весь этот объём, 190 млрд кубометров в год, будет отправлен именно в ЕС, где газовый рынок действительно стал самым выгодным на планете, можно только при крайне невероятном допущении: Штаты должны будут прекратить поставки по долгосрочным контрактам в ЮВА и в Латинскую Америку. Для такого развития событий придётся делать ещё одно допущение — все компании, владеющие СПГ-проектами в Штатах, должны коллективно сойти с ума. В том числе владельцы индийских и южнокорейских фирм, имеющие на руках долгосрочные контракты на поставку СПГ в свои страны, где у них имеются целые сети конечных потребителей.
Так что, извините, не вытанцовывается эта версия, которую можно описать коротко: Штаты готовы на любые преступления только ради того, чтобы их производители СПГ заняли на европейском рынке нишу России. Не вытанцовывается ещё и потому, что государство США никогда не принимало, не принимает и не будет принимать участия в добыче и транспортировке природного газа и в производстве СПГ — законодательство не позволяет. Международный террористический акт во славу и пользу для частных компаний? Как-то не очень верится — это ведь не предприятия ОПК, чтобы власть за них шла на грубые, в общем-то, преступления.
Производители СПГ — это молодые выскочки, причём ещё не успевшие выскочить из банковских кредитов, на которые строили свои предприятия, ещё не выскочившие из долгосрочных контрактов с трейдинговыми международными компаниями и компаниями из других стран, а эти контракты в своё время были обоснованиями для получения кредитов.
Версию «вытеснить из ЕС российский газ, чтобы нарастить собственные поставки СПГ» можно пытаться прилепить к любому государству, способному нарастить объёмы добычи газа и производства из него СПГ. Израиль, Египет, ОАЭ, Катар, Кувейт... Длинноват список, не находите? И ставка мелковато выглядит — выстелить откровенным преступлением красную дорожку для каких-то там частников.
И не говорил Байден ни слова про СП-1. Не говорил — в феврале. А вот в марте неуловимый Джо примчался в славный град Варшаву, где произнёс речь, которую в западной прессе окрестили «главным выступлением по Украине». И вот тут всё куда как нагляднее, отчётливее, нежели в той фразе, которую припомнила мадам Захарова, цитирую: «Европа должна покончить с зависимостью от российских углеводородов. В рамках энергетической независимости Европы от России не только СП-2 не должен вступить в строй, но и первая, давно действующая нить СП-1 должна прекратить работать. Это будет нелегко, но за это придётся заплатить». Произнесена 25 марта, если что, то есть уже после того, как началась СВО.
Предлагаю очередной детский вопрос: а что, Штатам вот только сейчас, в последние годы, перестало нравиться то, что в ЕС идёт российский газ? Раньше такого никогда не было? А давайте-ка перенесёмся в 1981 год, после того как очередным президентом США был избран Рональд Рейган. Вот, кстати, его главный предвыборный лозунг, который помог ему в первом же туре раскрошить позиции Джимми Картера: «Let's make America great again!»
В январе 1981 года прошла инаугурация Рейгана, а уже в марте того же года на стол новому президенту лёг доклад ЦРУ с бесхитростным названием «СССР — Западная Европа: последствия газопровода из Сибири в Европу». Секретным этот доклад перестал быть давным-давно, так что процитирую. «Вероятность того, что Советы попробуют тонко эксплуатировать развитие газовых отношений с Западной Европой, велика. СССР, возможно, будет ссылаться на газовый бизнес, напоминая западным европейцам о преимуществах экономического сотрудничества, и делать упор на необходимость избегать антисоветских действий. Играя на различиях между Западной Европой и США, а также между самими западноевропейскими странами, Советы таким образом могут ухудшить политический климат в Западной Европе. Европейцам придётся считаться с наличием крупных поставок газа из Советского Союза при рассмотрении вопроса о поддержке действующих и будущих экономических санкций со стороны США. Кроме того, развивая экономическое сотрудничество с СССР, страны Западной Европы могут счесть необязательными большие расходы на проекты в рамках НАТО».
Глава ЦРУ Уильям Кейси, меморандум «О сибирском газопроводе», цитирую: «США должны отговорить европейцев от доведения этого соглашения до логического конца. Как минимум, союзники должны отложить принятие окончательного решения вплоть до проведения совместного исследования их энергетической безопасности в меняющейся экономической и политической обстановке 80-х».
Согласитесь, риторика знакома до скрежета зубовного, поскольку она и сейчас звучит из каждого западного СМИ. СПГ в Штатах тогда не производили, за исключением экспериментального проекта на Аляске, поэтому в качестве альтернативы советскому природному газу Рейган на встрече «Большой семёрки» чего только не предлагал — сейчас без улыбки и не прочитаешь. Поставки угля из США и из Австралии, увеличение объёмов поставок газа из британского сектора Северного моря, СПГ из Алжира и Нигерии, ускоренное строительство АЭС американскими компаниями по всей Западной Европе. Вот только на собрании «Большой семёрки» Рейган был один, а охмурять ему пришлось разом Гельмута Шмидта и Франсуа Миттерана. Это сейчас в Европе кто не Шольц, тот Макрон, а тогда... В общем, послали большие европейцы бывшего актёра куда подальше с этим бредом. Через три дня после саммита консорциум немецких банков подписал с СССР рамочное соглашение по кредитованию строительства газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.
Но совсем без уступок Рейгану не обошлось: европейцы взяли на себя обязательства ограничить долю советского газа до 30%, результатом чего, между прочим, стало сворачивание проекта строительства второй нитки газовой магистрали. Европа на тот момент имела лидеров, которые были способны думать и действовать в интересах своих государств, а не молча выполнять приказы заокеанского хозяина.
Хозяин, кстати, и не думал останавливаться. 1981 год — волнения в Польше, профсоюз «Солидарность» с Лехом Валенсой. Штаты рассчитывали, что СССР сорвётся на ввод войск, заранее приготовили список санкций по этому поводу. Войцех Ярузельский, однако, ввёл военное положение в своей стране, потому вместо пресловутого советского вторжения результатом стало восстановление конституционного порядка усилиями законно избранного правительства. Но такие мелочи Рейгана нисколько не смутили: в декабре 1981-го санкции были успешно введены. Ограничение на поставки продовольствия, прекращение полётов Аэрофлота в США, запрет на кредиты Советскому Союзу и… барабанная дробь... полный запрет на продажу любого оборудования для нефтегазовой промышленности СССР. Ярузельский и военное положение в Польше с одной стороны, с другой — запрет на поставки оборудования для транспортировки и переработки нефти и газа, строительной техники для укладки трубопроводов. Логика? Нет, не слышали, это что-то антидемократическое и против прав человека. В американском санкционном списке значились ГТА, газовые компрессоры, компоненты для газовых турбин и далее по всем секторам нефтегазовой индустрии.
Дело было в начале 1980-х, то есть СССР был жив и здоров, но с, как теперь принято говорить, импортозамещением не справился. Да, помогли европейцы и японцы, но факт — отсутствие у нас таких технологий имело место ещё 40 лет тому назад.
Ответ Западной Европы на новые санкции был всё тот же — шёл бы ты, Рональд. Тот останавливаться отказался — указом президента США в июне 1982 года появился запрет на экспорт/реэкспорт товаров для нефтегазового сектора, произведённых за пределами США дочерними компаниями американских корпораций, на территории США любыми иностранными корпорациями и за пределами США в том случае, если оборудование произведено на основе американских запатентованных технологий… Вот дочка американской компании где-то в Западной Европе, вот пару лет назад подписанный контракт с СССР, а вот запрет от Рейгана — и денег не получить, и штраф заплатить.
Дальше нечто, сейчас невообразимое в принципе: до конца лета о незаконности американских санкций заявили... Нет, не СССР и страны СЭВ. Заявили ФРГ, Франция, Италия и Великобритания. Да-да, та самая Англия и та самая Маргарет Тэтчер взяли, да и отказались гробить собственные компании, зарабатывавшие на поставках оборудования в Советский Союз. Американский «Катерпиллер» пролетел мимо всех контрактов по поставкам трубоукладчиков, экскаваторов и бульдозеров, что зело порадовало японскую «Коматсу». В 1982 году японцы отхватили контракт на 760 трубоукладчиков на 300 млн долларов, и на ту же сумму — бульдозеры и экскаваторы. Маргарет Тэтчер в сентябре 1982-го заявила: «Я никогда не верила в стабилизацию обстановки в Польше с помощью санкций, зато верю в скорое банкротство четырёх или пяти крупных британских компаний, если мы поддержим санкции мистера Рейгана». Циничное времечко было, однако. В 1982 году Штаты начали отменять свои же санкции — одну за другой, причём в качестве повода был выбран факт смерти Леонида Ильича Брежнева. Итог всей этой возни: европейско-советские газопроводы были построены, СССР стал ведущим поставщиком газа на европейский рынок, вместо американских производителей на поставках оборудования и техники уверенно заработали европейские и японские компании. Но был и второй итог: мне кажется, что именно тогда Штаты взяли курс на жёсткое переформатирование европейской элиты, поскольку такие глыбы, как Шмидт, Миттеран, Тэтчер, никак не подходили на роль послушных и безропотных подчинённых. Именно тогда был дан старт программе деградации политической Европы, которая за минувшие годы прошагала от Шмидта до ничтожества Шольца, от Тэтчер до откровенно тупой Трасс, от Миттерана до недоразумения Макрона.
США ещё не успели сообразить, что делать с Европой, а тут уже, видишь ли, началась творческая самодеятельность: газ в обмен на трубы с перспективой снижения спроса на нефть и нефтепродукты в энергетической отрасли. И ведь что удумали-то — отдавать Советскому Союзу европейские технологии, подписывать 20-, а то и 30-летние соглашения по газу!
Демарш европейских лидеров 40 лет назад остановить не удалось — Штатам пришлось мириться с ростом самостоятельности и даже независимости европейских вассалов. Игра пошла вдолгую, в том числе и на совершенно новом поле, новом направлении: с середины 70-х государство США вело бюджетное финансирование освоения технологии добычи углеводородов методом гидроразрыва пласта. В нулевые годы досужие журналисты, падкие на звонкие названия, изобрели термин «сланцевая революция», только какая уж тут революция, если развитие технологии до экономически оправданного уровня шло три десятка лет? Остаётся отметить, что именно в годы правления Рейгана начало происходить то, что мы наблюдаем в наше время: даже самые крупные, ведущие нефтегазовые компании США вынуждены были смириться с тем, что политики могут принимать решения, затрагивающие их экономические интересы, не советуясь с ними. От попыток Рейгана остановить советские газопроводы пострадал не только «Катерпиллер», но и «Дженерал моторс», и ещё с десяток компаний — казавшееся непобедимым лобби промышленников потерпело серьёзное поражение, которое оказалось первым, но далеко не последним. После антироссийской истерии из России действительно ушли американские компании, потеряв при этом деньги — миллиарды долларов.
Американские буржуи вряд ли рады этому обстоятельству, но установка всё та же: это для вас, проклятые капиталисты, Россия кажется выгодным партнёром, а вот для нас, выдающихся политиков, Россия была и остаётся врагом, и совершенно не важно, как в данный момент Россия именуется — империей, Советским Союзом или Федерацией. Россия — враг, который потенциально может довести Европу до непослушания, вот и вся американская политическая логика. Логика, поддерживаемая совсем другим лобби — ВПК, оружейными компаниями. Кризис в Югославии — новые заказы для компаний из ВПК, кризис в Ираке — новые заказы для ВПК, кризис в Ливии, в Сирии, теперь вот на территории бывшей УССР — новые и новые заказы оружейным компаниям. Конечно, это моё личное мнение, но я остаюсь именно при нём: выбор между нефтяниками-газовиками и оружейниками американские политики делают в пользу последних.
Игра вдолгую по переформатированию европейской элиты — это двери американских университетов для европейских студентов настежь, дабы они именно в США изучали экономику с политологией, чтобы в будущем стать правильной по американским меркам европейской элитой. Делать всё, что только возможно, но не допустить симбиоза Европы и СССР, не давать двигаться по нащупанному нами и европейцами пути — энергоресурсы в обмен на технологии к взаимной выгоде. После 1991 года слабое звено было обнаружено быстро и называлось это звено Украина. География подсказывает, что кратчайший маршрут из СССР в Западную Европу шёл через территории Белорусской ССР и ПНР. Но вот дальше — идеологическое, политическое табу для ФРГ и для Австрии, основных партнёров СССР. Табу — территория ныне оккупированного и уничтоженного государства с гордым именем ГДР. Европейские партнёры буквально требовали: трубы через ГДР идти не должны. И советское руководство пошло на исполнение этой прихоти.
После 1991 года новая Россия обнаружила, что в газовой торговле с Европой целиком и полностью зависит от Украины. К этому времени транзитная мощность ГТСУ была нарощена до 140 млрд кубометров — невероятная величина, да ещё и эксклюзивно-монопольная. И Ельцин Борис Николаевич, с либерально-бандитской вольницей, со святыми 90-ми и прочим. Слабая Россия, а по ту сторону границы — несостоявшееся государство на территории бывшей УССР с жадностью, наглостью и тотальной коррупцией её верхов, с тщательно продуманной работой Соединённых Штатов по превращению нашей соседки в Антироссию. И медленное, в силу имевшихся возможностей, сопротивление России, отказ потакать обнаглевшему Киеву в газовом вопросе.
Хронологию помните? 1996 — начало строительства МГП Ямал — Европа, первой газовой трассы мимо территории Украины, годовая мощность 33 млрд кубометров. 2005 — начало строительства МГП «Голубой поток», вторая газовая трасса в обход Украины, ещё 17 млрд кубов в год в Турцию. 2007 — решение о строительстве первого «Северного потока», а это ещё 55 млрд кубометров в год и снова мимо Украины. Синхронно — проект «Южного потока», транзитная мощность которого планировалась вообще в 63 млрд кубометров. 2012 год — появление проекта СП-2, ещё 55 млрд кубометров. Что говорит калькулятор? Два раза по 55 млрд кубов, 33 и 63, и 17 сверху — итого 220 млрд кубометров, то есть уже больше потенциальных рекордов по украинскому маршруту, и уже Украина не монополист и царь горы, а одна из, которая ничего России диктовать не способна, которая вынуждена будет упрашивать Россию и ЕС не выбрасывать её из газового бизнеса.
Вот мы и подошли к 2014 году. К этому времени Штаты закончили переформатирование европейских лидеров, втиснули в состав ЕС всяческие Прибалтику, Польшу и прочих красавцев — гордых, да нищих, готовых за толику малую служить не столько Брюсселю, сколько Вашингтону. Безумный текст ТЭП (технико-экономических показателей), от которого шарахнулась Старая Европа — вколочен в законодательства стран — членов ЕС судебным молотком: первый и последний раз ЕК подала в суд на 18 государств, откровенно тормозивших внедрение положений ТЭП в своё законодательство. Дважды безумная Директива о ВИЭ — государственные субсидии, налоговые льготы и субсидируемые кредиты на строительство объектов альтернативной прерывистой генерации.
Первый серьёзный успех — торпедирование государством по кличке «Болгария» проекта Южного потока, замена его на «Турецкий поток», мощность которого в два раза меньше. Титанические усилия, если объективно, но результат-то налицо: за 2022 год российский газ не пошёл по СП-2, перестал идти по Ямал — Европе и вот теперь по СП-1.
И что осталось от российско-европейского плана удаления из газового бизнеса Украины? «Голубой поток» и «Турецкий поток», 15 млрд кубометров и 31,5 млрд кубометров. Ямал — Европа упёрлась в пещерную русофобию польской властной элиты, оба СП взорваны, да и до этого не работали. Стоимость газа в Евросоюзе — что-то около 2000 долларов за тысячу кубов, в США на сегодня — 240 за тот же объём. Зарабатывают американские производители СПГ на европейцах, которые продолжают не вымирать? Зарабатывают. Жертва тоже имеет место — год назад газ в Штатах стоил меньше 100 долларов за 1000 кубов, подорожание в два с лишним раза. Но европейских промышленников это вполне устраивает, они уже всё активнее эвакуируют свои заводы в Соединённые Штаты, что логично. Газ — дешевле, зависимость от импортных поставок равна нулю, уголь — дешевле, зависимость от импортных поставок равна нулю. Нефтепродукты и те дешевле — Байден с бешеным напором расторговывает государственный резерв, лишь бы получить хоть какую-то надежду удачно проскочить демократам в Сенат и Конгресс. Но даже если после выборов галлон бензина снова станет стоить 5 долларов, это в пересчёте на литр 1,30 доллара, то есть на 50–60% дешевле, чем в Евросоюзе. Штаты к началу осени поймали все необходимые им балансы. Цены на энергоресурсы в этой стране в разы ниже, чем в ЕС, — это гарантирует рост темпа переноса европейских заводов и фабрик в Штаты, что спасёт эту страну от рецессии. Цена в ЕС такая, что и американские производители СПГ заработают, сколько смогут, сколько получится.
ЕС исчезает с карты как экономический конкурент, перед смертью перекачивая капиталы в США — раз. Два — Россия вынуждена начинать поиск новых рынков сбыта. Три — Китай слегка оторопел от того, что его Шёлковый путь через несколько лет будет вести в никуда, поскольку ЕС как рынок сбыта для китайских товаров скукожится до неприличия. Россию вынудили начать СВО, завершить которую быстро явно не удастся, для циников из Штатов это хороший результат — и Россия, и ЕС снова пляски пляшут вокруг Киева, который снова получил шанс стать знаковой, решающей величиной на российско-европейских газовых караванных тропах. Довольных нет. Европа мёрзнет, сидит в темноте и машет платочком уезжающим в дальние дали «Фольксвагенам» и прочим «Мерседесам». Китай задумчиво чешет в затылке, ну а у нас чиновники правительства уже осмелели настолько, что начинают вслух проговаривать мантру: «Европа помёрзнет, да и одумается, и снова начнётся наше взаимовыгодное сотрудничество». Правда, время от времени вся эта благополучная публика внезапно чувствует холодную испарину на лбу: как бы кто не вспомнил, что частичная мобилизация, сражения за новые территории России — это намёк на то, что и нам нужно переходить на военные рельсы!
Взрывы «Северных потоков» — это торжество той самой теории управляемого хаоса. Для того, чтобы хоть как-то смягчать последствия ухода российского газа, Европа будет дёргаться в разные стороны. Закупать дорогой СПГ любого происхождения, возвращать не только угольную, но и мазутную генерацию. Уговаривать Штаты приструнить киевский режим, чтобы получить шансы на рост поставок через ГТСУ — может, и получится, но это точно будет дорого. Взрывы «Северных потоков» — это наглядное доказательство, что казавшиеся раньше самыми безопасными морские газопроводы безопасными быть перестали. Следствие по этому ЧП уже договариваются вести Германия, Дания и Швеция — без участия России, без участия Газпрома. Я не исключаю, что этими расследованиями займутся профессионалы, но предсказать результаты... Европейцы понимают, что могут найти доказательства того, что диверсию совершили США — и что? Скандал ведь не поднимут, изобретут сказку про НЛО, про сбежавшую из Шотландии Несси, которая вот как раз трубопроводами питается, но против сюзерена не пойдут. Недопуск к расследованию России — на мой взгляд, гарантия того, что Газпром и думать о восстановлении «Потоков» не станет.
Разумеется, будет много слов уже от наших политиков: беспрецедентный случай, откровенный теракт и так далее. Но вся эта ситуация ни на йоту не меняет вывод, озвученный Владимиром Путиным ещё в апреле этого года: в среднесрочной перспективе европейский рынок для наших энергоресурсов будет иметь вторичное значение. Какая нам разница — быстро или медленно Евросоюз закончит своё самоубийство, по большому-то счёту? Задача у нас всё та же: успеть до 2030 года найти новые рынки для наших энергетических ресурсов, но при этом в разы нарастить объёмы их переработки у себя дома, чтобы не упереться в сложности логистики для миллионов тонн нефти, угля и газа, чтобы перейти на более маржинальную продукцию, чтобы создать у себя дома десятки, сотни тысяч рабочих мест в реальном секторе экономики. ИТ-отрасль, бариста с брадобреями, тик-токеры и прочие представители «креативных отраслей» — вторичны и третичны. В России должна настать совсем другая эпоха: время судостроителей, сталеваров, нефте- и газохимиков, строителей новых железных дорог, новых портов, новых электростанций такого технологического уровня, при котором они станут экспортным товаром. Избитая фраза, но что поделать, если обстоятельства заставляют её повторять: «Промедление смерти подобно». Время расслабухи кончилось, и это касается не только фронта, но и всего остального нашего уклада жизни — в экономике, в сельском хозяйстве, в транспортной отрасли, в образовании и даже в информационной политике.

Александр Чубарьян: Европа и США ущемляют не только отдельного человека, но и целые народы. Это было немыслимо даже во времена холодной войны
Елена Новоселова
Остатки так называемой Ялтинско-Потсдамской системы, которые последние 30 лет еще кое-как работали, окончательно выдохлись. Что идет на смену старому миропорядку? Насколько сегодняшняя конфронтация жестче, чем была в период холодной войны? На эти вопросы "РГ" отвечает научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян.
Игра без правил
Александр Оганович, правила и устои рушатся на глазах. Что дальше?
Александр Чубарьян: Действительно, экспертное научное сообщество задается этим вопросом. А конкретнее, многих интересует, что будет после того, как пройдет острая фаза, вернется ли мир на круги своя? Или идут необратимые изменения? Хочу подчеркнуть, что они начались не сегодня, накапливались постепенно, а сейчас стали особенно заметны.
Я уверен, что возврата к старому уже быть не может. Ялтинско-Потсдамская система рухнула в начале 90-х годов минувшего века, но казалось, что ей на смену идет что-то новое, что поможет соблюдать паритет в мире. Мы продолжаем считать ООН важнейшей международной организацией, которая может принимать какие-то конструктивные решения. Но роль ее очень ослабла. И международные организации наталкиваются на сопротивление монополий отдельных держав, прежде всего США. В мире идет обсуждение будущего ООН. Ряд стран, прежде всего США, а также Германия, Япония и другие, связывают с этим реализацию своих намерений. Но нельзя сбрасывать со счетов и то, что растет недовольство тем, что ООН принимает декларации и заявления, но мало что делает для предотвращения конфликта.
Впрочем, идет строительство новых союзов. Последнее заседание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, мне кажется, дало очень интересный материал в этом отношении. Сейчас речь идет о создании международных организаций, которые в большой мере опираются на страны, население которых явно преобладает в мире. Это обещает и новую расстановку сил. Опыт мировой истории показывает, что подобные тенденции медленно, но верно становятся ведущими.
Насколько происходящее сегодня отличается от напряженного периода истории XX века, так называемой холодной войны?
Александр Чубарьян: Эта тема, думаю, станет предметом серьезных научных исследовательских проектов и экспертного анализа.
А я хотел бы прежде всего отметить, что процессы, которые мы наблюдаем, имеют глобальный характер, то есть они касаются самых различных направлений мирового развития. Во времена холодной войны, несмотря на конфронтацию, были внегласные правила игры между державами. Сейчас этих правил практически нет. Можно позволить себе все. Отрицаются международные договоренности, вообще дипломатия как средство разрешения международных проблем. Появились теории, что надо руководствоваться не международным правом, а некими "правилами", которые устанавливаются прежде всего в США, претендующие на то, что их правила должны быть единственными и главными в международных делах.
Особенно заметны изменения в подходе к человеческим ценностям, которые сравнительно недавно казались абсолютно незыблемыми. В качестве примера хочу привести дискуссии, которые начались в Соединенных Штатах по поводу оценки рабства и взаимоотношений белых и черных. Они принимают сегодня экстремальные, уродливые формы и распространились уже на Европу. Когда я слышу, с какой гордостью новый премьер-министр Великобритании говорит, что ей удалось включить в состав правительства гораздо больше черных мужчин, чем белых, то понимаю, что мир очень изменился.
Много раз бывал в Соединенных Штатах в годы холодной войны и знаю, как там остро стоял вопрос о сегрегации в отношении чернокожего населения. Сейчас ситуация перевернулась в противоположную сторону. Меня пугает не то, что есть отдельные люди, даже отдельные партии, которые исповедуют такие взгляды, а то, что это становится нормой. Нормой для приема в высшие учебные заведения, для организаций каких-то мероприятий, для формирования правительства в конце концов. Во главе угла уже не личностные качества, а обстоятельства, связанные с цветом кожи, политической направленностью людей. Мне кажется, это серьезная глобальная опасность.
Идет кризис устоявшихся норм морали и нравственности. Библейские ценности кому-то кажутся устаревшими. Об этом говорят споры по поводу гендерных проблем. Да, они могут иметь основание опять-таки как выражение настроений отдельных личностей. Но они принимают характер абсолютного диктата, опровергая принципы, которые были заложены в христианской и других религиях по отношению к браку и семье.
На западном фронте перемены
Какое место в этом новом миропорядке займет старая культурная Европа?
Александр Чубарьян: Столкновение глобализма и национальной исключительности, национальных особенностей становится иным. Прямо на наших глазах происходит ущемление суверенитета, причем не только по линии конкретных людей, что бывало в истории очень много раз, но и по линии целых государств и регионов. Меняются взаимоотношения между регионами мира, и это чрезвычайно сложное и тревожное явление. Я всю жизнь занимаюсь европейской историей и должен, с сожалением, констатировать, что статус Старого Света в современном мире неизмеримо понизился. Речь не идет о каких-то научных и культурных достижениях. Дело в том, что положение Европы в мировом развитии становится все более и более подчиненным тому, что идет из-за океана. Сегодня я вижу, что европейские страны утрачивают суверенное право диктовать свои правила общежития.
Александр Оганович, ЕСПЧ не реагирует не только на боль Донбасса, но и пропускает мимо ушей жалобы из признанных европейских стран, например, от русскоязычных граждан Латвии. Недавно лауреат Пушкинского конкурса "РГ", учитель русского рассказывала, какие оскорбления полились на ее голову в обычном финском супермаркете только за то, что она обратилась к мужу по-русски. Знаменитые европейские механизмы защиты людей тоже не работают?
Александр Чубарьян: Права человека не так давно были главной темой наступления Запада на Советский Союз и Россию. Нас обвиняли в том, что мы ставим какие-то общие задачи выше интересов людей. Сегодня Европа и США ущемляют не только отдельного человека, но и целые народы. Это было немыслимо даже во времена холодной войны. Я тогда часто бывал в Соединенных Штатах: никому в голову там не приходило отрицать вообще русских и русский язык. При острейших противоречиях, которые, конечно, были. А сегодня в Западной Европе, в Прибалтике идет соревнование, кто больше унизит людей, которые имеют в паспорте национальность "русский". Это совершенно новый и опасный феномен. Ведь сегодня ущемляют русский, а завтра еще кого-то... В сущности, все это мало чем отличается от периода колониализма, когда людей делили на цивилизованных и нецивилизованных по паспортным данным.
По паспортным данным оценивают и гениев. А из последних культурных новостей: Прибалтика объявила войну русским драмтеатрам...
Александр Чубарьян: Нормой ведь становится не только отрицание Чайковского, Рахманинова, Достоевского, но и других классиков. Я бы назвал коллективной шизофренией некие сомнения, которые выражают в Великобритании по поводу Шекспира. Как написала Daily Telegraph, эксперты сочли пьесы Уильяма Шекспира "спорными" из-за упоминающейся в них связи белизны кожи с красотой. По этому случаю лондонский театр "Глобус" запустил цикл семинаров под названием "Антирасистский Шекспир", направленных на "деколонизацию" пьес автора и "устранения преград, которые могут стать помехой их восприятию или исполнению"...
Для меня, как историка, такая политкорректность кажется опасным критерием лояльности человека.
Беззащитная история
Последние события показывают, что переход к новому миропорядку происходит очень болезненно и даже с большой кровью...
Александр Чубарьян: Человечество пытается приноровиться к новым условиям, адаптироваться. Идея выбросить Россию из списка лидеров мировой политики с помощью санкций провалилась. Об этом говорит, например, расширение ШОС, где Россия играет, конечно, одну из ведущих ролей. Сейчас довольно сложно искать компромисс со странами, отрицающими саму возможности сесть с нами за один стол и начать обсуждать проблемы. Но я оптимист по природе, поэтому уверен, что потребности мирового развития этого потребуют.
К слову, одна из таких тем - ядерное оружие. Понимание того, что безответственное к нему отношение приведет к концу человечества, сдерживало горячие головы в период холодной войны. А сегодня у мировой пропаганды повестка ядерной катастрофы ушла на второй план. Нужна здравомыслящая аналитика от экспертного научного сообщества, которая бы растолковала миру, что нас ожидает в случае применения ядерного оружия. На планете, к сожалению, наблюдаются совсем не гуманистические настроения, напряженность, озлобление. Пандемия нанесла серьезный удар по психике людей и не сплотила их в борьбе с общей опасностью. Надо много думать, как преодолевать кризис в мировом развитии.
Недавно президент подписал новую концепцию гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом, из которой видно, что Россия демонстрирует готовность к международному сотрудничеству. И судя по тому, о чем говорят многие зарубежные политики, политологи, социологи, я бы не был слишком пессимистичен в отношении к оценке России коллективным Западом. Ведь это не только элиты, стоящие сегодня у власти и формирующие политический климат. Есть большой пласт наших коллег в мировом сообществе, людей науки, культуры и образования, которые мыслят другими категориями. Сегодня их голос заглушают, но я уверен, что еще встретимся за одним столом.
История, если отсутствует мораль, беззащитна перед фейками и откровенным переписыванием. Значит ли это, что и нашу Победу во Второй мировой войне у нас скоро заберут?
Александр Чубарьян: Вы совершенно правы: историческое знание становится все более хрупким. Сегодня ничего не стоит, скажем, подвергнуть сомнению любое историческое явление, при этом не приводя аргументов. Другое дело, когда появляются документы, открываются неизвестные нюансы событий. Но я прихожу в смятение, когда я вижу, что идет пересмотр совершенно очевидных вещей только потому, что это кому-то нравится и выгодно. Достоянием Ялтинско-Потсдамской системы после войны стало отрицание нацизма, абсолютная нетерпимость к ксенофобии, антисемитизму и сотрудничеству с фашистами. А сегодня идет прославление нацистских героев в соседних с Россией странах. И беда в том, что это не только какое-то местное явление и идеология отдельных партий, это мировая тенденция. То есть подвергаются сомнению те ценности, которые уже вошли в плоть и кровь человечества.
Еще совсем недавно моим коллегам из США, Великобритании, Германии, Франции в голову не приходило отрицать огромную роль Советского Союза в войне. Наоборот, они добивались от нас признания роли союзников и второго фронта. Но когда нашу страну в западных СМИ вообще не называют среди победителей во Второй мировой войне, мне кажется, что это просто насмешка над историей. И главное, с этим очень трудно бороться, потому что никакие документы не в счет. Здесь может помочь только сотрудничество историков, ученых.
Память и памятники
Контакты не прерваны?
Александр Чубарьян: В конце лета в Венеции и Падуе прошел очередной Международный конгресс византиноведческих исследований. Там встретились ученые из США, Великобритании, других стран Европы, в том числе и из России. Мои коллеги-историки никакого политического давления не почувствовали. Люди занимались реальной наукой, и мне кажется, что это хороший знак: историческая правда - объективная данность.
Продолжают ли работу двусторонние комиссии, в которых состоят российские историки?
Александр Чубарьян: Конечно, Россия накопила огромный опыт такого сотрудничества еще с советских времен. Наиболее активной была российско-германская комиссия историков, чье образование поддерживали президент России и канцлер Германии. Недавно мы выпустили трехтомник "Россия - Германия. Вехи совместной истории в коллективной памяти. XVIII - XX вв." для школьных преподавателей. И он имел большой успех.
В той ситуации, которая существует сегодня в Европе, двухсторонние комиссии приостановили свою деятельность. Они не отменены, мы продолжаем контакты в надежде (я это вижу по моим зарубежным коллегам) на возвращение к прежней работе. Я говорю об историках Германии, Австрии, Франции. Но отношения с польскими историками замерли. Как и с украинскими. Однако сам феномен таких двухсторонних связей, я убежден, не исчезнет. Коллеги зависят сегодня от политической конъюнктуры. Через "Российскую газету" я хочу сказать им: российские ученые готовы к сотрудничеству, готовы обсуждать любые острые проблемы, которые только существуют. Диалог сегодня крайне необходим.
А что происходит у нас со странами СНГ? Я с удивлением узнала, что в Узбекистане при прошлом президенте снесли практически все памятники, посвященные Великой Отечественной войне, заменив их одинаковыми монументами скорбящей матери.
Александр Чубарьян: Не хотел бы давать оценку проблемам с исторической памятью в разных странах. Важнее подчеркнуть, что в рамках СНГ у нас не только сохраняется, но и развивается сотрудничество. Ассоциация директоров институтов истории стран СНГ год назад решением Совета министров иностранных дел этих стран была дополнена руководителями архивов. И мы собираемся каждые 3-4 месяца. Сейчас готовим большой форум, посвященный столетию образования Советского Союза. Думаю, что сотрудничество в рамках СНГ надо наращивать, учитывая специфику их развития. Мы готовим книгу о роли наших стран в войне и вкладе каждой в Победу. И эта работа нас объединяет.

Франц Клинцевич: «Нас просто хотят ограбить»
Можно ли считать, что Россия противостоит коллективному Западу?
Своими оценками текущей ситуации и прогнозами на будущее делится политик и общественный деятель, председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Адамович Клинцевич.
– В сводках нередко можно услышать, что на украинской стороне сегодня действуют и офицеры армий стран НАТО, и «солдаты удачи» из американских и европейских ЧВК. Насколько верно утверждение, что мы, по сути, воюем с США и НАТО, с «западным интернационалом»? Это не преувеличение?
– Те же американцы полностью контролируют, например, применение установок HIMARS – они наводят их на цели с помощью американских спутников-разведчиков и дают санкцию на каждое применение этого оружия. Кадровых офицеров армии США просто переводят формально в одну из двух десятков американских ЧВК, но все эти ЧВК полностью подчинены Пентагону.
Американцы воюют руками украинцев, на подходе – балтийские страны и Польша. Поляков уже сейчас много на Украине, и это не наёмники, а кадровые военные, плюс на границе с Украиной сосредоточены большие силы польской армии. В Литве базируется сто тысяч американских солдат, а это две общевойсковые армии. На Дальнем Востоке морская группировка США имеет 8 тысяч «томагавков». И после этого в Вашингтоне говорят, что «России никто не угрожает»?.. Очевидно, США в ближайшее время активизируют действия прибалтов, поляков, а возможно, и грузин, жаждущих реванша за поражение в августе 2008 года. А есть ещё Румыния и Молдова, есть Приднестровье, есть Средняя Азия, где Штаты готовы устроить очередную цветную революцию.
– Какие вы видите сильные и слабые стороны СВО?
– Без ошибок, как и в любом большом деле, увы, не обошлось, и я вижу их, как профессиональный военный, участвовавший в боевых действиях в Афганистане и окончивший Академию Генштаба. Но не считаю возможным говорить об ошибках сейчас, когда идёт война. Надо сначала победить, потом будем разбираться. Скажу только, что мы начали эту операцию, не дав верную политическую оценку ситуации, суть которой в том, что мы имеем дело с циничным Западом. Видимо, сработал наш русский менталитет. Мы не можем себе представить, что нас хотят уничтожить только для того, чтобы ограбить, овладеть нашими природными богатствами, оставив 10–15 миллионов русских для обслуживания «новых хозяев».
– Могла ли, по-вашему, Россия обойтись без специальной военной операции?
– Нет, это было вынужденное и своевременное решение президента. И я, и мои товарищи по Союзу ветеранов Афганистана полностью поддерживаем это решение, принятое после долгих увещеваний Киева. Перед нами уже не Украина, а плацдарм, созданный США для войны с нами. И ВСУ уже давно не украинская, а «встроенная» в НАТО армия. Только за последние восемь лет натовцы натаскали на своих базах не менее 30 тысяч украинских военных. И когда американские представители говорят, что США поставят Киеву какое-то оружие, можно не сомневаться – это оружие уже на Украине.
– ВСУ обстреливают мирные кварталы, и у людей возникает резонный вопрос: почему их артиллерийские установки сразу не уничтожаются?
– Работающий на Пентагон Илон Маск обеспечил Украину мощным полевым интернетом, позволяющим держать связь с 267 американскими спутниками, 200 из которых – коммерческие спутники дистанционного зондирования поверхности Земли. Сейчас космическая группировка НАТО доведена до 305 спутников, информация с которых постоянно передаётся в ВСУ. Каждый командир орудия имеет возможность с помощью обычного смартфона получить информацию о цели, о местонахождении российской артиллерии. Украинцам остаётся лишь ввести заданные координаты, сделать выстрелы по указанным целям и уйти с позиции.
– А как же наша спутниковая группировка?
– Увы, мы отстаём по количеству спутников-разведчиков. Ещё будучи сенатором, я не раз говорил об этом прежнему руководству Роскосмоса, но там отмахивались – мол, это не важно. Сейчас, когда в Роскосмос пришёл Юрий Борисов, ситуация выправляется, однако упущено время. Логика простая: больше спутников – больше информации. Если 10 спутников дают информацию три раза в сутки, то от 100 спутников – каждые три часа. Американцы получают информацию со спутников каждые десять минут. А сейчас Илон Маск запускает 12 тысяч спутников связи и навигации. Создаётся система, способная охватывать весь земной шар и осуществлять информационное обеспечение боевых действий. Эту концепцию американцы анонсировали лет семь назад, но потом вдруг замолчали.
– Можно ли говорить, что в военном смысле мы отстаём от США и НАТО?
– Пока мы ничего серьёзного на Украине не применяли. У нас много образцов куда более эффективного оружия, чем есть у американцев. И это более дешёвое оружие. Иранский беспилотник, стоящий тысячу долларов, может превратить в металлолом американский танк ценой в 5 миллионов долларов. У нас есть «цирконы» стоимостью в 500 тысяч долларов, способные уничтожать авианосцы ценой в 5 миллиардов долларов. Сегодня в боевых действиях на Украине изучается линейка таких изделий и вооружений.
– Как может развиваться российская военная операция после присоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей?
– Посмотрите, американцы в Югославии сразу уничтожили практически всё – от железной дороги до здания Генштаба, заодно испытав крылатые «томагавки» второго поколения. Но мы не можем так воевать на Украине, потому что тогда пострадает мирное население. А наш гуманизм расценивается киевскими властями и их хозяевами как слабость… Что касается референдумов, это важнейший морально-психологический и военно-политический шаг. Эти люди знают, что их дома разрушила Украина, а отстраивает Россия. И вице-премьер Марат Хуснуллин, и все наши строители выполняют миссию огромной важности.
– Видимо, Вашингтон не позволит Зеленскому пойти на переговоры с Москвой?
– Конечно, американцы заинтересованы в продолжении бойни «до последнего украинца». Но в таком случае Россия уже к концу года на 90 процентов решит проблему жёсткими методами, это я вам гарантирую. Церемониться больше никто не будет.
Давайте просто будем помнить слова нашего президента – мы завершим специальную военную операцию, когда добьёмся всех поставленных целей, сколько бы времени на это ни понадобилось. Сейчас принято очень серьёзное решение о проведении частичной мобилизации, и, уверен, выполнение наших задач закончится во Львове. Будут ли там референдумы вроде донбасских, я не знаю. Люди должны сами решать, как и с кем им жить. Но, видимо, в каждом городе будет наш гарнизон.
– Что бы вы определили в качестве главного промежуточного итога специальной военной операции?
– Мы наконец поняли, что нам противостоят незнакомые с честью и совестью негодяи, которые ни перед чем не остановятся. Самое печальное, что этими негодяями стали наши русские люди, которые называют себя украинцами. Всегда говорил и буду говорить, что мы – русские, украинцы и белорусы – один народ. Да, неприятно делать какие-то «открытия». Никогда не забуду, как в 1972 году нас, школьников из Ошмянского района Гродненской области, возили в Хатынь, где о зверствах эсэсовцев нам рассказывал единственный уцелевший житель этой деревни, Каминский. Вернулся я домой и деду рассказал, как немцы в Хатыни зверствовали. «Ды ты што, унучак, якія немцы? – вскинулся дед, партизанивший всю войну. – Там хахлы людзей забівалі! Маю траюрадную сястру там спалілі. Гэта ўкраінцы зверствавалі, бандэры!..» Я, конечно, ему не поверил, стал с дедом спорить. И только в 2000 году, уже будучи депутатом Госдумы, увидел документы о зверствах бандеровцев не только в моей родной Беларуси, но и на Украине, в Прибалтике и России. Вот тогда понял, что прав был мой дед-партизан. А ещё понял, что разделили нас на русских, украинцев и белорусов искусственно, теперь надо воссоединяться ради исторической справедливости. Мы – один народ.
Беседу вёл
Григорий Саркисов

Утечка газа?
Нет – утечка здравого смысла!
Вассерман Анатолий
Как известно, Балтийское море оказывалось ключевым географическим звеном театра военных действий как Первой, так и Второй мировых войн. Сейчас, очевидно, начинается то ли третья мировая, то ли четвёртая: третьей можно считать холодную войну, когда великие державы научились разменивать войны как квартиры – одну большую на несколько маленьких в разных районах. Правда, война сейчас как бы просачивается через «мембрану-прокладку», пока ещё не изношенную.
На что обрекают этот настойчиво и нездорово пульсирующий процесс силы, именуемые коллективным Западом? Недавние события на Балтике имеют значение стратегического перелома в геополитическом раскладе – из разломов газовых ветвей вполне могут отпочковаться полноразмерные побеги мировой войны.
По меньшей мере с римских времён признано: преступление, скорее всего, совершил (или хотя бы организовал чужими руками) тот, кому выгоден результат. Для начала приведу вопрос, заданный независимым американским журналистом Мэттом Бивенсом (Matt Bivens) в его публикации: «Мы правда думаем, что это Россия взорвала свой газопровод, а не США?» В поисках ответа Бивенс далее приводит один исторический факт:
«Сорок лет назад (!) государственной безопасности США вдруг помешал советский газопровод из Сибири в Европу. В итоге ЦРУ распорядилось взорвать его. Взрыв получился таким крупным, что его было видно из космоса, в США сработали сигналы ядерной тревоги, а в Белом доме перепугались сотрудники безопасности, и знать не знавшие о плане. Это сейчас мы знаем об этом, потому что спустя много лет причастные к взрыву начали козырять этой информацией.
Операция ЦРУ под кодовым названием «Прощальное досье», щедро воспетая в откровенной книге бывшего министра ВВС США Томаса Рида (Thomas Reed), заключалась в том, чтобы снабдить СССР умными компьютерными чипами, настроенными на диверсию. После установки чипы исправно работали несколько месяцев, а потом вдруг выводили газопровод из строя.
В итоге в июне 1982 года произошла авария на газопроводе в далёкой Сибири. По словам Рида, это был «самый крупный неядерный взрыв и пожар, который когда-либо наблюдали из космоса»».
Как видим, опыт у американцев в этой сфере есть, и весьма разнообразный (не всегда же посылать бомбардировщики при угрозе подорожания нефти на 5 центов). К тому же Байден ещё 7 февраля (когда Украина только начала собирать силы для очередной попытки захватить Донбасс) открыто хвастался тем, что США найдут способ остановить СП-2.
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете Безопасности ООН Василий Алексеевич Небензя открыто указал: очевидно, главный выгодоприобретатель взрывов на трубопроводе – Соединённые Штаты. Вроде похоже на правду: американские уши здесь чувствуются, потому что у США давно отсутствует стратегическое мышление. Достаточно вспомнить фразу Уинстона Черчилля, американца по матери: «Американцы всегда найдут правильное решение – после того, как перепробуют все остальные».
Если бы в верхах американского истеблишмента нашёлся человек, мыслящий стратегически, то Штаты ни в коем случае не только сами не стали бы взрывать газопроводы, но не позволили бы это сделать и своим сателлитам. Ведь выгодоприобретателем взрыва автоматически становится Китайская Народная Республика. Она превращается в практически монопольного потребителя российского газа. Соответственно, устанавливая свои монопольные цены на основной российский продукт и усиливая зависимость нас от Китая, что Соединённым Штатам стратегически невыгодно.
Правда, повторюсь: шоры на глазах американцев столь массивны, что очень трудно усмотреть в их решениях какое-то стратегическое видение или хотя бы элементарное просчитывание возможности возникновения всеобщей опасности и скачка к мировой войне. Подтверждение этому снова находим в анализе американским журналистом взрыва в 1980-х. «Было ли ЦРУ настолько взбалмошным, чтобы организовать крупный взрыв в Сибири, да ещё и в условиях необычайной международной напряжённости начала 1980-х? Взрыв было видно из космоса, и от него сработала ядерная тревога, и ЦРУ устроило его вот так просто, на пустом месте? По всей видимости, да. Вот таким безбашенным оно и было… Запомните, это была атака в террористическом стиле на территории другой страны, от которой по счастливой случайности никто не погиб», – пишет Мэтт Бивенс. Переходя же к нынешним событиям в Балтийском море, он сообщает: «Тем временем НАТО радостно объявляет в «Твиттере» – в день взрывов на газопроводе (!) – о том, как их подводные морские учения, которые проходят прямо сейчас, «открывают возможности для испытания новых непилотируемых систем на море».
Американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom обозначил возможных виновников разрушения российского трубопровода. По его мнению, это США или Великобритания. Нужно смотреть, у каких государственных органов была возможность сделать это. Довольно очевидно, что в их числе Королевский флот и флот Соединённых Штатов.
А экс-госсекретарь США Генри Киссинджер на онлайн-мероприятии организации «Совет по международным отношениям» и вовсе сделал обобщающе-разоблачительное заявление, признав, что Вашингтон разрушил пояс безопасности России, реализуя своё стремление закрепиться после распада СССР в Восточной Европе на образовавшемся пространстве, не занятом военными блоками. Ясно, что в такую «стратегию» её авторами легко может быть вписано и повреждение трубопровода.
Во всяком случае, у всех сторон уже нет сомнений в том, что разрушения обеих очередей «Северного потока» имеют искусственное происхождение. Поэтому приходится учитывать и следующую версию. Скорее всего, непосредственно сами американские спецслужбы вряд ли исполнили конечный пункт этой акции. У них есть ручной польский пёс в Европе, мотивированный своим русофобским безумием. И он готов совершить любые действия, лишь бы они имели антироссийскую направленность. Не говоря уж о том, что поляки могли проявить и самостоятельность, причём американские спецслужбы наверняка знали бы это, но закрыли бы глаза. Либо, наоборот, американские спецслужбы подтолкнули их. Наличие балтийского побережья позволяет полякам послать какой-нибудь сейнер в районы пролегания трубопровода якобы для ловли рыбы и, маскируясь под это занятие, установить заряды.
Почему эта версия представляется наиболее вероятной?
Потому что в это же время запущен газопровод «Норвегия – Польша» по дну Балтийского моря, что делает Польшу совершенно независимой от европейской энергетической инфраструктуры. От Европы она уже практически всё получила, включая шикарные дотации от Евросоюза, где она уже давно выполняет роль американской подсадной утки. Именно Польша – главный проводник очень многих американских инициатив, мягко говоря, не идущих на пользу Евросоюзу в целом. В данном случае поляки становятся очень серьёзным газовым хабом. Причём поступающий к ним норвежский газ фактически отнят у Германии: именно от идущей туда трубы ответвлён поток в Польшу. Теперь поляки зависят от Евросоюза куда меньше, чем Евросоюз от них. И неудивительно, что в последнее время голос Польши прорезается всё чаще, например, в предъявлении очередных финансовых претензий Германии. Похоже, поляки хотят «быть бóльшими католиками, чем папа римский» и стремятся превзойти в своей реакционности даже США.
Думаю, читатели и заинтересованные органы не пропустят версию, разработанную вместе с моей командой в стремлении докопаться до правды. Иначе различные ручные псы Запада вполне могут впасть в состояние бешенства, осатанело подталкивая человечество к пропасти под названием «Мировая война».
Здравые мысли по этому поводу высказывает всё тот же журналист Мэтт Бивенс: «Своими плохими решениями, усиливающими напряжённость, мы ускоряем наступление прямого конфликта между США и Россией. Такая война была бы полностью искусственно созданной. Она не соответствовала бы ничьим интересам. Она бы легко привела к использованию ядерного оружия, которое уничтожило бы цивилизацию и многих людей на нашей планете. И этот бессмысленный марш зомби навстречу гибели можно было бы отменить хоть завтра, если бы только администрация Байдена поддержала мирный процесс между Украиной и Россией и отказалась от агрессивного расширения НАТО».
Закончу цитатой из Небензи: «Любое расследование, которое бы проводилось, не может по определению быть без участия России. Потому что Россия – владелец трубопровода и наиболее заинтересованная сторона. Если кто-то думает, что можно провести расследование без участия в нём России, у нас есть причины сомневаться в объективности этого расследования».
Анатолий Вассерман,
депутат Государственной думы ФС РФ
Сергей Гончаренко,
полковник юстиции

Что провидел Тютчев
Читателя поразила цитата полуторавековой давности
В девяностые я оказался за океаном по делам семейным. С того времени мотаюсь туда-сюда. Конечно, переживаю за свою родину, особенно сейчас, когда отовсюду (и за рубежом, и у нас) вопят об «агрессивной России». Она, мол, напала на «соседнюю страну». Я лично считаю, что не напала, а защищает себя. А Украина, на мой взгляд, страной, тем более братской, не стала.
Удивляет, что некоторые люди не замечают, что в корне ситуации лежит стремление Запада не научить-проучить Россию и её власти, а уничтожить. Вот послушайте:
«Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая с каждым годом всё сильнее и сильнее разжигалась на Западе против России, сорвётся же когда-нибудь с цепи. Этот миг настал...
России просто-напросто предложено самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественное признание, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления. <...>
Больше обманывать себя нечего. Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с Европой…»
Написано не сегодня, а давным-давно поэтом Фёдором Тютчевым в канун Крымской войны, которая длилась с 1853 по 1856 год. Западные нападки случались на протяжении всей нашей истории. Памятным был поход Наполеона с солдатами из разных европейских стран. Императора с его войском остановили, русские дошли до Парижа. На какое-то время Европа затаилась. Но потом с подачи Британии и при её участии конфликты вспыхивали то и дело. В 1826-м, под давлением англичан, иранский шах замахнулся на закавказские земли, развязал войну с Россией, но проиграл. Весной 1828-го началась война с Турцией, и она проиграла русским, был подписан Андрианопольский мир. Но он был нарушен: коалиция противников (Австрия, Пруссия, Франция, а ими верховодила Британия) спровоцировала новую войну Турции с Россией в 1853-м. Адмирал Нахимов разбил турецкий флот под Синопом, и тогда Англия в союзе с Францией, в нарушение соглашений с Россией, в марте 1854 года выступила на стороне Турции. Крымская война стала масштабнее! Но мы опять победили.
Ловлю себя на мысли: сейчас всё повторяется почти один в один. Только на месте Британии действуют Штаты, а корона и другие подтявкиватели умело подыгрывают. Всё очень серьёзно.
Обидно, что в 1990-е мы забыли уроки истории. Озабоченные финансовыми проблемами, должным образом не реагировали, что в «незалежной» поднимает голову нацизм. Ещё недавно (до 24 февраля) на телешоу даже посмеивались над словами киевского клоуна «Крым будет наш». Я, кстати, долгое время тоже думал, что это лишь его болтовня. Нет, за многие годы у нас под боком скрытно подготовили, выпестовали, хорошо вооружили большую армию, а в пограничных районах Донбасса создали эшелонированные укрепления – готовились к «возвращению» Крыма! Выходит, Зеленский не бахвалился, а хорошо знал, что говорит? По крайней мере, действия украинских властей не напоминают безумные выходки Саакашвили.
Владимир Путин, прояснив и оценив угрозу (думаю, о подготовке нападения Украины он был осведомлён), пошёл на опережение...
Переживаю, что мы никак не избавимся в полной мере от застарелой беды – всё время опаздывать. А потом платим немалой нашей кровью. Выбил бы слова Тютчева где-то на самом видном месте, чтобы мы не расслаблялись никогда.
Борис Соколов,
литератор, крестьянский потомок

Помощь окружающих нужна прямо сейчас: как бороться с посттравматическим расстройством
Психолог Николаева: ПТСР может возникнуть при любой угрозе, которой человек не мог противостоять
Алла Салькова
Кто рискует получить посттравматическое стрессовое расстройство, почему оно возникает и как сказывается на физическом здоровье, в каком возрасте проще всего пережить травмирующие события и действительно ли у большинства военных есть сложности с психикой, «Газете.Ru» рассказала психолог, научный сотрудник Московского государственного психолого-педагогического университета Анастасия Николаева.
— Кинематограф, кажется, прочно закрепил в человеческом сознании связь посттравматического стрессового расстройства с войной, породив множество шуток про «вьетнамские флешбэки». Как часто ПТСР развивается у военных на самом деле?
— На самом деле это не шутки, кинематограф в данном случае показал абсолютно правдивую реальность.
В исследованиях представлены разные цифры. В среднем, от 50 до 80% всех участников боевых действий имеют ПТСР в различных степенях тяжести.
— Какие события провоцируют ПТСР чаще всего?
— Это может быть любое событие, при котором человек ощущает физическую угрозу и неспособность противостоять ей. Такие переживания оказывают сверхмощное негативное воздействие на психику.
Чаще всего это боевые действия, пережитое физическое насилие, перенесенная природная или техногенная катастрофа.
Мы не можем исключать случаев возникновения ПТСР у каждого конкретного человека по каким-то другим причинам, но чаще всего речь идет о войнах и катастрофах — чем серьезнее событие кажется большинству людей, тем с большей вероятностью оно травмирует и отдельно взятых. Отличительные особенности всех событий, вызывающих ПТСР, — физическая угроза жизни и субъективное ощущение у человека собственной беспомощности из-за невозможности эффективно действовать в опасной ситуации.
— От чего зависит, разовьется ли ПТСР у участников одних и тех же событий — например, военных, или переживших теракт, или членов семьи, попавших в автомобильную аварию? Только от устойчивости психики, или есть и иные факторы?
— Психика человека является устойчивой, если человеческий мозг способен вырабатывать нужные нейромедиаторы, если его гормональная система работает без перебоев. Это все зависит как от генетики, так и от среды, в которой рос человек. Среда у всех разная.
В общих чертах — чем среда более благополучная и разнообразная, тем лучше для успешной адаптации в любых условиях.
Если мы говорим про гены, то на данный момент считается, что существует их набор, при наличии которого будет выше вероятность возникновения ПТСР при критической ситуации. Наличие таких генов увеличивает риск возникновения ПТСР на 30% по сравнению с людьми, у которых таких генов нет. Эти же гены будут усиливать вероятность склонности к алкогольной и никотиновой зависимости, а также саму силу зависимости. Наличие этих генов в обычной жизни сильно увеличит вероятность тревожного расстройства.
То есть, у людей с неустойчивой психикой с большой вероятностью есть эти гены, а агрессивная среда, в которой они росли, во много раз усиливает возможность проявления всех этих негативных факторов.
Если среда была благополучной, то даже с таким генетическим набором риск возникновения негативных последствий снижается, но остается выше, чем у людей, у которых этих генов нет совсем.
— Можно ли заранее спрогнозировать, насколько тот или иной человек подвержен ПТСР?
Большое исследование выявило факторы, наличие которых будет способствовать возникновению и более длительному течению ПТСР. Чем моложе человек, тем скорее он будет ощущать тяжелые последствия. Чем больше в жизни было травмирующих негативных событий, тем с большей вероятностью в критической ситуации у него разовьется ПТСР. Низкая самооценка, низкий социальный статус и недостаток социальной поддержки (как до события так и после) также будут способствовать возникновению и более длительному ПТСР. Кроме того, при прочих равных, женщины переносят травмирующие ситуации тяжелее.
— Какие механизмы лежат в основе развития этого расстройства?
— В нашем мозге существуют определенные механизмы записи происходящих событий. В сложном сочетании работают структуры, обеспечивающие работу памяти, эмоциональную оценку событий, когнитивный контроль. В норме любое событие, которое происходит, оценивается миндалевидным телом (частью лимбической системы, отвечающей за эмоции) с точки зрения его опасности для человека. Миндалевидное тело передает сигнал гиппокампу, отвечающему за память, он «записывает» входящую информацию, сопровождая ее «этикеткой» с обозначением места и времени, когда событие произошло. Наконец, префронтальная кора отвечает за осознанное восприятие и реакцию на ситуацию. В момент острой травмы этот механизм нарушается.
Гиппокамп и кора лобных долей переполнены входящей информацией, которую необходимо обработать очень быстро для принятия решения. К тому же организм испытывает состояние острого стресса. Это приводит к гормональным изменениям, а затем работа префронтальной коры и систем памяти, которые и так перегружены, становится практически невозможна.
Миндалевидное тело продолжает свою работу, и в результате воспоминание от травмирующей ситуации останется записанным без указания, где и когда это событие имело место, и без его осмысления,
— что в случае нормального воспоминания выполняется на уровне коры лобных долей мозга. Но травматические воспоминания организованы в памяти не так, как обычные. В них недостает логики и структуры, они состоят из не связанных между собой фрагментов — звуков, ощущений, зрительных образов отдельных частей объектов. Поэтому пациенту с ПТСР трудно выразить словами то, что он пережил. Ему также сложно организовать в связный рассказ свои воспоминания. При этом фрагментарные воспоминания о травмирующем событии будут более четкими и ясными, чем обычные воспоминания.
В результате сильного стресса нарушается работа еще одной структуры мозга — таламуса. В норме он выполняет первичную оценку всей поступающей в мозг информации и оберегает его от лишних стимулов. Но после травмы мозг будет перегружать любая входящая информация, отдаленным образом напоминающая о пережитых событиях.
Все это приведет к тому, что в дальнейшем реактивация травматического воспоминания — флешбэк — будет вызываться огромным числом внешних событий — триггеров. При этом чувство опасности будет восприниматься как происходящее «здесь и сейчас», а не в прошлом.
То есть мы получаем максимально общую запись события, которая будет активироваться почти чем угодно. В итоге организм будет каждый раз запускать реакцию стресса по малейшему шороху: нервное возбуждение, мышечные действия и выделение гормонов стресса. При этом уменьшается активация лобных долей мозга, которые отвечают за самоконтроль. Может повышаться активность подкорковых структур, осуществляющих подготовку к двигательной реакции. Нарушенная работа таламуса приводит к ухудшению когнитивных функций, возникают трудности с вниманием и сосредоточением. Также страдают привычные механизмы регуляции эмоций даже в ситуации, не связанной с травмой.
— Военные, особенно долго служившие, потом не всегда могут найти себе место в жизни, нередко спиваются. Это происходит из-за травмированной психики, или они просто привыкли к совершенно другому укладу жизни и не могут перестроиться? Есть ли еще какие-то группы населения, представители профессий, сталкивающиеся с подобными проблемами?
— Травмирование психики как раз проявляется в том, что они не могут перестроиться. Все их социальные проблемы — это результат травмы. И тут важны отсутствие полноценных программ интеграции, отсутствие полного включения близких, отсутствие понимания, что с проблемой нужно продолжать бороться.
К травме нельзя привыкнуть. Для работы с такими людьми требуется работа как психиатров, которые смогут подобрать грамотное медикаментозное лечение, так и психологов, которые помогут осмыслить произошедшее.
Если мы говорим о других профессиях, это могут быть, например, пожарные, так как в их профессии тоже могут возникать неподконтрольные ситуации.
— Как распознать ПТСР у себя или близкого? Например, если накричать на человека, он может расплакаться как от того, что это само по себе неприятно, так и от того, что это ассоциируется у него с пережитой в юности травлей...
— Грань — это возможность адаптироваться и жить полноценной жизнью. Если реакции человека на события мешают ему жить и работать, — надо идти к специалисту. Если человек плачет редко, и это не мешает ему дома и на работе, — это не проблема. Если человек плачет пять раз в день и не может сосредоточиться, — это проблема. Вопрос, что и как вызывает проблемное поведение. Если человек будет плакать только если видит в кино смерть домашнего животного, которая напоминает ему о смерти своего питомца, это нормально. Но если человек будет плакать при любом упоминании слова «смерть» и при всем, что может отдаленно напомнить смерть кого-либо, — это уже тревожный симптом.
— Травму легко распознать, если, например, человек отказывается ездить на машине после аварии. Но всегда ли симптомы расстройства очевидны?
— Конечно, у ПТСР есть отличительные признаки. Самый основной – его причина.
Если у человека было событие, которое угрожало жизни, то с большой вероятностью мы будем говорить о ПТСР.
Например, депрессивное, тревожное и паническое расстройства обычно вызваны стрессорами значительно меньшей интенсивности (такими, как, например, проблемы в профессиональной и семейной сфере). Также при ПТСР будут присутствовать типичные симптомы — флешбэки и кошмары. Можно привести и другой пример: при паническом расстройстве человек избегает ситуаций, в которых могут проявиться панические симптомы. При ПТСР чаще избегаются ситуации, в которых может произойти событие, напоминающее травму, — то есть, после аварии на машине человек будет избегать поездок на велосипеде, фильмов с машинами, разговоров на тему машин.
В медицине, в психиатрии есть такая формулировка: «симптом совместим с нормальной жизнью». Если проявления любой болезни настолько неявны, что не мешают жить – то не важно, ПТСР это или что-то другое.
Можно продолжать жить и не обращаться к врачу. Но если у человека есть любые проявления, которые приносят дискомфорт и мешают ему или его близким нормально функционировать, то необходимо обратиться к специалисту. Более того, специалист поможет отличить ПТСР от других расстройств, при которых также может потребоваться помощь врача – депрессии, фобий, расстройства приспособительных реакций, расстройств личности и многих других, которые также могли быть спровоцированы какими-то травмирующими событиями.
— Как быстро развивается ПТСР? Действительно ли непосредственно в травмирующей ситуации и какое-то время после нее человек часто остается внутренне собран и адекватен, а последствия пережитого накатывают уже после, когда он уже, в общем-то, находится уже в полной безопасности?
— Во время и непосредственно после травмирующего события человек находится в состоянии психологического шока.
Это состояние, при котором происходит срыв нейрогуморальной регуляции и компенсаторных реакций организма в целом и мозга в частности, в ответ на экстремальную ситуацию. Практически все воспоминания о событиях, вызвавших ПТСР, хаотичны, человек мало что помнит.
— Дети переживают травмирующие события острее взрослых? Или, наоборот, их психика гибче и лучше справляется?
— В первую очередь это зависит от силы травмирующего события. Чем дольше оно длилось, тем сильнее его эффект. И это намного важнее, чем возраст ребенка. Но в целом можно сказать, что примерно до 10 лет детская психика справляется лучше, и чем младше ребенок, тем проще ему будет перенести травмирующую ситуацию. Исследования также показывают, что девочки более подвержены ПТСР, чем мальчики.
— Сказывается ли ПТСР на физическом здоровье?
— Да. При ПТСР организм пребывает в состоянии хронически повышенной стрессовой нагрузки. При ней постоянно повышена концентрация гормонов стресса — адреналина и кортизола, повышается артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы, что может вызвать проблемы со сном. Таким образом, ПТСР может быть одним из факторов риска возникновения кардиологических заболеваний, диабета, артрита и других.
— Что нужно делать, чтобы избавиться от ПТСР?
— Прежде всего — грамотно подобрать лечение нужными препаратами. Провести длительную психотерапию. Нужны помощь всех окружающих и включенность в сообщество.
Никакой новый опыт не поможет пережить старый без специальных вмешательств.
Эффективны такие виды лечения, как когнитивно-бихевиоральная терапия, десенсибилизация и переработка движением глаз, когнитивная процессуальная терапия, и ряд других.
Для накопления «нужного» и «успешного» нового опыта успешно используется виртуальная реальность. Пострадавший получает возможность погрузиться еще раз в травмирующие события под присмотром специалиста, но в этот раз прожить их иначе.
— Может ли ПТСР пройти само, или всегда нужна помощь специалиста?
— ПТСР — это заболевание, которое есть в классификации болезней DSM-5. Это расстройство может быть разном в степени тяжести и иметь отличающиеся симптомы. В некоторых случаях ПТСР проходит само, однако не стоит полагаться на какие-то общие сценарии течения болезни и чего-то ждать. Человеку, который в моменте испытывает ПТСР, нужна помощь прямо сейчас.
Вы не знаете, как именно ПТСР может проходить у вас или у ваших близких. Не стоит выжидать и рассчитывать, что оно пройдет само.
— Есть ли централизованные программы помощи тем, кто находится в группе риска развития ПТСР или столкнулся с ним?
— В США и ЕС существует огромное количество частных центров, в государственных клиниках, также есть такого рода программы. У нас, в России, мне ничего не известно про такие государственные программы. Существуют отдельные врачи в государственных клиниках, которые могут вести таких больных. Также существует какое-то количество частных центров, где есть программы реабилитации. Перед тем, как обращаться в подобные центры, важно удостовериться в качестве предоставляемых услуг.

Курсом конфронтации и угроз
Запад растоптал дипломатию договорённостей и перешёл к дипломатии ядерного шантажа.
Вопрос о возможном применении ядерного оружия сегодня обсуждается на Западе с каким-то изощрённым фанатизмом. Видимо, для демонизации нашей страны все средства хороши, особенно размахивание ядерной дубиной. Что скрывается за этой новой информационной атакой коллективного Запада и к чему она может привести? На эти и другие вопросы в интервью «Красной звезде» ответил известный политолог Владимир Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ.
– Владимир Леонидович, в обращении к стране в связи с частичной мобилизацией Президент России Владимир Путин сказал, что в ход на Западе пошёл уже ядерный шантаж нашей страны. Речь не только о поощрении обстрелов Запорожской АЭС, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о допустимом применении оружия массового поражения. Возникает вопрос: Запад ведает, что творит?
– Этот шантаж, вообще-то, находится в рамках общей стратегии Запада. Я бы назвал эту стратегию войной без берегов. То есть они готовы пожертвовать очень многим, включая свои прежние постулаты и химеры. Так, брошен в мусорную корзину миф, который помог им в разрушении Советского Союза, – миф о свободном, демократическом, рыночном обществе. Они также разрушили международную систему безопасности. Со времён Второй мировой войны мир держался на постулате взаимного уничтожения двух систем. На этой основе был запущен процесс по обеспечению контроля над вооружениями, в том числе и стратегическими. Но и это во имя сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет США и их европейским союзникам паразитировать, они растоптали. А вместе с международной системой безопасности, по сути, отказались от политических, экономических, культурных, научных и образовательных связей с Россией.
– В результате сложилась ситуация, которую многие эксперты называют вторым Карибским кризисом, имея в виду разгоревшийся ровно 60 лет назад между Советским Союзом и Соединёнными Штатами конфликт, который тогда поставил человечество на грань масштабной ядерной войны…
– На мой взгляд, такое сравнение не совсем верно, так как нынешняя ситуация гораздо опаснее той, которая сложилась 60 лет назад. Во-первых, потому что тогда в СССР и США сохранялась ещё память о прошедшей мировой войне. Американцы осознавали, к чему может привести обмен ядерными ударами.
У нынешнего поколения политиков, выдвинувшихся в США и других западных странах в обстановке эйфории по поводу распада СССР, совсем иная психология. Десятилетия сытой, богатой жизни сделали их безразличными даже к бедам собственного народа, а сон разума, как известно, рождает чудовищ. Тем более что безнаказанные расправы над государствами, которые по каким-то причинам не укладывались в навязываемый США миропорядок, породили у тех же американцев уверенность в возможности отсидеться за океаном при любых катаклизмах.
Сегодня коллективный Запад во главе с США поставил перед собой задачу разрушить и уничтожить Россию и решает её руками Украины. Причём в Вашингтоне постоянно подчёркивают, что Соединённые Штаты в войне не участвуют и садиться за стол переговоров с нашей страной им незачем. Хотя всем очевидно, что США открыто наращивают поставки смертоносного оружия на Украину и предоставляют ей разведывательные сведения. Они совместно планируют военные операции против наших Вооружённых Сил, украинцев обучают боевому применению натовской военной техники и вооружения.
Одновременно они широко используют достаточно недавно разработанные технологии манипуляции массовым сознанием, вбрасывание фейков, запугивание населения. К сожалению, я не вижу пределов подлости и ограничений, которые помешали бы им ради достижения корыстных целей убить ещё больше людей.
Сюда следует прибавить и ядерный шантаж, масштабы которого нарастают буквально с каждым днём. Всё это вместе делает нынешнюю ситуацию вокруг Украины очень опасной.
– Нельзя не учитывать, что США в последнее время предпринимают значительные усилия для понижения порога применения ядерного оружия…
– Совершенно верно. Но прежде всего хочу напомнить, что США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие, уничтожив японские города Хиросиму и Нагасаки. А сегодня США готовы нанести так называемый превентивный ядерный удар для защиты жизненно важных интересов Соединённых Штатов Америки, союзников и партнёров. Об этом говорится в американской ядерной стратегии, действующей с 2018 года.
Для этого целенаправленно наращивается и модернизируется ядерный потенциал. В частности, создаются новые малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 «Рейдер» и атомная подлодка «Колумбия», улучшаются межконтинентальные баллистические ракеты шахтного базирования «Минитмен III» и разрабатывается новая МБР. Особо следует отметить принятие на вооружение управляемой термоядерной бомбы B61-12, которая имеет переменную мощность заряда в пределах от 0,3 до 50 килотонн. Это ведёт к снижению порога применения ядерного оружия.
Считается, что в первую очередь эти бомбы заменят американский ядерный потенциал, расположенный в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Там сейчас находятся в общей сложности около 200 американских ядерных авиабомб В61. Страны – члены НАТО тесно взаимодействуют в совместном ядерном планировании, а также регулярно проводят учения Steadfast Noon («Стойкий полдень»), на которых американцы учат немцев, поляков и других союзников по НАТО применению ядерного оружия. Следует также отметить, что США и Североатлантический альянс создали на европейской территории инфраструктуру, обеспечивающую оперативное развёртывание и применение ядерного о оружия, которое способно достигать российской территории и поражать широкий спектр целей.
– Вы полагаете, что откровенный цинизм Запада позволит ему решиться и на ещё недавно немыслимое?
– Остановить англосаксов могут только страх и осознание, что ядерный гриб, который Запад готов обрушить на другие страны, может накрыть и их, что «ядерная перестрелка» захватит и континентальную часть США, и Британские острова.
Очевидно, что коллективному Западу уже мало того, что он заставляет киевский режим вести войну до последнего украинца, и мало антироссийских санкций. Англосаксы уже перешли к диверсиям, организовав взрывы на международных газовых магистралях «Северного потока». Но Россия, как заявил её лидер Владимир Путин, выступая 30 сентября, понимает ответственность перед мировым сообществом и сделает всё, чтобы привести в чувство «горячие головы». При этом Президент России подчеркнул: «Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем всё, чтобы обеспечить безопасность наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа».
Олег Фаличев, «Красная звезда»

Пленарное заседание международного форума «Российская энергетическая неделя»
Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя». Тема панельной дискуссии – «Глобальная энергетика в многополярном мире».
В.Путин: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа!
Приветствую участников и гостей Российской энергетической недели – признанной, авторитетной площадки для диалога по ключевым темам глобальной энергетики.
Такое прямое, открытое общение особенно необходимо сейчас, когда мировая экономика в целом, ТЭК переживают, прямо скажем, острый кризис, связанный с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов, разбалансировкой спроса и предложения, а также с откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка, которые руководствуются исключительно собственными геополитическими амбициями, прибегают к откровенной дискриминации на рынке, а если не получается, просто уничтожают инфраструктуру конкурентов.
В данном случае имею в виду, конечно, диверсию на магистральных газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». Нет сомнений, это акт международного терроризма, цель которого – подорвать энергетическую безопасность целого континента. Логика циничная – уничтожить, блокировать источники дешёвой энергии, лишить миллионы людей, промышленных потребителей газа, тепла, электроэнергии, других ресурсов и заставить покупать всё это по гораздо более высоким ценам. Заставить.
Атака на «Северные потоки» стала опаснейшим прецедентом. Он показывает: теперь под угрозой любой критически значимый объект транспортной, энергетической или коммуникационной инфраструктуры, независимо от того, в какой части света он находится, кем управляется, проложен по морскому дну или по земле, по суше.
Подтверждением тому стал – не хочется об этом говорить, мы на [Российской] энергетической неделе, вроде бы как напрямую не связано с этим, но тем не менее не могу не сказать, что подтверждением тому стал и теракт на Крымском мосту, совершённый украинскими спецслужбами. Уже говорил, что режим в Киеве давно использует террористические методы, организует политические убийства, этнические чистки, расправы над мирными жителями. Потом сами в интернет выкладывают – осознают, что совершили ошибку, – тут же стирают. Но всё равно в сети же всё остаётся. Не останавливаются и перед атомным терроризмом, имею в виду обстрелы Запорожской атомной электростанции, да и совершение терактов вокруг Курской атомной электростанции России. В этом ряду, конечно, и попытки подорвать газопровод «Турецкий поток».
Повторю: все факты доказаны и задокументированы, а идеологами, заказчиками этих преступлений являются их конечные бенефициары, выгодоприобретатели – те, кому выгодны нестабильность и конфликты.
А кто стоит за диверсией на «Северных потоках»? Очевидно, тот, кто стремится окончательно разорвать связи России и Евросоюза, желает окончательно подорвать и добить политическую субъектность Европы, ослабить её промышленный потенциал, прибрать к рукам рынок. И конечно, тот, кто технически – хочу это подчеркнуть – технически способен устроить такие взрывы и уже прибегал к таким диверсиям, причем был пойман за руку, но остался безнаказанным.
Ну а выгодоприобретатели, бенефициары и так понятны. Думаю, что здесь особенно не нужно вдаваться в детали, ведь повышается геополитическое значение остающихся газовых систем. Они проходят по территории Польши (Ямал – Европа), по территории Украины, два потока, всё в своё время Россия построила за свои деньги. А также США, конечно, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по высоким ценам.
Как в приличных компаниях говорят, highly likely, всё понятно, всё ясно, кто там за этим стоит и кто выгодоприобретатель.
Можно теперь, действительно, в больших масштабах навязывать европейским странам природный сжиженный газ из Соединённых Штатов, который явно уступает по конкурентоспособности российскому трубопроводному газу. Ведь цены на американский СПГ значительно выше, это всем хорошо было и раньше известно, а сейчас тем более, но есть и риски ещё дополнительные, кроме ценовых показателей. Риски заключаются в том, что всё это очень нестабильно и любые поставки могут «уплыть» в другие регионы мира. И мы это, кстати, наблюдали, причем совсем недавно, когда американские танкеры, везущие СПГ в Европу, разворачивались на полпути и меняли пункты назначения, потому что продавцам СПГ предложили большую цену в другом месте. При этом интересы европейских покупателей игнорировались.
Хочу напомнить также, кто тогда пришёл на помощь Европе и направил дополнительные поставки газа на европейский рынок – Россия. Однако руководители этих стран предпочитают не вспоминать об этом. Напротив – считают возможным упрекать нас в «ненадёжности». Мы, что ли, отказываем в поставках? Мы готовы поставлять и поставляем в рамках контрактов весь объём. Весь объём в рамках контрактов поставляем. Но если кто-то не хочет брать наш продукт – мы-то здесь при чем? Это ваше решение.
Много раз отмечал, что «Северные потоки» лишены какой бы то ни было политической подоплёки. Это чисто коммерческие проекты, в которых на равных участвуют российские и европейские компании, а значит, судьбу «потоков» должны решать совместно Россия и наши партнёры в странах Евросоюза.
Скажу, что отремонтировать газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря и подорванные, конечно, возможно. Но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации, и, конечно, при обеспечении безопасности маршрутов – это первостепенное условие.
Если мы с европейцами придём к общему решению поставлять газ по уцелевшей ветке – а там одна ветка «Северного потока – 2», судя по всему, уцелела… Нас, к сожалению, не допускают для того, чтобы можно было обследовать эту ветку, но давление в трубе сохраняется. Может быть, она как-то и повреждена, мы этого не знаем, потому что не допущены, как я уже сказал, к обследованию, но давление сохраняется, значит, судя по всему, она в рабочем состоянии. Её мощность составляет 27,5 миллиарда кубических метров в год, это порядка восьми процентов всего импорта газа в Европе.
Россия к началу таких поставок готова. Мяч, как говорится, на стороне Евросоюза. Хотят – пусть просто откроют кран, и всё. Мы, повторяю ещё раз, никого ни в чём не ограничиваем, в том числе готовы поставлять в осенне-зимний период дополнительные объёмы.
Не раз – в том числе и с трибуны Российской энергонедели – говорили о причинах и природе того кризиса, который складывается на европейском рынке, включая чрезмерное увлечение возобновляемыми источниками энергии в ущерб углеводородам. Конечно, нужно заниматься альтернативными видами энергетики – и Солнцем, и ветром, и энергией прилива, и водородом. Конечно, нужно всё это делать, но нужно делать это, сообразуясь с объёмами потребления на сегодняшний день, с темпами роста мировой экономики, с потребностями в энергоресурсах и с уровнем развития технологий. Но кто же делает, забегая вперёд, по политическим соображениям, тем более конъюнктурного внутриполитического характера? А вот так и делали – вот результат теперь. Сворачивание атомной энергетики в этом же ряду, а также отказ от долгосрочных контрактов в газовой сфере и переход на биржевые котировки.
Кстати, по экспертной оценке, только в текущем году спотовый механизм ценообразования на газ принесёт убытки Европе на сумму свыше 300 миллиардов евро или около двух процентов ВВП еврозоны. Их можно было бы избежать, если бы использовались долгосрочные контракты с нефтяной привязкой. Здесь профессионалы все сидят и понимают, о чём я говорю: разница между спотовым рынком и ценами по долгосрочным контрактам – в три, в четыре раза. И кто это сделал? Мы, что ли? Сами сделали. По сути, навязали нам такой способ торговли. Просто, на самом деле, заставили «Газпром» перейти отчасти на привязку к спотовому рынку, а теперь охают. Ну так сами и виноваты.
Понятно, как будет решаться эта проблема с ценами, если они будут высокими. Мы это проходили по отношению к другим товарным группам: просто печатают деньги – и всё. Только за последний год денежная масса в ЕС выросла примерно на триллион евро. Но проблема в том, что Европа на эти деньги что будет делать? Будет – так же, как другие товары, в том числе продовольственные – будет сгребать и газ с мирового рынка. Следовательно, остальным странам, прежде всего развивающимся государствам, придётся переплачивать за эти энергоресурсы.
Тот ресурс, что приходит на европейский рынок, продаётся в буквальном смысле втридорога, как я уже сказал, и по цепочке раскачивает инфляцию – в еврозоне она уже достигла десяти процентов. Страдают рядовые европейцы: за год их счета за электроэнергию и газ выросли более чем в три раза. Население, как в средневековье, стало запасаться дровами на зиму.
Россия здесь при чем? Свои собственные ошибки постоянно пытаются на кого-то свалить, в данном случае на Россию. Сами виноваты – хочу ещё раз подчеркнуть. Это результат даже не каких-то действий в рамках специальной военной операции на Украине, в Донбассе – совсем нет. Это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет. Целого ряда лет!
Рост затрат подкашивает местные предприятия. По некоторым видам продукции темпы снижения выпуска измеряются двузначными цифрами. Лишённый доступных энергоресурсов из России европейский бизнес вынужден закрываться или искать лучшей доли в чужих юрисдикциях. Этот процесс идёт.
Здесь не могу не отметить некоторые статистические данные. По данным самих европейцев, по данным ЕС, экспорт в Россию за 2021 год составил 89,3 миллиарда евро, а импорт из России – 162,5 миллиарда евро. Дефицит в пользу России – 73,2 миллиарда евро. Это в 2021 году. А за первые месяцы текущего года этот дефицит увеличился до 103,2 миллиарда евро.
В чём причина? Мы продаём свой товар, мы готовы покупать европейские товары, но они же сами не продают. Ввели эмбарго на одну товарную группу, на вторую, на третью – отсюда и дефицит. Мы-то здесь при чём? Опять будут на нас сваливать. Мы продаём то, что они хотят купить, по рыночным ценам – пожалуйста. Мы готовы у вас покупать, но вы же не продаёте. Дефицит растёт и, повторяю, совсем не по нашей вине. Не надо отказываться от сотрудничества с Россией – вот и всё.
Что ещё хотел бы отметить, – собственно говоря, это подчёркивают сейчас сами еврочиновники самого высшего уровня, – что европейское благополучие последних десятилетий во многом базировалось на сотрудничестве с Россией.
Последствия частичного отказа от товаров из России уже негативно сказываются на экономике и жителях Европы. Однако вместо того чтобы работать над возвращением конкурентных преимуществ, своих собственных конкурентных преимуществ в виде дешёвых и надёжных российских энергоносителей, страны еврозоны только усугубляют ситуацию. В том числе решили ограничить цену на нефть и нефтепродукты из нашей страны. Но это уже не только страны Европы, а вместе с Северной Америкой это делают, и, как планируется, с декабря текущего года.
В этой связи приведу цитату американского экономиста, лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана: «Если вы хотите создать дефицит, например, помидоров, то нужно просто принять закон, по которому розничные торговцы не могут продавать помидоры более чем за два цента за фунт. Вы тут же получите дефицит помидоров. То же самое – с нефтью или газом», – конец цитаты. Напомню, что Милтон Фридман ушел из жизни в 2006 году. Он не имел никакого отношения к российскому Правительству и уже точно не может быть записан в агенты влияния России.
Казалось бы, это прописные истины. Но руководители некоторых стран, её бюрократическая верхушка отмахиваются от этих очевидных соображений, по чужой команде сознательно ведут курс на деиндустриализацию своих стран, на снижение качества жизни граждан, что, безусловно, повлечёт за собой необратимые последствия.
Нужно чётко понимать: если ограничить цену нефти из России или других стран, установить какие-то искусственные ценовые потолки, то это неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости, а это, повторяю, ударит в первую очередь по беднейшим государствам. Это неизбежные последствия абсолютно очевидные. И специалисты, в том числе мирового класса – я только что привёл цитату – об этом всё время говорят.
Никакие интервенции или распечатывание нефтяных резервов ситуацию не исправят. Свободных ресурсов в нужных объёмах попросту нет – вот в чём все дело. Надо это понять в конце концов.
Дело в том, что из-за агрессивного продвижения «зелёной» повестки, которая, конечно, нуждается в поддержке, как я уже сказал, но просто по уму всё это надо делать, а когда речь идёт об агрессивном продвижении этой повестки, в том числе в еврозоне, глобальный нефтегазовый сектор уже оказался недоинвестирован. Уже! При этом против ведущих производителей нефти – а это порядка 20 процентов мировой индустрии – были введены санкции ЕС и США.
В итоге в 2020–2021 годах инвестиции в добычу нефти и газа опустились до минимальных уровней за последние 15 лет. Понимаете, в 2020 и 2021 году, задолго до начала нашей спецоперации в Донбассе. И оказались эти инвестиции в два с лишним раза ниже, чем в 2014 году, из-за действий так называемых западных политиков, и бизнес недовложил 2,5 триллиона долларов. Я ещё об этом скажу позже: при чём здесь решение «ОПЕК плюс»? Решение «ОПЕК плюс» направлено исключительно на балансировку мирового рынка. Нашли еще крайнего – «ОПЕК плюс». При чём здесь это – не понятно. То есть понятно, что просто свои, повторяю ещё раз, собственные ошибки прикрывают, стараются прикрыть. Я об этом ещё скажу два слова.
Отмечу ещё один важный момент. Допустим, как уже говорил, будет введён пресловутый потолок цен на нефть. Но кто даст гарантии, что такой же потолок не будет установлен в других секторах экономики – в сельском хозяйстве, в производстве полупроводников, удобрений, в металлургии, причём не только в отношении России, но и любой другой страны мира? Никто таких гарантий уже не даст, а значит, своими авантюрными решениями некоторые западные политики разрушают глобальную рыночную экономику, по сути, создают угрозу для благополучия миллиардов людей.
Опыт разрушения традиционных ценностей у так называемых неолиберальных идеологов Запада уже есть, мы все это видим. Теперь, видимо, взялись и за свободу предпринимательства и частной инициативы.
Россия всегда выполняет свои обязательства, как я уже говорил. Этим мы кардинально отличаемся от западных государств, которые цинично отказались выполнять заключённые уже ранее контракты в финансовой, технологической сфере, в поставке и обслуживании оборудования.
Скажу одно – Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счёт оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них. Тем, кто вместо делового партнёрства и рыночных механизмов предпочитает шулерские уловки и беспардонный шантаж, – а мы в такой парадигме в политической сфере живём уже десятилетиями, – хочу сказать, что мы не будем действовать себе в ущерб, имейте в виду.
Наша принципиальная позиция в том, что стабильность, сбалансированность энергетических рынков и безопасное будущее народов можно обеспечить только совместными усилиями в открытом, честном диалоге на принципах солидарной ответственности и учёта национальных интересов друг друга.
Именно такой диалог у нас налажен с партнёрами по соглашению «ОПЕК плюс», о чем я уже только что упоминал. Как вы знаете, совсем недавно были достигнуты очередные договорённости в рамках этого соглашения. Они учитывают, прежде всего, динамику спроса и предложения на нефть, а также долгосрочные инвестиционные программы нефтяной отрасли, которая, как уже сказал, объективно недофинансирована.
В октябре квота на добычу нефти в наших странах останется на уровне августа текущего года, а затем будет снижена на два миллиона баррелей в сутки. Рассчитываем, что эти решения устроят и производителей нефти, и её потребителей. При этом координация действий партнёров по «ОПЕК плюс» обязательно продолжится для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка. Специалисты понимают, что вопрос предсказуемости является абсолютно ключевым.
Уважаемые коллеги!
Россия – один из ключевых участников глобального энергетического рынка. По добыче и экспорту нефти и газа, по объёмам выработки электроэнергии и добычи угля наша страна входит в число мировых лидеров.
Несмотря на санкционное давление и диверсии на инфраструктуре, мы не намерены уступать своих позиций. Продолжим обеспечивать стабильную энергетическую безопасность, развивать связи с теми странами, которые в этом заинтересованы.
Объём добычи нефти в России уже преодолел спад и находится даже несколько выше уровня прошлого года. Планируем, что на горизонте 2025 года общий объём нефтяного экспорта, как и объём добычи нефти, в нашей стране сохранится примерно на текущем уровне.
Что бы здесь отметил. В последние десятилетия российская нефтедобыча оказалась в значительной степени зависима от иностранного оборудования и сервиса, но уже к 2025 году мы планируем довести долю отечественного оборудования в отрасли до 80 процентов. Таким образом, несмотря на уход западных компаний с российского рынка (сами себе только хуже делают), мы сможем обеспечить добычу нефти в необходимых объёмах.
Что касается российского газа, мы, безусловно, разместим наш товар на мировых рынках. Подтверждают свою эффективность такие проекты, как «Сила Сибири» и «Турецкий поток». У нас действует на Турцию, для внутреннего турецкого рынка, еще и «Голубой поток». По «Турецкому потоку» транзитируется сейчас в Европу 14 миллиардов кубических метров газа. Не такой уж большой объем, но приличный.
Что в этой связи хотел бы сказать? Утраченный объём транзита по «Северным потокам» по дну Балтийского моря мы могли бы переместить в регион Чёрного моря и сделать таким образом основными маршрутами поставки нашего топлива, нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, – если, конечно, в этом заинтересованы наши партнёры. Но в целом, экономическая целесообразность, конечно, есть, и уровень безопасности здесь, судя по последним событиям, конечно, значительно выше.
Прибавляет и высокотехнологичный сегмент сжиженного природного газа. Его производство в России в августе выросло почти на 60 процентов. В том числе, успешно работает уникальный завод «Ямал СПГ», расположенный в арктических широтах. Дают результаты наши системные меры по освоению ресурсной базы Арктики, по развитию Северного морского пути и транспортного и ледокольного флота.
Будем и дальше наращивать энергетический экспорт на быстрорастущие рынки. И конечно, намерены расширять географию наших поставок. Уже в ближайшее время определим для этого ключевые объекты инфраструктуры и начнём их строительство, включая такие перспективные проекты, как «Сила Сибири – 2» и его монгольский участок «Союз Восток», а также стыковку азиатского и европейского сегментов национальной газотранспортной системы. Продолжим поддерживать проекты СПГ-терминалов. Все стратегические и предельно конкретные задачи в этой сфере перед Правительством России поставлены. Уверен, они будут решены.
Также продолжим переход на расчёты в национальных валютах при поставках российских энергоносителей. Один из таких примеров уже называл: «Газпром» и его китайские партнёры решили перейти на рубль и юань в равных пропорциях при оплате поставок газа. Некоторые европейские партнёры, как вы тоже хорошо знаете, тоже перешли на оплату нашего газа в российской национальной валюте, в рублях.
Уважаемые коллеги!
Безусловно, Россия была и будет одним из крупнейших участников глобального энергетического рынка. Но наша ключевая задача в том, чтобы отечественный ТЭК работал на национальную экономику прежде всего, на повышение её конкурентоспособности, на развитие и благоустройство наших регионов, городов, посёлков, на улучшение качества жизни наших граждан.
Отдельное, стратегическое направление – это повышение объёмов переработки сырья. У нас уже реализуются масштабные планы в этой сфере, в том числе на Дальнем Востоке запущены проекты по развитию крупно- и малотоннажной нефте- и газохимии. В ближайшие годы количество таких проектов заметно вырастет.
Набирает ход программа социальной газификации. Речь идёт о жилых домах в городах и сёлах, где проложен сетевой газ. На начало октября газ подведён уже к земельным участкам свыше трёхсот тысяч домовладений.
Вместе с тем, для многих граждан стоимость газового оборудования и работ внутри участка – это серьёзное бремя, большая нагрузка на семейный бюджет, мы уже тоже говорили об этом. Речь, прежде всего, о многодетных семьях, ветеранах, инвалидах, семьях с низкими доходами. Обязательно нужно оказать им помощь, мы сделаем это. О чём идёт речь? Я прошу региональные власти обеспечить предоставление субсидий нуждающимся гражданам на покупку газового оборудования и проведение соответствующих работ внутри участков. Размер такой субсидии должен составить не менее ста тысяч рублей на одно подключение.
Понимаю, что бюджетные возможности у разных регионов разные, поэтому предоставление субсидий в субъектах Федерации с низким уровнем бюджетной обеспеченности будет поддержано за счёт федеральных ресурсов.
Прошу Правительство держать на контроле реализацию этой меры поддержки граждан, оценивать, нужны ли здесь дополнительные шаги.
Ещё одно новое решение. Мы уже договорились включить в программу социальной газификации школы, подвести к ним сети. Считаю правильным, если в ближайшее время Правительство вместе с «Газпромом» примет аналогичное решение и в отношении медицинских организаций – поликлиник, больниц, ФАПов.
Таким образом, ключевые для территорий социальные объекты – медицинские и образовательные – получат источник дешёвой и экологически чистой энергии, что особенно важно для сельской местности.
В целом с учётом поступления новых заявок от граждан, расширения числа подключаемых объектов прошу Правительство продлить программу социальной газификации за горизонт 2022 года.
И ещё. Несмотря на сложную экономическую обстановку, внешние ограничения, мощности российской энергосистемы продолжают обновляться. В текущем году введены и модернизированы объекты общим объёмом более чем на две тысячи мегаватт.
Такой системный подход позволяет поддерживать цены на электроэнергию в России на самом низком уровне в Европе. Напомню, что в странах Евросоюза только за текущий год они выросли в несколько раз.
Особое внимание нужно уделить повышению надёжности электросетевого комплекса. Для регионов, где ситуация наиболее сложная, в этом году были разработаны специальные программы, и прошу Правительство как можно скорее приступить к их реализации.
Уважаемые друзья!
Современная глобальная энергетика столкнулась с небывалыми вызовами и проблемами. В эту ситуацию на протяжении многих-многих лет мировое сообщество загоняли недальновидные, ошибочные действия целого ряда западных стран – я уже об этом сказал и, мне кажется, достаточно убедительно.
Поиск конструктивного выхода из положения, конечно, должен стать предметом обстоятельных, профессиональных, деполитизированных дискуссий, в том числе на площадках и «Российской энергетической недели».
Повторю: Россия готова к доверительному партнёрству в энергетической сфере в интересах устойчивого развития наших стран, их надёжного снабжения доступной энергией. И мы знаем, что такой подход разделяет подавляющее большинство наших партнёров и государств мира.
Хочу пожелать вам успешной работы и благодарю вас за внимание.
Спасибо большое. Всего хорошего!

Москва умеет ждать
время - стратегический ресурс России
Редакция Завтра
Предлагаем вниманию читателей статью бывшего советника министра обороны в администрации Трампа, полковника армии США в отставке, старшего научного сотрудника журнала The American Conservative Дугласа Макгрегора о ситуации на Украине.
В конце 1942 года, когда вермахт не мог продвигаться дальше на восток, Гитлер переключил сухопутные войска Германии со стратегии «разгрома вражеских сил» на стратегию «удержания земли». Гитлер потребовал, чтобы его армии защищали обширные, в основном пустые и бесполезные участки советской территории.
«Удержание позиций» не только лишило немецких военных возможности проявлять оперативную осмотрительность и, прежде всего, перехитрить медлительного, методичного советского противника; удержание позиций также перенапрягло немецкую логистику. Красная Армия бесконечно атаковала, таким образом вермахт был приговорён к медленному, беспощадному уничтожению.
Президент Украины Владимир Зеленский (предположительно, по совету своих американских и британских военных советников) также принял стратегию удержания позиций на Востоке Украины. Весной ВСУ обездвижили себя в городских районах и подготовили оборонительные сооружения. В результате украинские силы превратили городские центры в фортификационные укрепления и приготовились что называется «стоять до конца». Разумнее было вывести войска из таких городов, как Мариуполь — это могло бы спасти большую часть лучших войск Украины, но им запретили выходить. Российские войска ответили методичным взятием в котлы и сокрушением «защитников», не оставив украинским войскам возможности вырваться или же быть разблокированными извне другими украинскими силами.
Решение Москвы уничтожать противника с наименьшими потерями в собственной живой силе сработало в пользу русских. С начала операции украинские потери фактически всегда были больше, чем сообщало украинское командование в своих отчётах, но после провала украинских контратак в Херсонской области в конце августа они достигли ужасающего уровня, и это уже невозможно скрыть. Число жертв достигло 20000 убитыми и ранеными в месяц.
Несмотря на полученные дополнительно гаубицы в количестве 126 штук с 800000 артиллерийских снарядов, несмотря на используемые системы HIMARS (реактивная артиллерия США), месяцы тяжёлых боёв подрывают основы сухопутной мощи Украины. Перед лицом этой катастрофы Зеленский продолжает отдавать приказы контратаковать с целью вернуть территории, чтобы продемонстрировать, что стратегическая позиция Украины по отношению к России не так безнадёжна, как кажется.
Сентябрьское наступление украинцев на город Изюм, связующее звено между Донбассом и Харьковом, казалось Киеву праздником. Нет сомнений, что США предоставили украинцам картину местности в режиме реального времени со своих спутников, показавшую, что российские силы к западу от Изюма насчитывали на тот момент менее 2000 бойцов оперативных подразделений (эквивалент военизированной полиции, например, спецназ или воздушно-десантная пехота).
Российское командование отвело свои немногочисленные силы из района, площадь которого составляет примерно 1% бывшей украинской территории, находящейся в настоящее время под контролем России. А вот цена пропагандистской победы Киева была высока — по оценкам различных источников, потери составили от 5000 до 10000 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, причём российские артиллерия, ракеты и авиаудары поразили их на плоской открытой местности, словно в тире.
Учитывая неспособность Вашингтона превозмочь российское оружие и закончить войну на Украине, кажется очевидным, что вместо этого власти США попытаются превратить руины украинского государства в открытую, незаживающую рану для России. С самого начала проблема заключалась в том, что у России всегда были ресурсы для резкой эскалации боевых действий и завершения военной операции на очень жёстких условиях. И эскалация продолжает нарастать.
В публичном заявлении, которое никого не должно удивлять, президент Путин объявил о частичной мобилизации 300000 резервистов. Многие из этих людей заменят регулярные силы российской армии в других частях России, а те отправятся на Украину завершать спецоперацию. Другие резервисты пополнят российские подразделения, уже задействованные на Восточной Украине.
Вашингтон всегда ошибочно воспринимал готовность Путина к переговорам и ограничению масштабов и разрушительности кампании на Украине как свидетельство слабости, хотя было ясно, что цели Путина всегда ограничивались устранением угрозы НАТО для России на Востоке Украины.
Стратегия Вашингтона по использованию конфликта для продажи истребителей F-35 Германии (одновременно с поставками большого количества реактивных снарядов и радаров правительствам союзников в Центральной и Восточной Европе) теперь даёт обратный эффект.
Военный истеблишмент США давно набил руку в успокоении американских избирателей бессмысленными клише. По мере укрепления позиций России в мире Вашингтон оказывается перед суровым выбором: объявить об успешном «ослаблении российской власти» на Украине и свернуть свои действия, иначе рискуем развязать региональную войну с Россией, которая поглотит Европу.
Однако для Европы война Вашингтона с Москвой — это нечто гораздо большее, чем просто неприятная тема. Экономика Германии находится на грани краха. Немецкие промышленные предприятия и домохозяйства испытывают нехватку энергии, дорожающей с каждой неделей. Американские инвесторы обеспокоены, потому что исторический опыт показывает: экономические показатели Германии часто являются предвестниками трудных экономических времён и в самих США.
Более того, социальная стабильность в европейских государствах чрезвычайно хрупка, особенно во Франции и Германии. Полиция Берлина, как сообщается, разрабатывает планы действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы справиться с беспорядками и грабежами в зимние месяцы, если «многокультурная» городская энергосистема рухнет. Недовольство жителей растёт, повышается вероятность того, что нынешние правительства Германии, Франции и Великобритании разделят участь своих коллег в Стокгольме и Риме, которые потеряли или потеряют власть в ближайшее время из-за появления правоцентристских коалиций.
На данный момент Киев продолжает бросать резервы живой силы Украины в контратаку. Вашингтон, настаивает президент Байден, будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Но если Вашингтон продолжит истощать стратегические запасы нефти Америки и отправлять американские военные грузы на Украину, пострадает обороноспособность самих Соединённых Штатов из-за бездумной поддержки Украины.
Россия уже контролирует территорию, которая обеспечивала 95% украинского ВВП. С этой точки зрения, ей уже нет необходимости идти дальше на запад. На момент написания этой статьи кажется очевидным, что Москва, завершив спецоперацию в Донбассе, переключит затем внимание на Одессу — российский город, в котором украинские силы совершили ужасные зверства против русских в 2014 году.
Москва не торопится. Русские — не что иное, как методичность и обдуманность. Украинские силы истекают кровью, бросаемые в контратаку за контратакой. Зачем спешить? Москва умеет быть терпеливой. Китай, Саудовская Аравия и Индия покупают российскую нефть за рубли. Санкции вредят европейским союзникам Америки, а не России. Предстоящая зима, вероятно, сделает больше для изменения политического ландшафта Европы, чем любые действия, которые может предпринять Москва. В Закопане, городе на крайнем юге Польши с населением 27000 человек, уже идёт снег.

Клеймо Вашингтона не сдерживает стратегическое сотрудничество между Китаем и Россией
У ДАХУЭЙ
Доктор политических наук, профессор университета Цинхуа, заместитель директора института по исследованию России.
Стратегическое партнёрство России и Китая имеет свою логику развития. Никакая клевета Вашингтона неспособна помешать углублению отношений двух стран. Их суть – в неприсоединении, неконфронтации и ненацеливании на третьи стороны.
19 сентября Ян Цзечи, член Политбюро ЦК КПК, заведующий отделом Комиссии по иностранным делам ЦК КПК, совместно с секретарём Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым провёл 17-й раунд китайско-российских консультаций по вопросам стратегической безопасности в провинции Фуцзянь. Обе стороны согласились в дальнейшем эффективно использовать механизм консультаций по стратегической безопасности, укреплять взаимное доверие между Китаем и Россией, поддерживать друг друга в сохранении той модели развития страны, которая соответствует национальным интересам, совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность, постоянно укреплять и обогащать смысл всестороннего стратегического партнёрства между двумя странами. Однако это рутинное взаимодействие между Китаем и Россией было воспринято в Вашингтоне как удар в спину и вызвало раздражение – безо всякого основания.
В 2005 г. главы государств Китая и России решили создать механизм регулярных консультаций по стратегической безопасности между двумя странами. Консультации планировалось проводить ежегодно, что и делалось до 2020 г., когда из-за пандемии они были временно приостановлены. В рамках этого механизма Китай и Россия сверяют часы по ключевым вопросам, касающимся двусторонней стратегической безопасности, сотрудничества в области военной безопасности, глобальной стратегической стабильности, регионального мирного развития и всего того, что затрагивает интересы и жизненно важные проблемы друг друга.
В этом году китайско-российские консультации по стратегической безопасности вдруг вызвали серьёзную озабоченность у Соединённых Штатов. В рамках саммита ШОС главы государств Китая и России провели двусторонние переговоры и обменялись мнениями о двусторонних отношениях и текущей ситуации. По следам саммита состоялись те самые консультации Ян Цзечи и Патрушева, по итогам которых стороны заявили, что готовы реализовывать договорённости, достигнутые главами государств Китая и России на саммите ШОС в Самарканде, и всегда поддерживать друг друга по вопросам, касающимся основных интересов двух стран. Однако США почему-то всполошил тот факт, что китайско-российский стратегический диалог состоялся после саммита ШОС. Они предположили, что Китай и Россия, возможно, достигли консенсуса в отношении совместного противостояния НАТО или Западу в целом на саммите, а на встрече Ян Цзечи и Патрушева якобы обсуждалась дальнейшая стратегическая координация.
Даже место проведения этой очередной консультации между Китаем и Россией вызывало у американцев полёт фантазии. Заведующий отделом Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ян Цзечи принял Патрушева в своём родном городе Наньпин провинции Фуцзянь, проявив гостеприимство по отношению к старым друзьям. Американские СМИ сделали вывод, что место встречи выбрано далеко неслучайно: Наньпин находится всего в более чем 300 километрах от острова Тайвань, и это, оказывается, много чего означает (например, писали следующее: «Место проведения такой встречи явно указывает на недавнюю напряжённость в Тайваньском проливе и говорит о поддержке Россией Китая в тайваньском вопросе»). Буквально за день до китайско-российских консультаций президент США Джо Байден в интервью американским СМИ снова заявил о возможной «отправке войск для защиты Тайваня», уточнив, что если Китай попытается «силой присоединить» Тайвань, то США могут направить войска для интервенции. В день китайско-российских консультаций генерал ВВС Энтони Коттон сказал на слушаниях в Сенате США, что и Китай, и Россия понимают, что США обладают сильными ядерными силами и способны сдерживать своих противников.
Будучи не в силах вбить клин между Китаем и Россией и расшатать китайско-российское стратегическое сотрудничество, Вашингтон решил подпортить репутации двух стран.
С момента создания китайско-российского стратегического партнёрства в 1996 г. Соединённые Штаты прилагали все усилия, чтобы негативно повлиять на отношения России и Китая. В попытке обесценить двустороннее стратегическое взаимодействие США заявляли, что это всего лишь «временный союз», «бумажный дом», который не выдержит ни ветра, ни дождя. После того, как сотрудничество двух стран прошло испытания стратегической корректировкой американского курса, пандемией COVID-19, украинским кризисом, Соединённые Штаты попытались заклеймить Китай и Россию, заявив, что они решили создать «Ось альянса, который носит антизападный характер». Теперь, видя, что отношения России и Китая продолжают набирать высоту под руководством глав двух государств, США сделают всё возможное, чтобы попытаться разрушить его. В отношении специальной военной операции России на Украине США уже выдвинули различные теории: «Китай заранее знал обо всём», «теория заговора», «теория военной помощи», «теория ослабления западных санкций». Во время сентябрьских китайско-российских консультаций по стратегической безопасности Соединённые Штаты в очередной раз предположили, что Россия может попросить Китай предоставить оружие, чтобы ускорить темпы войны.
Стратегическое партнёрство России и Китая имеет свою логику развития. Никакая клевета Вашингтона неспособна помешать углублению отношений двух стран. Их суть – в неприсоединении, неконфронтации и ненацеливании на третьи стороны. Ни Китай, ни Россия не планируют создавать то, что Соединённые Штаты называют «антизападным альянсом». Гигантская разница между нами и Западом заключается в том, что Западу близка идея холодной войны, а мы соблюдаем новую концепцию безопасности, которая сильно отличается от духа тех времён.
В качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН Китай и Россия несут ответственность за поддержание мировой и региональной стабильности. Китайско-российские консультации по вопросам стратегической безопасности являются не только долгосрочным механизмом защиты ключевых интересов безопасности двух стран, но и эффективным инструментом по поддержанию мира во всём мире и региональной стабильности.
Перевод: Го Сяоли

Действия США становятся всё более агрессивными и наступательными
На это нацелены их ключевые военно-политические стратегии.
Правящие элиты Соединённых Штатов неистово пытаются сохранить свою ускользающую гегемонию. В своих усилиях Вашингтон руководствуется доктринальными документами, определяющими цели его политики, а также пути и средства их достижения. Анализу этих документов посвящена монография члена-корреспондента Академии военных наук России Владимира Козина «Ключевые военные стратегии США: их национальные и международные последствия», которая вышла на русском и английском языках. Её презентация на днях состоялась в Российском совете по международным делам.
– Владимир Петрович, почему вы выбрали такую тему для своей монографии, что подтолкнуло взяться именно за неё?
– Сама американская политика. Нельзя безучастно наблюдать, как по вине заокеанского истеблишмента на планете нарастают кризисные явления и стремительно деградирует ситуация в области международной безопасности. Вашингтон пытается установить миропорядок, заставляющий всех жить по пресловутым правилам, выгодным только США. Америка, самопровозгласив себя властелином мира, безнаказанно расправляется с любым, в чём-то неугодным ей государством. Коллективный Запад во главе с США не только навязывает миру беспрецедентную русофобию, но и открыто заявляет о намерении разрушить, расчленить Россию.
Причём эта политика возникла не спонтанно или как реакция на чьи-то действия. Это – продуманная и долговременная стратегия, которая изложена и закреплена в соответствующих американских документах. Более того, некоторые из них действуют уже довольно долго. Эти концепции я и решил подвергнуть подробному анализу и показать всю их опасность человечеству.
– И какие именно американские военно-политические установки привлекли ваше внимание?
– Американские стратегии национальной безопасности и обороны, а также ядерная, противоракетная и космическая стратегии, которые носят наступательный и, безусловно, агрессивный характер и направлены на развитие военного потенциала США с целью достижения победы в воздушном, космическом и кибернетическом пространстве, а также на море и суше. Взять, к примеру, «Оборонную космическую стратегию». В ней открыто сказано, что необходимо добиваться превосходства и доминирования Соединённых Штатов в околоземном пространстве. При этом подчёркивается, что космос является сферой военных действий, а также уникальной областью применения военной силы. В документе определены способы укрепления американской космической мощи, с тем чтобы иметь возможность конкурировать, сдерживать и побеждать в этой, как говорится в документе, «сложной среде безопасности», где наблюдается «конкуренция великих держав».
Все эти концепции были одобрены ещё во время президентства Дональда Трампа и до сих пор являются действующими. А ведь по сложившейся в США практике каждый новый американский президент вносит коррективы в такие стратегии, не меняя их сущности и основной направленности – «мир через силу», «глобальное военное доминирование», «обеспечение победы над противником», «отказ от ранее заключённых соглашений в сфере контроля над вооружениями, если они не отвечают интересам национальной безопасности».
Придя в Белый дом, Джо Байден также обещал их обновить, но пока не сделал этого. В этой связи не может не возникнуть вопроса, почему он так поступает. Однозначного ответа на него нет. Возможно, потому, что эти концепции устраивают его администрацию. А может быть, и на это указывают некоторые американские эксперты, в Вашингтоне пока до конца не определились в конечной цели своей политики в отношении России и КНР. Например, нельзя не заметить некое расхождение в подходах Белого дома и конгресса к проблеме Тайваня.
Правда, следует признать, что определённые шаги по обновлению «пятёрки» ключевых военных стратегий, с целью их адаптации применительно к сложившейся глобальной и региональной военно-политической обстановке в отдельных зонах мира, нынешней американской администрацией всё же делаются. Так, в марте прошлого года Джо Байден подписал «Промежуточное стратегическое руководство для национальной безопасности» на 23 страницах, в котором расставлены акценты и приоритеты такой политики США не только в виде целей, но и средств и способов их достижения.
В марте этого года в конгресс направлен пока закрытый для общественности проект «Стратегии национальной обороны», где КНР названа самым важным стратегическим соперником Соединённых Штатов, а Россия как создающая им острые угрозы. Записано, что разноплановое сдерживание должно быть максимальным, а США будут препятствовать военным приготовлениям «конкурентов» и вместе со своими союзниками противостоять продолжению «вторжения» России на Украину.
В прошлом месяце была выработана директива Пентагона № 3100.10 о военно-космической политике. Но это ещё не полновесная военно-космическая стратегия, а лишь очередной промежуточный документ, направленный на укрепление космических сил, созданных при Трампе. Байден продолжает реализацию 12 программ создания ударных космических вооружений, унаследованных от своего предшественника.
– А в каком ключе в действующих американских стратегиях отражены подходы Вашингтона к контролю над вооружениями?
– В них, надо признать, есть формулировки, которые, казалось бы, соответствуют нашим намерениям установить эффективную и взаимовыгодную систему контроля над вооружениями. Например, о том, что такой процесс должен быть проверяемым и отвечающим национальным интересам.
Однако, по моему убеждению, это не более как желание американцев усыпить нашу бдительность, так как они считают, что в конечном счёте этот процесс должен отвечать только их национальным интересам. Собственно говоря, суть всех стратегических установок США сводится к одному – получить преимущество над своим визави.
Поэтому в названной сфере Соединённые Штаты стремятся к выборочному сокращению у нас отдельных перспективных видов вооружений, в которых у них есть явное технологическое отставание. То есть они пытаются добиться сокращения или уничтожения у нас новейших ударных систем, оставив в стороне переговорного процесса для себя другие виды вооружений наступательного характера, которые также могут создавать реальную и перспективную угрозу нашей национальной безопасности.
Известно, что администрация Байдена отказалась радикально решать проблему вывода на свою территорию тактических ядерных вооружений передового базирования, развёрнутых в Европе и Азии, и вопросы об ограничении комбинированных средств ПРО, а также ударных космических вооружений в виде противоспутниковых систем и вооружений космического базирования класса «космос – поверхность». Не отказались в Вашингтоне и от создания новых ядерных ракет средней дальности, и от проведения совместных ядерных миссий в рамках НАТО с неядерными государствами. Не желают там ратифицировать международный Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Что касается самого процесса контроля над вооружениями в целом, то из действующих соглашений между Москвой и Вашингтоном в этой сфере остались лишь Договор по сокращению стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), подписанный в 2010 году, а также Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море за внешним пределом территориальных вод и в воздушном пространстве над ним, одобренное в 1972 году. В начале 2021 года Россия и США продлили Договор СНВ-3 на пять лет. В МИД России тогда подчеркнули, что договор будет действовать в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений или дополнений, до 5 февраля 2026 года.
Позднее стороны запустили диалог по стратегической стабильности с целью выработки нового договора на смену Договора СНВ-3. Делегациям удалось провести несколько раундов консультаций, но после начала специальной военной операции на Украине Вашингтон приостановил участие в них. При этом там дают понять, что речь о размораживании переговоров может пойти лишь в случае выполнения Россией ряда условий. Как заявил замгоссекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, американская сторона приступит к переговорам тогда, когда Россия «проявит добрую волю» в ситуации вокруг Украины. Естественно, для нашей страны, которая последовательно выступает за продление диалога в сфере контроля над вооружениями, такие условия неприемлемы. Да и говорить с нами в таком духе недопустимо.
– На ваш взгляд, какую общую направленность приобретут обновлённые ключевые военные стратегии США, если Байден сумеет их актуализировать в период своего президентства?
– Думаю, что все пять таких стратегий приобретут более опасный характер для нас и Китайской Народной Республики. Они станут более агрессивными и наступательными, так как США не откажутся от своей генеральной линии на военно-силовое доминирование в мире, от политики диктата и вооружённого вмешательства в дела неугодных им суверенных государств. Собственно говоря, об этом свидетельствуют и заявления американских официальных представителей нынешней администрации.
Так, на днях министр армии США Кристин Вормут, выступая с речью на конференции «Военный манёвр» в Форт-Беннинге, штат Джорджия, обозначила шесть концептуальных направлений развития сухопутных сил до 2030 года. К тому времени они, по её словам, должны быть полностью подготовлены к войне с такими противниками, как Россия и КНР. То есть армию, как она подчеркнула, нужно сделать более «смертоносной, мобильной и защищённой».
Вне всякого сомнения, Вашингтон также сохранит приверженность стратегии нанесения первого ядерного удара по определённым государствам под сомнительными предлогами. Кстати, нельзя не заметить, что в последнее время в США стали довольно часто заявлять о возможности применения ядерного оружия в свете развития ситуации на Украине. И даже объявили, что подготовили некий план действий.
При этом складывается впечатление, что в США явно не понимают последствия такого шага, или надеются, что им удастся отсидеться за океаном, избежать ядерного Армагеддона. Однако все надежды и разговоры, что в современном мире возможно ведение ограниченной ядерной войны, являются лишь бредом сумасшедшего. Любая война с применением ядерного оружия приведёт к тотальной ядерной катастрофе.
Владимир Кузарь, «Красная звезда»

Как Путин открыл Америку, как Америка открыла Путина
Рафаэль Гусейнов
Как непросто складывались отношения российского президента и лидеров США - об этом размышляют журналист и писатель-историк.
Рой Медведев, историк, писатель:
- Я об этом никогда не писал, но сегодня вам расскажу. Когда в декабре 1999 года Путин возглавил страну, в США были серьезные опасения. После памятного выступления Ельцина с заявлением "Я ухожу" в Белом доме разбудили Клинтона, который незамедлительно позвонил в Москву. В тот момент Ельцин на звонок не ответил. Я думаю, что назойливой опекой Клинтона он к тому времени был уже раздражен. Начальнику охраны он сказал: "Передайте, что я отдыхаю, пусть перезвонит через два часа". Клинтон через два часа не перезвонил, вероятно, он понял, что наступают совсем другие времена. Путина американцы хорошо не знали, но понимали, что это молодой политик, в прошлом - офицер внешней разведки, с репутацией человека решительного, жесткого. Было ясно, что это не их ставленник, а значит, и не будет от них зависеть.
О войне
Рафаэль Гусейнов: К началу 2022 года отношения между Россией и США накалились до предела. Нет ли у вас опасений по поводу полномасштабной войны между странами?
Рой Медведев: У меня таких опасений нет. Как будут разворачиваться события, этого никто не знает, но предположить можно. Я бы хотел в связи с этим процитировать аналитическую статью из серьезного американского журнала Foreign Affairs: "Горьким последствием войны на Украине станет то, что Россия и Соединенные Штаты столкнутся друг с другом как враги в Европе. Тем не менее они будут врагами, которые не могут позволить себе вести боевые действия выше определенного порога. Какими бы далекими ни были их мировоззрения, как бы ни противостояли они друг другу идеологически, две самые крупные ядерные державы мира должны будут сдерживать свою ярость в отношении друг друга. Это будет представлять собой фантастически хитрое жонглирование: состояние экономической войны и геополитической борьбы, но при этом такое положение дел, которое не позволяет эскалации перерасти в открытую войну".
Само понятие "война" русские и американцы воспринимают совсем по-разному. Советский народ, россияне, а также большинство граждан постсоветского пространства через себя пропустили все горе, утраты, трагедию, невосполнимые потери в результате войн на нашей земле. Огромная, принципиальная разница - узнать из книг или самому почувствовать боль и страдание. Для большинства американцев, особенно живущих в глубинке, война воспринимается в отражении голливудских блокбастеров.
Путин и президенты США
Рой Медведев: С президентом Бушем-младшим у Путина отношения еще как-то выстраивались, но вот с демократом Обамой не заладились сразу. Свой визит в Москву он нанес, когда президентом был Дмитрий Медведев. Встреча с премьер-министром Владимиром Путиным вначале даже не была включена в планы американского президента. Весьма странно прозвучала и фраза Обамы незадолго до этой встречи, что, дескать, Путин одной ногой стоит в сегодняшнем времени, а другой - во вчерашнем. На что Путин со свойственной ему иронией ответил, что враскорячку стоять не привык. Еще более удивительной была встреча Путина с Джо Байденом, тогда вице-президентом США. Он дал Путину совет больше не выдвигаться в президенты. И эти слова сказал человек, который на всех углах вещает о вмешательстве России в американские выборы.
Ельцин оставил Путину Россию, давайте будем откровенными, полностью зависимой. Во время встречи с первым крупным американским чиновником того периода Мадлен Олбрайт Владимир Путин прямо дал понять, что Россия будет проводить независимую политику. Я думаю, что за океаном это поняли, и, насколько я знаю, Путин не получал никогда от них советов. У него сложились относительно неплохие отношения с Бушем-младшим. Во время первой встречи он рассказал ему, как пришел к вере в Бога, и это тронуло Буша. Этот американский президент восемь раз приезжал в Россию, Путин катал его по ночной Москве на "Победе". Всего таких встреч было более 20. В свою очередь Буш приглашал российского президента на ранчо своего отца в Техасе. Там Путин провел сутки вместе со своей женой Людмилой. Именно Путин первым позвонил американскому президенту, когда случился теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Такие жесты в США ценят. Но Путин убеждался и в том, что личные, пусть даже дружеские, отношения не мешают американцам проводить политику не только недружественную, а нередко откровенно враждебную России. Несмотря на возражения России, Буш одобрил выход США из ПРО. Думаю, что наша реакция в тот момент была слабоватой. И это произошло в ситуации, когда мы оказывали существенную поддержку США, проводившим операцию в Афганистане. Далее американцы стали принимать в НАТО страны Прибалтики, а позже устанавливать противоракетные системы в Болгарии, Румынии, Чехии.
Был еще и инцидент, который не улучшил отношения между США и Россией. В 2013 году состоялся саммит "восьмерки" в Санкт-Петербурге. По протоколу Обама должен был прибыть в Москву, встретиться с Путиным, а затем направиться в Петербург. Но в это время беглый американец Сноуден оказался в России. Обама звонил в Кремль и требовал у Путина выдать его США.
Рафаэль Гусейнов: Я не знаю, на что рассчитывал американский президент. В то время, я думаю, они уже неплохо знали Путина. Он не мог пойти на такой шаг ни при каких обстоятельствах. Не будем забывать, что ранее Сноудена не выдали китайцы. Уступить в этой ситуации американцам - означало бы полностью потерять лицо. Я думаю, Путин хорошо помнил позор, который навсегда остался с Михаилом Горбачевым, выдавшим ФРГ тяжелобольного, глубоко пожилого Эриха Хонеккера.
Рой Медведев: Но тем не менее Обама это довольно агрессивно требовал. "Меня не поймут в Америке, - утверждал Обама, - если я не верну Сноудена". "А меня не поймут в России, - отвечал на это Путин, - если мы сдадим Сноудена". В результате отказа в Москву Обама намеренно не приехал, и с Путиным они встретились в Петербурге. Здесь они перекинулись несколькими словами, но беседы между ними не было. Можно сказать, что при Обаме отношения двух стран в лучшем случае были никакими, а в целом - плохими. Именно при этом президенте американцы вернулись в отношениях с нашей страной к своему испытанному оружию - санкциям.
Рафаэль Гусейнов: Согласны ли вы с тем, что Трампа можно назвать "другом Путина", как это представляли демократы в США. Ведь именно при нем против нас продолжали вводить жестокие санкции, да и с Путиным он общался за четыре года редко.
Рой Медведев: Никакими друзьями они, разумеется, не были. Взаимные комплименты высказывались, допускаю определенную симпатию со стороны Трампа к российскому президенту. Путин обо всех лидерах, с кем общается, отзывается с уважением.
Рафаэль Гусейнов: Недавно это произошло после общения с Байденом, когда наш президент, на мой взгляд, преподал урок деликатности и этики, сказав добрые слова о своем собеседнике. И это после того, как Байден позволил себе в интервью некорректные высказывания в адрес Путина.
Рой Медведев: Путин в этом смысле гораздо больший дипломат, чем многие его собеседники. Что же касается общения с Трампом, оно тоже было непростым. США вышли из Парижского клуба, Иранского досье. Если бы Трамп остался президентом, то и судьба "Северного потока-2" сложилась бы по-другому гораздо раньше. Человек он был переменчивый, непостоянный в своих симпатиях и антипатиях. Политологи подсчитали, что его администрация за четыре года обновилась трижды. Это определенный рекорд!
Умеет ли Путин признавать свои ошибки
Рой Медведев: Прежде всего хочу сказать, что в отношениях с США в первый период президентства Путина были допущены ошибки. Сам он эти ошибки признал, что делает ему честь. Во время встречи с американскими бизнесменами и некоторыми политическими обозревателями Путин сказал: наша главная ошибка состояла в том, что мы вам слишком доверяли, а ваша главная ошибка состояла в том, что вы приняли это доверие как слабость и злоупотребили этим. Теперь нашего доверия ждать вам не следует. Это важное заявление, которое многое объясняет. Напомню вам и то, что после последней беседы с Байденом в 2021 году Путин заметил, что никаких иллюзий у него не было в ожидании этой встречи.
Рафаэль Гусейнов: Хочу напомнить, что Владимир Путин, став президентом России, сделал известные шаги навстречу американцам. Понятно, что в Москве ожидали ответной реакции со стороны США. Но не дождались. Ответом было лишь холодное молчание. Были и другие шаги навстречу американцам. Но, судя по всему, это сочли за слабость наших позиций и всего лишь усилили давление.
Рой Медведев: Тот же Рейган не просто объявил нашу страну "империей зла", но и поощрял людоедские планы ее уничтожения с использованием всех средств. При этом радостно улыбался Горбачеву и сыпал русскими поговорками типа "Доверяй, но проверяй". Такие планы разрабатывались совсем недавно при Билле Клинтоне. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы его личного архива. Эти документы, согласно американским традициям, хранятся не в национальных архивах, а в библиотеках, которые носят имя ушедшего президента. Выступая на закрытом заседании Комитета начальников штабов - высшего военного органа США - в 1997 году, Клинтон откровенно сказал, что Россия стала сырьевым придатком США. При этом добавил, что Трумэн хотел сделать то же самое с помощью атомной бомбы, а ему удалось это достичь бескровно. Был даже приведен внушительный список национальных богатств России, ее полезных ископаемых, которые американский президент на тот момент считал уже собственностью США. В дальнейшем ставилась задача расчленения России, используя межнациональные, этнические конфликты. В этом документе ставится также задача установить в новых микрогосударствах на развалинах России "нужные США режимы". Эти материалы, кстати, публиковались в российских СМИ.
2007 год. О чем говорил Путин в Мюнхене
Рой Медведев: Это было достаточно жесткое выступление, в котором Путин предупредил, что Россия не потерпит ущемления своих интересов где бы ни было.
Рафаэль Гусейнов: Мне кажется, что те, кому это было адресовано, не услышали его или не захотели слышать.
Рой Медведев: Они не захотели его слышать, потому что к этому неспособны. Надо обратить внимание еще на одну черту американской политической элиты. Это люди, как правило, абсолютно убежденные в своей правоте, исключительности и неспособные принимать иные точки зрения. Я бы назвал это национальной психологией, которую невозможно изменить. Мне доводилось не раз общаться не только с политиками, но и с вашими коллегами - американскими журналистами. Те же амбиции, тот же гонор, та же убежденность в непререкаемости их точки зрения.
Рафаэль Гусейнов: Многие западные политологи и журналисты в разгар противостояния России и США вспомнили о Мюнхенском выступлении Путина. Насколько правильно сегодня обращаться к речи, которая прозвучала в 2007 году?
Рой Медведев: Если бы прислушались к тому, что говорил тогда Путин, уверен, сегодняшнего обострения могло бы и не быть. Выступление президента России на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году произвело эффект разорвавшейся бомбы: впервые после окончания биполярного противостояния российский лидер столь жестко и откровенно оппонировал США и их союзникам по ключевым пунктам международной повестки". Я полагаю, что, несмотря на то что Путин был у власти уже семь лет, так называемая "мировая общественность" впервые по-настоящему осознала, что в лице России они вновь видят грозного соперника. Собственно, тогда же и началась скоординированная пропагандистская кампания Запада, направленная персонально против российского лидера. В этой речи Путин совершенно определенно ставил вопросы, всем хорошо известные и понятные. После развала Советского Союза международное право усилиями США повсеместно заменяется правом сильного. Дипломатия как таковая бесцеремонно отодвинута за кулисы. Вместо нее властвует использование силы при решении любых вопросов. Гонка вооружений становится опасным фактором, при этом расширение НАТО у российских границ ощутимо тревожит Москву. Путин подчеркнул, что однополярная модель, которую США навязывают миру, нашей стране неприемлема и Россия будет в дальнейшем проводить независимую внешнюю политику. Я думаю, что Мюнхенская речь Путина подвела окончательную черту под ельцинской политикой соглашательства. И это было замечено в США и Европе. Замечено, но воспринято за блеф. Дальнейший ход событий показал, как ошибались наши оппоненты.
Ху из мистер Путин?
Рой Медведев: В те дни, когда Борис Ельцин назвал Путина своим преемником, мне позвонили из посольства США в Москве. Это была секретарша посла. Она попросила меня встретиться "с одним человеком", который приехал из Вашингтона. Когда я напомнил о необходимости представить его, чтобы выстроить стиль общения, она сказала только два слова: "Это наш начальник". Я подумал, что начальником посла может быть, скорее всего, человек, который отвечает в Госдепартаменте за Россию. Этот господин приехал сам, на небольшой машине, он был за рулем. Было понятно, что он знает город, вероятно, раньше работал в Москве. Его интересовала только одна тема - Владимир Путин. Своего имени он не назвал, а я не спрашивал. Полагаю, что это был чиновник уровня Нуланд (заместитель госсекретаря США. - Ред.) и приехал он в Москву инкогнито, неофициально. Я понял так, что он встречался с разными людьми, собирая информацию о Путине. Таким образом в США пытались понять образ нового российского руководителя. Ничего, что могло бы обрадовать их, я о Путине не рассказывал. На место подконтрольного Ельцина пришел жесткий, прагматичный глава государства, с которым им придется разговаривать совсем по-другому. Чувствовалось, что Путин их пугал. Россия Ельцина была страной, униженной во всех смыслах. С ней не считались, полагая, что, облагодетельствованная западными кредиторами, она постоит в сторонке при решении важных проблем. Беда государственной политики США в том, что вокруг себя они не ищут друзей или союзников. Им нужны сателлиты, целиком и во всем им подчиненные.
Угрозы нашего президента не пугают
Рой Медведев: Для американцев то, что они делают сегодня, - это обычная система политики. Новым в данном случае является то, что НАТО это проводит нагло и откровенно. В свое время Мао Цзэдун так сформулировал четыре политических способа действия: "Сначала сделать, а потом сказать. Сначала сказать, а потом сделать. Сначала сделать, а потом ничего не говорить. Ничего не делать и ничего не говорить". Так что американцы не открыли ничего нового. Так они себя и ведут. Партнеры типа Горбачева, которые не требуют письменных подтверждений договоренностей, очень удобны. Путин имел дело с пятью президентами США. Теперь представьте, если не будет письменных договоренностей, каждый из них может развести руками и сказать: и я не я, и подпись не моя. Кстати, такая жесткая позиция Путина - фиксировать договоренности в виде официально оформленных документов - раздражает американских партнеров. Ведь обещание не продвигать НАТО на восток было дано устно и сразу же цинично нарушено. В отличие от нынешних западных политиков Рузвельт и Черчилль все же держали слово. В наши дни мы, разумеется, протестуем против невыполнения обещаний, пусть и данных в устной форме. Но надо понимать, что это есть логичное продолжение политики западных держав.
Рафаэль Гусейнов: Но с Путиным такой номер не проходит.
Рой Медведев: Поэтому именно против него нацелены критические стрелы. Против него направленно работает и внутренняя оппозиция, подогреваемая Западом.
Рафаэль Гусейнов: По опросу, проведенному в США в конце января 2022 года, 62 процента республиканцев и независимых граждан, тяготеющих к этой партии, заявили, что Владимир Путин является более сильным лидером, чем Джозеф Байден. И эти результаты звучат на фоне ежедневно повторяемых угроз, что Путина ждут "никогда никем в мире невиданные" жуткие санкции.
Рой Медведев: Убежден, что эти угрозы не пугают нашего президента, не тот характер.
Публикация подготовлена по книге журналиста Рафаэля Гусейнова "Путь Путина. О самом популярном российском политике XXI века", издательство "Вече" (2022 год).

Идти до конца
Крашенинникова Вероника
Референдумы 30 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях закрепили курс, который стартовал 21 февраля с признания независимости двух первых. Для жителей этих, теперь российских, регионов – большая радость: фундаментальный вопрос их жизни или смерти после почти девяти лет неопределённости разрешился. Очень рады за них! Людей нужно было спасать, открыть дорогу к налаживанию жизни, о которой они мечтали.
Тем временем специальная военная операция переходит в иное качество – теперь речь идёт о защите нами собственной территории и своих людей. В минувшее время все стороны – РФ, Украина и стоящие за ней США – на словах подтверждали намерение «идти до конца». Что это может значить для каждого?
Для Украины риск экзистенциальный в прямом смысле слова: государство уже потеряло часть территории, Вашингтон использует его как прокси и готов воевать с Россией «до последнего украинца». Киев пускает в ход все средства, и в его логике другого выхода нет, кроме как «идти до конца»: мир, похоже, для его властей уже не вариант. Готов ли Киев использовать «грязную» ядерную бомбу против России? Это как решит Вашингтон. На данный момент можно предположить, что скорее – нет.
Что значит «идти до конца» для США? Задача Вашингтона – сохранить ускользающее лидерство в мире любыми средствами и дать урок Китаю. Для этого нужно резко поставить Москву на место и заодно ослабить её до такой степени, чтобы на ближайшие десятилетия проблема была снята. Стремление к доминированию у Вашингтона перманентно и не зависит от партийной принадлежности президента – при республиканцах-трампистах может быть так же или ещё радикальнее.
Включает ли для Вашингтона «конец» использование ядерного оружия против России первыми? Судя по всему, пока в этом необходимости нет. Зато наиболее агрессивные круги будут и дальше провоцировать Москву на крайнюю эскалацию.
И, самое главное, где «конец» для Москвы? Президент Путин обозначил его вплоть до «рая». Готовы ли последовать туда все социальные слои общества? Конечно, нет. Видимо, мы стоим на грани, за которой может последовать радикализация власти с вытекающими из этого последствиями. Хочется увидеть решимость действий на базе мудрости и чёткого расчёта, чтобы страна вышла из всех коллизий окрепшей в своём единстве.
Готова ли российская власть использовать ядерное оружие как одно из имеющихся средств? «Рай» и «ад» подразумевают применение таких зарядов. Но это будет гарантированный конец и России, и других стран мира. Кому это нужно? Гибельно использование даже тактического ядерного оружия, то есть зарядов небольшой мощности, о чём широко говорят. Даже введён в оборот бытовой термин «ядерка» – типа, это такая банальная опция, как в компьютерной игре. Но в жизни в эту игру можно сыграть только один раз.
На протяжении 76 лет мы регулярно вспоминаем чудовищное преступление США против человечества: бомбардировку японских Хиросимы и Нагасаки. Да, только США оказались способны на такое, и это самый зловещий эпизод в их истории.
России нет необходимости следовать этому античеловечному прецеденту – мы этим и отличаемся от Америки. Что повлечёт за собой применение ядерного оружия, к тому же не за десять тысяч километров, а на территории Русского мира? Это знак крайнего отчаяния, а не силы.
Нашли ошибку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

























